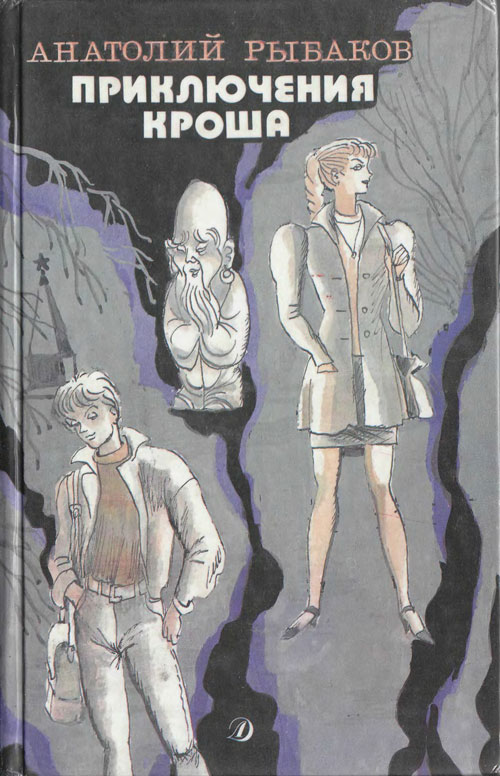|
Трилогия о Кроше
Повести о Кроше предназначены для более взрослого читателя.
Неоднократно издававшиеся, они собраны здесь все вместе под одной обложкой как единая книга, а это позволяет несколько иначе взглянуть на эту маленькую трилогию А.Рыбакова, которая начиналась очень легко и весело, а кончилась серьёзно.
Подобное сочетание лёгкого и весёлого с серьёзным и поучительным характерно вообще для творчества А.Рыбакова в целом, писателя столько же детского, сколько и взрослого. С самого начала литературного пути А.Рыбакова идут параллельно две самостоятельные струи его творчества — увлекательные приключения о детях и для детей и социальные романы о взрослых и для взрослых.
В «Неизвестном солдате», последней книге трилогии о Кроше, ставшем взрослым, восемнадцатилетним, две переплетавшиеся между собой струи творчества А.Рыбакова почти слились. Постараемся в общих чертах представить себе, как это произошло.
Анатолий Наумович Рыбаков родился в 1911 году в украинском городе Чернигове, но уже в раннем возрасте переехал вместе с родителями в Москву, и все детские впечатления и воспоминания Рыбакова связаны с жизнью большого города 20-х годов. Здесь, в Москве, он вступил в пионеры, когда только образовывались первые пионерские организации, здесь учился в знаменитой тогда школе-коммуне имени Лепешинского, здесь стал комсомольцем, здесь рано начал свою трудовую жизнь на Дорхимзаводе. В 1930 году А.Н.Рыбаков поступил в Московский институт инженеров транспорта и впоследствии стал инженером-автомобилистом. Вторая половина 30-х годов — время скитаний Рыбакова по стране; тогда будущий писатель увидел многие города и переменил много профессий, по-настоящему узнал людей и жизнь.
В годы Великой Отечественной войны Рыбаков — фронтовой офицер, начальник автослужбы стрелкового корпуса.
Литературный путь А.Н.Рыбакова начался после войны, когда писателю было уже 37 лет. Тогда, в 1948 году, вышел в свет и сразу же завоевал читательские сердца «Кортик» — увлекательные приключения Миши Полякова и его друзей, разыскивавших таинственное оружие, исчезнувшее ещё во время первой мировой войны. Повесть была написана по всем правилам приключенческого жанра: энергичное действие, романтическая тайна и неожиданные повороты сюжета — вот главные пружины, скреплявшие разнообразные картины и события этой книги и держащие её маленького читателя в напряжённом ожидании необыкновенного. Но были уже в этой весёлой повести ещё две особенности, характерные именно для таланта Рыбакова, определённые его биографией и его отношением к миру.
Во-первых, колорит времени, краски эпохи его детства, на которое ложились яркие отсветы недавней революции, ощутимое дыхание только что притихшей гражданской войны, непримиримых классовых столкновений — ими определяются все переживания, мечтания и поступки Миши Полякова и его товарищей, всегда просто устанавливающих и точно знающих, что хорошо и что плохо, на чьей они стороне и потому как именно им следует поступать и действовать. Раздумиям, сомнениям, колебаниям здесь нет места.
Во-вторых, здесь чётко обозначились основные нравственные качества героя Рыбакова; герой «Кортика» при всех своих детских чертах уже маленький мужчина, решительный, любознательный, энергичный, всегда поступающий в согласии со своими убеждениями и представлением о хорошем и плохом. Это останется навсегда, все любимые герои А.Рыбакова, сколько бы им ни было лет, чем бы они ни занимались и как бы они ни назывались, строго хранят комплекс мужской чести, где на первом месте мужественная отвага и готовность отстаивать справедливость, а подлость всегда называется подлостью, в какие бы одежды она ни рядилась.
«Кортик» имел большой читательский успех, но А.Рыбаков не пошёл но уже проторённому пути вслед за первой книгой, а попробовал свои писательские силы совсем в ином жанре. В 1950 году он издал большой роман «Водители», которому в 1951 году была присуждена Государственная премия СССР. Это была книга о шофёрах и шофёрском труде, о радостях и горестях рабочего человека, о проблемах современного производства. Ни материал, ни сюжет, ни стиль романа нисколько не напоминали первую повесть А.Рыбакова, и только имя героя «Водителей», молчаливого начальника автобазы — Михаил Григорьевич Поляков, — выдавало внутреннее намерение автора дать картину судьбы поколения, начавшего свой путь при свете первых пионерских костров и принявшего на свои плечи главный груз великой войны. Но пока это было только отдалённое намерение, и связь между героем «Кортика» и героем «Водителей» была чисто условной, важной главным образом для автора, который, надолго расставаясь с воспоминаниями своей юности, делал знак, что не хочет оставить их навсегда.
В 1955 году А.Рыбаков выпускает в свет ещё одну большую книгу для больших, роман «Екатерина Воронина».
В нём речь опять шла о работниках транспорта, но теперь о тех, кто трудится в речных портах, на пароходах, кто связан с водой, с Волгой. В «Екатерине Ворониной» А.Рыбаков продемонстрировал ещё одну грань своего писательского дарования — знание женской психологии и умение её изображать. Но, окончив этот роман о взрослой женщине, диспетчере волжского порта, писатель сразу же вернулся к приключениям своих маленьких героев, полюбившихся маленьким читателям; он пишет «Бронзовую птицу» (1956) — продолжение приключений Миши Полякова и его друзей в летнем пионерском лагере. И снова книга имеет успех, и снова её автор ищет новых тем и новых литературных путей, перемежая работу над книгами о Кроше с работой над «взрослыми» произведениями — киносценариями, пьесами и небольшим по объёму, но очень серьёзным по содержанию романом «Лето в Сосняках» (1964), где впервые в своём творчестве применяет приём сопряжения разных временных планов, когда действие свободно переходит из прошлого в настоящее и обратно. Он воспользуется этим приёмом в повести «Неизвестный солдат».
Но почему всё-таки книги о Кроше можно смело назвать «новым» для А.Рыбакова явлением по сравнению с первыми его детскими повестями? Ведь и здесь, как и в «Кортике», как и в «Бронзовой птице», главные персонажи — школьники, ведь и здесь в центре сюжета весёлые и забавные происшествия, только на этот раз случившиеся на автобазе во время производственной практики одного восьмого класса, ведь и здесь герой повести наделён чертами любознательности, мужественной отваги и честности, которые уже ясно проглядывали в Мише Полякове.
Новым было прежде всего то, что Крош, Серёжа Крашенинников, жил и действовал не когда-то давно, а в то самое время, когда писалась о нём книга, он был современником и своего создателя, и своего читателя, и яркие приметы городской жизни 60-х годов вошли уже в «Приключения Кроша», чтобы ещё свободнее и обильнее вылиться на страницах «Каникул Кроша». Читатель приключений Кроша — и юный и взрослый (а Крош быстро завоевал симпатии и того и другого) — имел полную возможность сверить поступки героя, обстановку его жизни, его язык, суждения, шутки с тем, что он сам только что видел, слышал, думал и пережил, а эта самостоятельная работа всегда доставляет читателю особенное дополнительное удовольствие. Знакомясь с историческим повествованием, без специальной подготовки мы лишены этой возможности уверенно судить, «похоже» или «непохоже» изобразил то или иное явление писатель. Читая современную книгу о современном герое, мы вольно или невольно, но непременно выносим такое суждение, а если мы относим себя к разряду думающих и сознательных читателей, то даже и обязаны вынести это суждение. При этом, однако, необходимо помнить, что искусство не есть простой и точный «слепок» с жизни, что каждое художественное произведение имеет ещё всегда, так сказать, дополнительный эстетический «коэффициент», то есть свою особую задачу и особое выражение авторского отношения к изображаемому. Эстетический коэффициент Рыбакова в приключениях Кроша — юмор, его весёлая и необидная улыбка, с которой писатель наблюдает, как его герой взрослеет, одерживая маленькие победы и выдерживая маленькие поражения. Юмор, с которым писатель передаёт исповедь Кроша, сохраняет для читателя истинный масштаб событий жизни героя — значительных для него самого, но не столь уж громадных для всего остального человечества, другими словами, одновременно и действительно серьёзных и действительно обыкновенных.
И вот здесь мы Переходим к другой новой черте детских повестей Рыбакова 60-х годов по сравнению с более ранними его повестями. Хотя прошло уже почти два десятилетия, как Крош впервые появился на Свет, думается, что и сегодняшний читатель легко признает его своим современником. Обаятельность и притягательность характера этого героя, созданного А.Рыбаковым в 60-е годы, неотделимы от его современности. Современен самый взгляд Кроша на мир, на жизнь, где он прежде всего хочет различать мнимое и настоящее от фальшивого, выспреннего и преувеличенного. Сохранив в книгах о Кроше «приключенческий» характер повествования своих детских книг, то есть неожиданное развитие событий вокруг разгадки какой-нибудь тайны, Рыбаков изменил, однако, смысл и тайн и событий, он выбрал из жизни более обыкновенные по видимости и более сложные по внутреннему смыслу ситуации, чем те, в которых оказывались герои «Кортика» и «Бронзовой птицы». В повестях о Кроше эти ситуации более доступны для каждого мальчика или девочки нашего времени и в то же время уже в силу Одной своей распространённости более опасны для их внутреннего мира, для их будущего. Потеряли ли коллизии повестей Рыбакова от этой демократизации и прозаизации беллетристический интерес для читателей? В том-то и дело, что нет. Хотя сюжет «Приключений Кроша» сосредоточен вокруг производственных успехов школьников и тайны исчезновения отнюдь не романтического кортика, а самых простых деталей от самого простого грузовика, пережитое на практике Крошем приобретает серьёзность и значительность, потому что за обыкновенными житейскими происшествиями здесь стоят такие общие и важные человеческие представления, как честность, справедливость, мужество, ответственность. Крош, как истинное дитя нашего времени, не любит «высоких» слов, но, по сути дела, он борется, он воюет за самые высокие и устойчивые нравственные ценности, и это сделало книги о Кроше характерными произведениями советской прозы 60-х годов, когда в ней особенно открыто и заострённо выразился её высокий нравственный пафос. Крош потому и против демагогии и показухи, к которой так склонен его не по возрасту ловко приспосабливающийся приятель Игорь, что видит в этих распространённых пороках коварное соединение благородной видимости и фальшивой сущности. При этом при всех положительных, достойных подражания качествах Кроша в нём нет ничего дидактического, то есть открыто поучительного, он всё время остаётся живым и естественным, а автор смотрит на него с весёлой улыбкой, снисходительной, но и внимательной к его излишней иногда самоуверенности, к его беспомощности в иных случаях, к его склонности делать поспешные выводы — в общем, ко многим недостаткам, свойственным возрасту героя, прекрасно переданному во всех трёх повестях.
В первой повести о Кроше её герой только вступил в тот трудный период жизни, когда пятнадцатилетний человек уже твёрдо знает, что он стал взрослым, но старшие ещё редко признают за ним это в полную меру. Отсюда возникает излишняя насторожённость к постороннему мнению о себе, многие недоразумения, излишне подчёркнутое стремление отстоять свою самостоятельность. В повести «Каникулы Кроша» Серёжа Крашенинников на год стал старше, но теперь он на самом деле должен действовать самостоятельно, без помощи старших, а иногда и вопреки им, искать и находить твёрдые критерии для очень сложных психологических и исторических явлений. В «Приключениях Кроша» мальчик больше всего был озабочен логичностью как своих собственных поступков, так и других людей. «Обругал меня, а потом назвал молодцом… Где логика?» Этим наивным недоумением героя кончается первая повесть о Кроше. Но читатель хорошо понимает, что директор автобазы прав и обругав Кроша за отсутствие дисциплины, и похвалив его за честность. Видимое противоречие в словах директора — это как бы следующий вопрос запутанной задачи, которую жизнь предлагает решать герою А.Рыбакова.
В «Каникулах Кроша» расширяется внешний мир, окружающий героя, и усложняются внутренние проблемы, с которыми он сталкивается. Здесь Крош выходит не только за двери школы, но и за ворота автобазы в необозримые пространства Москвы: её улицы, магазины, дворы, пляжи, кафе, читальни, спортивные залы, пригороды, мотели, автобусы, поезда — всё доступно на каникулах и всё интересно, когда ты впервые соприкасаешься с громадным современным городом. Но интереснее всего новые люди, с которыми приходится познакомиться Крошу, новые товарищи, новые девочки, и особенно искусствовед Веэн — воплощение в глазах мальчиков свободы, элегантности, успеха.
Но Веэн — это логическое следствие той склонности к эгоистическому противопоставлению своих интересов интересам всех остальных людей, которая уже обозначилась в приятелях Кроша: вполне определённо и, кажется, безнадёжно в Игоре и ещё не очень уверенно в Косте. Веэн — это типичный психологический комплекс, венчающий погоню за «красивой жизнью» во что бы то ни стало, беспринципность и опасное и ложное житейское правило, которому уже готов был следовать Костя: меня обманывают, — значит, и я могу обманывать; окружающие меня люди поступают аморально, — значит, и я имею право поступать так же.
Снова писатель использует любимый сюжетный приём: он энергично развёртывает действие вокруг тайны исчезнувшей в конце 40-х годов коллекции старинных японских миниатюрных скульптур. Крош едва не становится участником тёмных спекуляций мнимых «искусствоведов». Но в повести А.Рыбакова акцент не на детективном сюжете исчезновения, поисков и находок, а на психологической и нравственной подоплёке этой истории. Устоит Крош или не устоит перед соблазном корысти, перед страхом ответственности, перед инерцией равнодушия? Нелегко в шестнадцать лет за ослепительной оболочкой рыцарей «красивой жизни», за их демонстрацией своего превосходства над «обыкновенными» людьми, за их почти интеллигентной корректностью распознать фальшь, пустоту. И где-то в отдалении прошлых лет гнусные преступления. Надо обладать хорошим душевным здоровьем и чувством собственного достоинства, чтобы не соблазниться этими масками. Герой Рыбакова ими обладает и выходит победителем из этого серьёзного испытания.
В третьей повести о Кроше, в «Неизвестном солдате», мир героя ещё более широк и не столько разнообразен, сколько подвижен, а житейские обстоятельства ещё ответственнее: теперь Крош кончил школу, в университет не попал, и вот он ищет утешения в неудачах и выхода из положения далеко от дома, далеко от Москвы, в тихом провинциальном Корюкове, где неожиданно для самого себя становится слесарем на строительстве шоссейной дороги. Здесь А.Рыбакову снова пригодился его инженерный опыт для описания обстановки дорожного строительства, а Крошу пригодился его опыт летней производственной практики. Но не только провинция, деревня и Сибирь входят в мир повзрослевшего Кроша, в него властно входит прошлое страны, голос минувшей войны, и входят они не как отвлечённый урок истории, а как сила, имеющая прямое отношение к сегодняшнему поведению и самоощущению человека. И опять мир расширяется для любознательного и упорного героя Рыбакова через разгадку новой тайны, которая ждёт его в его скромных буднях дорожного слесаря. Впрочем, что значит «ждёт» разгадка тайны? Не она его ждёт, а он её ищет; другой на его месте прошёл бы мимо ещё одной солдатской могилы, обнаруженной строителями, или довольствовался бы самым общим выражением благодарной памяти. Ведь и Крош почти примирился с решением начальника участка просто перенести мешающую могилу, удовлетворился решением, продиктованным вполне «логичными» соображениями: необходимостью как можно скорее закончить дорогу, ведущую в новый туристский центр — древний Поронск. И это достойный способ почитания прошлого и исторических традиций. Но Серёжа Крашенинников (он теперь решительно не хочет, чтобы его называли Крошем) ищет способа совместить два противоборствующих друг другу долга: большой, общий и личный, свой, не столь внешне обязательный, но для него очень важный и жизненно необходимый. Оказывается, на самом деле очень трудно точно взвесить, какой из них больше и важнее и где кончается один и начинается другой, — нет таких весов и нет такой меры. Но, может быть, и не надо взвешивать, а надо попробовать выполнить и тот и другой? Серёжа пробует идти именно по этому пути и, пройдя через внешние и внутренние препятствия, в конце концов и приносит посильное утешение безутешной матери погибшего солдата, и сам приобретает профессию, место в жизни и любовь товарищей. Оказывается, выполнение сердечного долга доброты перед человеческим горем, нравственной ответственности перед историческим прошлым своего народа хотя и приходит иногда в противоречие с сиюминутными неотложными обязанностями и задачами, но в конце концов, по большому счёту, помогает и их решить на более достойном уровне и прочном фундаменте.
Но значит ли решение Серёжи в конце повести, что автор в какой-то мере оправдывает ложь во спасение как правило, как этический закон? Сначала упорно искать и с трудом найти настоящее имя похороненного у дороги солдата, а затем выдать его могилу за могилу другого — где же логика? Но так мог бы спросить Крош из первой книги рыбаковской трилогии. У взрослых людей, ищущих правды и справедливости, такого недоумения не возникнет, как не возникло его у героев «Неизвестного солдата», молчаливо и благодарно принявших решение Серёжи вернуть матери сына, хотя бы и мёртвого. Есть законы жизни, которые логически не сформулируешь, и, вероятно, не всегда даже надо пытаться это делать, чтобы не опошлить их кажущейся элементарностью. Но эти законы записаны в сердце человечества, и каждый более или менее эмоционально развитый человек хорошо их знает про себя и наедине с собой (другое дело, всегда ли он их исполняет): помощь слабому, чувство товарищества, уважение к прошлому, почтение к старости, — и мало ли их ещё, этих законов истинной человечности! Они истинны и сильны тогда, когда решаются не в общем и целом, а конкретно, не словом, а делом, не отвлечённо, а в соответствии с теми реальными отношениями, которые складываются в той или иной ситуации. Хорошо, что герой «Неизвестного солдата» восстановил истину о подвиге скромного Краюшкина, хорошо, что внучка погибшего научилась незнакомому ей чувству благодарного уважения к деду. Но прекрасно, что и Серёжа Крашенинников, и Зоя Краюшкина, и все люди со строительного участка Воронова сумели немного утешить безутешную солдатскую мать, нашли в себе благородную сдержанность, без лишних слов, без холодной приверженности к формальной истине выполнив один из главных законов человечности, — помочь нуждающемуся в помощи. Все пять погибших солдат сложили головы на древней земле тихого города, куда не суждено им было дойти, все пять и ещё миллионы покоятся в нашей земле, и лучший памятник им — честность, справедливость, мужество их детей и внуков, что живут сейчас на этой самой земле. Такие мысли приходят, когда закрываешь книгу с тремя повестями А.Рыбакова о Кроше.
Е. Старикова
1
Автобаза находится недалеко от нашей школы. На соседней улице. Когда в классе открыты окна, мы слышим рокот моторов. Это выезжают на работу грузовики и самосвалы. Они возят материалы на разные стройки Москвы.
Ночью машины длинными рядами стоят на пустыре. Их охраняет сторож. Завернувшись в тулуп, он спит в кабине. В случае какого-нибудь происшествия его могут сразу разбудить. Могут, например, сообщить ему, что ночью что-нибудь украли.
Днём у ворот автобазы толкутся владельцы легковых машин. У них заискивающие лица: они не умеют сами ремонтировать свои автомобили и хотят, чтобы это сделали рабочие.
Автобаза шефствует над нашей школой. Поэтому в смысле политехнизации наша школа лучшая в районе. Из других школ приходят смотреть наш автокабинет.
Водить машину мы учимся на грузовике «ГАЗ—51» Его нам тоже подарила автобаза.
Школьный завхоз Иван Семёнович всегда норовит угнать грузовик по хозяйственным надобностям. Сердится, когда мы выезжаем практиковаться. Кричит, что ему срочно необходимо привезти уголь или ещё что-нибудь.
Несмотря на это, мы отъездили свои двадцать часов. Некоторые ребята даже имеют права на управление автомобилем. Эти права называются «Удостоверение юного водителя». В них написано: «…имеет право на вождение автомашин только на детских автотрассах». Так написано в удостоверении.
Но с этими удостоверениями можно разъезжать по городу. Конечно, если не нарываться на милицию. Впрочем, если не нарываться на милицию, можно ездить без всякого удостоверения.
На автобазе мы проходим производственную практику.
У параллельного класса «Б» — строительная практика. Они работают на строительстве пионерского лагеря в Липках. Там они и живут. Не практика, а дача. А мы должны весь июнь париться в Москве.
Мне эта практика вообще не нужна. У меня нет технических наклонностей. Если меня что и интересует на автобазе, то это поводить машину. Но практикантам не дают руля. И мне здесь делать абсолютно нечего.
Когда мы пришли на практику, директор автобазы сказал:
— Кто будет хорошо работать, может даже разряд получить. Не скажу — пятый. Четвёртый.
Мы стояли во дворе. Директор был массивный человек, с тёмным от загара лицом, одетый в синюю рабочую куртку. Я сразу понял, что он бывший шофёр. У всех старых шофёров такие, навсегда загорелые, лица. Ведь всю свою жизнь они проводят на открытом воздухе, на ветру и под солнцем. Директор двигался и разговаривал так спокойно и медленно, будто всё время сдерживал себя. Это тоже подтверждало, что он бывший шофёр. Со слабыми нервами нельзя водить машину — сразу в аварию попадёшь.
— Чем плохо получить разряд?.. — спросил директор и с надеждой посмотрел на нас. Думал, что мы ужасно обрадуемся услышать про разряд.
Но мы молчали. Мы знали, что на прошлой практике только одна девочка получила разряд. За необыкновенную дисциплину и послушание.
Директор посмотрел на небо, медленным взглядом проводил проходившего мимо слесаря и добавил:
— А кто не хочет работать, пусть прямо скажет, я того моментально освобожу.
Некоторые были бы не прочь смотаться отсюда. Я, например, поскольку у меня нет технических наклонностей. Но то, что директор называл «освободить», означало «выгнать». И никто не сказал, что не хочет работать.
Потом вышел главный инженер и повёл нас показывать автобазу. Чтобы мы имели представление о всём хозяйстве в целом.
Это правильно. Если ты являешься частью чего-то целого, то надо иметь о нём представление. Иначе не будешь знать, частью чего ты, собственно говоря, являешься.
Рядом с главным инженером шли Семечкина и Макарова. Они записывали по очереди. Совершенно механически. Когда записывала одна, другая даже не слушала, что говорит главный инженер. Только смотрела ему в рот, будто хотела сказать: «Ах, как интересно вы объясняете! Я просто оторваться не могу».
Я ничего не записывал. Приду домой — запишу.
Я шёл на некотором расстоянии от главного инженера. Достаточно близко, чтобы слышать, что он рассказывает, и достаточно далеко, чтобы это не выглядело излишним усердием.
Сзади тянулся длинный хвост ребят. Они осматривали, что им попадалось на глаза, и рассуждали о качествах разных машин. Больше всех рассуждал Игорь. У его брата есть собственный «Москвич». Игорь считает себя крупным специалистом в этой области.
А я слушал главного инженера. Всё равно придётся писать отчёт о практике.
Оказывается, автобаза состоит из двух служб: технической и эксплуатации. К технической службе относятся ремонт и вообще уход за машинами. К службе эксплуатации — перевозка грузов на линии.
Техническая служба подчиняется главному инженеру. Служба эксплуатации — начальнику эксплуатации.
Но главный инженер — первый заместитель директора, а начальник эксплуатации — только второй.
Я сразу сообразил, что это неправильно. То, что главный инженер — первый заместитель, а начальник эксплуатации — только второй. Ведь самое важное — это перевозка грузов. Можно было бы для смеха высказать эту мысль. Но если сказать главному инженеру, что его из первых заместителей надо перевести во вторые, то он полезет в бутылку. Он хотя и маленького роста, но у него длинный нос и сердитый голос. Не стоит связываться.
Мы закончили осмотр цехов и вернулись во двор. Во дворе стояла «техничка», закрытая машина с фургоном, на которой написано: «Техническая помощь». Я подумал, что хорошо бы мне попасть на эту машину.
Конечно, ребятам с техническими наклонностями повезло. На автобазе есть разные цеха: механический, кузнечный, моторный, агрегатный, электротехнический, сварочный, обойный, малярный, медницкий, жестяницкий и другие. Но меня из всех технических специальностей привлекает только одна — шофёрская. И если я попаду на «техничку», то буду выезжать с ней на линию. И, может быть, шофёр даст мне руль.
Главный инженер провёл нас в кабинет и объявил:
— Теперь я вас распределю по рабочим местам.
Я спросил:
— Можно нам самим решить, кто куда пойдёт?
— Нет! — ответил главный инженер. — Это будет непедагогично.
Он скосил глаза на бумажку, которая лежала у него на столе под стеклом, и, точно так, как мы отвечаем урок, заглядывая в шпаргалку, пробубнил:
— «Следует также учитывать личные качества учеников. Рассеянному (невнимательному) поручается работа, требующая внимания. Слабовольному — работа, требующая волевых усилий. Робким (замкнутым) — организаторская работа. Ленивым — работа, результаты которой будут сразу видны». — Он посмотрел на нас: — Поняли?
Мы поняли. Нас надо распределить на рассеянных (невнимательных), робких (замкнутых), слабовольных и ленивых.
Я сказал:
— У нас таких нет.
— Каких — таких?
— Рассеянных, невнимательных, слабовольных, робких и замкнутых. Что касается ленивых, то как вы их узнаете?
Этим вопросом я сразу поставил главного инженера в тупик. Выручил его Игорь, брат которого имеет «Москвич».
Игорь вообще у нас самая выдающаяся личность. У него бледное лицо. А это считается в нашей школе самым шикарным. Особенно если лицо оттенено чёрными волосами. Голос у Игоря низкий, басовитый, как у завуча. Наша классная руководительница Наталья Павловна всегда ставит нам Игоря в пример. Его поразительную воспитанность и трезвый ум. На самом деле Игорь большой дипломат.
Игорь подмигнул нам: мол, не беспокойтесь, сейчас я этого дядю окручу, — и, обращаясь к главному инженеру, почтительно сказал:
— Вячеслав Петрович, вы хотите распределить ребят согласно их склонностям и интересам?
Он уже знает, как зовут главного инженера!
— Вот именно, — обрадовался главный инженер и опять скосился в шпаргалку, — «согласно склонностям и интересам»!
— Тогда позвольте нам это обсудить, — рассудительно проговорил Игорь, — мы каждому наметим цех согласно его склонностям и интересам.
— Что ж, — согласился главный инженер, — ты дело говоришь.
И укоризненно посмотрел на меня. Дал понять, что Игорь говорит дело, а я несу чепуху.
Я давно привык к тому, что Игорь говорит умно, а я глупо, что с ним соглашаются, а со мной нет. И укоризненный взгляд инженера я оставил без всякого внимания. Тем более, что он опять вдруг нахмурился:
— Но вы будете мудрить!..
— Нет! — закричали мы. — Мудрить мы не будем.
Мы стали распределяться по цехам.
С теми, у кого были склонности и интересы, дело решилось быстро. Гринько с Арефьевым попросились в электроцех — они электрики и радисты. Полекутин — в моторный. Гаркуша с Рождественским — в малярный, они художники. А Игоря главный инженер взял к себе в техники — так он ему понравился.
Но с теми, кто не имел склонностей и интересов, получилась полная неразбериха. Особенно с девочками. Они все хотели работать вместе, в одном цехе.
Поднялся шум и крик.
Главный инженер хлопал глазами и поворачивался то в одну, то в другую сторону. Я чувствовал, что сейчас всё ему надоест и он распределит нас по-своему.
Тут, к счастью, очередь дошла до меня. Я объявил, что хочу проходить практику в службе эксплуатации.
Главный инженер удивился моему выбору. Но согласился: обрадовался возможности сбагрить меня. Я ему сразу не понравился.
Я отправился к начальнику эксплуатации. Это был толстый чёрный человек с мясистыми губами. Ровно час я дожидался, пока он с кем-то ругался по телефону. Даже кончив говорить, он всё время хватался за телефонную трубку.
Я объявил, что явился для прохождения производственной практики. Он был поражён.
— Что они там, с ума посходили?!
И схватился за телефон.
Я испугался, что он позвонит директору, и торопливо добавил:
— Я хочу работать на машине техпомощи.
Он весело засмеялся, даже погладил телефонную трубку.
— Дорогой мой, ты попал не по адресу! Честное благородное слово. Машина техпомощи мне не подчиняется. Она подчиняется главному инженеру.
Вот как я просчитался!
Он начал объяснять мне, что автобаза состоит из двух служб: технической и эксплуатации. К технической службе относятся…
Но я перебил его:
— Извините, я ошибся.
И пошёл обратно, к главному инженеру. С мрачным видом он сидел один в своём кабинете, за большим письменным столом. Я ему объяснил, что в службе эксплуатации для меня подходящей работы нет.
— Эге, брат, — сказал главный инженер, — ты, я вижу, порядочный волынщик!
И без дальнейших разговоров послал меня в цех профилактики, или, как его здесь просто называют, гараж.
2
И всё же нам здорово повезло, мне и Шмакову Петру. Он тоже попал в гараж.
Те, кто работали в мастерских, имели дело с частями автомобиля. Мы в гараже — с автомобилем в целом. Здесь его моют, смазывают, регулируют, делают текущий ремонт и профилактику. Слесари сами перегоняют машины с места на место, даже выезжают на улицу пробовать, как действуют тормоза. И у нас со Шмаковым Петром была полная возможность попрактиковаться за рулём.
— Как ты думаешь, Шмаков, — спросил я Петра, — дадут нам здесь поездить?
Он подумал и ответил:
— Дадут.
Он всегда думал перед тем, как ответить.
— Для этого надо что-то делать, — сказал я.
— Успеем.
— Так вся практика пройдёт, — настаивал я.
— Надо приглядеться, — сказал Шмаков Пётр.
Но, сколько мы ни приглядывались, никто и не думал давать нам руль. Отношение к нам было самое безразличное. Даже равнодушное.
Самостоятельной работы нам не давали — боялись. Дело здесь ответственное. Из-за недовернутой гайки может случиться авария. И даже катастрофа. Катастрофа — это та же авария, только с человеческими жертвами.
И работали мы медленно. А слесари не могли ждать: они выполняли график, у них был план.
По правде сказать, я и сам был не очень-то заинтересован в этой работе. Но болтаться без дела, когда вокруг тебя работают, неудобно.
Уж раз я попал сюда, то не желаю, чтобы на меня смотрели как на бездельника и дармоеда.
Мы здесь были «на подхвате». Сходить куда-нибудь. Что-нибудь принести. Сбегать на склад или в мастерские. Подержать инструмент, посветить переносной лампой, промыть части…
Хорошо, когда достанется мыть машину целиком, во дворе, под брандспойтом. Совсем другое дело! Струя так и бьёт! Направляешь её то в одно место, то в другое, грязь большими комками отваливается и падает в канаву. От кузова идёт пар, вода быстро испаряется под лучами июньского солнца. И, когда машина, свежая, блестящая, сходит с помоста, видишь результаты своего труда.
Но такая приятная работа перепадала нам редко. Мы работаем утром, а машины моют вечером, когда они возвращаются с линии.
Видно, нам со Шмаковым не так уж повезло. Тем, кто работал в мастерских, пожалуй, повезло больше. Мастерские работали в одну смену, и наши ребята имели дело с одними и теми же людьми. Они привыкли к этим людям, и люди привыкли к ним.
А гараж работал круглосуточно, в три смены. И мы со Шмаковым Петром имели дело с разными бригадами.
Когда на третий день пришла бригада, с которой мы работали в первый день, они нас даже не узнали, они совершенно забыли про нас. Смотрели на нас с удивлением: «Как, разве вы всё ещё здесь?!»
Они даже не знали наших имён. Шмаков Пётр выглядел старше меня, и они его называли «парень». «Эй, парень, а ну-ка, парень!» Мне они говорили сначала «пацан». «Эй, пацан, а ну-ка, пацан!» А когда они услыхали, как ребята зовут меня «Крош», они тоже стали называть меня «Крош», а некоторые даже «Кроша»… «Эй, Кроша, а ну-ка, Кроша!» Они думали, что меня так называют из-за моего невысокого роста. На самом деле «Крош» — это сокращённое прозвище от моей фамилии — Крашенинников. В школе всегда сокращают фамилии, тем более такую длинную, как моя. Вот и получилось «Крош». А рабочие в гараже придавали этому прозвищу другой, унизительный для меня оттенок.
В общем, наше положение никак меня не устраивало. При таком положении нам никогда не доверят руля.
Я поделился своими мыслями со Шмаковым Петром. Он ответил: «Сиди спокойно».
Шмакову. Петру хорошо так говорить. С его характером можно сидеть спокойно. Скажут ему: «А ну, парень, сними болт!» Шмаков Пётр молча берёт гаечный ключ и начинает снимать болт. Ни на кого не смотрит. Кряхтит. Углублён в работу, будто делает невесть что… И все к нему относятся с уважением. Такой у него серьёзный и сосредоточенный вид.
А потом оказывается, что Шмаков снял вовсе не тот болт, который нужно было снять.
Я бы сквозь землю провалился от стыда. А Шмаков ничего… Как ни в чём не бывало начинает всё переделывать. И все считали, что Шмаков работает лучше меня.
Происходило это вот почему. Я не мог просто так, как Шмаков, крутить гайку. Мне надо знать, что это за гайка и для чего я её кручу. Я должен понять работу в целом, её смысл и общую задачу. Дедуктивный способ мышления. От общего к частному. Шмаков Пётр не задаёт вопросов, а я задаю вопросы. А слесари не хотят отвечать на вопросы. Им некогда. А может быть, не могут ответить на них.
Даже бригадир слесарей Дмитрий Александрович, худой человек в берете, похожий на испанца, сказал мне:
— Ты, университант-эмансипе, поменьше спрашивай.
Я сначала не понял, почему он так меня назвал. Потом оказалось, что у Чехова есть рассказ «Святая простота». К священнику, куда-то в провинцию, приезжает сын, известный адвокат. И отец-священник называет сына-адвоката «университант-эмансипе».
Очень приятно, что бригадир слесарей Дмитрий Александрович ходит в берете, похож на испанца и так хорошо знает Чехова. Но тем более глупо с его стороны давать человеку кличку.
Особенно донимал нас слесарь Коська, парнишка из ремесленников.
Шмакова он побаивался. Шмаков но обращал на него никакого внимания. А ко мне он привязывался, посылал то туда, то сюда. «Эй, Кроша, тащи обтирку!» — кричал он, хотя обтирку поручали принести ему. Он был слесарь всего-навсего четвёртого разряда.
Особенно любил этот Коська задавать нам со Шмаковым Петром дурацкие вопросы-загадки.
— А ну, скажите, практики (так он называл нас), а ну, скажите: что работает в машине, когда она стоит на месте?
Я пожимал плечами:
— Что? Мотор.
— Мотор выключен.
— Свет.
— Выключен свет.
— Значит, ничего не работает.
— Эх ты, Кроша несчастный! Тормоза у неё работают, вот что!
— А если её не поставили на тормоз? — возражал я.
Коська хохотал:
— Как же её можно оставлять не на тормозе! Сразу видно, что вы ни черта не знаете.
И вот, чтобы утереть этому Коське нос, я принёс из дому своё «Удостоверение юного водителя» и показал его слесарям.
Я никак не ожидал, что эти права произведут на них такое впечатление.
Они просто обалдели, когда я им их показал.
Тем более, что я не дал их в руки. Только показал надпись на книжечке: «Удостоверение юного водителя». Потом раскрыл и показал свою фамилию, имя, отчество и фотокарточку.
Все молодые слесари здесь мечтают стать шофёрами. При каждом удобном случае садятся за баранку. Лица у них перекашиваются от страха. Зато вылезают они из-за руля с таким видом, будто совершили полёт в космос.
То, что я, школьник, имею водительские права, поразило их.
У них и в мыслях не было, что эти права ненастоящие. Ведь они отпечатаны в типографии. Не будет же типография печатать какую-то липу.
Слесари были нормальные люди и рассуждали здраво.
Именно поэтому они приняли мои права за настоящие. И были буквально потрясены.
У Шмакова Петра не было прав. Он в своё время не пошёл сдавать экзамен. Сказал тогда: «Кому они нужны, эти детские права?!»
Теперь он жалел, что так сказал тогда. Теперь, когда он увидел, какой авторитет я сразу приобрёл этими правами, он пожалел, что не пошёл сдавать экзамен.
Но Шмаков был не так прост, как казался с виду. Он держался так, будто и у него тоже есть такие права.
Когда слесарь Коська меня почтительно спросил: «Чего ж ты не ездишь, если права имеешь?», то Шмаков вместо меня ответил: «А чего к рулю рваться. Пусть те рвутся, у кого прав нету».
Из этого ответа получалось, что у Шмакова тоже есть права. Именно поэтому он не рвётся к рулю.
Я тоже держался так, будто права есть у нас обоих. Из товарищеской солидарности. Тем более, что своим ответом Шмаков поставил слесаря Коську на место.
Ни у кого не возникло сомнения, что права есть у нас обоих. Наш авторитет неизмеримо возрос.
Но в последующих событиях эти права, мои настоящие и Шмакова предполагаемые, сыграли роковую роль.
3
Постепенно к нам привыкли, и мы втянулись в работу.
Нам стали доверять операции, которые полагается выполнять слесарям четвёртого разряда. Например, проверить, как закреплён передний буфер, номерной знак, стоп-сигнал, фары или смазка. Надо знать, где, когда и чем смазывать.
Однажды мне даже досталась работа пятого разряда: проверить и закрепить радиатор. Сначала надо внимательно осмотреть радиатор, не течёт ли, потом оба шланга, тоже не текут ли, затем осторожно подтянуть хомутики. Очень сложное и ответственное дело. А его поручили мне. И оказалось, что всё сделано правильно.
Когда бригадир Дмитрий Александрович, похожий на испанца, проверял мою работу, я с безразличным видом вытирал руки обтирочными концами. Главное, не суетиться. Если ты суетишься, обязательно подумают, что ты сделал что-то не так.
Теперь мы не стояли как болваны, не таращили глаза, ожидая, куда нас пошлют. Сами знали, что надо делать.
Мы привыкли, и к нам привыкли. Руля нам, правда, не давали. Но мы не теряли на это надежды. Мы снова стали считать, что нам здорово повезло, мне и Шмакову Петру. Ребята, работавшие в цехах, были прикреплены к одному месту. А мы разгуливали по всей автобазе. То туда пошлют, то сюда — гараж связан со всеми цехами. Все завидовали нашей живой, оперативной работе.
Часто мы работали во дворе. Солнышко светит. Дышится легко. Всё видишь: кто приехал, кто уехал, кто куда пошёл, куда что понесли. Слышно, как начальник эксплуатации ругается по телефону. Словом, находишься в курсе жизни всей автобазы.
Давно ли главный инженер водил нас по цехам?.. А теперь мы здесь свои. Вахтёр даже пропуска не спрашивает.
По утрам так не хочется вставать. Но что-то толкает тебя: вставай, вставай! Нехорошо, неудобно… Опоздаешь на какие-нибудь двадцать минут, а кажется, что все работают давным-давно. Каждый на своём месте, делает своё дело, а ты оказываешься лишним. И не знаешь, что было с утра. Может, ничего не было, а может, было. Чувствуешь свою неполноценность. Дело не в дисциплине. Дело в том, что другие работают, а ты нет. Следовательно, они работают за тебя.
Лучше всего приходить минут так за двадцать, за пятнадцать. Ночная смена ещё не ушла, утренняя только приходит. Их бригадир передаёт работу нашему. Рабочие переодеваются, смеются, шутят, рассказывают всякие небылицы. Мы знаем, кто говорит правду, а кто врёт.
Дожидаясь смены, мы сидим на скамейке у ворот гаража. Утреннее солнышко приятно греет. Шофёры с путёвками выбегают из диспетчерской, они опоздали и должны торопиться. Машины выезжают на линию, оставляя за собой голубоватый дымок.
Во дворе стоит директор. Все с ним здороваются: «Здравствуйте, Владимир Георгиевич». И директор отвечает: «Здравствуйте». Одних он называет по имени-отчеству, других только по имени, третьих только по фамилии, а некоторых никак не называет, просто говорит «здравствуйте». Например, нам.
Впрочем, Игоря он называет по имени. Игорь работает в конторе, в техническом отделе, трётся возле начальства, и директор знает, что его зовут Игорь. А фамилии, может быть, не знает.
Игорь ходит по цехам и заполняет бланки. В руках у него большая блестящая папка, в кармане самопишущая ручка, он угощает рабочих папиросами «Беломор». Держит себя ласково-снисходительно, будто он заместитель главного инженера.
Так он держится с рабочими. А нам подмигивает, якобы потешаясь над собственной ролью. Насмешливо называет себя «клерком». Чтобы мы не подумали, будто он задаётся. Знает: тех, кто задаётся, мы быстро от этого отучаем. Очень простым способом. И не хочет испытать на себе этот способ.
Игорь любит околачиваться среди старших, любит быть в курсе всего, находиться в центре событий. Знает по имени-отчеству всё начальство, всех механиков, мастеров и бригадиров. Знает, что нашего начальника эксплуатации скоро заберут в трест, и даже называл фамилию будущего начальника эксплуатации. Сообщил, что директору вчера влепили выговор за плохую подвозку материалов на строительство жилого квартала в Черёмушках. Словом, Игорь знал такое, чего ни я, ни Шмаков Пётр, ни другие ребята никогда бы не узнали.
Он знал даже владельцев легковых машин, которые подъезжали к нашему гаражу. Выйдет, бывало, на улицу и показывает:
«Эта „Волга“ известного врача-гомеопата, по фамилии Липа. А та, двухцветная, — одного типа, он на Центральном рынке фруктами торгует. А этот вот задрипанный „Москвичок“ — профессора такого-то…»
Хотя Игорь околачивается возле начальства, всех знает и угощает рабочих папиросами «Беломор», он никаким авторитетом среди них не пользуется. Рабочие даже не знают, что он такой же практикант, как мы. Думают, что это новый служащий из технического отдела.
В школе Игорь считался «выдающейся личностью», а здесь мы чувствуем своё превосходство. Ведь у нас со Шмаковым самая грязная работа, мы не вылезаем из-под машин. Мы этим очень гордимся. Гордимся нашими грязными куртками и замасленными брезентовыми брюками. У меня нет технических наклонностей, но уж если пришлось работать, надо работать. И, когда Игорь со своей блестящей папкой приходит к нам в гараж за сведениями, мы ему отвечаем:
— Подожди, некогда, не видишь разве?!
Услышав такой ответ, Игорь очень злится, хотя и старается не показывать этого.
Так получилось и сегодня.
Мы со Шмаковым снимали с машины прогоревший глушитель. Нет ничего канительнее этой работы. Стоишь в яме и возишься с обгорелым глушителем. Работать неудобно, ни к чему не подберёшься. Болты, гайки заржавели, ничего не провернёшь, ничего не поддаётся. Шмаков кряхтел изо всех сил, но дело не подвигалось.
И вот у края ямы появляется Игорь, присаживается на корточки и ласково говорит:
— Здорово, трудяги!
— Здорово! — ответил я довольно неприветливо.
А Шмаков и вовсе ничего не ответил.
— Втыкаете?!
Но ответа от нас не дождался и сказал:
— Сегодня после работы общее собрание практикантов. Явка обязательна.
— Начинается, — пробормотал я.
— Чего ты бормочешь? — ласково спросил Игорь.
— А то, что надоели твои собрания!
— Оно не моё, — всё так же ласково возразил Игорь, — главный инженер собирает и Наталья Павловна.
Наталья Павловна — наша классная руководительница.
— Знаем, — ответил я, — ты подстроил.
— Я вас предупредил! — объявил Игорь и ушёл вместе со своей блестящей папкой.
Мы со Шмаковым продолжали работать. Проклятый глушитель никак не поддавался, и я очень нервничал. Ведь мы работали со слесарем Лагутиным. А это очень неприятный тип.
Здоровый, красивый парень. Но грубиян ужасный. По малейшему поводу выражался самыми нецензурными словами. Лицо его при этом свирепело, наливалось кровью, глаза дико вращались, он становился какой-то бешеный. Я твёрдо решил: если Лагутин попытается меня оскорбить, я ему дам достойный отпор.
Лагутин увидел, как мы долго возимся с глушителем, и спустился в яму. Но при этом довольно грубо оттолкнул меня. Конечно, яма тесная, в ней трудно не задеть другого. Но я был уверен, что Лагутин оттолкнул меня нарочно, и сказал:
— Можно не толкаться?
Лагутин не нашёлся что ответить. Только вытаращил на меня глаза. Но, когда мы, наконец, сняли глушитель и вытаскивали его из ямы, он ни за что ни про что обругал Шмакова Петра.
Шмаков преспокойно ругнулся в ответ.
Я потом ему сказал:
— Ругаясь, ты унижаешь самого себя.
— Я не член-корреспондент, — ответил Шмаков Пётр.
Особенно возмущало меня отношение Лагутина к Зине. Зина была диспетчером автобазы. И она была влюблена в этого Лагутина, что ли, чёрт их разберёт… Раз двадцать в день появлялась в гараже. Делала вид, что ищет кого-то. А искать в гараже некого. Кого надо, можно вызвать по радио: «Водителя такого-то просят немедленно зайти к диспетчеру».
Зина проходила по гаражу и смотрела на Лагутина. У него делалось сонное лицо. А если она подходила к нему, то хмурился, делал вид, что занят, что ему некогда. Зина уходила. Жалко было на неё смотреть. И противно. Нельзя так унижаться!
Шмаков по этому поводу говорил:
— Чего она за ним бегает?! Не обязан он с ней гулять. Дура!
А мне было жалко Зину. Не будет же она ни с того ни с сего приставать к Лагутину. Может быть, он с ней гулял, потом бросил?
Бывают иногда случаи, что девушка ни с того ни с сего влюбляется в парня, даже если он не обращает на неё внимания. Но такие случаи редки. Я знаю только один такой случай. Это наша одноклассница Надя Флёрова. Худущая такая девчонка с блестящими глазами. Она дружит с Майкой Катанской. А Майка самая красивая девочка в школе. И если какой-нибудь деятель влюбляется в Майку, то Надя Флёрова немедленно влюбляется в этого деятеля.
Это, конечно, исключительный случай. Надя Флёрова влюбляется из чувства соперничества к подруге. А может быть, наоборот, из чувства солидарности. Такие дела интересуют меня меньше всего.
Майка Катанская и Надя Флёрова работали в обойном цехе. Там ремонтируют сиденья, шьют брезентовые покрытия, инструментальные сумки и тому подобное.
Когда Майка проходила по автобазе, все на неё смотрели. Такая она красивая. Высокая, с двумя длинными чёрными косами. Мне было неприятно, что все на неё смотрят. Что за привычка — оборачиваться вслед человеку!
Лагутин тоже смотрел на Майку. Видно было, что она ему нравится. Он понёс вдруг в обойный цех сиденье с машины. Сиденье было совсем хорошее. Но Лагутин сказал, чтобы отремонтировали. А вчера, когда мы уходили домой, он стоял в воротах и смотрел на Майку. И что-то сказал ей и Наде Флёровой.
Что именно он сказал, я не расслышал. Но в ту минуту я решил: если Майка ответит Лагутину, то я буду её презирать. Женщина, не оберегающая своего достоинства, ничего другого не заслуживает.
Майка даже не обернулась.
Я этому очень обрадовался.
Обернулась Надя Флёрова. Но на Надю Флёрову мне плевать!..
Мы сняли глушитель и отнесли его на заварку. Потом принесли с заварки и очень долго ставили. Ставить глушитель ещё труднее, чем снимать: приходится держать его на весу, затекают руки.
Теперь, чтобы закончить эту машину, надо заменить ей подшипники передних колёс. Подшипники я уже принёс со склада. В глянцевитой, промасленной бумаге они лежали на верстаке. Но ставить их должен сам Лагутин. А его не было, он околачивался в обойном цехе. Я пошёл за ним туда.
С довольной физиономией Лагутин сидел на краю верстака и курил. Майка строчила на машине. Надя Флёрова шила на руках. Мастер Иван Кузьмич кроил на полу кусок дерматина.
— Надо ставить подшипники, — сказал я Лагутину.
Он ничего не ответил.
Я не стал повторять. Он хорошо расслышал, что я сказал.
Я подошёл к девочкам. Мне было интересно послушать, как с ними разговаривает такой грубиян, как Лагутин. Но он молчал. Может быть, я перебил его. Может быть, он не хотел при мне продолжать. А может быть, к моему приходу уже всё закончил, исчерпал себя.
Вдруг в цех вошла диспетчер Зина и остановилась в дверях.
Я подумал, что сейчас будет небольшой скандалец, и очень этому обрадовался. Пусть Майка увидит, каков фрукт этот Лагутин.
— Товарищ Лагутин, можно вас на минуточку, — жалким голосом проговорила Зина.
У Лагутина сделалось сонное лицо.
— Чего ещё?!
— На минуточку, — повторила Зина.
Все мы, и Майка, и Надя, и даже мастер Иван Кузьмич, смотрели на них.
Лагутин нахмурился:
— Что за секреты такие?
— По делу, — сказала бедная Зина.
— Ладно, — лениво сказал Лагутин, — зайду в диспетчерскую.
Зина постояла ещё немного, повернулась и вышла из цеха.
Наступило молчание.
Я улыбался.
Лагутин исподлобья посмотрел на меня:
— Чего зубы скалишь?!
На что я ответил:
— Мои зубы, хочу и скалю. Идёмте лучше ставить подшипники, а то мы уйдём на собрание.
Он прямо позеленел, когда я сказал «лучше». Понял, на что я намекаю. И проворчал:
— Без вас поставят.
— Как хотите, — сказал я и вышел из цеха.
4
После работы мы собрались на пустыре и уселись возле старой машины «ГАЗ—51». Эта машина была списана. Как негодная подлежала разборке на части.
Собрание открыл Игорь. Он сказал, что мы отработали неделю и пора подвести итоги. Но прежде всего надо выбрать председателя и секретаря.
Председателем выбрали его самого. Игоря у нас всегда выбирали председателем. Секретарём предложили меня. Но я сказал, что у меня болит рука, я ушиб её молотком. Это было давным-давно, я уже забыл об этом. А теперь, к счастью, вспомнил. Мне поверили. Вместо меня секретарём выбрали Макарову.
На собрание пришли наша классная руководительница Наталья Павловна и главный инженер автобазы. Тот самый, который водил нас в первый день по цехам. Оказывается, он считается руководителем нашей практики. А я и не знал.
Главный инженер сказал, что администрация автобазы создала нам наилучшие условия. Все ребята распределены согласно их интересам, склонностям и личным качествам. Все цеха и бригады оказывают нам полное внимание. В общем, всё идёт прекрасно. Он надеется, что мы получим трудовые навыки. А если у кого есть претензии, он их с удовольствием выслушает.
Но по его лицу было видно, что претензии он выслушает без всякого удовольствия.
Все молчали, никто не выражал претензии.
Тогда Игорь сказал, что он целиком присоединяется к главному инженеру. Практика идёт прекрасно. Администрация относится к нам великолепно. Все ребята сделали колоссальные успехи. А если кто и отстаёт, то сам виноват, пусть подтягивается. Но кто именно отстаёт, Игорь не сказал. Он старается никого не задевать.
На самом деле практика у нас шла вовсе не так хорошо, как они говорили. Взять, например, меня со Шмаковым. Мы только последние два дня работали нормально. А до этого были «на подхвате». А те, кто работали в механическом цехе, до сих пор ничего не делали. Стояли за спинами рабочих, смотрели, как те работают на разных станках. Мы их называли «заспинниками». Один из таких «заспинников», Солоухин, сидел рядом со мной. Я подтолкнул его, чтобы он высказался. Солоухин махнул рукой: не хотел связываться.
Тогда я сказал:
— Некоторые ребята не работают, только смотрят.
— Нет, — возразил главный инженер, — они не смотрят, а наблюдают. У них наблюдательная практика.
Наша классная руководительница Наталья Павловна очень обрадовалась тому, что всё идёт хорошо. Она всегда радуется, когда всё идёт хорошо, и огорчается, когда идёт плохо. И мне тем более не хотелось её расстраивать. Она уже старенькая, и у неё слабое сердце. И я не стал возражать главному инженеру.
Наталья Павловна сказала, что она очень рада тому, что всё идёт хорошо. Но, добавила она, практику надо увязывать с учебным процессом, со школьной программой. Когда мы работаем, мы должны всё время думать про физические и химические законы, которые изучали в школе. Должны увязывать эти законы с тем, что мы видим и делаем на производстве.
Мы ничего не возразили Наталье Павловне. Мы никогда ей не возражаем. Пусть себе говорит.
После этого главный инженер сказал:
— Товарищи! Я, к сожалению, не успел просмотреть ваши наряды. Но думаю, что заработок каждого составит не менее чем рубль тридцать в день.
Все этому обрадовались и очень оживились.
— Внимание! Есть существенное предложение! — с важным видом объявил Игорь.
Но ребята не могли успокоиться. Рубль тридцать в день! Никому не снились такие деньги… Особенно девочкам. Они хихикали, перешёптывались, наверно, обсуждали, как будут тратить свою зарплату.
— Тише, дети, — сказала Наталья Павловна, — чем тише вы будете сидеть, тем скорее мы кончим собрание.
Она всегда так нас успокаивала.
Но Игорь очень обиделся, что ребята не хотят выслушать его существенное предложение. При всей своей воспитанности он был очень капризен. Он обиженно надул губы и сразу стал похож на ребёнка:
— Если это неинтересно, то я могу не говорить.
Это были красивые слова. Ни при каких обстоятельствах Игорь не отказался бы говорить. Когда все успокоились, он сказал:
— Наталья Павловна совершенно права: надо увязать нашу работу со школой. А потому я вношу такое существенное предложение…
Тут Игорь сделал паузу, чтобы заинтриговать нас и придать своим словам больше значительности. Это примитивный ораторский приём. Однако у Игоря он всегда достигал цели — воцарялась напряжённая тишина. Я же, наоборот, никогда не умел пользоваться этим приёмом. Как только я делал паузу, тут же начинал говорить кто-нибудь другой. Игорь убедился, что все его слушают, и торжественно произнёс:
— Я предлагаю общими усилиями нашего класса восстановить этот списанный автомобиль и подарить его нашей школе.
И он величественным жестом показал на сломанный автомобиль, возле которого мы сидели.
Все обернулись и воззрились на эту несчастную машину. Даже человеку, незнакомому с автомобильным делом, было очевидно её плачевное состояние. Она стояла на деревянных колодках и была совершенно «раскулачена»: с неё были сняты все сколько-нибудь годные части.
— Состояние этой машины тяжёлое, — продолжал Игорь. — Но тем значительнее будет наша заслуга!..
И он сказал ещё несколько прочувствованных слов. Если мы восстановим эту рухлядь, то увековечим наш класс, прославим себя в веках и о нас будут говорить потомки. Он сказал несколько по-другому, но смысл был такой.
У Натальи Павловны сделалось растерянное лицо. Она всегда приходила в замешательство, когда кто-нибудь из нас выступал с неожиданным предложением. Не знала, как на это отреагируют директор школы и завуч.
— А вы справитесь с этим? — тревожно спросила Наталья Павловна.
Все были так обрадованы предстоящей большой получкой, что потеряли способность к здравому суждению. И хором закричали: «Справимся!»
Я тоже был рад, что получу такие большие деньги. Но нельзя же из-за этого терять самообладание, здравый смысл и трезвый взгляд на вещи.
Я сказал:
— Прежде всего давайте осмотрим этот тарантас. И тогда будем решать. — И, чтобы мои слова выглядели убедительнее, добавил: — Надо составить дефектную ведомость и определить объём работ.
Вот какие словечки я ввернул! Они произвели на ребят большое впечатление.
Даже Игорь не нашёлся что ответить. Только насмешливо спросил:
— Ты, по-видимому, боишься?
— Ничего я не боюсь! — ответил я. — Но надо подойти ответственно.
Тут встал Вадим Беляев, ткнул пальцем в кузов несчастной машины и сказал:
— Я отлично знаю этот драндулет. Он ещё в очень хорошем состоянии. А если чего не хватает, то я достану в два счёта.
Так как в дальнейших событиях Вадим будет играть существенную роль, я скажу о нём два слова.
Во-первых, Вадим закадычный друг Игоря, его верный помощник и адъютант. Не помню, в каком классе мы сочинили про Игоря песенку, в которой были такие слова:
~И, ожидая приказаний,
~Вадим трепещет перед ним…
«Перед ним» — перед Игорем.
Во-вторых, Вадим «трудный ученик». В том смысле, что был известный на всю школу делец. Он менял марки, завтраки, конфетные и спичечные этикетки, устраивал по блату подписки на всякие собрания сочинений, во время фестиваля молодёжи доставал значок какой угодно страны, даже Канады. Вадим мог раздобыть билет на любой футбол, концерт, выставку, куда угодно. Как это ему удавалось, никто не знал. Он не был спекулянтом. Он был даже, в общем, невредный парень. Но у него была судорожная страсть что-то доставать, что-то менять. Может быть, он был просто больной. Ведь предупреждала же нас Наталья Павловна, что Вадим вроде как психический, и заклинала нас не вступать с ним ни в какие сделки.
В первый день практики Вадим принёс на автобазу карманный радиоприёмник величиной с папиросную коробку «Казбек», только потолще. Где достал Вадим этот приёмник, я не знаю. Он его принёс, удивил всех и больше не приносил.
На следующий день Вадим явился в финских брюках, очень узких, в обтяжку, прошитых вдоль и поперёк белыми нитками. Это хорошие, удобные брюки с множеством карманов. Но толстому Вадиму они были узки. Он не мог в них ни сесть, ни встать. Они даже не застёгивались у него на животе. На следующий день на Вадиме этих брюк уже не было.
Так каждый день Вадим удивлял всех какой-нибудь новой вещью. То принесёт большой красочный проспект с моделями американских автомобилей, то папиросную зажигалку с вделанной в неё крошечной пепельницей. То ещё что-нибудь. В общем, разное. Принесёт на одни день, а потом эта вещь исчезает неизвестно куда. И непонятно, чья эта вещь, Вадима или ещё чья-нибудь. Может быть, он её просто взял взаймы.
Но из-за этих штучек Вадим сразу стал заметной и даже известной фигурой на автобазе. Его знали все. Тем более, что Вадим предпочитал быть «на подхвате», любил разгуливать по автобазе. Я не мог понять толком, в каком цехе он работает. То он возился на складе, то уезжал куда-то с агентом, то выполнял поручения Игоря.
И вот теперь он стоял, толстый, упитанный, розовощёкий, с твёрдым светлым ёжиком на голове, в громадных роговых очках, и утверждал, что он всё достанет в два счёта.
— Вот видишь, — мягко, но с упрёком сказал мне Игорь, — Вадим понимает общую задачу, а ты не понимаешь.
— Я-то понимаю, — ответил я, — а Вадим болтает, чего не знает!
— Нет! — возразил Игорь. — Машину можно восстановить. Я тоже в этом немного разбираюсь.
Игорь, намекал на то, что у его брата есть «Москвич» и он, Игорь, лучше нас всех водит машину. Но водить машину — одно, а ремонтировать — совсем другое.
— Вот так, — продолжал Игорь. — А в тебе, Крош, нет энтузиазма. Ты не хочешь участвовать в общем деле.
— Не извращай мою мысль, — сказал я. — Я хочу участвовать в общем деле. Но не хочу, чтобы мы раздавали пустые обещания. Я работаю в гараже и знаю, что такое автомобиль в целом. Надо прежде всего определить объём работ. Пусть Шмаков Пётр скажет, он тоже работает в гараже.
Но Шмаков Пётр ничего не сказал. Он и без того молчалив, а на собраниях у него и вовсе пропадает дар речи. Он покряхтел, но не выдавил из себя ни слова.
Зато сказал Вадим:
— Считаю предложение Игоря реальным. Пусть выскажутся ребята.
— Пусть выскажутся, — согласился Игорь, — а Крош всегда против. Это не его вина, а его беда.
Этим выражением он хотел меня унизить.
Ребята, работавшие в механическом, спросили, будут ли они сами вытачивать детали для нашей машины или будут только наблюдать.
— Конечно, сами, — заверил Игорь. — Правильно, Вячеслав Петрович?
Вячеслав Петрович — главный инженер. Он ответил:
— Если вы будете восстанавливать машину, то только своими руками.
Но никто не обратил внимания на его многозначительное если. Все обратили внимание только на слова: своими руками.
Полекутин и другие ребята, работавшие в моторном цехе, заявили, что они наверняка соберут мотор на машину.
Майка и Надя Флёрова взялись сшить сиденья и спинку сиденья.
Те, кто работал в электроцехе, сказали, что у них в цехе полно всякого электрооборудования. Его можно восстановить и поставить на машину.
Рождественский и Гаркуша взялись покрасить машину в любой цвет. Резвяков обещал заварить все нужные части — он работал на сварке. Свидерский и Смирнов сказали, что отремонтируют радиатор и сделают все медницкие и жестяницкие работы. Словом, все загорелись этой идеей.
— Наш класс единодушен, — сказал Игорь. — Кроме Кроша. К счастью, он остался в гордом одиночестве.
Я возразил, что меня не поняли. Я вовсе не против, но считаю…
Игорь перебил меня и, противно улыбаясь, сказал, что я могу на деле доказать, что я не против…
Почему так получается? Какую бы глупость ни говорил Игорь, все с ним соглашаются. А когда я говорю, на лицах появляется недоверчивое выражение, будто ничего, кроме ерунды, от меня ждать нельзя. Каждый раз я даю себе зарок больше не выступать. И всё же опять выступаю.
— Теперь, — сказал Игорь, — я предлагаю избрать штаб. Он будет руководить работой по восстановлению машины.
— Зачем штаб?! — закричал я. — Только заседания устраивать!
Все закричали, что действительно никакого штаба не надо. Никто не хотел заседать.
— Это правильно, — вдруг согласился Игорь, — пожалуй, штаба не надо. Но руководителя выбрать необходимо. Чтобы координировать работу.
Ему самому хотелось быть руководителем.
Тогда я предложил Полекутина, который лучше всех разбирается в технике.
— Полекутин лучше всех разбирается в технике. Пусть он и будет руководителем.
Но подлиза Вадим возразил:
— Для руководителя нужны организаторские способности. Поэтому я предлагаю Игоря. Он работает в конторе и будет всё координировать. А Полекутина я предлагаю избрать заместителем по технической части.
Все с этим согласились. Выбрали Игоря руководителем, а Полекутина заместителем по технической части.
Игорь заявил:
— Как хотите, но необходим помощник по снабжению. Я предлагаю Вадима. Пробивной парень.
Вадим, конечно, пробивной парень. Но он любит делать всякие дела, может зарваться и скомпрометировать нас.
И я сказал:
— Я против.
— Почему? — спросил Игорь.
Я не хотел говорить почему.
— Против, и всё!
— Надо обосновать свой отвод, — настаивал Игорь.
Я ляпнул:
— Он твой приятель.
Все расхохотались. Игорь опять противно улыбнулся:
— Это не основание для отвода.
Снабженцем выбрали Вадима.
Тогда Игорь заметил:
— Вот видите: я, Полекутин и Вадим и есть тот штаб, который я предлагал с самого начала.
Решили, пусть это называется штабом. Чёрт с ним, если ему так хочется!
— Теперь, — сказал Игорь, — пусть каждый цех выберет старшего.
Все стали выбирать.
В гараже работали только двое: Шмаков Пётр и я.
Шмаков выбрал в старшие меня.
5
От этого собрания у меня остался на душе неприятный осадок. Мне казалось, что ребята только и думают о моём неудачном выступлении и смеются надо мной.
Разве я против восстановления машины? Мне было только неприятно, что это предложил Игорь, а не кто-нибудь другой. Например, Полекутин, который лучше всех разбирается в технике. Полекутин предложил бы это для дела, а Игорь для того, чтобы показать себя.
Я много раз замечал: Игорь затевает какое-нибудь дело, подаёт идею, подымает шум и треск, а когда всё проваливается, виноватыми оказываемся мы. И я не хотел, чтобы это повторилось сейчас.
Это мне и следовало сказать на собрании. Напомнить об идеях Игоря, привести примеры из прошлого. Все бы закричали, что я прав. Игорь с Вадимом остались бы в позорном меньшинстве.
Но собрание прошло. Эту речь я уже не мог произнести. Я пересказал её в общих чертах Шмакову Петру. Шмаков сказал:
— Плюнь!
Я заговорил с Полекутиным. Он тоже сказал:
— Плюнь!
Полекутина мы называем «папашей», такой он высокий и здоровый. Он и Шмаков самые сильные в классе.
Вскоре я убедился, что никто и не думал о моём неудачном выступлении. Даже Вадим забыл, что я давал ему отвод. Впрочем, Вадим легкомысленный человек.
Вадим помогал теперь Игорю. А Игорь развил бурную деятельность, завёл себе ещё одну блестящую папку. В неё он складывал бумаги, относящиеся к восстановлению машины. В этих бумагах одобрялась наша инициатива. Игорь был даже в райкоме. Там тоже одобрили нашу инициативу. Однако бумажки не дали, сказали: «Валяйте действуйте!»
Я не понимал: при чём тут бумаги? Нужны не бумаги, а запасные части.
Игорь собирал бумажки, а машина между тем валялась на пустыре. Рабочие начали над нами посмеиваться. Мол, взялись не за своё дело.
Слесарь Коська сказал:
— Комики!
А бригадир Дмитрий Александрович выразился так:
— Артисты.
Я сказал Шмакову Петру:
— Рабочие над нами смеются.
На что последовало его обычное:
— Плевать!
Я пошёл в моторный цех к Полекутину.
— Надо что-то делать.
— Что же я сделаю? — спросил Полекутин.
— Как — что? — удивился я. — Ведь ты заместитель по технической части. Надо думать.
— Пусть Игорь думает, это его идея.
— А почему ты молчал на собрании?
На этот убийственный довод Полекутину нечего было ответить.
Тогда я предложил:
— Соберёмся после работы и осмотрим этот несчастный драндулет.
После работы мы собрались на пустыре. Я, Шмаков Пётр, Полекутин, Гринько из электроцеха, Таранов из агрегатного. Я позвал их, чтобы более квалифицированно решить вопрос.
Мы подняли капот и осмотрели двигатель. Он был грязный, без свечей, без ремня, вообще какой-то пустой.
— Я не могу сказать, в каком состоянии двигатель, — объявил Полекутин, — его надо снять и разобрать.
Мишка Таранов сказал:
— И коробку скоростей надо снять, и задний мост, и передний мост. Снять и разобрать. Тогда мы увидим, в каком они состоянии.
Гринько высказался более определённо:
— На машине нет никакого электрооборудования.
А Шмаков Пётр сказал:
— Щиток сняли.
Действительно, на том месте, где полагалось быть щитку, торчали голые провода.
— И подушки спёрли, — добавил Шмаков.
Сидений в кабине не было.
Мы начали думать, что нам делать.
Я предложил:
— Давайте составим дефектную ведомость.
Дефектная ведомость — это такая ведомость, в которой указаны все дефекты машины.
— Где мы её возьмём? — спросили ребята.
— Сейчас достану, — ответил я и пошёл в гараж.
В верстаке у Лагутина я видел пачку таких ведомостей. Они напечатаны типографским способом. В них перечислены все части автомобиля. Надо против каждой части поставить галочку: годная эта часть или негодная. Очень здорово придумано.
В гараже никого не было, все ушли на обед. Я открыл верстак и увидел там пачку ведомостей. Но когда я поднял эту пачку, то увидел под ней два подшипника. Те самые, которые позавчера мы с Лагутиным должны были поставить на машину и про которые Лагутин сказал, что поставит сам. Это были именно те подшипники в той же промасленной бумаге. Рядом лежал бланк требования, по которому я получал эти подшипники на складе.
Как же так? Ведь машина уже вышла из ремонта, а подшипники лежат в верстаке. Значит, Лагутин забыл их заменить. И машина вышла из ремонта со старыми подшипниками. Халатный человек этот Лагутин.
Я вернулся на пустырь. Возле наших ребят стоял шофёр Зуев.
— В этой машине толку не будет! — сказал Зуев. — Легче новую собрать.
Удивительная особенность шофёра Зуева заключалась в том, что он был всегда небрит. Если человек не бреется совсем, то у него вырастает настоящая борода. А если он хоть редко, но бреется, то в какой-то день он должен быть выбритым. А рыжая щетина Зуева всегда была одной и той же величины. Не увеличивалась и не уменьшалась.
Это был худой, молчаливый человек. Шофёр. Но за какую-то провинность его сняли с машины и перевели в гараж. Кажется, даже временно лишили водительских прав. Не знаю точно. Меня он не интересовал. Он был какой-то апатичный. С кем он сошёлся, так это со Шмаковым Петром. Они любили разговаривать. Сядут в холодке и произносят по одной фразе в полчаса.
— Пионерский лагерь знаете? — спросил Зуев.
— Конечно! — ответили мы.
— Там стоит другая списанная машина. Куда лучше этой. А за эту и не беритесь.
Зуев ушёл.
Полекутин объявил:
— Ничего не выйдет.
И стал доказывать, что восстановление машины обойдётся чуть ли не в две тысячи рублей. Полекутин здорово разбирался в технике.
— Почему ты молчал на собрании? — спросил я.
— Тогда я не знал, в каком она состоянии.
— Ага! А ведь я предлагал сначала осмотреть.
— Я не помню, что ты предлагал! — ответил Полекутин. — У тебя вообще не поймёшь, что ты предлагаешь. А эту лайбу нужно отправить на свалку.
— Хорошо, — дипломатично сказал я, — раз уж мы её осмотрели, давайте составим дефектную ведомость.
В дефектной ведомости нам пришлось писать всего два слова: «в ремонт» и «отсутствует».
Двигатель — в ремонт, аккумулятор — отсутствует, коробка передач — в ремонт, динамо — отсутствует. И всё в таком духе.
Мы кончили составлять дефектную ведомость. Появились Игорь и Вадим. В руках у Игоря была его знаменитая папка. В руках у Вадима ничего не было.
— Привет! — сказал Игорь. — Чем занимаемся?
Я объяснил ему, чем мы занимаемся.
— Прекрасно!
Игорь сел на подножку, вынул из папки чистый лист бумаги, из кармана вечную ручку и начал что-то писать.
— Что ты пишешь? — спросили мы.
Он ничего не ответил и продолжал писать. Потом прочитал написанное, сначала про себя, затем вслух:
— «Поручается товарищам Полекутину, Крашенинникову, Шмакову, Гринько и Таранову составить дефектную ведомость и представить её в штаб».
Мы молчали: не знали, как на это реагировать.
Только Вадим сказал:
— По этой ведомости я всё моментально достану.
Игорь мечтательно посмотрел на Вадима и дописал:
«Помощнику по снабжению Вадиму Беляеву — обеспечить запасными частями».
— Теперь не подкопаешься, документация в порядке, — сказал Игорь, щуря глаза с таким видом, будто эту писанину он ведёт только для того, чтобы заткнуть рот каким-то там бюрократам.
Мы понимали, что Игорь сам законченный бюрократ.
6
Мы пошли домой вчетвером: я, Шмаков, Игорь и Вадим. Мы живём на одной улице. Я со Шмаковым в одном доме, Игорь с Вадимом в соседнем.
Во дворе мы увидели малышей, игравших в футбол, и включились в игру. Решили доставить малышам удовольствие: им не может не польстить, что мы с ними играем.
Вадим — толстяк, носился как угорелый, толкался, «ковался» и бил мимо ворот.
Шмаков, наоборот, стоял на одном месте и ждал, когда к нему прилетит мяч. А когда мяч прилетал к нему, выбивал его на соседний двор.
Игорь играл на эффект. Хотел, чтобы все видели, как здорово он забивает голы. Требовал, чтобы ему пасовали. Если не забивал гол, говорил, что ему дали плохой пас. Сам он никому не пасовал.
Мы погоняли мяч минут пятнадцать. Потом надоело. Тем более, что малыши расхныкались. Заскулили, что мы не даём им бить по мячу. Одного, самого задиристого, мы слегка, по-отечески, проучили, чтобы с малолетства не привыкал склочничать. Но мяч им отдали. Бог с ними, пусть и они поиграют…
Мы уселись вокруг вкопанного в землю стола. По вечерам здесь играют в домино. Домой идти не хотелось. Был июньский, солнечный день. Не такой жаркий и утомительный, как в центре города, а лёгкий и приятный. В нашем районе микроклимат! Особый климат, гораздо лучший, чем климат других районов Москвы.
Мы живём на окраине города. Вернее, на бывшей окраине. Теперь здесь новый жилой массив. Вдоль широких проспектов стоят восьми— и шестиэтажные дома.
Но раньше здесь была деревня. Я даже помню остатки этой деревни: косогоры, овраги, разбитая булыжная мостовая, сельмаг, телефон-автомат, один на всю улицу, деревянные домики, ещё и сейчас сохранившиеся кое-где на задних дворах.
До сих пор мы употребляем названия, оставшиеся от тех далёких времён: «Дедюкин лес», «косогор», «ссыльный овраг»… Оврага и косогора больше нет. От леса осталось несколько деревьев, там собираются разбить парк.
Мы сидели во дворе, вокруг деревянного столика, и наслаждались нашим микроклиматом.
Игорь очень смешно рассказывал про контору, где он работал. Игорь любил тереться среди старших, курил, важно рассуждал с ними, а за глаза всячески высмеивал. И он очень красочно и смешно расписал недостатки работы конторы.
Мне тоже захотелось рассказать про недостатки работы гаража. Но никаких особенных недостатков у нас нет. К счастью, я вспомнил про подшипники и сказал:
— У нас тоже случаи бывают дай бог! Выписывают на машину новые детали и забывают их поставить.
И рассказал про подшипники, которые видел в верстаке у Лагутина.
В ответ Игорь снисходительно изрёк:
— Крош, ты наивен!
А Вадим чуть не подавился от смеха:
— Ой, Крош, уморил!
Даже у Шмакова на лице появилось слабое подобие улыбки. Я с недоумением смотрел на них, не понимал, чего они смеются.
— Чудак ты! — сказал Вадим. — Он их нарочно не поставил. Оставил на машине старые, а новые загонит налево.
Я опешил:
— Но ведь это обман. Машина со старыми подшипниками выйдет из строя.
— Не выйдет, — успокоил меня Игорь, — старые подшипники ещё наверняка хорошие, иначе бы он их заменил.
— Всё равно — жульничество! — сказал я.
Игорь прищурился:
— Каждый делает свой маленький бизнес.
— Не каждый, — возразил я, — только Лагутин.
— Тем лучше, — рассудительным голосом проговорил Игорь, — единичный случай. И потом: если бы старые подшипники сменили, их бы выбросили. А так они ещё походят. Никто особенно не пострадал.
— Лагутин украл эти подшипники, — сказал я. — Так и надо?
Игорь поморщился:
— Зачем употреблять сильные слова? «Украл»! Скомбинировал! Сообразил на сто грамм… Сколько стоят эти подшипники? Рубль, полтора… Мелочь!
Я сказал:
— Какой же это рабочий класс? Таскать у собственного государства.
Игорь махнул рукой:
— Высокие слова…
Но тут во двор въехала «Победа». Из неё вышли девушка и два парня, приятели Игоря… Игорь поднялся и пошёл к ним…
У каждого из нас есть знакомые ребята помимо школы и помимо дома, где мы живём. Это вполне естественно. Иногда это родственники. Какие-нибудь двоюродные братья или сёстры, живущие на другом конце Москвы. Иногда знакомые, которые неизвестно откуда взялись.
Один такой знакомый есть и у меня. Юра, сын Полины Григорьевны. С Полиной Григорьевной моя мама познакомилась на курорте давным-давно, много лет назад. С тех пор они изредка звонят друг другу по телефону. Болтают о разных пустяках. Говорить им совершенно не о чем. Но каждый разговор заканчивается фразой: «Обязательно надо повидаться». Видятся они раз в году. Один раз в году мама ездит к Полине Григорьевне. В следующем году Полина Григорьевна приезжает к маме. Это называется «курортное знакомство».
И вот, когда Полина Григорьевна приезжает к нам, она приволакивает с собой Юру. Перед их приездом мама «делает глаза»:
— Сегодня приедет Полина Григорьевна. Будь дома и займи Юру.
Чем его занимать, я не знаю. Это поразительно унылый тип. Всё, что отпустила ему природа, ушло у него в рост. Он на голову выше моего папы, а папа на голову выше меня. Костлявый, как Кощей. И похож на вопросительный знак.
Говорить с ним абсолютно не о чем. Он учится в спецшколе, где преподавание ведётся на французском языке. И если открывает рот, то только для того, чтобы произнести какую-нибудь французскую фразу. Так он учится думать по-французски.
Мне это в конце концов надоело, и я стал шпарить по-английски. У меня достаточный запас слов, чтобы городить всякий вздор. Так мы с ним и проводили вечер. Он произносил длинные французские фразы, я по-английски чесал всё, что взбредало на ум.
Прощаясь, он говорил: «Же ву ремерси де ту кер, пур сё суар агреабль», что означало: «Сердечно благодарю вас за приятный вечер». На что я отвечал: «Джон ком ин зе руум энд супен зе виндау», что означало: «Когда Джон входит в комнату, он открывает окно». Эту фразу я вызубрил ещё в шестом классе.
Наши мамаши стояли в коридоре и радовались тому, как здорово мы владеем иностранными языками.
Такой у меня знакомый. И я не прятал его от своих товарищей. Когда мне надоедал наш англо-французский разговор, я выводил Юру во двор. Знакомил с ребятами, предоставляя возможность ему играть с ними, а им — любоваться таким удивительным экземпляром. Впрочем, он никогда не играл, стоял в стороне, смотрел на нас и изредка думал по-французски.
Другие наши ребята тоже имели посторонних знакомых. И при случае знакомили нас с ними. Это в порядке вещей. Другое дело Игорь.
Игорь никогда не знакомил нас со своими приятелями. Он нас стыдился. Строил из себя взрослого. Не хотел показывать своим ещё более взрослым приятелям, что водится с маленькими. Маленькими он считал нас.
Нам, конечно, на это наплевать. Мы никому не набиваемся на знакомство. Но в поведении Игоря была какая-то подлость. Когда появлялись его приятели, он старался отделаться от нас. Прибегал к недостойным уловкам. Нарушал товарищескую этику.
Так и сейчас. Как только «Победа» подъехала к тротуару, у Игоря на лице появилось отчуждённое выражение, он поспешно встал и направился к машине.
Как я уже сказал, из машины вышли девица и два парня, одетые подчёркнуто небрежно: кеды, помятые брюки, спортивные куртки. Только на девушке вместо куртки был полосатый свитер.
Они поздоровались с Игорем. О чём-то поговорили. Игорь поднял руку с открытой ладонью. Этот жест обозначал у него: «Всё будет сделано». Потом они сели в машину и уехали по направлению к автобазе.
Мы со Шмаковым проводили их равнодушным взглядом. Но Вадим переживал. Игорь — его закадычный друг, а поступает по-свински.
А кто виноват? Сам Вадим. Никто не заставляет его играть такую унизительную роль — быть у Игоря на побегушках. Сам хочет. И нечего переживать.
— Не взял тебя Игорь, — равнодушно, но не без ехидства проговорил Шмаков.
Вадим пожал толстыми плечами:
— А куда он меня должен брать? Что я — маленький?
— Я так, между прочим, — зевнул Шмаков.
— Эти ребята с киностудии, — сказал Вадим, — я их знаю.
Этой осведомлённостью Вадим хотел несколько сгладить неловкость своего положения. Мол, Игорь ничего от него не скрывает, он в курсе его дел.
Мы знали, что Игорь после школы собирается поступить в ГИК — Государственный институт кинематографии. Он уже снимался в массовых сценах, в толпе. Мы специально ходили смотреть картины, в которых он снимался. Но никогда не могли его разглядеть. Игорь, сидевший рядом с нами, говорил: «Вот, вот, видите, рядом с тем, это я». Того, кто рядом с Игорем, мы видели, а самого Игоря не видели. Но нам было приятно, что наш товарищ снят в картине, которую смотрят миллионы людей, мы не хотели казаться лопухами, которые не могут разобрать, что к чему, и отвечали: «Да-да, видим».
7
Что бы ребята ни говорили, для меня Лагутин — жулик. Я не мог привыкнуть к мысли, что он работает рядом со мной, ходит, разговаривает, как обычный нормальный человек. Я не мог оторвать от него взгляда, всё время смотрел на него.
Лагутин сердито спросил:
— Чего зенки пялишь?
Но я не мог заставить себя не смотреть на него. Тем более, что мы работали вместе, срочно ремонтировали одну «Победу».
На этой «Победе» раньше ездил начальник из главка. Но ездить ему было некуда, машина целыми днями стояла у подъезда. Только зря платили зарплату водителю. А теперь её передают в таксомоторный парк. Так она будет возить пассажиров. А если начальнику понадобится поехать, он вызовет такси и поедет. Выгоднее и государству и самому начальнику — ему, наверно, тоже совестно держать у подъезда машину без дела.
Некоторые хозяйственники пытаются всучить таксомоторным паркам барахло. И таксисты поэтому очень тщательно принимают машины.
Мы готовили машину так, чтобы при сдаче её не было никаких недоразумений.
Так как в этот день произошли важные события, расскажу всё по порядку.
С самого утра Вадим бегал по автобазе и что-то собирал в свой склад. Склад ему выделили для сбора частей к машине, которую мы будем восстанавливать. Это был крошечный навесик из старого железа, с оторванной дверью.
Вадим примчался к нам и выпалил:
— Собирайте части на машину, директор разрешил.
Мы со Шмаковым удивились:
— Какие части?
— К нашей машине, неужели не понятно? Директор разрешил.
— В гараже нет никаких частей, — ответили мы, — это в цехах есть части и детали, а здесь ничего нет.
— Всё равно, что найдёте, тащите на склад! — приказал Вадим и умчался.
Мы, конечно, не стали заниматься такой ерундой. Тем более, у нас срочная работа. Рассчитывали эту «Победу» закончить завтра, а директор приказал кончить сегодня. В помощь нам дали Зуева, того самого, с небритой бородой, который любил беседовать со Шмаковым.
И, как только нам дали в помощь Зуева, Лагутин сразу помрачнел. Я это заметил потому, что всё время приглядывался к нему.
Мы со Шмаковым Петром подавали инструмент, держали переноску, приносили запасные части. Но, в отличие от первых дней, делали это сознательно. Не ждали, пока нам прикажут, а сами по ходу дела видели и подавали.
И вот по ходу дела я сообразил, что сейчас будут ставить амортизаторы. Амортизаторы поглощают всякие толчки на дороге, смягчают движение машины. На эту «Победу» были выписаны новые амортизаторы. Вчера я их получил на складе и поставил в верстаке у Лагутина.
Я открыл верстак, амортизаторов не было. Я присел на корточки, снова внимательно осмотрел — нет амортизаторов. Странно! Я их сам сюда вчера поставил.
Я обошёл верстак кругом. Может быть, Лагутин их вынул?.. И действительно! За верстаком, под кучей обтирки, я увидел торчащие рычаги амортизаторов.
Я их вытащил, поставил на верстак и стал вытирать.
В это время мимо меня проходил бригадир Дмитрий Александрович, похожий на испанца. Он посмотрел на амортизаторы, потом на меня, остановился и спросил, что я делаю.
Я ответил, что вытираю амортизаторы.
Дмитрий Александрович взял в руки один амортизатор, повертел его в руках, нажал на рычаг, потом спросил меня:
— Где взял?
— Как — где? — ответил я. — На складе.
— Сам получал?
— Сам, — ответил я.
Дмитрий Александрович нахмурился:
— Надо смотреть, чего берёте.
Он взял амортизаторы за рычаги и направился к яме, где под машиной работали Лагутин с Зуевым. Я пошёл за ним.
— Лагутин! — сказал Дмитрий Александрович.
— Чего? — ответил Лагутин из-под машины.
— Пойди сюда!
Лагутин вылез, увидел амортизаторы в руках у Дмитрия Александровича и нахмурился.
— Это откуда? — Дмитрий Александрович показал на амортизаторы.
Лагутин снова посмотрел на них, взял один в руки, повертел, пожал плечами:
— Не знаю…
— Как — не знаешь? — Дмитрий Александрович кивнул на меня. — Говорит, на складе получил!
— На складе он новые получил! — Лагутин повернулся ко мне. — Куда новые дел?
Только сейчас я сообразил, в чём дело. Это, оказывается, старые амортизаторы. Отремонтированные, но старые. Недаром я их нашёл за верстаком.
Мне стало неудобно. Я смущённо улыбнулся:
— Перепутал… Эти амортизаторы лежали за верстаком.
— Пора бы разбираться, — строго сказал Дмитрий Александрович, — принеси-ка те, я тебе покажу, как старые от новых отличить.
— Их там нет, — ответил я.
Лагутин ещё больше нахмурился:
— Как — нет?! Ты куда их вчера поставил?
— В верстак, вы мне сами велели, — ответил я.
— Как это — нет?! — повторил Лагутин, подошёл к верстаку, присел, поднялся, осмотрел верстак кругом, потом уставился на меня: — Куда ж ты их поставил?
Я молча смотрел на Лагутина. Всё мне было ясно. Не надо иметь много сообразительности, чтобы всё понять. Новые амортизаторы Лагутин сплавил налево, а на машину хотел поставить хотя и отремонтированные, но старые. Специально для этого запрятал их за верстак. Поэтому Лагутин так разозлился, что в помощь нам дали Зуева. Боялся, что Зуев помешает ему поставить старые амортизаторы. Но помешал не Зуев, а я. Моё излишнее усердие.
Глядя Лагутину в глаза, я ответил:
— Я же их при вас ставил. И верстак вы за мной закрыли.
Не знаю, что прочитал Лагутин в моём взгляде, но отвернулся и сказал:
— Куда же они подевались?
Все принялись искать пропавшие амортизаторы. Все, кроме меня. Я отлично знал, что амортизаторов не найдут. Но другие не знали. И искали. Говорили, что за ворота амортизаторы вынести не могли — сторож бы увидел. Поставить на другую машину тоже не поставили — «Победы» в это время не ремонтировались. Может быть, кто-то спрятал их для смеха — есть на автобазе такие шутники.
Через полчаса вся автобаза знала, что в гараже пропали новые амортизаторы.
Когда пропадает что-нибудь одно, моментально обнаруживается пропажа другого, а потом и третьего и четвёртого… Стало известно, что в электроцехе пропали почти новый аккумулятор и почти новая динамка, в обойном цехе — почти новые сиденье и спинка сиденья, в механическом — ещё что-то…
На эти слухи я не обращал внимания. Не может быть, чтобы в один день обокрали всю автобазу! Пропали амортизаторы, все заволновались, стали искать, рыться, и всем стало казаться, что у них в цехе тоже что-то пропало. А то, что пропали амортизаторы с «Победы», это факт. И я знал, что подменил их Лагутин. Но сказать это я не мог: у меня не было доказательств.
Прозвенел звонок. У рабочих начался обеденный перерыв. Мы совсем кончили работу и вышли во двор.
Во дворе было полно народу. Служащие грелись на солнышке. Молочница прикатила свою тележку. Рабочие покупали молоко и, усевшись в холодке, пили его, закусывая булкой. Бутылка молока и половина батона — это их обычный завтрак. На автобазе есть буфет, но все предпочитают молоко.
Вдруг появляется директор. Рядом с ним — главный инженер, мастер обойного цеха, бригадир электриков и Игорь. У всех хмурые лица, а Игорь и вовсе трясётся от страха. Директор, не оборачиваясь, спросил:
— Который?
Мастер Иван Кузьмич показал на Вадима. Бригадир электриков тоже показал на Вадима. Все они показали на Вадима. Вадим стоял, ничего не понимая, и улыбался.
— Пошли! — мрачно проговорил директор.
И направился к сарайчику, где Вадим хранил запасные части. Все двинулись за ним. Мы, конечно, тоже. Я сразу почувствовал неладное. Не из-за мрачного вида директора, а из-за растерянного лица Игоря. Если Игорь растерялся, значит, произошло нечто из ряда вон выходящее.
Вадим открыл склад. Директор шагнул туда. Через минуту из склада вылетело новое сиденье, затем спинка сиденья, потом почти новая динамка, потом полетели ещё какие-то запчасти, и, наконец, директор протянул бригадиру электриков почти новый аккумулятор.
Мы стояли потрясённые, раздавленные, уничтоженные. Не смели поднять глаз, так нам было стыдно. И только Вадим не проявлял никакого волнения. Спокойно стоял возле сарая. И каждый раз, когда директор что-нибудь выбрасывал из сарая, самодовольно улыбался. Обводил всех торжествующим взглядом, точно приглашая полюбоваться, как много хороших запасных частей он успел сюда натаскать.
Директор брезгливо вытер руки ветошью и спросил:
— Где амортизаторы?
— Какие амортизаторы? — удивился Вадим.
— С «Победы».
— Не знаю, — ответил Вадим.
Директор повернулся к Игорю:
— Чтобы амортизаторы были.
— Хорошо, хорошо, — поспешно ответил Игорь.
— Это заберите! — приказал директор, ткнул ногой в выброшенные со склада части и удалился.
Рабочие забрали всё хорошее. А негодное оставили.
Мы стояли возле сарая и молчали. Тут был весь наш класс. Что мы могли сказать? Факт налицо. Пропавшие части обнаружены у нас. Какой позор!..
8
Потом Майка сказала:
— Как некрасиво…
Все закричали, зашумели, заговорили. Все обвиняли Вадима. Это он сказал, что директор разрешил собирать части. Ребята поднажали. Вот что из этого получилось.
Когда Вадима выбирали в снабженцы, я знал, что ничего хорошего из этого не выйдет. Вадим обязательно что-нибудь натворит, и мы влипнем в историю. Сейчас мне очень хотелось об этом напомнить. Хотелось сказать: «Когда я давал отвод Вадиму, вы меня не послушались. Вы послушались Игоря. Пеняйте на себя».
Меня так и подмывало это сказать. Но я сдержал себя. Не потому, что я жалел Вадима, а потому, что он ни в чём, по-моему, не был виноват. Он не таскал эти части потихоньку, а открыто пришёл и открыто сказал, чтобы мы собирали. Вопрос в том: разрешил директор или нет. Если разрешил, то Вадим ни при чём. А если Вадим сам это выдумал, тогда он виноват. В этом надо спокойно разобраться. Нельзя вдаваться в панику.
Я спросил Вадима:
— Директор разрешил собирать части или ты это сам придумал?
— Конечно, разрешил! — ответил Вадим.
— Откуда ты знаешь?
Вадим показал на Игоря:
— Мне Игорь сказал. Правда, Игорь?
Вместо ответа Игорь задумчиво пробормотал:
— Куда могли деться амортизаторы?
— Никаких амортизаторов я не брал! — закричал несчастный Вадим.
Мне не понравилось, что Игорь увиливает от ответа, и я сказал:
— Дело не в амортизаторах. Ты прямо скажи: разрешил директор собирать части или нет?
Игорь вытаращил на меня свои голубые глаза и медленно проговорил:
— Допустим… А что?
— Пожалуйста, без «допустим»!
— Ну, разрешил!
— Чем же тогда виноват Вадим?
— А вот чем! — рассудительным голосом ответил Игорь. — Надо было не самовольничать, а спросить разрешения у начальника цеха.
— Но ведь Вадим сам ничего не брал, — возразил я, — брали ребята.
Игорь укоризненно покачал головой:
— Не надо обвинять всех. Коллектив здесь ни при чём.
— Ты свою демагогию брось! — закричал я. — Не прикрывайся коллективом. Тоже взял себе привычку! Отвечай прямо: в чём вина Вадима?
Игорь даже потемнел от злости. Но старался показать выдержку:
— Вадим обязан был предупредить ребят, чтобы они ничего самовольно не брали.
Тут голоса ребят разделились. Одни считали, что Вадим виноват, другие — что нет. Последних было большинство.
Майка сказала:
— Каждый должен отвечать за себя сам, а не прятаться за спину товарища. Мы с Надей взяли без разрешения подушку и спинку сиденья. Значит, мы виноваты. Нечестно всё сваливать на одного.
Надя Флёрова добавила:
— Все виноваты.
Пока ребята спорили, мне в голову пришла блестящая идея. Я закричал:
— Погодите, сейчас всё станет ясно! — и спросил Игоря: — Директор тебя предупредил, что надо просить у начальников цехов?
Игорь почувствовал в моём вопросе ловушку, внимательно посмотрел на меня. Потом осторожно ответил:
— Предупредил… В общем… сказал: «Пусть начальники цехов покопаются в своих резервах».
— Значит, директор тебя предупредил! — воскликнул я. — А ты предупредил Вадима?
И тут все поняли, что это и есть главный вопрос. И уставились на Игоря. Его ответ решал всё…
— Видишь ли, — неуверенно начал Игорь, — не может быть, чтобы я его не предупредил…
— Врёшь! — закричал Вадим. — Ни о чём ты меня не предупреждал. Велел собирать части, и всё!
— Погоди! — нетерпеливо отмахнулся Игорь. — Я не помню точно формулировки… Во всяком случае, я Вадиму но велел таскать что попало. Вадим не маленький. Должен соображать. У него на плечах голова, а не дыня.
Тогда я сказал:
— Директор тебя предупредил, а ты Вадима нет. Значит, ты думал, что у Вадима голова, а директор думал, что у тебя не голова, а дыня.
Игорь увидел, что я положил его на обе лопатки. Но он был большой дипломат, вместе со всеми рассмеялся моей шутке и добродушно проговорил:
— Ну ладно. Дело не в том, кто виноват. В какой-то степени, может быть, и я. Хотя я теперь вижу: на прошлом собрании Крош был прав, когда давал отвод Вадиму.
Этим он хотел завербовать меня в союзники. Но это был бы беспринципный союз.
— Дело не в Вадиме, а в тебе, — ответил я. — Ты виноват. И ты хотел всё свалить на Вадима. Не вышло.
Ребята согласились с предложением Майки: виноват весь класс, мы должны извиниться перед дирекцией и пообещать, что больше этого не повторится.
Я воздержался от голосования. Считал, что виноват не класс, а Игорь.
Игорь сразу повеселел:
— Ладно, пусть будет так. Но как быть с этими несчастными амортизаторами? Считают, что мы их взяли.
— Пусть считают! — закричали ребята. — Не брали мы никаких амортизаторов.
Майка сказала Вадиму:
— Вадим, дай честное слово, что ты не брал!
Вадим приложил руку к сердцу и дал честное слово, что он этих амортизаторов в глаза не видел.
И все ему поверили. А я тем более. Ведь я знал, кто подменил амортизаторы.
Игорь тоже поверил Вадиму. Но боялся директора. И потому внёс такое предложение:
— Выберем делегацию. Она пойдёт к директору и передаст ему наше решение. В состав делегации предлагаю: Майю, Полекутина и Кроша.
— Сам дрейфишь! — заметил я.
— Нет, — возразил Игорь. — Но я слишком часто хожу к директору по разным текущим делам. Мой приход не произведёт нужного впечатления. А если пойдёт специальная делегация, то это произведёт нужное впечатление.
Мы тут же пошли к директору. Майя, Полекутин и я. Игорь тоже увязался с нами. Так он любил «фигурировать». Но в кабинете стоял несколько в стороне, как человек, зашедший сюда случайно.
— С чем пришли? — спросил директор.
Мы договорились, что начнёт Майка. Как с женщиной, директор обязан говорить с ней вежливо. Вообще-то он человек выдержанный, но мало ли что… А если понадобится по ходу дела, то вмешаемся мы с Полекутиным.
Майка сказала:
— Класс признаёт свою вину. Мы действительно взяли кое-что без разрешения. Больше этого не будет.
— А амортизаторы? — спросил директор.
— Мы не брали. Они нам не нужны.
— Кто их взял?
— Этого мы не знаем.
— Надо найти, — спокойно сказал директор.
Тут я увидел, что по ходу дела пора вмешаться. И спросил:
— Интересно, как же мы их найдём?
Директор развёл руками:
— Это дело ваше.
Вдруг высовывается Игорь со своим хорошо поставленным баском:
— Не беспокойтесь, Владимир Георгиевич, мы примем меры.
Он хотел задобрить директора.
— Нет, — возразил я, — напрасно Игорь обещает. Класс его на это не уполномочивал. Мы не брали амортизаторов, не знаем, где они, и не намерены их искать. А зря обещать нечего.
Директор внимательно посмотрел на меня. Он вообще как-то чересчур внимательно разглядывал нас, точно никак не поймёт, что мы за люди такие.
Главный инженер сидел возле директора и молчал. Он считался руководителем практики, отвечал за нас, ему было неудобно за происшедшее и оставалось только молчать.
Директор спросил:
— Кто разрешил вам без спросу брать части из цеха?
— Ведь мы признали свою вину, — ответила Майя.
— Думаете, признали вину — значит, оправдались?
Майка перебросила косу с одного плеча на другое. Это значило, что она начала волноваться:
— А что мы должны делать?!
— Не с того конца начинаете, — сказал директор. — Надо разобрать машину на агрегаты. Потом развезти агрегаты по цехам. А там уже посмотреть: какие части годятся, какие нет.
— Это правильно, — согласился Полекутин.
Я тоже подтвердил, что правильно.
Игорь сказал:
— Именно так мы и решили поступить, Владимир Георгиевич.
— Аккуратно, чтобы ни одной гайки не потерять, — предупредил директор.
— Не беспокойтесь, — заверил его Игорь.
Игорь увидел, что разговор с директором оказался вовсе не таким страшным, сразу осмелел и опять вошёл в роль руководителя и начальника штаба.
Когда мы вышли из кабинета, он остался там. Сказал нам вдогонку:
— Подождите меня во дворе, я сейчас выйду.
Во дворе нас ждали ребята. Хотели узнать, что и как. Мы им объявили, что всё в порядке.
Вышел Игорь, тряхнул волосами, весело сказал:
— Инцидент исчерпан. Завтра организованно кидаемся на разборку лайбы. Но не той, что на пустыре. В лагере, в Липках, где прошло наше невинное детство, есть ещё одна. Тоже списанная, но в лучшем состоянии. Её передают нам. Завтра мы её притащим.
Все закричали, что это здорово и Игорь молодец.
Я тоже подумал, что Игорь всё же молодец. Когда Зуев сказал про машину в Липках, мы пропустили это мимо ушей. А Игорь сразу ухватился и уже договорился с директором. Есть у него административные способности, этого отрицать нельзя.
Всё же я заметил:
— Это мы знали. Ещё раньше тебя.
— А почему молчали? — ехидно спросил Игорь.
На это мне нечего было ответить.
Мы стали решать, кто поедет в Липки за машиной. Впрочем, это было ясно. Буксировкой машины занимается гараж, а в гараже работали мы со Шмаковым Петром…
— Пусть едут Серёжа со Шмаковым, — сказала Майя, — ведь они знают машину в целом! — и улыбнулась.
Майка никогда не называла меня «Крош», только по имени. И всегда говорит обо мне с улыбкой, значение которой я не понимаю и потому не знаю, радоваться мне этой улыбке или огорчаться.
— Это разумно, — согласился Игорь, — и я поеду с ними. А старшим здесь останется Ванька Полекутин.
Игорю в лагере делать было абсолютно нечего. Просто ему хотелось прокатиться и не хотелось ковыряться здесь. Ну и пусть едет! Полекутин без него здесь гораздо лучше со всем справится. Полекутин серьёзный парень — не трепач, не звонарь и хорошо разбирается в технике.
Но Игорю этого было мало.
— С нами поедет Вадим, — объявил он.
— Зачем? — удивились мы.
— Мало ли что там потребуется. А как ни говори, парень он пробивной.
Но, как я догадался, Игорь взял Вадима специально для того, чтобы было кем командовать. Знал, что мною и Шмаковым Петром ему командовать не удастся.
9
Вечером я сказал дома, чтобы меня завтра пораньше разбудили. Мне надо ехать в Липки буксировать машину.
Подробнее я не стал рассказывать. Не люблю рассказывать дома про школу, а тем более про автобазу. Зачем? Мама никак не может запомнить ни фамилии ребят, ни имени учителей. Скажешь ей про одного, а она думает на другого. Каждый раз нужно начинать всё снова, про каждого объяснять, кто он и что он. Кроме того, многие ребята живут в нашем доме. Мама знает их родителей. И может им ляпнуть чего не следует. Она удивительно несообразительна на этот счёт.
Не помню в каком классе, я пришёл домой и рассказал, что Шмаков Пётр третий раз подряд хватает двойку по русскому. Даже не помню, почему я это рассказал. Сидел на кухне и болтал. Без всякого ехидства и злорадства. Тем более, что Шмаков схватил третью двойку зазря. Только первые две схватил за дело.
А моя мамаша встретила во дворе бабушку Петра и говорит ей про эти двойки. Конечно, из самых лучших побуждений. Хотела ей что-то посоветовать, поделиться опытом, что ли.
Ничего в этом особенного не было: я рассказал маме, а она поделилась опытом. Тем более, что Пётр не скрывал дома двоек: они у него в дневнике.
Но бабушка Петра приходит домой и начинает его ругать: «Позор! О твоих двойках знает весь дом. Все соседи говорят».
Мы чуть не поссорились со Шмаковым навсегда. Я никак не мог ему втолковать, что никакого злого умысла не было ни с моей стороны, ни с маминой. Он не желал слышать никаких объяснений и сказал, что если это повторится, то я могу здорово схлопотать. Мне пришлось признать, что я звонарь и что у меня чересчур длинный язык. Только после этого мы со Шмаковым помирились.
А всё мамина непосредственность. Она не сплетница. Просто у неё искренняя, правдивая натура. Она не понимает, что разные люди воспринимают всё по-разному. Что для одного пустяк, для другого чёрт знает что.
Я ценю в маме её искренний, непосредственный характер. Но не желаю попадать из-за него впросак. Я перестал рассказывать ей про школьные дела. Сказал только, что буду зарабатывать в день рубль тридцать.
— Сколько это будет в месяц? — спросила мама и стала считать в уме.
Я подсчитал это уже на собрании.
— В июне тридцать дней. Значит, тридцать девять рублей, почти сорок.
Но отец сказал, что я получу только за рабочие дни, то есть без воскресений. Это составит тридцать два рубля пятьдесят копеек. Почти тридцать, а не почти сорок.
— Как ты собираешься их тратить? — спросил отец.
— Куплю моторчик к велосипеду.
— Ни за что! — заявила мама. — Я и так волнуюсь, когда ты ездишь на велосипеде. А с моторчиком… ни за что!
Я ей спокойно объяснил, что случиться происшествие может только с растяпой. Многие наши ребята имеют велосипеды с моторчиками, и ни с кем пока ничего не случилось.
На это последовал обычный ответ:
— Не забывай, что ты самый младший.
Я действительно самый младший в классе. Меня отдали в школу, когда мне не хватало трёх месяцев до семи лет. Другим ребятам было полных семь, а некоторым и восемь. Игорю даже почти девять. Я оказался самым младшим и стоял на левом фланге.
Постепенно я вырос, и меня в классе перестали считать самым младшим. Только мама продолжала так считать. И чуть что, говорила: «Не забывай, что ты самый младший».
Так она сказала и сейчас. И добавила:
— Когда тебе исполнится восемнадцать лет, будешь ездить на чём хочешь.
Раньше мама говорила «шестнадцать лет»… «Исполнится шестнадцать лет — делай что хочешь».
Но теперь, когда до шестнадцати лет оставалось всего семь месяцев, появилась новая цифра — восемнадцать… «Вот когда тебе будет восемнадцать лет и ты станешь студентом, вот тогда…» и так далее.
Сейчас она опять прибегла к этим аргументам. Чтобы я не покупал моторчика к велосипеду.
Мне не хотелось вести этот отвлечённый спор. Если я решу купить моторчик, то настою на этом тогда, когда придёт время покупать. Зачем мне настаивать на этом два раза: сейчас и потом?
— Ничего ещё не решено, — сказал я. — Может быть, куплю моторчик, может быть, подпишусь на Чехова и Бальзака.
Я лёг в постель, завёл будильник и поставил его рядом с кроватью, чтобы не проспать. Я долго не мог заснуть, думал о сегодняшних происшествиях на автобазе. Игорь плохой товарищ. Чем больше приглядываюсь к нему, тем больше в этом убеждаюсь. Валить на товарища собственную вину — подлость в кубе.
Так что в истории с Вадимом я держался правильно: осадил Игоря.
Вот в истории с амортизаторами что-то в моём поведении было неправильно. Что именно, никак не могу решить.
Я не могу доказать, что Лагутин подменил амортизаторы. Но я это твёрдо знаю. И, зная это, я молчу и, значит, покрываю Лагутина. Не только покрываю, но и разговариваю с ним, работаю рядом, общаюсь, как с любым другим, то есть веду себя с ним, как с честным человеком. Значит, я иду на сделку с собственной совестью.
Что же делать? Открыто сказать про Лагутина?.. Сказать про человека, что он вор, это ужасно… И у меня спросят: «Где доказательства?» А доказательств у меня нет.
Но если бы я тогда не смолчал с подшипниками, открыто сказал бы про них, то теперь Лагутин не посмел бы подменить амортизаторы. Даже если бы мне тогда не поверили, Лагутин всё равно не подменил бы амортизаторов: побоялся. Значит, сказав про подшипники, я бы всё это предотвратил. А вдруг бы мне не поверили? Сочли бы болтуном, а то и клеветником… Встаёт вопрос: что дороже — амортизаторы или репутация?
Но это уже философия. А я не люблю философии.
И, чтобы скорее заснуть, я решил думать не о Лагутине, а о чем-нибудь приятном. Например, о том, как я истрачу свои тридцать два рубля пятьдесят копеек.
Прежде всего надо сделать подарок отцу и матери.
Моторчик покупать не буду. Человеку, имеющему водительские права, глупо ездить на велосипеде. На Бальзака и Чехова не подпишусь, успею.
Поеду в туристскую поездку, вот что! Куда-нибудь в Крым или на Кавказ. Может быть, и Майка поедет. Когда мы будем взбираться на скалы, я буду ей подавать руку.
Вместе мы будем купаться в Чёрном море. Майка начнёт тонуть. Я брошусь в воду и спасу её. Как все утопающие, она будет сопротивляться. Мне придётся даже стукнуть её кулаком по голове. Но это для её же пользы.
На берегу Майке сделают искусственное дыхание. Она очнётся и откроет глаза. Увидит тех, кто делал ей искусственное дыхание. Но меня среди них не будет. Я буду сидеть в стороне. И она не догадается, что спас её я. Слабым голосом она спросит: «Кто меня спас?»
Я загадочно отвечу: «Тут, один…»
И вот мы с Майкой путешествуем дальше. Опять взбираемся на скалы, я подаю Майке руку, по-прежнему оберегаю её. Но Майке всё это кажется незначительным и мелким по сравнению с геройским поступком таинственного незнакомца. С грустью думает она о нём. Сравнивает его со мной. Сравнивает не в мою пользу: ведь не я, а он спас её. И в душе Майка презирает меня за это.
Но я молчу. По-прежнему, хотя и печально, подаю Майке руку, когда мы взбираемся на скалы. Мне горько, что мой самоотверженный поступок она приписывает другому.
Грустные, мы заканчиваем туристскую поездку. Майка грустит при мысле о спасшем её незнакомце, я грущу при мысли, что Майка думает о нём.
Мы возвращаемся в Москву. Майка рассказывает девчонкам, как она тонула и как неизвестный юноша спас её. Спас и ушёл. Ушёл потому, что скромен, благороден и пожелал остаться неизвестным. Девчонки переживают, восхищаются, охают и ахают, завидуют Майке. Надя Флёрова мучается при мысли, что такое романтическое приключение произошло с Майкой, а не с ней. Все уверяют Майку, что прекрасный юноша ещё непременно объявится. С пляжа он ушёл. Но он не выпустил Майку из виду, узнал, кто она, и появится при самых неожиданных обстоятельствах. Может быть, даже выжидает случая, чтобы снова спасти её.
Так мы учимся последний год. Майка думает о своём спасителе. Наши отношения с ней уже не такие дружеские. Она по-прежнему называет меня Серёжей, а не Крошем, по-прежнему улыбается, но уже с оттенком грусти: я напоминаю ей о юноше, которого она любит и будет любить всегда…
Мы кончаем школу. Наступает выпускной вечер. И вот среди гостей оказывается человек, который тогда, на пляже, делал Майке искусственное дыхание. Это может быть кто угодно. Даже кто-нибудь из родителей. Например, отец Инны Макаровой.
Он подходит к Майке и говорит:
«Очень рад вас видеть».
«Откуда вы меня знаете?» — спрашивает Майка.
«Как — откуда! Когда вас вытащили из воды, я делал вам искусственное дыхание».
«Ах», — говорит Майка и грустно улыбается.
Тогда отец Инны Макаровой спрашивает:
«Где тот прекрасный молодой человек, который вытащил вас из воды?»
Майка улыбается ещё печальнее:
— «Не знаю…»
«Позвольте, — удивляется отец Инны Макаровой, — как вы не знаете? С ним вы пришли на пляж и с ним ушли».
Майка стоит как громом поражённая. Берёт меня за руку и дрожащим голосом спрашивает:
«Серёжа! Почему ты мне не сказал?»
Я равнодушно отвечаю:
«Какое это имеет значение?»
И отхожу в сторону.
Весь вечер Майка смотрит на меня и терзается мыслью о том, как она была ко мне несправедлива…
И все девчонки с восхищением смотрят на меня. Я брожу некоторое время по залу и ухожу домой.
Потом мы с Майкой поступаем в разные институты и перестаём видеться.
И вот случайно, через год или через два, мы встречаемся… Я уже заслуженный мастер спорта, чемпион страны по…
Тут я стал думать, в каком виде спорта я буду чемпионом. Думал долго. И не успел подумать, что произошло во время нашей случайной встречи с Майкой.
По-видимому, я заснул…
10
На следующее утро, ровно в семь часов, мы со Шмаковым были в гараже.
Что я особенно ценю в Шмакове Петре, так это его точность. Договорились в семь, он и пришёл в семь. При всей своей медлительности Шмаков не лишён чувства ответственности.
Зато Игорь явился без пяти восемь. А Вадим прискакал, когда мы уезжали. И поэтому они не увидели утреннего выезда машин на линию.
Мощное зрелище! Шмаков Пётр даже рот разинул от удивления. Громадные грузовики и самосвалы выезжали из ворот на полной скорости, один за другим, нескончаемым потоком мчались по шоссе и растекались по улицам города. Я бы всё отдал, только бы вот так, за рулём, на полном газу, промчаться в этой могучей колонне.
Мы со Шмаковым стояли у гаража и смотрели на мелькавшие в кабинах лица шофёров. За рулём, да ещё в колонне, они выглядят совсем не так, как обычно, гораздо внушительнее и мужественнее. Вот что значит вести машину!
И сама автобаза в этот ранний час выглядела гораздо оживлённее и, я бы даже сказал, красочнее. Из репродуктора доносился звонкий, требовательный голос диспетчера: «Водитель такой-то, получите путевые документы!.. Водитель такой-то, приготовьте прицеп! Водитель такой-то, срочно явитесь к начальнику эксплуатации!..» Шофёры выбегали из диспетчерской, на ходу засовывали путёвку в карман, садились в кабины и выезжали из ворот, пристраиваясь в хвост колонне… Суетился кладовщик, выдавая бочки, брезенты, инструмент… Слесари ночной бригады торопились закончить свои недоделки. На мойке в облаках водяных брызг домывались последние машины. Все торопились, спешили, шумели… Но этот шум и спешка были утренние, бодрые, свежие и радостные. И машины выезжали тоже свежие, чистые, блестящие… А вечером они вернутся запылённые, испачканные цементом, известью, кирпичной крошкой, честно отработавшие свой тяжёлый, трудовой день.
В середине двора стоял директор Владимир Георгиевич и молча наблюдал за происходящим. Он ни во что не вмешивался, не отдавал никаких приказаний, никому ничего не говорил. Мимо него пробегали люди, проезжали машины, а он только молча смотрел. Но здесь, во дворе, спокойный и молчаливый, он тоже выглядел гораздо внушительнее, чем в своём кабинете.
Интересно, о чём он думал в эту минуту? Сколько груза перевезут его машины? Но это в уме трудно подсчитать. На базе триста машин, каждая поднимает по пять, семь, а то и десять тонн груза, сделает несколько рейсов. Может быть, он думал, как пройдёт сегодняшний день, не будет ли каких-нибудь происшествий? Эти триста машин сейчас скроются из его глаз, будут работать в разных концах Москвы, и мало ли что может случиться с каждой из них. Директору какого-нибудь завода хорошо: все рабочие перед его глазами. А директору автобазы хуже: шофёры разъезжаются на весь день, он за каждого отвечает и должен до вечера волноваться.
Выехали последние машины, и автобаза сразу опустела. Но только на несколько минут. Один за другим приходили ремонтники, здоровались с директором и расходились по цехам. Началась первая смена.
Мы отправились в Липки с шофёром Ивашкиным. Он возил в лагерь строительные материалы. И ему поручили на обратном пути прибуксировать нашу машину. Сначала мы заедем на склад за кровельным железом, а уж потом поедем в лагерь. А мы-то надеялись с ходу, с ветерком, прокатиться до Липок.
Впрочем, нас ожидал такой удар, что мы забыли и про склад, и про кровельное железо… С нами едет Зуев. Он будет вести вторую машину.
Мы ужасно расстроились. Мы рассчитывали сами вести вторую машину. А нам навязали Зуева. Если нам не доверяют, то, спрашивается, зачем нас посылают?
Зуев ехал в кабине. Мы в кузове. Сидели, прислонясь спиной к кабине, глазели по сторонам и возмущались тем, что с нами послали Зуева.
Ехать в открытом кузове, между прочим, гораздо удобнее, чем в кабине. В кабине смотришь только вперёд. Появится на дороге что-нибудь интересное, мелькнёт и пропадёт. А из кузова видишь всё ещё очень долго.
Так что сзади гораздо лучше! Тем более, что день был жаркий, в кузове дул ветерок, и ехать было довольно приятно, если бы не сознание, что нас лишили удовольствия буксировать машину.
По двухъярусному мосту мы пересекли Москву-реку, проехали мимо стадиона в Лужниках, мимо новой эстакады у Крымского моста, свернули на Садовую, потом у высотного здания на Красную Пресню, два раза пересекли железную дорогу и, наконец, выехали на окраину Москвы. Машина въехала в ворота склада, а мы остались дожидаться на улице.
Это была даже не улица, а сплошные заборы. Я ненавижу заборы. Они наводят на меня тоску. А в детстве наводили даже страх — мне казалось, что кто-то притаился за ними. И для чего они нужны?! Разве при социализме должны быть заборы?
Я поделился этой мыслью с ребятами. Но они со мной не согласились, сказали — нельзя без заборов! А Игорь менторским голосом добавил:
— Не умничай, Крош.
У Игоря было надутое, обиженное лицо. Уж кому-кому, а такому первоклассному водителю, как он, могли доверить буксировку машины. А тут послали Зуева… Всё раздражало Игоря. Даже то, что Ивашкин заставляет нас так долго ждать.
По этому поводу Шмаков заметил:
— Нагрузить машину железа не так просто. Его не только взвешивают, но и считают количество листов.
— Неужели? — удивился я.
— А ты думаешь! Ведь оно оцинкованное, дорогое!
Я позавидовал глубоким практическим познаниям Шмакова Петра.
Наконец появилась машина Ивашкина. Мы влезли в кузов и легли на железо. Из-за этого мы не могли глазеть по сторонам. Но дорога в Липки нам хорошо знакома. Сколько раз ездили по ней в лагерь, когда были пионерами. Машины, поля, деревни, мачты электропередач, лески и перелески — всё это было нам хорошо знакомо.
Ивашкин гнал машину вовсю. Обгонял другие машины, хотя на шоссе стояли знаки, запрещающие обгон. Один раз обогнал даже машину, которая сама в это время кого то обгоняла. Двойной обгон — грубое нарушение! Но зато как приятно мчаться так быстро. Бесспорно, Ивашкин — лихач. Но машину ведёт классно, ничего не скажешь. Если бы за рулём сидел апатичный Зуев, ни рыба ни мясо, мы ползли бы как черепахи.
Солнце палило. Железо нагрелось, нам стало жарко. Даже прекрасная езда Ивашкина не улучшила нашего настроения. Мы никак не могли примириться с Зуевым. И зачем его послали! Особенно возмущался Игорь. Кривил губы и возмущался:
— «Приучайтесь к труду», «Будьте самостоятельны»… Красивые слова!
— Липа! — мрачно вставил Шмаков Пётр.
— Глушат инициативу, — с серьёзной миной добавил Вадим.
На этот раз я был согласен с Игорем. Действительно, машину потащат на буксире со скоростью самое большее пятнадцать километров в час. Неужели мы не могли бы сидеть за рулём!
— За нас думает дядя, — продолжал Игорь, — а нам думать не дают. Мы для них деточки. Это в шестнадцать лет! Когда Александр Македонский разгромил фиванцев при Херонее, ему не было восемнадцати. Наполеон в двадцать три года уже был генералом… Росли люди!
Он сделал паузу и мрачно добавил:
— Ничего не поделаешь. Двадцатый век — век стариков.
Машина продолжала мчаться по шоссе. Один раз Ивашкин даже проскочил на красный свет. Счастье его, что это был светофор-автомат и рядом не было милиционера.
— Где-то я читал, — начал вдруг Шмаков Пётр, — про парнишку одного, не то казах, не то кореец. В шахматы играет, как первокатегорник. А ему всего пять лет.
Игорь снисходительно улыбнулся:
— Вундеркинд.
— А сколько мастеров спорта в шестнадцать лет? — настаивал Шмаков.
Игорь презрительно прищурился:
— Не видишь разницы между физическим развитием и интеллектуальным?
Но Пётр гнул своё:
— А музыканты?
— Музыка — узкое дарование, — изрёк Игорь.
— Олег Кошевой в шестнадцать лет был начальником штаба «Молодой гвардии»! — сказал Вадим.
— Исключительный случай, — возразил Игорь.
— На тебя не угодишь! — сказал Вадим. — «Исключительный случай, узкое дарование, чисто физическое развитие»!.. Ты не знаешь, чего хочешь.
Было ясно, что после эпизода с запасными частями Вадим начинает выходить из-под влияния Игоря. Я был этим очень доволен.
— И техника растёт, — брякнул Шмаков.
Шмаков выражался иногда очень непонятно. Не все его понимали. Но я понимал. И, когда я видел, что он говорит не совсем ясно, я развивал его мысль.
— При Александре Македонском, — пояснил я мысль Петра, — был очень низкий уровень техники: слоны, мечи, копья, щиты. Разве можно сравнить с современной армией: ракеты, авиация, танки. И, чтобы овладеть современной техникой, надо гораздо больше образования.
— Эх, ты, — засмеялся Игорь, — слоны были не у Македонского, а у Кира!
— Македонский воевал не с Киром, а с Дарием, — ответил я.
— Дело не в царях, а в слонах, — сказал Игорь.
— Дело не в слонах, а в царях, — сказал я.
Игорь насмешливо кивнул на кабину:
— Я вижу, тебе очень нравится Зуев.
— Зуев — одно, Александр Македонский — другое, — ответил я. — Лев Толстой был глубокий старик, но это не значит, что его век — это век стариков. Примеры: Лермонтов, Добролюбов…
Потом пошла такая медленная, ленивая перебранка, что я её даже не запомнил.
Было жарко, было лень, и мы уже доехали до поворота на Липки.
11
Липки — дачный посёлок. В нём полно заборов. Над некоторыми даже натянута колючая проволока. Живут здесь частники и дачники. Дачники снимают у частников дачи. Частники здорово дерут с дачников.
Машина остановилась. Зуев высунулся из кабины:
— Ребята, топайте в лагерь. Мы разгрузимся и приедем.
Мы слезли с машины и пошли на строительство лагеря. Мы увидели несколько больших деревянных дач, опоясанных длинными верандами. Кругом лежали доски, брёвна, тёс, кирпичи и другие строительные материалы.
Мы зашли в одну дачу — пусто. В другую — тоже пусто. Ни живой души, ни мебели.
Только на третьей даче мы услышали голоса. Они доносились со второго этажа. Мы поднялись туда и увидели ребят из класса «Б». В ленивых позах они развалились на полу и вели ленивый разговор.
Когда мы вошли, они замолчали и уставились на нас. Mы воззрились на них. Нам стало ясно, что у них за практика.
— Трудитесь? — насмешливо спросил Игорь.
Они как истинные лодыри ответили:
— А что?!
— Завидую, — сказал Игорь.
Из дальнейшего разговора выяснилось, что у них простой из-за отсутствия строительных материалов. Здесь сидела только часть ребят, другая ушла купаться. Однако было видно, что простой для них только одно удовольствие.
— Кормят вас, не отказывают? — заметил Шмаков Пётр.
Они опять вызывающе ответили:
— А что?!
— Ряшки у вас гладкие, вот что, — сказал Шмаков.
Они радостно загоготали, будто Пётр сказал им нечто очень лестное. Даже обижаться им лень.
Мы объяснили цель своего приезда и спросили, где находится списанная машина.
— У кладовщика, — ответили они.
— Может быть, оторвёте свои седалища от пола и покажете нам кладовщика? — спросил я.
Никто из них даже не двинулся с места. Они опять загоготали и начали всячески издеваться над нашим намерением восстановить машину. Они были, в общем, неплохие ребята. Но сейчас на них напало такое настроение. Бывают моменты массового психоза, когда весь класс начинает ни с того ни с сего смеяться, орать, вытворять всякие штуки. Такой момент наступил и у них.
— Довольно ржать! — сказал я.
Но они гоготали как сумасшедшие. И всё по поводу машины. Таким смешным и диким казалось им наше намерение её восстановить. Они ведь ничего не понимали в автомобильном деле. Глупости они пороли невероятные. Но каждая глупость казалась им верхом остроумия. Результат чрезмерного питания плюс безделье.
— Веселитесь! — сказали мы и пошли искать кладовщика.
…Мы думали, что быстро приготовим машину к буксировке, подцепим её и поедем. Это оказалось не так просто. Я понял, что без Зуева мы бы ничего не сделали. Ивашкин никакого участия в работе не принимал, посидел немного и ушёл.
Зуев велел нам накачать баллоны, а сам стал налаживать свет и сигнал. Без света и сигнала запрещается буксировать машину.
Надевать покрышки на диски, заправлять в них камеры очень тяжёлое дело. Мы вертели колесо туда и сюда, наверно, вертели бы до утра. Игорь кричал на Вадима, я тоже стал кричать на Вадима, — Вадим хватался то за одно, то за другое. В конце концов мне стало его жаль. Он ни в чём не был виноват, мы вымещали на нём своё раздражение. Я перестал кричать на него и сказал Игорю, чтобы он тоже не кричал. Игорь ответил: «Не учи!» — но орать на Вадима перестал.
Подошёл Зуев, стал ногами на покрышку, нажал на монтировочные лопатки и заправил баллон. Нам оставалось только накачать его. Накачивали по очереди, но Игорь что-то слишком часто передавал насос. Я сказал:
— Так не пойдёт! Каждый должен качнуть сто раз. И только после этого передавать другому.
Так мы и стали сменяться. Несколько раз нам казалось, что баллон накачан, но Зуев ударял по нему лопаткой и говорил: «Мало!» И мы качали ещё.
Часа, может быть, через три мы накачали все баллоны. Устали смертельно и извозились в пыли.
У Зуева дело тоже подошло к концу. Мы поддомкратили машину, вынули из-под неё деревянные колодки и поставили колёса. Это была уже пустяковая работа.
Зуев сел за руль и велел нам толкать машину. Мы навалились, но машина и не думала двигаться. Так она окоченела и заржавела. Зуев вылез из кабины, упёрся плечом, на помощь к нам пришёл кладовщик. В конце концов под кряхтенье Шмакова Петра и яростные крики остальных машина выкатилась из сарая во двор.
Мы проголодались и объявили Зуеву, что идём в лагерь обедать. Зуев в ответ молча кивнул головой, вынул бумажный свёрток с колбасой, хлебом и огурцами и тоже уселся перекусить.
Мы пошли в лагерь. Столовая была пуста. На кухне нам ничего не дали, посоветовали дожидаться ужина.
— В посёлке есть чайная, — сказал Вадим.
— Талеров нет, — ответили мы.
После некоторого колебания Вадим сказал:
— Я вам ссужу, но уговор: в получку отдать.
Мы поклялись, что отдадим, и отправились в чайную в самом прекрасном расположении духа: чайная — это не школьная столовая, где кормят бульоном и киселём.
Мы уселись за столик у окна. Толстое, румяное лицо Вадима выражало некоторое беспокойство. Боялся, что мы не отдадим долг. Но деваться было некуда. Он вынул из кармана трёшку и сказал:
— Ассигную трояк. Получается по семьдесят копеек с человека. Лишние двадцать копеек за мой счёт. Пользуйтесь.
И, сказав про лишние двадцать копеек, совсем расстроился.
— Каждый заказывает что хочет. Не будем считать копейки, — предложил Игорь.
Мы согласились, что копейки считать нечего. Но всё же лучше заказать всем одинаково. Игорь состроил презрительную физиономию, но подчинился большинству.
Мы заказали четыре селёдочных винегрета, четыре борща, четыре рагу и четыре бутылки лимонада.
Шмаков Пётр заметил, что лимонад здесь наверняка дрянь. Вместо четырёх бутылок лимонада лучше взять две бутылки пива. Получится по стакану на брата.
Мы нашли предложение Шмакова Петра разумным.
В одну секунду мы расправились с селёдочным винегретом, запили его пивом. Потом принесли очень горячий борщ. Мы от него разомлели. Тем более, что сидели у окна: солнце хотя и склонялось к западу, но ещё палило вовсю. А после рагу мы совсем обалдели. Но, в общем, после обеда мы чувствовали себя изумительно. От палящего солнца, от мёртвой сонной тишины посёлка нам хотелось петь, и в то же время хотелось спать.
Мы особенно не спешили. Куда спешить? Дело мы своё сделали, машину приготовили. А поведёт её всё равно Зуев, потащит Ивашкин. Не уедут без нас. А уедут — скатертью дорога! Искупаемся и поедем поездом. Ехать на машине мы вовсе не обязаны. Ведь доверили её не нам, а Зуеву. Всего хорошего, счастливого пути!
Мы заглянули на дачи, где жили ребята из класса «Б». Надо бы их разыграть, рассчитаться с ними. Но в лагере был тихий час. Если мы подымем шум, проснутся малыши. А малыши не виноваты, что им сюда прислали больших дураков из класса «Б».
12
Машины стояли на своих местах. И машина Ивашкина, и та, которую мы должны были буксировать. Под ней, разложив на земле подушки сиденья, спал Зуев.
Он проснулся, услышав наши голоса, вылез из-под машины и сиплым от сна голосом спросил:
— Ивашкин где?
Мы ответили, что не знаем.
Зуев сполоснул лицо водой из бочки и ушёл искать Ивашкина.
Практичный Шмаков тут же вытянул подушку, на которой спал Зуев, и улёгся на ней. Вадим схватил спинку сиденья и тоже лёг.
Тогда мы с Игорем бросились к машине Ивашкина. Каждый из нас старался первым захватить кабину. Спать нам уже не хотелось. Но раз Вадим и Шмаков нашли место для спанья, мы хотели найти место ещё лучше.
Мы одновременно открыли дверцу и стали толкаться, оттесняя друг друга. В конце концов оба ввалились в кабину. Улечься было негде, и мы уселись. Я — против руля, Игорь — сбоку.
Тут я увидел, что Игорь не отрываясь смотрит на щиток. Я проследил за его взглядом. И все дальнейшие события начались с той секунды, когда наши взгляды сошлись в одной точке… Ивашкин оставил в кабине ключ зажигания. Машина была в наших руках…
— Гм! — пробормотал Игорь. — На «Москвиче» всё расположено совсем по-другому…
«Москвича» я не знаю. Но «ГАЗ—51» знаю хорошо. На «ГАЗ—51» я проходил практику. И я стал всё объяснять Игорю. И, чтобы получше ему объяснить, мне захотелось завести мотор. Чтобы подтвердить свои объяснения на практике.
Конечно, это чужая машина. Но я заведу её ровно на секунду. Ничего с ней не случится. И никто ничего не узнает. Я повернул ключ зажигания, оттянул подсос и нажал педаль стартёра.
Мотор взревел. Я быстро задвинул подсос и уменьшил газ… Мотор спокойно работал на малых оборотах.
— Хорошо работает на малых, — сказал Игорь.
— Подходяще, — ответил я и выключил зажигание. Мотор стих.
— А ну-ка, пусти, я попробую, — сказал Игорь.
Мы поменялись местами. Игорь включил зажигание, подумал, вздохнул и нажал стартёр.
Мотор заработал снова.
Игорь то прибавлял, то убавлял газ. Двигатель то шумел сильнее, то совсем стихал.
— Хватит, — сказал я, — выключай!
Мы снова поменялись местами.
— На «Москвиче» мотор работает тише и равномернее, — сказал Игорь.
На это я рассеянно ответил:
— Не знаю, не знаю… Не вижу разницы.
В это время я левой ногой выжал педаль сцепления. Потом отпустил. Потом опять выжал и опять отпустил. Я старался это делать плавно, как нас учил инструктор. Потом я включил первую скорость, она включилась хорошо. Я включил вторую скорость, она тоже включилась хорошо. И третья включилась прекрасно. Я включил задний ход — великолепно! Всё включалось чудесно, легко, без всякого нажима. Если я заведу мотор, то проделаю всё это точно так же. И спокойно поеду куда надо.
Игорь со снисходительным видом рассуждал о преимуществах «Москвича» над «ГАЗ—51»… Но его слова не доходили до моего сознания. Оно, то есть моё сознание, было целиком сосредоточено на машине. Я снова завёл мотор. Выключил. Снова завёл…
И вот, когда я завёл мотор в третий раз, я включил первую скорость и, потихоньку отпуская сцепление, начал прибавлять газ…
Машина медленно и плавно двинулась вперёд.
Тут же я начал переводить на вторую скорость, но она не включалась. Я стал торопливо заталкивать её, но никак не мог затолкнуть. Тогда я снова включил первую. Но в это время дал слишком много газу. Машина дёрнулась и остановилась. Мотор заглох.
— Не блеск, — сказал Игорь.
Я немного успокоился, взял себя в руки, снова завёл мотор и, глядя в заднее окошко, стал подавать машину назад. И, как только она дошла до своего прежнего места, я сразу затормозил. Мотор опять заглох.
— На тройку, — объявил Игорь.
Я начал ему объяснять, почему у меня так получилось. Но Игорь перебил меня:
— Оправдываться будешь в суде. Заглушил два раза, и всё!
Подошли Шмаков и Вадим.
— Раскатываетесь? — спросил Вадим.
А Шмаков Пётр ничего не спросил. Шмаков Пётр не задаёт вопросов. Тем более таких, какие задаёт Вадим.
— Пусти! — сказал Игорь и начал сталкивать меня с сиденья.
Он тоже хотел прокатиться. Я испугался. За себя я не боялся, а за Игоря боялся, хотя он ездил лучше меня.
— Придёт Ивашкин, и будет дикий скандал, — предупредил я.
Игорь в ответ пробормотал:
— За меня не беспокойся. За себя лучше беспокойся.
Он завёл машину, доехал до ворот, вернулся задним ходом, опять доехал до ворот, опять вернулся… Потом поехал по направлению к той машине, которую мы должны буксировать в Москву. Остановился возле неё, высунулся из кабины и крикнул:
— Привязывайте буксир!
— Ты что, с ума спятил? — спросил я.
— Не беспокойся, — ответил Игорь, — мы только привяжем трос, всё приготовим, шофёры нам спасибо скажут. Давай, Шмаков, привязывай! Вадим, помогай!
Шмаков и Вадим схватили буксир и начали его привязывать.
Я понял, что будет дальше… Игорь вошёл в азарт, Вадим со Шмаковым Петром тоже вошли в азарт. И, конечно, мы хоть немножко, да протащим машину. А раз так, я не желаю оставаться в дураках… Я быстро влез в кабину второй машины и сел за руль. Если я буду зевать, то Вадим или Шмаков перехватят у меня и этот руль.
— Готово? — крикнул Игорь, высунувшись из кабины.
— Готово! — ответил Вадим. Он привязывал трос к передней машине.
Шмаков ничего не ответил. Он привязывал трос к задней машине. Как всегда, кряхтел изо всех сил.
— Крош, помоги ему! — скомандовал Игорь.
Но я не думал двинуться с места. Нашли дурака! Как только я вылезу из кабины, туда моментально залезет Вадим или тот же Шмаков Пётр.
Игорь потерял терпение, выскочил из кабины и стал помогать Шмакову. Вдвоём они лежали под машиной, кряхтели, сопели, ругались… Потом встали, тяжело дыша и стряхивая с себя пыль… Всё было готово.
— Так! — распорядился Игорь. — Ты, Вадим, стань на подножку к Крошу. Ты, Шмаков, ко мне. Будете передавать сигналы. Крош, ты готов?
Я ответил, что готов, и крепко ухватился за руль. На подножке у меня стоял Вадим.
Передняя машина тронулась. Трос натянулся. Моя машина дёрнулась и тоже пошла вперёд.
Я неплохо вожу машину. Как говорит наш инструктор — «уверенно». Но сейчас у меня уверенности не было. Оттого, что не сам я ехал, а меня тащили. Волокли на аркане. Я зависел не от себя, а от Игоря. Конечно, Игорь умеет водить машину. Но буксировать машину — это совсем другое дело. Нужно думать о том, кого буксируешь. А Игорь ехал сам по себе. Дёргал. Трос то ослабевал, то натягивался. Я боялся наскочить на машину Игоря.
Мы выехали со двора и остановились. Игорь вылез из кабины и подошёл ко мне:
— Как?
— Порядок! Только не дёргай, пожалуйста! — попросил я.
— Ты сам дёргаешься, — ответил Игорь.
Мы снова двинулись вперёд. Справа от дороги тянулся лес, слева — овраг, довольно глубокий. Дорога была в выбоинах. Но ни лес, ни овраг, ни выбоины меня не страшили. Теперь я чувствовал себя гораздо увереннее.
Игорь тоже чувствовал себя увереннее. Поехал быстрее. Дёрнул с места. Потом дёрнул, когда переключал скорость. Мою машину вдруг потянуло вправо. Я крутанул руль влево. Игорь опять дёрнул. Мою машину закинуло налево. Я крутанул руль вправо… Меня стало кидать то вправо, то влево…
Я крикнул Вадиму: «Останови!» Вадим замахал руками, но Игорь не останавливался. Меня опять закинуло влево, к оврагу. Я стал изо всех сил выворачивать руль, но руль меня не слушался. Я нажал на тормоз… Было уже поздно… Моя машина накренилась и начала сползать в овраг…
Передо мной мелькнуло испуганное лицо Вадима… Он соскочил с подножки и покатился вниз. Моя машина ползла и наклонялась всё больше и больше. Я упал с сиденья на дверцу…
13
Вылезти с моей стороны было невозможно: кабина лежала на земле. Чем-то у меня были обожжены руки, я не обратил на это внимания. Единственной моей мыслью было поскорее выбраться отсюда. Я попробовал открыть правую дверцу, она была надо мной. Дверца не открывалась, её перекосило. К счастью, стёкол в ней не было. Я осторожно подтянулся и, упираясь одной ногой в сиденье, другой — в руль, вылез из кабины, спрыгнул на землю, огляделся вокруг и увидел следующую картину.
Моя машина лежала на боку, в обрыве, привалившись кузовом к дереву. Но удерживало её не дерево, а трос, привязанный к машине Ивашкина. Он был натянут как струна, моя машина висела на нём. От машины по косогору тянулась полоса взрытой земли и сломанного кустарника — метров двадцать Игорь волочил меня по обрыву.
Машина Игоря стояла на дороге. Игорь, высунувшись из кабины, смотрел на меня. Не вылезал, боялся снять ногу с тормоза. Он был бледен. На подножке стоял Шмаков Пётр, он не был бледен. Внизу стоял Вадим. Он стоял почти на дне оврага, и я не видел — бледен он или нет.
Все трое с ужасом смотрели на меня. Однако не двигались с места. Думали, что я убит, и боялись подойти.
Но я был жив. Даже не ушибся. Только обжёг руки. И тут до моего сознания дошло, что я обжёгся кислотой из аккумулятора. Зуев поставил его в кабине временно, чтобы доехать до Москвы. Но это не страшно. В аккумуляторе не стопроцентная серная кислота, а электролит, раствор, им не обожжёшься. Пощиплет и пройдёт.
— Крош, ты жив? — закричал Вадим и побежал ко мне.
— Умер, — ответил я.
Шмаков тоже подошёл. Они смотрели на меня так, точно я действительно вернулся с того света.
— Не узнали? — сказал я.
— Как тебя угораздило? — спросил Шмаков.
Я пожал плечами. Сам не понимал, как всё получилось, как я попал в овраг. Руля из рук не выпускал, сознания не терял. Я только хорошо помнил, что руль вдруг перестал меня слушаться. Вернее, машина перестала слушаться руля. И её потащило в овраг.
— Подойдите сюда! — закричал Игорь.
Он, бедняга, не мог снять ноги с тормоза. Мы подошли.
— Что случилось? — спросил Игорь.
— Сам не видишь!
— Но как это произошло?
— Чёрт его знает! Ты стал дёргать, и машина потеряла управление.
У Игоря задрожали губы:
— Когда я стал дёргать?!
— Тогда! Вадим кричал, чтобы ты остановился, а ты пёрся вперёд.
— Неправда! — вскипел Игорь. — Я тут же остановился.
Я усмехнулся:
— Интересно… Кто же меня тащил но обрыву? Двадцать метров… Пушкин?
— Но как ты не удержал руля?
— Я-то удержал… Только машина перестала слушаться руля. Может быть, в ней рулевое управление не в порядке… Ведь мы эту машину не знаем. Буксировать не надо было, вот что! Прокатиться захотелось.
— А кто первый завёл машину? Кто первый поехал? — сварливо возразил Игорь.
— Не будем торговаться, — мрачно сказал я, — ведь ты всегда прав. Подумаем, что делать.
Никто не знал, что делать.
Шмаков предложил:
— Подложим камни под эту машину, чтобы и её не стащило вниз.
Мы подложили под все колёса по большому камню. Игорь осторожно снял ногу с тормоза. Машина стояла на месте.
— Можешь вылезать, — сказал я, — только оставь её на ручном тормозе и на скорости.
— Не ты один такой умный, — ответил Игорь и вылез из кабины.
Мы спустились к моей машине.
— Был бы в ней бензин, обязательно случился бы пожар, — сказал Вадим.
Но нам было неинтересно думать, что могло ещё случиться. С нас было достаточно того, что произошло.
— Будет грандиозный скандал! — не унимался Вадим.
Я сказал:
— Уговор: никого не продавать.
Ребята согласились. Возьмём вину на всех.
Мы стали думать, как нам вытащить машину. Буксир был крепкий, но обрыв был очень крутой, и машина лежала на боку.
Всё же Игорь предложил попробовать.
— Опасное дело! — сказал Шмаков. — Загоним сюда и вторую машину. Снимем с тормоза, её и потащит вниз.
— Что же делать?
Нам не пришлось думать, что делать. На дороге появились Ивашкин и Зуев.
Не буду передавать нашего разговора. Вместо слов, произнесённых Ивашкиным, ставлю многоточие…
Однако вместе с многоточием до нас доносился запах водки. Лицо у Ивашкина было красное, как помидор.
Между тем Зуев присел и осмотрел место, где был привязан трос. Потом поднялся и спокойно сказал:
— Так и есть!
— За тягу? — спросил Ивашкин, и лицо его налилось кровью.
— Именно.
Опять понеслись многоточия. Пока они неслись, я присел и посмотрел под машину. И сразу понял причину аварии. Буксирный трос был закреплён не за раму, как полагается, а за поперечную рулевую тягу. От рывка тяга вывернулась, и машина потеряла управление. Поэтому я и полетел в канаву. Привязывать буксирный трос за какую-нибудь часть рулевого управления — грубейшая техническая ошибка. Она неизбежно кончается катастрофой. Мы ещё легко отделались. Развей машины побольше скорость, да ещё на шоссе, где идут встречные машины, — от нас с Вадимом осталось бы одно воспоминание.
Меня мороз продрал по коже, когда я подумал об этом. Что было бы с мамой! Страшно подумать!
Я посмотрел на Игоря и на Шмакова Петра. Это они привязывали трос. Игорь стоял бледный как полотно, он ужасно боялся ответственности. А Шмаков ничего. Цвет лица у Шмакова был обычный.
Машину в конце концов вытащили. Провозились мы с этим до вечера. Нам помогали ребята из «Б» и дачники в пижамах. Дачники рассуждали и давали советы.
Ребята из «Б» упорно расспрашивали, как всё произошло. Мы им ничего не рассказали. Произошла авария, и всё! Подробности в афишах…
Начало быстро темнеть. Обе машины стояли на дороге. Все разошлись. Остались Ивашкин, Зуев и мы четверо.
Ивашкин объявил, что тащить ночью машину, да ещё с испорченным рулевым управлением, невозможно, собрал инструмент, кинул в кузов трос и крикнул Зуеву:
— Поехали!
— Лезьте в кузов, ребята! — сказал Зуев.
Я спросил:
— Бросим машину?
— Ещё рассуждает! — заорал Ивашкин.
— Не беспокойся, парень, ничего с машиной не случится, — сказал Зуев.
Но я твёрдо решил остаться:
— Нет! Мы не можем бросить машину, мы отвечаем за неё. Поезжайте и скажите, пусть утром за нами пришлют «техничку».
— Ну и оставайтесь! — крикнул Ивашкин и полез в кабину.
Но Зуев не хотел нас оставлять. Он уговаривал нас поехать.
Всё это время Игорь молчал. Потом отвёл нас в сторону и сказал:
— Кому-то из нас надо ехать в город. Во-первых, сообщить дома про тех, кто остался. Во-вторых, организовать помощь.
— Я вижу, тебе очень хочется уехать, — ответил я, — и поезжай. И Вадима бери с собой. Ему, наверно, тоже хочется домой.
Игорь притворился, что не заметил моей иронии:
— Я думаю, так будет правильно. Вадим оповестит ваших родных, а я разыщу директора, он тут же вышлет «техничку». С ней и я приеду.
Никакого директора Игорь сейчас, конечно, не найдёт, да никто и не будет ночью высылать «техничку». Но ему очень не хотелось оставаться.
Я насмешливо сказал:
— Поезжай, поезжай, никто тебя не держит.
Игорь опять пропустил мимо ушей мою насмешку и сказал:
— Так будет лучше, увидишь. Впрочем, поезжайте вы со Шмаковым, а мы с Вадимом останемся.
Я знал, что он ни за что не останется:
— Поезжай, довольно болтать!
— Вы поедете или нет? — рявкнул Ивашкин из кабины.
— Сейчас, сейчас! — крикнул Игорь и спросил меня: — Значит, решили?
— Решили, — угрюмо ответил я.
— Поехали, Вадим! — сказал Игорь.
Вадим вдруг ответил:
— Я не поеду!
— Почему?
— Останусь с ребятами.
— Не валяй дурака! — рассердился Игорь. — Сказали тебе — поезжай, значит, поезжай!
— Если будешь орать, я тебе так вмажу!.. — ответил Вадим.
И я убедился, что Вадим окончательно вышел из-под влияния Игоря.
— Ну и чёрт с тобой! — сказал Игорь и полез в кузов.
Машина тронулась. Через минуту красный огонёк её стоп-сигнала скрылся в лесу.
Мы остались втроём у поломанной машины.
14
Наступила ночь. Было тихо и свежо. Справа темнел лес. Впереди и чуть слева виднелись огни пионерского лагеря, немного правее — редкие фонари дачного посёлка. Мы присели на обочине дороги и стали рассуждать о том, почему мы не поехали в Москву.
Рассуждать об этом было поздно. Надо было рассуждать перед тем, как мы остались. Мы этого не сделали тогда, нам оставалось сделать это сейчас.
Что произошло, если бы мы уехали? Мы явились бы на автобазу без машины, потому что пустили её под откос, совершили аварию. И, конечно, во второй раз послали бы не нас, а шофёров. Получилось бы: мы не смогли пригнать машину, а они смогли. Мы доказали бы свою несостоятельность.
Совсем другое дело получится теперь. Завтра мы въедем на этой машине в гараж. И, что бы там ни говорили, факт остаётся фактом — машину мы всё-таки пригнали. Несмотря на аварию. Этим мы докажем свою состоятельность. А то, что случилось, ничего не значит! Мало ли что может случиться в дороге. Тем более с машиной неисправной, незнакомой, всю зиму простоявшей в сарае.
Вот почему мы остались здесь. А вовсе не потому, что боялись за машину. Кто её ночью тронет!
Решив вопрос о том, почему мы остались, мы начали обсуждать аварию.
Я сказал Шмакову:
— Эх, ты! Не смог отличить тягу от крюка…
— Я-то отличил, — ответил Шмаков, — да подскочил Игорь и подсунул трос под тягу.
— А ты молчал…
— Я хотел сказать, да вы уже поехали.
— Соображать надо быстрее.
Вадим похвастался:
— А я правильно закрепил трос.
— Ещё бы! — возразил Шмаков. — Под кузовом. Там крюк перед самым носом.
— Крюк не крюк, а я закрепил правильно, — повторил Вадим, очень довольный тем, что авария произошла не по его вине. Он привык быть всегда виноватым, а тут виноватыми оказались все, кроме него.
— А убежал ты куда? За километр, — заметил я.
— А где я стоял?! — возразил Вадим. — Машина прямо на меня валилась.
— Мне, думаешь, приятно было сидеть в машине, когда она переворачивалась? — спросил я. — Я тоже мог выскочить и убежать за километр. А я сидел за рулём до последней секунды.
— «Не выпускай, моряк, руля…» — запел Вадим.
— Когда ты вылез из машины, у тебя руки и ноги дрожали! — сказал Шмаков.
— Ничего у меня не дрожало! — ответил я.
Я нащупал на правой штанине дырку величиной в кулак. Когда я её тронул, материя под моими пальцами начала расползаться… Ясно! Я сжёг брюки кислотой из аккумулятора. Ведь электролит кожу не сжигает, а материю сжигает моментально. Вот так штука! Эдак к утру можно остаться без штанов.
Я снял брюки. При свете луны мы стали рассматривать, здорово ли их прожгла кислота. Смогу ли я завтра ехать в них в город. Дырок оказалось две. Обе на правой штанине. Одна у колена, другая в самом низу.
— Пропали брюки, — сказал Шмаков Пётр.
— Ничего, — утешил меня Вадим, — с вентиляцией лучше.
Подул свежий ветерок. Стоять в трусах было холодно. Я надел брюки.
Мы решили лечь спать. Когда спишь, не так хочется есть. Шмаков залез в кузов, мы с Вадимом — в кабину.
Мы сели в разных углах, прислонились головами к стенкам кабины. Хотелось вытянуться, хотелось есть, хотелось натянуть на себя что-нибудь тёплое — стёкол-то в кабине не было…
Мне вдруг приснилось, что я ползу на машине по косогору. Меня удивляет, что работает мотор. Ведь в машине нет бензина. Я сигналю, изо всех сил колочу по кнопке кулаком. Но Игорь не останавливается. Тогда я грудью наваливаюсь на сигнал, и он звучит непрерывно… Я наваливаюсь на него ещё больше.
Я почувствовал, что падаю, тряхнул головой и проснулся. Я услышал звуки горна. В лагере подъём. Рассветало. Неужели уже прошла ночь? Ведь мы только заснули.
Я разбудил Вадима и Шмакова.
У них были здорово помятые морды. Но, когда я им сообщил об этом, они возразили, что такой противной физиономии, как моя, они никогда в своей жизни не видели.
Мы вылезли из кабины. После небольшого совещания решили, что двое пойдут в лагерь, в столовую, один останется дежурить возле машины.
Кинули жребий. Дежурить досталось мне. Поразительное невезение!
Они ушли. Я остался один и решил пройтись по дороге, чтобы немного размяться.
Мне ужасно хотелось есть, и я пошёл по дороге к лагерю, чтобы встретить ребят и поскорее съесть то, что они мне несут.
Я шёл, поминутно оглядываясь. Конечно, так рано за нами из Москвы не приедут. Пока придёт директор, пока Игорь расскажет ему, что произошло, пока снарядят «техничку», пока она дойдёт сюда. На всё это уйдёт часа два, а то и три. Всё же я оглядывался. А вдруг приедут раньше?
Так я шёл и шёл. Свернул один раз, потом другой. Уже не видел нашей машины, но утешал себя мыслью, что, если подойдёт «техничка», я её сразу услышу.
Строя в уме эти расчёты, я добрался до лагеря. Запахи свежего хлеба, каши, жареного мяса ударили мне в нос. Шум в столовой обозначал, что завтрак идёт вовсю. Я со всех ног помчался под навес, где кормили ребят из класса «Б».
15
Нас поразило количество людей, приехавших за нами на «техничке». Два шофёра и слесарь — понятно. Бригадир Дмитрий Александрович — ладно. Игорь должен быть в центре событий. Но зачем приехали главный инженер и наша классная руководительница Наталья Павловна?! Мы обалдели от изумления, увидев, как они посыпались из фургона.
Наталья Павловна бросилась к нам и стала ощупывать, проверяя, мы ли это? А если мы, то живы ли? А если живы, то целы ли?
Главный инженер ей сказал:
— А вы беспокоились!
Но по его лицу было видно, что он тоже не надеялся застать нас в живых.
— Наделали делов, — сказал бригадир Дмитрий Александрович. Он даже снял свой берет. Под беретом обнаружилась лысина, и он сразу перестал быть похожим на испанца.
Нам стало ясно, что в Москве большой переполох.
— Если бы вы не заупрямились и поехали со мной в город, — с укором сказал Игорь, — то никакого шума бы не было.
— Но ты-то знал, зачем мы остались, — ответили мы Игорю.
— Никто не хотел верить, что вы остались стеречь эту балалайку, — сказал Игорь.
Опять, выходит, мы виноваты.
— Подумайте, мальчики, сколько волнений вы доставили своим родным! — сказала Наталья Павловна. — Перевернулась машина — и вас нет! Что они должны были подумать?
Ещё бы! Разве могут родные рассуждать оптимистически. Или хотя бы логически.
Пока происходил этот разговор, нашу машину наладили и прицепили к «техничке». Не тросом, а длинной металлической палкой. Она называется «жёсткий буксир». Теперь с нашей машиной уже ничего не случится.
Главный инженер сел в кабину передней машины, бригадир Дмитрий Александрович — в кабину задней, остальные — в фургон «технички». Наталье Павловне предложили сесть в кабину, но она объявила, что поедет с нами. При малейшем толчке она хватала нас за рукава. Боялась, что мы вылетим из фургона. Ей очень хотелось доставить нас домой в целости и сохранности.
Всю дорогу она расспрашивала нас, как всё произошло. Мы, конечно, ничего не скрывали. Скрывать что-либо бессмысленно, всё известно. Мы только не уточняли, кто в чём виноват. Обо всём говорили во множественном числе: «мы».
«Мы решили вывести машину за ворота», «Мы неправильно закрепили трос», «Мы виноваты»…
Вдруг Наталья Павловна объявила:
— Вы ни в чём не виноваты!
При этом у неё сделалось суровое лицо. Когда у неё делалось такое лицо, мы знали: Наталья Павловна будет проявлять характер.
— Виноваты не вы, — сурово повторила Наталья Павловна, — а те, кто послал вас, кто ехал с вами, позволил совершить аварию и затем бросил ночью на дороге. Вот кто виноват!
Мы не стали спорить с Натальей Павловной, хотя в душе и удивились её наивности. Она считала нас детьми. А на автобазе мы не дети, а рабочие, получающие зарплату и отвечающие за свои поступки.
Но, как оказалось позже, точка зрения Натальи Павловны не всем показалась такой наивной.
То, что мы увидели на автобазе, превзошло худшие наши опасения.
Никто из ребят не ушёл домой, все ждали нас. Как только «техничка» въехала во двор, из всех цехов высыпали рабочие, из конторы — служащие. А когда мы вылезли из фургона, мы увидели наших родителей: мою маму, дедушку и бабушку Шмакова Петра, маму и двух сестёр Вадима.
Переполох вышел грандиозный.
И подумать только! Ещё сегодня утром мы мирно сидели в кабине машины, потом ели в лагере хлеб с маслом и ни о чём таком не думали.
Дырки на моих брюках произвели колоссальное впечатление. Все знали, что перевернулся с машиной один только я.
Моя мама была даже не в силах ко мне подойти. Стояла и качала головой.
Шмакова Петра подхватили под руки его дедушка и бабушка и уволокли домой. На это было смешно смотреть.
Шмаков Пётр тащился между ними, как Гулливер меж двух лилипутов.
Вокруг Вадима вертелись его сёстры, довольно противные девчонки, этакие маленькие кривляки и ломаки.
Потом вышел директор, взял меня за плечи, повертел во все стороны и сказал:
— Живы, здоровы… А какую панику устроили…
И засмеялся. Но это был смех сквозь слёзы…
Мать Вадима склочным голосом заявила:
— Всё равно вы за это ответите!
Директор моментально скис, опустил руки, понурил голову и отправился к себе в кабинет.
Мне даже стало его жаль. Честное слово! Если такие мамаши, как мамаша Вадима, подымут склоку, ему не обобраться неприятностей. А он совсем ни при чём…
Я заметил матери Вадима:
— Пожалуйста, не устраивайте склоку.
— Сергей! — закричала моя мама и сделала большие круглые глаза, как всегда, когда ей казалось, что я говорю или поступаю невежливо.
Вадим тоже сказал своей мамаше:
— Не говори, чего не знаешь!
— Я с тобой дома поговорю! — ответила мамаша, схватила Вадима за плечи и потащила домой.
Обе сестрёнки вприпрыжку побежали за ними.
Ребята по-прежнему не отходили от меня. Майка смотрела на меня с таким восхищением, что мне даже стало неудобно.
Игорь тоже был здесь. По его лицу я видел, что он завидует мне. Завидует, что я в центре событий. Ему хотелось быть сейчас на моём месте. А когда я переворачивался с машиной, ему небось не хотелось!
— Пойдём домой, Серёжа! — сказала мама.
— Сейчас, — ответил я и обратился к ребятам: — Тут идут всякие разговоры, готовятся разные склоки. Так вот, имейте в виду, во всём виноваты мы сами, и больше никто.
Наталья Павловна недовольно проговорила:
— Без тебя разберутся, кто в чём виноват.
Я сказал:
— Справедливость восторжествует.
— Хорошо, хорошо, — торопливо ответила Наталья Павловна, — во всём разберутся, не беспокойся! А пока иди домой, переодень брюки.
— Есть вещи поважнее брюк, — возразил я.
В окружении ребят мы с мамой пошли домой. Всю дорогу я доказывал ребятам, что во всём виноваты мы сами, и больше никто. Но ребят это мало интересовало. То есть мало интересовало, кто виноват. Их интересовали мои ощущения в тот момент, когда машина переворачивалась. На это я ответил, что никаких ощущений у меня не было.
Такой ответ их не удовлетворил, и они спросили, что я всё же чувствовал?
Я ответил, что ни черта не чувствовал.
…Не буду расписывать того, что произошло дома. Надоело! Я, наверно, раз двадцать рассказал маме, как всё было. Потом ещё раз двадцать папе, когда тот пришёл с работы.
Папа взял у меня учебник автомобильного дела, тщательно разобрался, каким образом вывернуло рулевую тягу и отчего машина потеряла управление. Потом положил перед собой лист чертёжной бумаги и нанёс на нём схематический чертёж аварии. После этого объявил, что ему ясна вся картина. И, когда он это объявил, мы легли спать.
16
На следующий день на доске объявлений появился приказ директора. Зуеву объявлялся строгий выговор с предупреждением. За то, что он отлучился от машин. А если кто из нас посмеет ещё раз сесть за руль, тот вылетит с автобазы.
— Что ты скажешь? — спросил я Игоря.
— Ловко написано.
— Что ж тут ловкого?
Он насмешливо и многозначительно прищурил один глаз. Давал понять, что только ему одному понятны тайные побуждения взрослых.
— Причины выявлены, виновники наказаны, меры приняты…
— Значит, Зуев виноват?
Игорь поднял брови:
— Так надо.
— Что значит — так надо! Виноват Зуев или нет?
— Видишь ли, — важно произнёс Игорь своим хорошо поставленным баском, — с нашей точки зрения, Зуев не виноват. А с точки зрения директора — виноват. Он должен был обеспечить. А он не обеспечил. Будь я директором, я бы тоже влепил ему выговор!
— К счастью, ты не директор! — заметил я.
Но Игорь хладнокровно продолжал:
— Если бы Зуев не ушёл, мы бы не буксировали.
— Ага! — воскликнул я. — Ты забыл запереть квартиру, её обокрали, значит, виноват ты, а не вор?
— Неудачное сравнение, — возразил Игорь, — да и чего ты волнуешься? Зуев чихал на этот выговор.
— Мы не должны прятаться за чужую спину! — сказал я.
— Скажите, какой альтруист! — усмехнулся Игорь.
— Лучше быть альтруистом, чем эгоистом, — заметил я.
У Игоря удивительная особенность. Если намекали на его недостатки, он делал вид, что не понимает намёка.
Такой вид он сделал и сейчас. Понизил голос и сказал:
— А насчёт Зуева учти: помнишь амортизаторы… Так вот, поговаривают…
И по тому, как он многозначительно пошевелил пальцами, было ясно, что Зуева подозревают в подмене амортизаторов.
Я с удивлением посмотрел на Игоря. Вот ещё новость! Я-то ведь хорошо знал, кто подменил амортизаторы. Но не хотел говорить об этом Игорю. Он потребует доказательств, а доказательств у меня нет.
— Мы должны написать заявление, — сказал я. — В аварии виноват не Зуев, а мы.
Игорь поморщился:
— Крош, ты смешон! Кому нужно твоё заявление? Пойми: если не виноват Зуев, значит, кто виноват? Директор. Он послал нас за машиной. Ты хочешь, чтобы директор объявил выговор самому себе?.. И потом, писать разные заявления… Противно.
Я в отчаянии закричал:
— Но ведь это будет заявление не на кого-то, а за кого-то.
— Ты глуп! — презрительно сказал Игорь.
Я очень расстроился. Такая несправедливость! И никто не возмутился, никто не обратил даже внимания.
Всё шло по-прежнему. Машины въезжали и выезжали. Работали слесари в цехах, служащие в конторе. Начальник эксплуатации всё так же орал по телефону на весь двор.
Удивительнее всего было то, что Зуев сам не придавал выговору никакого значения. Работал с нами. Так же задавал Шмакову разные вопросы. И Шмаков приблизительно через полчаса отвечал ему.
Вопросы были такие:
— Закон тяготения… А если перестанет действовать? Что в небе получится? Полный кавардак.
В ответ Шмаков начал почему-то объяснять Зуеву теорию относительности. Шмаков сам её не понимал и плёл несусветную чепуху. А Зуев одобрительно кивал головой.
Когда Зуев отошёл, я сказал Шмакову насчёт несправедливого выговора.
Шмаков подумал и ответил:
— Плевать!
Вадим тоже отнёсся к этому равнодушно:
— Ха, подумаешь!
Вадим по-прежнему носился по автобазе. И нельзя было понять, где он работает.
…После работы мы собрались на пустыре и начали разбирать машину. Ту, что притащили из Липок.
В помощь нам дали Зуева. Он на автобазе вроде затычки. Некому поручить — поручают Зуеву. Подходили к нам и главный инженер и бригадир Дмитрий Александрович. Но практически руководил Зуев.
Одни ребята снимали кузов, другие кабину, третьи вынимали мотор. Мальчики отъединяли крепления, снимали агрегаты, девочки промывали в керосине болты, гайки, шурупы. В машине почти десять тысяч всяких деталей. Проканителились до вечера.
На следующий день мы сняли с неё передний и задний мосты, рессоры, руль и развезли их по цехам. На пустыре осталась одна рама. Потом мы и раму стащили на сварку. Остались одни только деревянные подставки. Потом и их кто-то уволок.
Все работали хорошо. Как говорит Наталья Павловна, «с увлечением». Всем было приятно сознание, что из старой лайбы получится новая машина. Все понимали, что восстановить машину — большое дело. И работали с энтузиазмом.
Меня тоже воодушевляла мысль, что из металлолома мы соберём настоящую машину. И мне было приятно сознавать, что мы со Шмаковым Петром научились кое-что делать. Даже лучше, чем другие ребята. Они знали только отдельные части машины, а мы — машину в целом. И Зуев привык работать с нами, доверял нам. Если кто-нибудь из ребят обращался к нему с вопросом, он кивал мне или Шмакову Петру, мол, покажите. Мы со Шмаковым показывали. Наш авторитет очень возрос.
Раньше Зуев меня не интересовал. Даже не нравился. Казался каким-то чокнутым. Меня смешили его глубокомысленные разговоры со Шмаковым Петром.
Но постепенно я изменил к нему отношение. Прежде всего потому, что с ним приятно было работать. С другими слесарями мы нервничали, боялись, что не так получится. А Зуева мы не боялись. Он никогда не делал нам замечаний. Даже если мы делали неправильно, говорил:
— Ничего, хорошо. А здесь малость поправим.
И переделывал за нами.
Мне понравилось, как благородно вёл он себя в Липках, во всей истории с аварией. Даже не обругал нас. Получил за нас выговор и ничего, молчит. Другой бы хоть сказал: «Вот как из-за вас мне досталось» или ещё что-нибудь в этом роде. Зуев ничего не сказал.
Чем большим уважением проникался я к Зуеву, тем сильнее переживал несправедливый выговор, полученный им из-за нас. Незаметный, благородный человек. Не умеет постоять за себя.
В первую минуту, когда Игорь намекнул мне, что Зуева подозревают в подмене амортизаторов, я хотя и удивился, но не придал этому большого значения. А теперь я понял, что это очень серьёзно. Если на Зуева свалили аварию, то могут свалить и амортизаторы. Сошло с одним, сойдёт с другим. Безответный человек, вали на него что угодно!
И он даже не подозревает об опасности. Спокойно работает и не знает, какая угроза нависла над ним…
Что же делать при таких обстоятельствах? Предупредить его? Он не поверит, ничего не предпримет, махнёт рукой. Да и как скажешь человеку, что его подозревают в воровстве?
Пойти к директору, сказать, что амортизаторы взял Лагутин? У меня нет доказательств.
И тут у меня возникла мысль поговорить с самим Лагутиным…
Неплохая мысль! Чем больше думал я о ней, тем больше в этом убеждался.
Лагутин, конечно, нечестный человек. Но ведь он человек. Рабочий. Неужели он останется равнодушным к судьбе товарища? Может быть, он не такой уж плохой. Может быть, он оступился. Ведь пишут в газетах, что надо помогать тем, кто оступился, надо их перевоспитывать. Может быть, с этого и начнётся перевоспитание Лагутина? С мысли, что из-за него пострадает честный благородный, ни в чём не повинный человек.
Я представлял себе, как подойду к Лагутину и скажу ему насчёт Зуева. Я, конечно, не скажу, что он, Лагутин, подменил амортизаторы. Я скажу:
«Зуева хотят в этом обвинить. Но ведь это не так. Зуев этого не сделал».
«Ну и что?» — спросит Лагутин.
Тогда я скажу:
«Он наш товарищ по работе. Мы должны спасти его».
«Ладно, — ответит Лагутин, — я подумаю».
И вот на следующий день Лагутин явится к директору, положит на стол амортизаторы и скажет:
«Владимир Георгиевич, амортизаторы подменил я. Делайте со мной что хотите, но Зуев ни при чём!»
Тогда директор спросит:
«Что побудило вас прийти ко мне?»
Лагутин ответит:
«Нашлись люди. Человек, вернее… — Но так как ему будет стыдно, что этот человек простой школьник, то он мрачно добавит: — А кто этот человек, неважно…»
«Вы обещаете вести себя честно?» — спросит директор.
«Сами увидите», — ответит Лагутин.
А в последний день практики, когда мы будем уходить с автобазы, Лагутин подойдёт ко мне, протянет руку и скажет:
«Спасибо!»
Я пожму его руку и отвечу:
«И вам спасибо».
Ребята спросят, за что это мы благодарим друг друга.
«Так, — отвечу я, — за одно дело!..»
И больше ничего рассказывать не буду.
Так представлял я себе разговор с Лагутиным. Я настолько уверился, что всё будет именно так, что в конце концов преодолел страх, который испытывал перед этим разговором. И решил его не откладывать.
Я дождался конца смены, догнал Лагутина на улице и сказал:
— Товарищ Лагутин, можно вас на минуточку?
Лагутин остановился и воззрился на меня. Мы стояли посредине тротуара.
— Отойдём немного в сторонку, — предложил я.
Мы отошли в сторонку.
— Видите ли, в чём дело… — начал я. — Зуева подозревают с этими амортизаторами. Будто он их взял.
И точно так, как я предполагал, Лагутин спросил:
— Ну и что?
Ободрённый тем, что он сказал именно то, что я предполагал, я уверенно продолжал:
— Надо что-то делать. Ведь он наш товарищ по работе.
Лагутин молча смотрел на меня. Я тоже посмотрел на него. Наши взгляды встретились. И в эту минуту я окончательно убедился, что амортизаторы взял именно Лагутин. И Лагутин понял, что я это знаю. И мне вдруг стало неудобно, жутко даже.
Зловеще улыбаясь, Лагутин спросил:
— А может, он их взял?
Я молчал. Мимо нас шли люди. Я знал, что Лагутин ничего не может сделать. Но мне было страшно.
Всё так же напряжённо и зловеще улыбаясь, Лагутин сказал:
— Может, и в самом деле взял?!
Я понял. Мне было страшно оттого, что я должен сейчас сказать ему, — не Зуев взял амортизаторы, а взял их он, Лагутин. И мне было неудобно это сказать.
— Эх, вы! — Лагутин скривил рот. — Аварию сделали — на Зуева свалили. Амортизаторы взяли — тоже на него валите. Ну и сволочи!
Я ужаснулся:
— Что вы говорите! Кто валит на Зуева?
Лагутин усмехнулся:
— Сам сказал: Зуев амортизаторы подменил.
— Я сказал, что так говорят! — в отчаянии закричал я.
— Врёшь! — издевательски проговорил Лагутин. — Сказал! Валишь на других. Ну и люди!
17
В какое глупое, идиотское положение я попал. Кому я доверился? Лагутину! Нашёл с кем откровенничать.
На следующий день бригадир Дмитрий Александрович, проверяя мою работу, сказал:
— Болтаешь много.
Я понял, что он имеет в виду. Лагутин передал ему наш разговор.
Зуев ничего не сказал. Но по тому, как он посмотрел на меня, я понял, что он тоже знает об этом разговоре. У меня просто сердце оборвалось от его укоризненного взгляда.
Даже Коська, слесарь, презрительно процедил сквозь зубы:
— Звонарь!
Я никому ничего не отвечал. Разве я сумею доказать, что Лагутин переврал мои слова? Значит, не о чём и говорить.
Игорь меня подвёл, вот кто! Если бы он мне не сказал, что подозревает Зуева, то я бы не сморозил это Лагутину.
Игорь пришёл к нам со своей блестящей папкой. Я ему рассказал, в какое глупое положение я из-за него попал.
— Видишь, Крош, к чему приводит твоё упрямство, — назидательно проговорил Игорь, — лезешь не в свои дела! Подводишь и себя и других.
Я закричал:
— Но ведь это ты мне сказал насчёт Зуева!
— Не кричи, — хладнокровно ответил Игорь, — я не помню, что я тебе говорил. Может быть, я и назвал фамилию Зуева. Но ведь это только мои предположения.
— Как — твои? Ты ведь сказал «поговаривают».
— Это одно и то же. И эти предположения я высказал лично тебе, моему товарищу, так просто, вскользь, между прочим, конфиденциально, а ты обвинил Зуева официально.
— Где я его обвинил официально?
— Ты сказал Лагутину, а Лагутин член коллектива. Одно дело, когда об этом болтаем между собой мы. Другое дело, когда это обсуждается в коллективе. Ясно? Надо понимать разницу. А всё оттого, что ты себя считаешь умнее всех.
Я был раздавлен. Ведь я хотел сделать Зуеву лучше, а что вышло? Почему у меня всегда так получается? Хочу сделать лучше, а получается хуже.
Вот Игорь. Спорол глупость — и ничего. Ходит как ни в чём не бывало. А я сказал только одному человеку. И не в порядке утверждения, а в порядке отрицания. И что же? Меня считают сплетником и клеветником.
Как я сразу не догадался, что Игорь высосал всё из пальца? Хотел огорошить меня, подавить своей осведомлённостью. Не хотел, чтобы я писал заявление, вот и придумал эту чепуху. А я принял всерьёз. А Лагутин воспользовался моей глупостью. И с моей помощью заметает следы. Ведь амортизаторы взял он. Это теперь совершенно ясно.
Я был убеждён, что все меня презирают. У меня было отвратительно на душе. Я не мог никому смотреть в глаза. Пусть бы лучше обругали меня! Но меня не ругали. Не хотели снова поднимать этот разговор. И правильно. Все проявляют такт, и только я показал себя дураком.
Ужасное положение!
В довершение всего Игорь растрепал эту историю ребятам.
Майка вызвала меня из гаража и спросила:
— Серёжа, что произошло у тебя с Зуевым?
Я молчал. Что я мог сказать? Что бы я ни говорил, всё равно я буду выглядеть болтуном.
— Неужели ты мне не доверяешь? — настаивала Майка.
Я мрачно проговорил:
— Ничего особенного. Трепанул языком как дурак.
— Всё же?
Я рассказал, как хотел написать заявление в защиту Зуева, как мне Игорь сказал насчёт амортизаторов и как я сдуру ляпнул про них Лагутину.
— Напрасно ты огорчаешься, — сказала Майка, — ведь ты хотел сделать лучше.
— «Хотел»! А что получилось? Все теперь на меня косятся.
— Покосятся и перестанут. Ты чересчур всё переживаешь. Даже не похоже на тебя. Ведь ты умён и рассудителен.
Мне было приятно, что Майка так хорошо меня понимает. Но было неудобно, что ей приходится утешать меня. Значит, я выгляжу очень жалким.
— Игорь меня подвёл, вот кто! — сказал я. — Я не хочу на него сваливать, но подвёл он. Как ему всё легко сходит! Просто удивительно.
— Потому что Игорь неискренний, а ты искренний, — сказала Майка.
Это тоже было приятно слышать. Но мне всегда неудобно, когда меня хвалят. Я не знаю, как на это реагировать. Соглашаться нескромно, а отрицать… Зачем же отрицать?!
— Если бы все люди были искренни, — сказал я, — то всё было бы гораздо легче и проще.
Майка с этим согласилась.
Разговор с Майкой меня не успокоил. Приятно получить товарищескую поддержку. Больше всего я боялся, что Майка тоже сочтёт меня сплетником и болтуном. Я был рад, что она меня им не сочла. Но того, что знает и понимает Майка, не знают и не понимают другие. Все меня презирали, и я себя чувствовал каким-то отщепенцем.
Я бродил по автобазе и не находил себе места. У меня было такое состояние, будто я для всех здесь чужой. До меня доносились звонкие удары ручника и глухие — молота. Шипели паяльные лампы, стрекотала сварка, пахло ацетоном, шумел компрессор, за стеной слышались хлюпающие звуки — мотор обкатывали на стенде… Но эти привычные шумы и запахи производства только подчёркивали, что люди работают, им хорошо и весело, они безмятежны, у них чистая совесть, и только я здесь чужой, презираемый всеми человек.
Я увидел Вадима. Он стоял в дверях центрального склада, где сейчас работал. Он помахал мне рукой и исчез в складе. Я пошёл за ним туда.
Склад — это единственное место на автобазе, которое я не люблю. Высокие, до потолка, стеллажи образуют узкие проходы, тесные и тёмные. На полках, в клетках и ящиках лежат части и детали, над ними длинные номера. Вадим даже не знает названий деталей. Скажешь ему: «Дай гайки крепления колеса!» А он спрашивает номер. Как будто номер легче запомнить, чем название. Канительная, бюрократическая работа. Не понимаю, почему она нравится Вадиму?..
Заведующего складом не было. Вадим восседал за его столиком. Я сел напротив. Вадим посмотрел на меня:
— Ты что такой?
— Не знаешь, что ли? — ответил я.
Хотя в складе никого, кроме нас, не было, Вадим наклонился ко мне и тихо проговорил:
— Крош, я нашёл амортизаторы.
Я обалдел:
— Где?
— Пойдём! — Вадим встал.
— Но как ты оставишь склад?
— Запру.
— А если придут за деталями?
На это Вадим, как настоящий складской работник, ответил:
— Подождут.
Он запер склад и повёл меня на пустырь. Все машины были на линии. Только на краю пустыря, у дороги, стояли пять машин, ждавшие отправки на авторемонтный завод. На их бортах мелом было написано: «В ремонт». Мы подошли к одной из этих машин и влезли в кузов.
В углу кузова что-то лежало, прикрытое кусками толя. Вадим приподнял толь, и я увидел амортизаторы. Совсем новые. Те самые, которые я получал на складе.
— Как они попали сюда? — спросил я.
— Понятия не имею, — ответил Вадим.
— Кто их мог сюда положить?
— Понятия не имею, — повторил Вадим, как попугай.
— Как ты их здесь обнаружил?
Вадим замялся:
— Совершенно случайно… Я что-то искал…
— Что ты искал?
— Я смотрел: нет ли чего подходящего для нашей машины, — признался Вадим.
— Продолжаешь шнырять!
Вадим поник головой:
— Как видишь…
— Вот к чему приводит твоё шныряние, — сказал я.
— А что особенного? — возразил Вадим. — Если бы я не шнырял, то не нашёл бы их.
— Эх ты, балда! Что хорошего в том, что ты их нашёл?
Вадим оторопело смотрел на меня. Его толстая, румяная морда выражала полнейшее недоумение.
— Ты пойми, балда, — сказал я, — кто тебе поверит, что ты их нашёл? Скажут, что ты их сам сюда положил. Вот что скажут. А если бы ты, балда, не шнырял, их бы нашёл кто-нибудь другой, и мы были бы ни при чём…
— Что же делать? — спросил несчастный Вадим. — Ведь я хотел как лучше.
— С нами, дураками, так и получается, — с горечью сказал я, — мы хотим как лучше, а получается как хуже!
Конечно, я чересчур напугал Вадима. Можно взять эти амортизаторы и отнести их директору. Он поверит, что мы их нашли. И если человек будет вечно бояться, что ему не поверят, то он обречён на бездействие. Но если мы их сейчас отнесём к директору, то никогда не узнаем, кто их сюда положил. А положил их сюда Лагутин, вот кто! Чтобы в удобный момент вывезти. И, когда все узнают, что положил их сюда именно Лагутин, всем станет ясно, с какой целью он оклеветал меня.
И всем будет стыдно за то, что они поверили ему.
Значит, надо действовать осторожно. Нельзя трогать амортизаторы. Пусть лежат на месте. Надо только рассказать о них директору. Он примет меры…
Мы с Вадимом отправились в контору. Директора и главного инженера не было, они уехали в трест. Значит, вернутся поздно и вернутся сердитые. Они всегда возвращались из треста сердитые, там им давали нагоняй. За что — непонятно. Наша автобаза работала очень хорошо, перевыполняла план, вот уже год, как держала переходящее Красное знамя, но в тресте, наверно, хотели, чтобы мы работали ещё лучше, и каждый раз давали нашему директору нагоняй.
Мы уселись на скамейке и стали ждать. Наши ребята ушли домой, но рабочий день ещё продолжался. К нам подошёл кладовщик, взял у Вадима ключи. И не сделал Вадиму замечания за то, что тот самовольно запер склад. Теперь я понял, почему приходится так подолгу ждать кладовщика: он нисколько не волнуется, что в цеху простаивают рабочие. Я сказал об этом Вадиму. Опять, как настоящий складской работник, он ответил:
— Вас много, а мы одни.
Я ему заметил на это, что он дурак.
Ожидать директора было довольно томительно, но моё настроение улучшилось. Теперь-то я развинчу эту историю. Узнает Лагутин, как клеветать на людей.
В три часа мимо нас прошла большая группа молодых рабочих. Они учились в вечерней школе, кто в девятом, кто в десятом, а некоторые даже в восьмом классе, и их сегодня отпустили с работы на два часа раньше.
Я сказал:
— Это очень хорошо, что они учатся, — повышается общая культура.
На это Вадим возразил, что они учатся не для общей культуры, а для поступления в вуз.
Мы заспорили, что следует понимать под общей культурой. Но тут прозвенел звонок. Вышла секретарша и сказала, что директора сегодня не будет, он задерживается в тресте. И мы с Вадимом решили отложить это дело до утра. Что касается амортизаторов, они спокойно лежали два дня, полежат ещё ночь.
18
В этот вечер я пошёл в клуб на танцы. Клуб принадлежит машиностроительному заводу. Но ходят туда все: других клубов в нашем районе нет.
Есть на нашей улице кинотеатр «Искра». Новое двухзальное кино с фойе, оркестром, певицей и буфетом. Но в кино посмотришь картину и уйдёшь. А в клубе бывают вечера, спектакли, концерты, приезжают артисты, а по средам и воскресеньям устраивают танцы под джаз или под радиолу. Мы стараемся проходить в клуб без билета. Это удаётся только троим: Игорю, Вадиму и Шмакову Петру. Мне не удаётся.
Девиз у Игоря такой: «Человек искусства пользуется искусством бесплатно». Игорь считает себя человеком искусства. Он два раза снимался в кино, в массовках. И все главные деятели клуба — его приятели.
Вадим тоже трётся в клубе, выполняет всякие поручения, считается там заметной личностью. И как заметная личность проходит бесплатно.
Шмаков Пётр, наоборот, проходит как незаметная личность. Стоит у контроля, молчит, а потом незаметно проходит. Глядя на его серьёзный, сосредоточенный вид, никак нельзя подумать, что он идёт без билета.
В тот вечер, когда мы с Вадимом ушли с автобазы, не дождавшись директора, в клубе были танцы под джаз.
Я люблю танцы. Не так, как некоторые, видящие в этом смысл жизни. А приблизительно так, как любил Пушкин. «Люблю я бешеную младость, и тесноту, и блеск, и радость…» Мне нравится джаз. Книги, кино и джаз — вот, пожалуй, что я люблю больше всего. Если бы у меня были технические наклонности, я, наверно, любил бы что-нибудь более серьёзное.
Танцую я все танцы. И бальные и современные. Но современные люблю больше. Их танцуешь как хочешь. И человеческая личность раскрывается в них шире и глубже. Конечно, отдельные стиляги выламываются. Но выламываться можно и в польке-бабочке.
Народу в клубе было полно. Наши ребята — почти все. Много и с автобазы. В дверях стояли дружинники с красными повязками на рукаве.
Лагутин танцевал с диспетчером Зиной. Отношения этих двух людей мне совершенно непонятны.
Игорь танцевал с незнакомой мне гражданкой. Танцевал так, будто делал громадное одолжение и гражданке, и музыкантам, и всем, находящимся в зале. У него было усталое выражение лица, как у человека, который разочаровался во всем и двигает ногами только из чувства снисходительности.
В середине зала отплясывал Вадим. Он считал себя большим специалистом по рок-н-роллу. Просто выделывал руками и ногами что хотел.
Что касается Шмакова Петра, то он танцует неважно. Можно сказать, плохо танцует. Но танцует все подряд. Сначала молча стоит у колонны и высматривает, какая девица сидит без кавалеров. Потом подходит к ней и приглашает. Танцует Шмаков с серьёзным и сосредоточенным видом, будто делает невесть какую сложную и ответственную работу. Никогда не смотрит, куда ведёт свою даму, и врезается в толпу, как таран. Наступает даме на ноги. И, если дама не убегает тут же домой, приглашает её и на следующий танец.
Ни одного слова со своей партнёршей Шмаков не произносит Вообще молчит весь вечер. Только когда оркестр заиграет, спрашивает меня: «Какой танец?» Сам не может разобрать, что играют: у него полное отсутствие слуха. И зачем он спрашивает, что за танец, непонятно. Что бы ни играли, Шмаков танцует только одно: нечто среднее между фокстротом и танго. Некоторые девочки даже думают, что это новый стиль. И, танцуя со Шмаковым, очень стараются.
Больше всего я люблю танцевать с Майкой. Но Майку приглашают все, и она никому не отказывает. Мне это и нравится и не нравится. Нравится потому, что это говорит о Майкиной простоте. Она не ломается, она пришла сюда танцевать, танцует и никого не хочет обидеть отказом. В ответ на приглашение она улыбается, встаёт и идёт танцевать.
Но нельзя танцевать и с кем попало, можно нарваться на нахала. Один такой пристал как-то к Майке на весь вечер. Мы с ребятами тут же его отшили, танцевали с Майкой по очереди. Но, когда танцы кончились, мы увидели, что он ожидает Майку на улице. Тогда мы все пошли её провожать. Нахал испугался и не пошёл за нами. Я потом узнал, что он работает на заводе в конструкторском бюро. Хлипкий такой тип, в очках.
Из-за того что Майка никому не отказывает, её трудно пригласить. Сидеть возле неё неудобно, это выглядит назойливо. У нас не заведено сидеть парами. Мы пришли сюда танцевать, а не ухаживать. Девочки сидят отдельно, мальчики стоят отдельно. Но, пока пересечёшь зал, кто-нибудь опередит тебя и пригласит Майку.
Когда я пришёл, Майка уже танцевала, и как раз с очкастиком из конструкторского бюро. Когда танец кончился, он остался возле Майки с явным намерением пригласить её опять.
Я тут же, пока ещё не заиграла музыка, подошёл к девчонкам, заговорил с ними, а как заиграла музыка, сразу пригласил Майку. Тип вместе со своими очками остался стоять у стены. Даже никого не пригласил. Показывал Майке свою преданность.
Играли вальс. Я танцую его в обе стороны, поворачиваясь и левым и правым плечом. И, чтобы морально подавить нахала в очках, я прошёлся один круг левым плечом, потом круг правым плечом. И старался танцевать против того места, где стоял этот тип, чтобы он убедился, как я здорово танцую, и понял, что Майке гораздо интереснее танцевать с таким выдающимся партнёром, как я, чем с таким идиотом, как он.
Следующий танец я опять танцевал с Майкой и отвёл её на место, только увидев, что музыканты кладут свои инструменты и отправляются на перерыв.
Мы со Шмаковым Петром взяли контрамарки и вышли на улицу, чтобы освежиться и выпить газировки.
Между прочим, Шмаков всегда в перерыве выходит на улицу. Чтобы взять контрамарку. И, возвращаясь в клуб, старается её не отдавать. Шмаков собирает контрамарки. Когда ему не удаётся пройти зайцем, он проходит в перерыве по этой контрамарке. Контрамарки от вечера до вечера меняются. Но у Шмакова Петра всегда находится нужная.
На улице накрапывал мелкий дождик. Но это хорошо: под дождём лучше освежимся. Мы спокойно пили газированную воду, освежались под мелким дождиком, дышали вечерним воздухом и глазели по сторонам. Вернее, глазел я. Шмаков Пётр, когда пил воду, упирался глазами в дно стакана.
Я глазел по сторонам и увидел «Победу». Обычную «Победу». Я обратил на неё внимание только потому, что она подъехала не к подъезду клуба, а остановилась в тёмном переулке, за углом. Из машины вышли два человека и прошли мимо нас в клуб. Двое парней в пиджаках, рубашках без галстуков и кепках, надвинутых на лоб. На одном были белые парусиновые туфли.
Но, во что бы они ни были одеты, я сразу понял, кто это такие. Я хорошо знал таких ребят. Встретишь такого на улице, мелькнёт его лицо в подворотне, в магазине, в троллейбусе, в фойе кино, — сразу отличишь его среди тысячи других людей. Есть в них что-то такое особенное, я даже не могу объяснить что… Взгляд, что ли… С виду безразличный, равнодушный, а на самом деле — насторожённый, внимательный. Идёт такой, не оглядываясь, как будто спокойно, а сам напряжён, спиной чувствует, не следят ли за ним… У нас в школе одно время даже учился один такой, в восьмом или девятом классе. Все знали, что он бандит. Мы были только совсем ещё маленькие, с интересом смотрели на него. Потому что, если всем известный бандит открыто учится в восьмом классе, значит, и взрослые его боятся. Потом, правда, оказалось, что он вовсе не бандит. Просто он хотел поступить в пожарники и, лазая по чердакам, заранее тренировался.
Но в том, что из машины вышли именно эти ребята, я не сомневался.
Мы со Шмаковым вернулись в клуб. Перерыв ещё не кончился, но публика устремилась в зал. Некоторые затем, чтобы занять места у стены, другие — чтобы не пропустить ни одного танца. Есть и такие.
Я тоже было заторопился в зал, чтобы не дать возможности типу в очках танцевать с Майкой. Но увидел вдруг в конце коридора Лагутина и рядом с ним этих парней. Я подался немного назад и в сторону. Сделал вид, что хочу переждать толпу, которая протискивалась в зал.
Лагутин и парни стояли вместе совсем недолго, может быть, одну минуту. О чём они говорили, я тоже не мог расслышать. Я только видел мрачное лицо Лагутина. Потом оба парня, как по команде, повернулись и прошли мимо меня к выходу. Я услышал звуки музыки и вошёл в зал. У стены, на том месте, где обычно сидели наши девочки, Майки не было. Я увидел её танцующей с очкастиком. Какой, однако, назойливый нахал!
Я обошёл зал и стал возле колонны. Недалеко от меня стояла Зина, диспетчер. На ней была зелёная шерстяная кофточка и туфли на тоненьком, как гвоздик, каблучке. Как держатся женщины на таких каблучках — непонятно.
Лагутин появился вслед за мной. Как и я, обошёл зал и подошёл к Зине. Они стояли с другой стороны колонны, довольно близко, но шум оркестра заглушал их голоса. Лагутин что-то раздражённо говорил, на чём-то настаивал. А Зина колебалась, не хотела, отказывалась, лицо её покрылось красными пятнами.
Музыка смолкла. Я увидел, как нахал в очках проводил Майку на место. Я стал внимательно следить за оркестром. Как только музыканты подымут инструменты, я тут же подойду к Майке и первый приглашу её.
Но, раньше чем я успел это сделать, меня опередили… И кто? Лагутин! Большими шагами он пересёк зал, подошёл к Майке, заговорил с ней, тут заиграла музыка, и они пошли танцевать.
Этого я Майке никогда не прощу! Ведь она отлично знала, что Лагутин — мой первый враг, он так подло подвёл меня с Зуевым.
Простота и естественность хорошие качества, но не до такой же степени! Надо знать меру! Ведь это предательство по отношению к товарищу! Танцевать с человеком, который его оклеветал! Разве я пошёл бы танцевать с девчонкой, которая оклеветала Майку? Никогда в жизни!
Достаточно того, что я простил ей очкастого! Если разобраться, она и с ним не должна была танцевать. Одно дело — когда человек танцует, другое — когда ухаживает. А очкастый пытается ухаживать. И все это видят. И, танцуя с ним, Майка потакает его ухаживаниям.
Но очкастого я ей простил, а Лагутина не прощу ни за что! Мало того, что он меня предал, — ведь он танцует с ней только для того, чтобы досадить бедной Зине. Разве Майка этого не видит?
Ни на грош чувства собственного достоинства!
Она танцевала с Лагутиным и, увидев меня, даже улыбнулась.
Я отвернулся и сделал вид, что не вижу ни её улыбки, ни её самое.
19
Эту ночь я плохо спал. Не потому, что думал о Майке. Если я и думал о Майке, то только одно: что больше никогда не буду о ней думать.
Я думал о Лагутине, об этих ребятах, об амортизаторах, которые мы с Вадимом так легкомысленно оставили на ночь в старой машине. Они положены туда, чтобы легче их вывезти с автобазы. И, может быть, как раз сегодня ночью их и вывезли. Почему-то я связывал всё это вместе: амортизаторы, этих ребят и Лагутина. Постепенно у меня возникла версия: положил амортизаторы в машину Лагутин, должны их вывезти эти ребята. Стройная, логичная версия.
Думая об этой версии, я в конце концов заснул. Очень крепко. Утром отец еле меня разбудил. Я чуть не опоздал на работу. Прибежал туда к самому звонку. В воротах я столкнулся с Вадимом: он всегда прибегает к самому звонку.
Я показался в гараже, получил работу. Потом вышел во двор к дожидавшемуся меня Вадиму. Мы пошли к директору, чтобы рассказать ему об амортизаторах.
Мы приоткрыли дверь кабинета и увидели, что там полно дыма и людей. Уже заседают. Видно, вчера вечером в тресте здорово гоняли нашего директора, если он с самого утра начал гонять своих подчинённых.
Тогда мы решили пойти посмотреть, на месте ли амортизаторы. Надо проверить.
Мы пересекли пустырь, подошли к крайней машине с надписью «В ремонт» и взобрались в кузов.
И, как только мы взобрались туда, мы увидели, что амортизаторов нет. Валялся кусок толя, и больше ничего не было.
Амортизаторы унесли. Мы молча смотрели друг на друга. Потом Вадим неуверенно сказал:
— Может быть, их нашёл сторож.
Так, конечно, могло случиться. И это было бы очень хорошо. Просто замечательно! Амортизаторы нашлись, мы здесь ни при чём, прекрасно!
Но могло случиться и не так. Амортизаторы могли увезти те, для кого они здесь положены. Приехали на машине, положили в неё амортизаторы и уехали. Сторож спокойно спит всю ночь. Да и услыхав шум подъезжающей машины, не обратил бы внимания. Подумал бы, что вернулась с линии какая-нибудь опоздавшая машина.
Пустырь представлял собой квадрат, расположенный сразу за ремонтными цехами. Справа он был огорожен забором лесного склада. Сзади темнел заброшенный песчаный карьер. Слева, за канавой, тянулась старая дорога. По ней раньше ездили к карьеру за песком. Сейчас этой дорогой не пользовались. Но если амортизаторы вывезли, то только по ней.
Мы слезли с машины и подошли к дороге. Первое, что мы увидели, был кусок толя. Он валялся в канаве. Всё сразу стало ясно: амортизаторы пронесли именно здесь. Несли в толе, чтобы не гремели. А когда положили в «Победу», толь бросили в канаву.
Мы перебрались через канаву на дорогу. Она вела к песчаному карьеру и была покрыта где тонким, где толстым слоем песка. Вчера прошёл дождь, и мы увидели на песке отчётливые следы машины.
Мы нагнулись и стали их рассматривать.
Следы на дороге остаются от колёс. Точнее, от покрышек. Ещё точнее, от протектора. Протектором называется верхняя часть покрышки, сделанная в виде рисунка. Углубления этого рисунка позволяют колесу лучше сцепляться с дорогой.
И вот мы увидели очень глубокие, очень резкие, широкие и косые следы, расположенные ёлкой.
Это были следы не от «Победы», а от какой-то другой, незнакомой нам машины. От «Победы» не остаётся таких глубоких следов.
— Похоже на трактор, — неуверенно проговорил Вадим.
— Сказал тоже! От трактора не следы, а борозда.
Мы пошли к карьеру, рассматривая следы. Я очень расстроился — рухнула моя версия. Ведь эти парни были на «Победе», а здесь была какая-то другая машина. Неужели не Лагутин, а кто-то другой положил сюда амортизаторы?
У карьера мы увидели множество следов. Здесь машина разворачивалась. Её подавали то вперёд, то назад. Песок здесь был глубже, и следы проступили отчётливее. Я внимательно пригляделся к ним и рядом с глубокими следами незнакомой машины увидел мелкие, фигурные следы «Победы»…
У меня даже сердце заколотилось от волнения. Значит, «Победа» здесь всё-таки была…
Я присел на корточки. Следы шли рядом друг с другом, совсем вплотную. Обе машины здесь разворачивались. Вперёд — назад, вперёд — назад…
Но почему следы от «Победы» были только здесь? Почему их нет на дороге?
Может быть, мы невнимательно смотрели?
Мы пошли обратно, тщательно осматривая следы. Но как мы ни вглядывались, следов от «Победы» на дороге не было. На дороге был только один след. Резкий, глубокий, косой, незнакомый след.
— Всё ясно, — сказал Вадим, — след у «Победы» мелкий, его задуло ветром.
— А почему его не задуло у карьера? — возразил я.
Получалась странная и не совсем понятная картина! Получалось так, что сначала пошла «Победа», а потом за ней, точно след в след, прошла вторая, незнакомая машина. И её более глубокий и сильный след уничтожил след «Победы»…
— Всё ясно, — сказал Вадим, — вторая машина нарочно шла за первой, чтобы уничтожить её следы. Увезли амортизаторы на «Победе». Значит, надо замести следы.
Это объяснение показалось мне логичным. Но после некоторого размышления я увидел, что никакой логики в нём нет. Что за дурацкий способ заметать следы! Разве попадёшь ночью след в след? Да и глупо это! Удивительно, что предположение Вадима показалось мне в первую минуту разумным.
Мы прошли в сторону шоссе. Песка становилось меньше, следы проступали тусклее. Всё же было отчётливо видно, что это следы от второй машины. И только там, где дорога выходила на шоссе, на том месте, где машины поворачивали, мы опять увидели следы «Победы». Ясно виднелся закруглённый песчаный след незнакомой машины и рядом с ним, тоже песчаный, очень мелкий след от покрышек «Победы»… Дальше на асфальте вообще уже ничего нельзя было разобрать…
Так ничего толком не выяснив, мы вернулись на автобазу. Моя версия, хотя и висела на волоске, всё же полностью не была опровергнута: какая-то «Победа» там была. Значит, можно предполагать, что амортизаторы увезли эти парни, а вынес их на пустырь Лагутин.
— Где пропадал? — спросил меня Шмаков, когда я вернулся в гараж.
Я неопределённо помахал рукой:
— Тут…
— Бригадир ругался, — сказал Шмаков.
Раньше бригадир не ругал меня за отлучки. А теперь ругает. Понятно! Отношение ко мне изменилось. И всё из-за Лагутина. Из-за того, что он оклеветал меня. Ничего, справедливость восторжествует!
Мы со Шмаковым принялись за работу, потом я его спросил:
— А что ты ответил бригадиру?
— Сказал, что тебя вызвал завуч, — ответил Шмаков.
Уже какой раз меня поражала сообразительность Шмакова Петра. Только он один мог придумать такой ловкий ответ. «Завуч вызвал»! Надо же! Если бы Шмаков сказал, что меня вызвал директор или главный инженер, бригадир мог бы это проверить. А «вызвал завуч» — как бригадир это проверит? Может, он и не знает, кто такой завуч? А если знает, то не пойдёт же он в школу проверять. «Завуч» — это что-то далёкое, непонятное, а потому убедительное. Я давно заметил, что самое убедительное для некоторых людей — это самое непонятное.
Молодец Шмаков! Верный товарищ! Мне стало стыдно, что я ничего не рассказал ему про амортизаторы. Ведь Шмаков куда более надёжный человек, чем Вадим. И как ни туго соображает Шмаков, у него есть практическая хватка, сколько раз я убеждался в его глубоких практических познаниях.
Я уже было собрался рассказать Шмакову всё по порядку. Ему обязательно надо рассказывать по порядку, иначе он не поймёт, в чём дело. Как вдруг неожиданная мысль взволновала меня…
Как же я не срисовал следы незнакомой машины?! Ведь эти следы скоро исчезнут. Разве можно упустить такое важное обстоятельство? И второй след надо было срисовать. Я думал, что он от «Победы», а вдруг нет?
Я взял кусок картона, из которого мы вырезаем прокладки, взял кусок мела, карандаш и, предупредив Шмакова, чтобы он опять соврал бригадиру насчёт завуча, побежал на пустырь…
Я вернулся через полчаса.
В кармане у меня лежал тщательно срисованный отпечаток протектора незнакомой машины и менее тщательно срисованный след протектора «Победы». Он очень сложный, мелкий, он был уже неясно виден, и его было труднее срисовать.
Мы со Шмаковым снова принялись за работу. Приходил бригадир, посмотрел на меня, но ничего не сказал. Видно, магическое для школьников слово «завуч» действовало и на него.
Работать нам со Шмаковым пришлось недолго. Скоро прозвенел звонок. Рабочие пошли на перерыв, мы могли отправиться домой.
Я сказал Шмакову:
— Задержись. Дело есть.
— Ладно, — ответил Шмаков Пётр.
Он никогда не задавал вопросов, что да почему? Хорошая черта.
Мы пошли в местком, взяли у библиотекарши книгу под названием «Автомобильные шины», уселись за стол и стали её рассматривать. Я вынул рисунки протекторов, которые сделал на дороге, положил их рядом с книгой и сказал Петру:
— Вопрос: с каких покрышек эти протекторы?
Протектор с «Победы» мы скоро нашли. Это действительно был протектор с покрышек «Победы», размер 6x16. У меня немного отлегло от сердца. Слава богу! Значит, «Победа» там действительно была. Прекрасно! Замечательно! Значит, я не ошибся…
Но рисунка, похожего на протектор второй машины, мы в книге не находили.
Тогда Шмаков внимательно посмотрел на мой рисунок и сказал:
— Это покрышка с вездехода.
— Какого вездехода?
— «ГАЗ—69».
— Ты думаешь?
— Точно.
Я тут же потребовал у библиотекарши книги о вездеходах «ГАЗ—69». Мы её перелистали и в разделе «Шины и камеры» нашли рисунок протектора. Он точно совпадал с тем, который я зарисовал на дороге. Такие же широкие косые полосы в виде ёлки… Очень глубокие — для увеличения проходимости вездехода.
Мы вернули библиотекарше книги и отправились на пустырь. По дороге я рассказал Шмакову всё по порядку. Дорога была длинная, и мне хватило времени.
Снова, теперь уже со Шмаковым Петром, мы осмотрели следы. Песок подсох, следы начали рассыпаться, но были ещё видны…
Шмаков подумал и сказал:
— Если на «Победе» были воры, значит, на вездеходе была милиция.
С досады я даже ударил себя кулаком по лбу. Как я сам не догадался! Конечно, Шмаков прав! Что значит практическая смётка! Ай да…
Впрочем, рано говорить «Ай да»… Почему всё же на дороге нет следов от «Победы»?..
Конечно, объяснения Шмакова логичнее объяснений Вадима. Но не настолько, чтобы лупить себя кулаком по лбу.
У Шмакова есть практическая смётка. Но, чтобы разгадывать тайны, надо иметь ещё кое-что…
Что именно? А чёрт его знает! Может быть, нечто прямо противоположное практической смётке. Например, фантазию.
20
Мы решили никого не посвящать в эту историю. Всё равно не поверят. А поверят, так объявят нас лопухами. И не без основания: амортизаторы мы проворонили.
Я не сказал Вадиму, что Шмаков Пётр тоже в курсе дела. Если Вадим об этом узнает, он тут же расскажет ещё кому-нибудь. Будет оправдываться тем, что я первый нарушил тайну. Такой уж он человек, Вадим. На него можно воздействовать только собственным примером. А какой пример я ему подам, если признаюсь, что всё рассказал Шмакову Петру. Впрочем, на следующий день нам было не до этого: предстояла первая получка.
Зарплату на автобазе выдают два раза в месяц. Каждый раз это большое событие. Люди, привыкшие получать зарплату, и те чувствуют в этот день какой-то подъём. А мы тем более. Ведь это первая получка в нашей жизни.
Информацию мы получили от Игоря. Он работает в конторе и находится в курсе всего. На лице у него было этакое снисходительно-добродушное выражение, будто нашей зарплатой мы обязаны всецело ему. Будто без него мы бы ни гроша не получили.
Сначала он объявил, что мы «включены в ведомость». Наши фамилии занесены в список, по которому выдают зарплату. И дал понять, что он приложил к этому немалые усилия. Затем явился и сообщил, что мы получим только аванс — половину зарплаты. Остальные деньги мы получим в конце месяца — в расчёт. Расчёт зависит от того, сколько мы заработаем. Это может быть и больше и меньше. Игорь, конечно, постарается, чтобы мы получили не меньше, а больше.
Потом он пришёл и сказал, что кассир уехал в банк.
Потом сообщил, что дела в банке идут туго, возможно, сегодня не дадут. Потом пришёл и объявил, что всё налаживается, но выдавать нам будут зарплату после пяти часов.
В общем, целый день Игорь держал нас в возбуждённом состоянии и отрывал от работы.
Мы со Шмаковым мало беспокоились. Полагается нам зарплата — получим. Сегодня, завтра — разница небольшая. И мы сказали Игорю, чтобы он не делал из мухи слона.
Он обиделся и ушёл. Но не утерпел, вернулся и, чтобы задобрить нас, сказал, что всё в порядке. Зарплату нам выдадут после двенадцати часов.
На это мы со Шмаковым ответили:
— Ладно!
…Кончив работу, мы всем классом собрались у кассы. Открылось окошко. Нам начали выдавать зарплату.
Мы расписывались в ведомости против своей фамилии. Кассир, бесстрастный человек, никому не смотрел в лицо. Смотрел только на ведомость, ставил галочку и отсчитывал деньги. Шестнадцать рублей двадцать копеек.
Мальчики вели себя с достоинством. Небрежно совали деньги в карман. Некоторые, правда, пытались получить без очереди. Но не из жадности, а из озорства. Только Шмаков Пётр аккуратно сложил деньги в бумажник. Такая у него привычка.
Зато девочки были чересчур возбуждены. Отойдя от кассы, пересчитывали деньги и что-то оживлённо обсуждали. Только Майка не шумела. Спокойно сунула деньги в карманчик платья. Я, конечно, заметил это случайно. Между нами всё кончено. А она ни с того ни с сего улыбнулась мне своей приветливой улыбкой. Странно!
Игорь стоял у кассы и благодушно улыбался, как хлебосольный хозяин, угощающий своих друзей. Он страдает преувеличением собственной личности. Зарплату он получил до нас. Как свой человек в конторе. Рядом с ним стоял Вадим и собирал долги. Я отдал ему рубль за обед в Липках. Шмаков подумал и тоже отдал.
У меня осталось пятнадцать рублей двадцать копеек. Я решил сразу пойти в универмаг и купить подарки папе и маме.
— Сходим в универмаг, — предложил я Шмакову Петру.
— Зачем?
— Надо кое-что купить.
Я не хотел ему говорить про подарки. Родители Шмакова работают в Индии, на строительстве завода. Живёт он с дедушкой и бабушкой. И я не был уверен, станет ли Пётр делать им подарки. И, узнав про подарки, мог не пойти. А одному идти скучно.
На первом этаже универмага, рядом с писчебумажным, спортивным и игрушечным отделениями, находилось то, что мне было нужно, — парфюмерия.
Я давно заметил, что в магазинах ненужные отделы располагаются внизу, а нужные — наверху. И чем нужнее, тем выше. Например, обувной — на четвёртом.
Я поделился этим наблюдением со Шмаковым Петром.
Он подумал и сказал:
— За духами на четвёртый этаж никто не полезет, а за ботинками полезут. — И добавил: — А кто идёт на четвёртый этаж, купит мимоходом на первом этаже какую-нибудь ерунду. Магазин выполняет план. Работники прилавка получают премию.
И я опять, уже в который раз, удивился практической смётке Шмакова Петра, его глубоким практическим познаниям.
В спортивном отделе всё было так ловко разложено, выглядело таким новеньким и блестящим, что всё хотелось купить. Неплохо бы купить боксёрские перчатки. И гантели тоже необходимы. Но больше всего нам со Шмаковым Петром понравились спортивные брюки. Синие, трикотажные, с резинками внизу. В них у человека исключительно спортивный вид. Особенно если прибавить к ним синий свитер с белой каймой под воротником. Настоящий тренировочный костюм.
Но если купить и свитер, и брюки, и подарки, то я истрачу все деньги.
Сделаю так. Куплю спортивные брюки, они стоят три рубля. На два двадцать куплю подарки. Ровно десять рублей у меня останется. Если в расчёт я получу двадцать рублей, как говорил Игорь, то у меня будет ровно тридцать. И на них я сделаю что-нибудь капитальное.
— Покупаем? — спросил я Шмакова Петра.
Он с сосредоточенным видом вертел в руках брюки, ощупывал, переворачивал их в разные стороны и молчал.
— Пошёл платить! — решительно объявил я.
На Шмакова, как и на Вадима, надо действовать силой собственного примера.
Я заплатил в кассе три рубля, получил пакет, а Шмаков всё ещё стоял у прилавка и вертел в руках брюки.
— Чешешься, — сказал я ему, — плати деньги.
Шмаков вздохнул:
— Трикотаж плохой. Через два дня вытянутся. В коленках… И кругом. Второй сорт.
Я похолодел:
— Что же ты мне сразу не сказал?!
На что последовало обычное шмаковское:
— Не успел.
На этот раз я уже не восхищался его практической хваткой. Чёрт бы побрал эту хватку! Чего она стоит при такой медлительности.
Ладно! Что сделано, то сделано! Погорел я на трёшку, впредь буду умнее.
Я решил немедленно отправиться в парфюмерный отдел и купить маме духи. Но по дороге был писчебумажный отдел. Возле него мы со Шмаковым Петром и задержались.
Наше внимание привлекли самопишущие ручки и толстые общие тетради в коленкоровом переплёте. Ручку хорошо бы купить отцу. Это был бы подарок! Папина ручка уже никуда не годилась.
Но четыре пятьдесят! Мне придётся тронуть десятку… Дёрнул меня чёрт купить эти брюки! Если бы я их не купил, то как раз хватило бы на ручку отцу и на маленький флакон духов маме. И у меня осталось бы ровно десять рублей…
— Тетрадь надо купить, — сказал Шмаков. — Ты какого цвета возьмёшь?
Мне больше ничего не следовало покупать для себя. Но что такое тридцать пять копеек в сравнении с тремя рублями, которые я заплатил за брюки? И я ответил:
— Коричневую. А ты?
Шмаков сделал головой движение, означающее «надо подумать».
Я заплатил в кассе тридцать пять копеек и получил прекрасную общую тетрадь в коричневом коленкоровом переплёте.
— Выбирай скорее, — поторопил я Шмакова Петра.
Он вздохнул:
— Не нравится.
— Жмот. Вот ты кто! — сказал я Шмакову Петру.
В парфюмерном отделе я спросил, сколько стоит коробочка «Подарочных».
— Пять рублей? Ого!
В коробке и духи и одеколон. А отдельно духи купить нельзя, только вместе. Странные порядки!..
Не зная, что купить, я стоял перед прилавком в полной растерянности. Меня даже в жар бросило.
— Петро, — сказал я, — давай купим мороженого.
— Не хочется, — ответил Шмаков.
Я купил себе мороженого. Надо было немного охладиться. И что такое девятнадцать копеек по сравнению с теми деньгами, которые я уже истратил?
В конце концов я выбрал «Огни Москвы» за два шестьдесят. Остаётся у меня ровно девять. Рубль я одолжу у мамы, будет ровно десять на что-нибудь капитальное. В следующую получку, в расчёт, я верну маме долг и куплю отцу подарок. Это правильно. В эту получку — подарок маме, в следующую — папе…
Может быть, я немного и завидовал Шмакову Петру. Ведь у него сохранились все деньги. Но я утешал себя сознанием, что он жмот, а я нет.
— Прошвырнемся по магазину, — предложил Шмаков.
Я категорически отказался. Шмакову хорошо с его жмотским характером. А я обязательно что-нибудь куплю. Вдруг мы увидели, что нам машет Вадим. Откуда он появился, мы не заметили. Мы только увидели, как он замахал руками и помчался в спортивный отдел. Мы помчались за ним.
— Скорее занимайте очередь, — возбуждённо прошептал Вадим.
Возле прилавка уже стояла очередь. Раньше её не было. Мы стали за Вадимом. За нами сразу стали ещё несколько человек.
— Привезли подводные маски и ласты, полный набор, — зашептал Вадим, — сейчас будут продавать.
— Зачем они нам? — спросил я.
— Вот чудак! — удивился Вадим. — «В мире безмолвия»!..
Я читал «В мире безмолвия». Но в Москве нет моря. С другой стороны, если я весной поеду в туристскую поездку в Крым или на Кавказ, то там они мне пригодятся. Но если я куплю маску и ласты, то на какие деньги я поеду в туристскую поездку? И дёрнул меня чёрт купить эти дурацкие штаны!
Терзаемый сомнениями, я стоял в очереди. Она быстро увеличивалась. Одни становились потому, что им нужны были маски, другие потому, что стояли первые.
Подошли Игорь с Мишкой Тарановым и стали между мной и Шмаковым Петром. Сделали вид, будто они здесь уже стояли. Мы тоже сделали такой вид.
— Опытная партия, — сказал Игорь. — Их в Москве днём с огнём не найдёшь.
Продавцы притащили связки масок и связки ластов. Очередь заволновалась. Задние боялись, что им не достанется. Несколько добровольцев стали у прилавка, чтобы наводить порядок. В их числе, конечно, и Игорь.
Я не знал, что мне делать, не знал, на что решиться. Маска и ласты были мне абсолютно не нужны. Но если я окажусь на морском берегу? Все будут нырять, а я буду сидеть на песке как идиот? И я уже целый час стою в очереди! Не куплю, а потом буду жалеть!
Так я раздумывал, медленно подвигаясь к прилавку. Мне хотелось продвигаться ещё медленнее.
Первым из нас стоял Вадим, за ним Игорь, за Игорем я, за мной Мишка Таранов и последним Шмаков Пётр.
Продавец объявил:
— Граждане, не становитесь, имеется всего двадцать комплектов!
Очередь заволновалась. Но никто не уходил. Всё на что-то надеялись.
Шмаков Пётр пересчитал тех, кто стоял перед ним, и сказал:
— Кажется, мне не достанется.
Я тоже пересчитал и успокоил Шмакова:
— Тебе достанется, последнему.
Мог ли я устоять в условиях такого ажиотажа? Все стремятся купить. Некоторые чуть не плачут, оттого что им не достанется. А я, простоявший час в очереди и попавший в число счастливчиков, неужели я откажусь? Это было бы смешно и глупо!
Я заплатил по чеку и получил маску и ласты.
Но опасения Шмакова сбылись. Последний комплект достался Мишке Таранову.
У Шмакова был убитый вид. Мне было его очень жаль. Всегда неудобно, когда тебе что-то досталось, а товарищу нет. Если поступать по-честному, то Игорь или Мишка Таранов должны были уступить Шмакову. Ведь ему не досталось из-за того, что мы пустили их без очереди. Но Игоря, Вадима и Мишки Таранова и след простыл.
Мы вышли со Шмаковым на улицу. Шмаков молчал. Он всегда молчит. Но сейчас он молчал из-за того, что ему ничего не досталось. Мне было ужасно жаль его. Мне не нужно, а досталось. Шмакову хотелось купить, а не досталось. Очень несправедливо!
Я остановился и протянул Шмакову ласты и маску:
— Знаешь что, возьми. Мне они не нужны!
Шмаков отрицательно покачал головой. Не хотел лишать меня таких драгоценных вещей.
— Бери, бери, — настаивал я, — я купил просто так, на всякий случай. Мне они совершенно не нужны.
— Мне они тоже не нужны, — объявил Шмаков.
Я опешил.
— Зачем же ты стоял в очереди?
— Все стояли.
Когда Шмаков забраковал спортивные брюки, я похолодел. Теперь я просто окоченел. Выходит, я опять зря выбросил деньги.
Всё же во мне теплилась надежда, что Шмаков отказывается из чистого благородства. Не хочет оставить меня без этих проклятых ластов.
Я пригрозил:
— Не возьмёшь, снесу обратно!
— И правильно сделаешь! — одобрительно заметил Шмаков. — Кому нужна эта маска? Простая резинка со стёклышком! А в ластах вообще неудобно плавать.
Дрожащим голосом я проговорил:
— Последний раз спрашиваю: возьмёшь или нет?
Шмаков пожал плечами:
— Вот пристал! Не нужно мне такое барахло.
Я пошёл обратно в магазин.
В спортивном отделе очереди не было. Но какие-то личности толкались.
Я положил на прилавок маску и ласты и сказал продавцу, что хочу их вернуть.
— Товар обратно не принимается, — ответил продавец.
Я сам знал, что товар обратно не принимается. Я положил маску и ласты на прилавок для того, чтобы их у меня купили. Те, кому они не достались.
Но почему-то никто не торопился их покупать. Как же так? Ведь только что за ними стояла громадная толпа, некоторые чуть не плакали.
Подошёл какой-то гражданин, потрогал маску. Я с надеждой смотрел на него. Он потрогал и отошёл.
— Мальчик, не стой у прилавка, мешаешь! — сказал продавец.
Я свернул пакет. Сердце моё разрывалось от огорчения. Я истратил почти все деньги, и на что? Из всего, что я купил, мне была нужна только общая тетрадь в коленкоровом переплёте.
Теперь уж всё равно! Я пошёл в писчебумажный отдел и на оставшиеся деньги купил папе китайскую самопишущую ручку.
21
Кто-то, не помню кто, правильно сказал: жизнь — это река, река времени. Течёт себе и течёт. На смену одной волне приходит другая, потом третья. Появится на воде щепка, покружится, проплывёт перед тобой и исчезнет.
Как-то постепенно все забыли про части, найденные на складе у Вадима, и про аварию в Липках, даже об амортизаторах больше не говорили. Я перестал жалеть о том, как глупо истратил свою первую получку. Единственная покупка, которая мне пригодилась, — это тетрадь в коленкоровом переплёте, в ней я пишу сейчас эти воспоминания.
Даже то, что Майка пошла танцевать с Лагутиным, не казалось мне таким уж значительным проступком. Протанцевала один раз с Лагутиным, что в этом такого? По отношению ко мне это не совсем по-товарищески. Но ведь она девчонка, даже при всём своём уме и твёрдом характере, и могла испугаться скандала.
Конечно, если бы я тогда был рядом с Майкой, я бы дал отпор Лагутину. Но меня рядом не было, и она была беззащитна.
Если бы сейчас Майка подошла ко мне то мы бы помирились. Подошла бы и сказала: «Получилось нехорошо, не надо было танцевать с Лагутиным, но я танцевала только во избежание скандала». Всё между нами стало бы ясно и опять пошло бы по-прежнему.
Я перестал избегать Майку, наоборот, старался попадаться ей на глаза. Чтобы дать ей возможность подойти ко мне и сказать это. Но Майка не подходила ко мне и ничего не говорила. Только улыбалась мне издалека, как будто между нами ничего не произошло.
Я тоже не хотел первый подходить: не я танцевал с Лагутиным, а она!
Нельзя находиться в ссоре вечно. Когда-нибудь надо и помириться. Если люди не будут мириться, то все в конце концов перессорятся. Но в каждой ссоре есть правый и виноватый. И виноватый должен сделать первый шаг к примирению.
Всё изменяется, но не всё забывается. Есть вещи, которые я помню всегда. И чем больше проходит времени, тем больше о них думаю.
Они мне не дают покоя.
Чем больше думал я о Зуеве, тем более постыдным казалось мне моё поведение. Я ничего не сделал, чтобы исправить несправедливость, причинённую ему по нашей, а значит, и по моей вине. Мало того. По милости Лагутина получилось так, что я оклеветал Зуева. Я себя чувствовал предателем. Человек из-за меня пострадал, а я хожу как ни в чём не бывало. Подло! И как может Шмаков так спокойно разговаривать с Зуевым, рассуждать о всякой ерунде. Ведь Шмаков тоже виноват. Меньше, чем я, но всё же… Буксир кто неправильно привязал?
Я опять сказал Шмакову и Вадиму, что надо написать директору заявление.
Шмаков равнодушно ответил:
— Кому это нужно?
А Вадим сказал:
— Здрасте, вспомнил!
Тогда я сам написал заявление. Короткое, но убедительное. Во всём виноваты мы: я, Игорь, Вадим и Шмаков Пётр. Мы самовольно начали буксировать и неправильно привязали трос. А Зуев не отлучался, а пошёл искать Ивашкина. И выговор ему объявлен неправильно. Это заявление я и положил на стол перед директором. Он спросил:
— Что такое?
— Заявление, — ответил я.
— О чём?
— Там написано.
Директор нахмурился. Он не любил, когда ему подавали заявления. В заявлениях просят то, что не полагается. То, что полагается, получают без всякого заявления.
Директор прочитал моё заявление один раз, потом начал читать второй. Неужели он его не понял с одного раза? Уж до чего ясно и просто написано. Прочитав второй раз, директор поднял на меня глаза:
— Чего ты хочешь? Конкретно!
Если бы он не произнёс слово «конкретно», я объяснил бы ему, чего хочу: я хочу доказать, что виноват не Зуев, а мы. Но ведь это неконкретно. А что конкретно? Конкретно — это приказ с выговором Зуеву. Если директор его отменит, то это и будет конкретно. Но если я предъявлю ему такое требование, это будет по меньшей мере смешно. Я дипломатично сказал:
— Ваш приказ неправильный. Зуев не виноват. Виноваты мы.
— Вот как?.. — протянул директор, будто впервые об этом услышал, и зачем-то тронул алюминиевый поршень, который вместо пепельницы стоял у него на столе. — Значит, надо и вам выговор объявить?
Я пожал плечами:
— Если считаете нужным… Только почему и нам? Только нам.
— Можно и объявить, — спокойно проговорил директор.
Кто-то открыл дверь. Директор сказал: «Занят!» Дверь закрылась.
— Как твоя фамилия? — спросил директор.
— Крашенинников.
— Отец есть?
— Есть.
— Где работает?
Я назвал завод, где работает мой отец.
Директор опять помолчал, а потом проговорил:
— Выходит, ты умный, а я дурак?
Этим он хотел сказать, что умный он, а дурак я. Спорить? Я ему ничего не ответил.
Не дождавшись ответа, директор посмотрел в окно. Я тоже посмотрел в окно. Там ничего интересного не было. Продолжая смотреть в окно, директор ровным голосом произнёс:
— Не довезли материалы на стройку. Кто не довёз? Водитель не довёз. Кто плохо организовал? Начальник эксплуатации плохо организовал. А кто выговор получил? Директор выговор получил. Почему? Потому что директор отвечает и за водителя и за начальника эксплуатации. Кто был ответственный за буксировку? Зуев был ответственный. С кого надо спрашивать? С Зуева надо спрашивать. Понял? Я тебе это не обязан объяснять, ты не местком. Но объясню. Потому что ты ещё зелёный. А теперь иди, меня люди ждут.
…Директору легко рассуждать. Если ему в тресте поставят на вид, он на автобазе тоже кое-кому влепит выговор. А кому может влепить выговор Зуев? Никому. Зуев простой исполнитель и должен отвечать только за то, что сам сделал. Вот что я должен был ответить директору. Но правильный ответ приходит ко мне приблизительно через час после разговора.
Из моего заявления ничего не вышло. Но совесть моя чиста. Я сделал всё, что мог. Мне хотелось сказать Зуеву, что я подал заявление. Чтобы он знал. Но это невозможно. Получится, что я хвастаюсь.
Ладно. Пусть думает что хочет. И все пусть думают что хотят. Я буду работать. Ни на кого не обращая внимания. Всё равно практика скоро кончится. Через двенадцать дней. И с меня вообще нечего спрашивать. У меня нет технических наклонностей. Это все знают.
Я вернулся в гараж и принялся за работу. Лагутин косо посмотрел на меня. Наверно, видел, что я ходил к директору. Ну и плевать, пусть косится!
Я принялся за передний мост для нашей машины. Это было последнее, что мы должны были сделать со Шмаковым, и мне хотелось закончить передний мост сегодня. Мы со Шмаковым объявим, что у нас всё готово к сборке. И это подстегнёт остальных ребят. Иначе к окончанию практики мы не закончим восстановления нашей машины.
Но Шмаков сказал:
— Тут надо смазать.
И показал на стоявшую рядом машину.
— Нет, — ответил я, — давай лучше кончим сегодня передний мост для нашей.
— Бригадир запретил делать нашу машину, — сказал Шмаков.
— Как это — запретил?
— Запретил, и всё.
Я подошёл к бригадиру Дмитрию Александровичу и спросил, правда ли, что он запретил восстанавливать нашу машину. Дмитрий Александрович ответил, что восстанавливать нашу машину никто не запрещал. Но мы не должны это делать в рабочее время.
Оказывается, за нашу машину не начисляют зарплату.
— Вы со Шмаковым два дня проездили в Липки, — сказал Дмитрий Александрович, — наряда вам на поездку не выписали, а зарплату вы получили. За счёт бригады. Разве это правильно?
Конечно, неправильно! Происходит неувязка. Но об этом пусть думает штаб во главе с Игорем, их для этого выбирали. Что касается меня, то мне надоело вмешиваться во все дела.
22
Всё же мне было интересно знать, как намерен действовать штаб в создавшейся обстановке. Я решил спросить об этом Игоря. Не в порядке вмешательства в дела, а в порядке любопытства.
Игорь сидел в техническом отделе, развалясь на стуле так, что ноги его торчали из-под стола.
— Знаю, — ответил он мне равнодушно, — по всем цехам такая волынка.
— Будем оставаться после работы, — предложил я.
— Спасибо! — ответил Игорь. — У каждого свои дела. У меня, например, съёмки на студии. И вообще ничего не выйдет. Не проявляет сознательности рабочий класс.
— При чём тут рабочий класс?! — возразил я. — Ты не сумел организовать!
— Возможно, — равнодушно ответил Игорь.
— Значит, в кусты?
— Значит, в кусты!
Я возмутился:
— Ты первый вылез с восстановлением машины, а теперь первый смываешься.
— Человек предполагает, а бог располагает, — изрёк Игорь.
Мы потратили на нашу машину столько труда! И нам запретили её восстанавливать. В момент, когда работа в самом разгаре. У меня со Шмаковым всё почти готово, осталось только собрать передний мост, ребята из кузнечного и сварочного выправили и заварили раму, жестянщики и обойщики тоже всё сделали… Разве можно допустить, чтобы работа пропала впустую?..
И потом, что значит: «Рабочий класс не проявляет сознательности»? Это глупость! Рабочие всё отлично сознают и понимают. Но они не любят работу на «фу-фу», работу так себе, между прочим, которая только мешает главной. Значит, надо внести ясность.
Конечно, я твёрдо решил не вмешиваться ни в какие дела. Но в том случае, когда дела идут. А если дело стоит? Надо вмешаться! Чтобы дело опять пошло. А вот когда оно снова пойдёт, можно больше не вмешиваться.
Прежде всего я отправился в моторный цех. Это главный цех мастерских, самый светлый и чистый, не то что наш гараж. Это и понятно: ремонт моторов требует точности, а значит, чистоты. Ошибка на сотую долю миллиметра, и всё пропало — мотор барахлит. Недаром в моторном цехе работает Полекутин — тут надо разбираться в технике. Мотористы — слесари высокой квалификации — знают себе цену. Каждого из них директор называет по имени-отчеству.
Я всегда стесняюсь заходить в моторный цех. Там сердитый начальник, самоуверенный молодой человек в пенсне. Не любит посторонних. Не то что у нас в гараже, где шатаются все, кому не лень. Я приоткрыл дверь и поманил Полекутина пальцем.
Полекутин хороший парень, здорово разбирается в технике. Но у него дурацкая привычка класть руку на плечо собеседнику. А он очень высокий. Если собеседник одного с ним роста или чуть ниже, это выглядит ещё ничего. Но когда он кладёт руку на плечо человеку гораздо ниже себя ростом, то этим невольно подчёркивает его малый рост.
Поэтому я всегда держусь от Полекутина на некотором расстоянии.
Полекутин полностью со мной согласился, признал, что штаб бездействует, но добавил:
— Есть ещё одна сложность — запасные части. На нашу машину их не выписывают. Кое-что можно наскрести. Но как быть с дефицитом? Например, с деталями номера…
Он стал сыпать номерами деталей. Точно как Вадим. Но Вадим называл номера деталей потому, что плохо их знал. Полекутин, наоборот, оттого, что знал их слишком хорошо.
Я перебил его:
— Пасуем?!
— Зачем! — возразил Полекутин. — Но требуется ясность.
— Вы с Игорем и должны внести ясность.
— Мы с Игорем не сработались, — объявил Полекутин.
— Подумаешь, какой кабинет министров! — сказал я и отправился в столярный цех.
Некоторые ребята относятся к столярному цеху с пренебрежением. Особенно ребята с техническими наклонностями. Считают, что техника — это исключительно металл, в крайнем случае пластмасса, а дерево — пройденный этап. «Деревяшки», — презрительно выражаются они.
А мне столярный цех нравится. Он не похож на другие цеха. Здесь свой особый звук: визг пилы и шуршание рубанка, свой запах — запах стружки и смолистого дерева. Он напоминает мне городок, где живёт дедушка. И рабочие здесь спокойные, добродушные, медлительные, курят махорку. Запах махорки напоминает деревню.
В столярном цехе работали четверо наших ребят, в их числе Семечкина и Макарова, те, что всегда записывают по очереди. И эти четыре человека до сих пор ничего не сделали с кузовом и кабиной, только вынули поломанные доски и сгнившие рейки. А новых не поставили.
Я сказал:
— Вас тут четыре гаврика, а дело ни с места.
— Успокойтесь! — насмешливо ответила Инна Макарова. — За нами дело не станет.
Семечкина добавила:
— Что за манера подгонять других!
— Никто вас не подгоняет. Но видите, какое положение — полная неувязка.
— Только не у нас, — возразила Инна Макарова, — нам не запрещают делать нашу машину.
— Что же вы не делаете?
Они показали на стоящие в углу свежеобструганные доски и рейки.
— Всё заготовлено. Успеем. Ведь кузов ставят в последнюю очередь. Пусть материал пообсохнет.
Макарова и Семечкина меня удивили. Ведь технических наклонностей у них ещё меньше, чем у меня, а у меня, как известно, их вовсе нет.
Семечкина и Макарова представляют в нашем классе литературу и искусство. Макарова — литературу, Семечкина — искусство. Макарова пишет рассказы, Семечкина поёт. Правда, на школьных вечерах она не поёт, говорит что ей «ставят» голос: один учитель ставит, другой переставляет. И эта волынка будет продолжаться, пока она не поступит в консерваторию. Что касается Макаровой, то все её рассказы кончаются одной фразой: «Занималась заря».
…Мальчик, сирота, нашёл своих папу и маму. Они плачут, целуются, выходят на улицу… Занималась заря…
…Другой мальчик, порядочный лодырь, перевоспитывался. Первый раз в жизни сделал уроки и, счастливый, вышел на улицу. Занималась заря…
…Третий мальчик, отличник, оторвался от коллектива. На собрании его прорабатывают, он осознает свои ошибки. Все довольны, выходят на улицу. Занималась заря…
Суёт эту зарю куда попало…
Как бы то ни было, положение в столярке меня немного успокоило. Если бы так было в других цехах! Но в других цехах так не было…
В электроцехе Гринько мне сообщил:
— Бригадир сказал: «Со своей работой не управляемся, некогда вашей заниматься!»
Это сообщение меня тем более огорчило, что стоявший в электроцехе запах серной кислоты напомнил мне о сожжённых в Липках брюках.
Сварщики вообще народ неразговорчивый. Может быть, потому, что из-за шума сварки не слышат, что им говорят. Сколько я к ним ни приходил, я слышал от них только одно слово: «Отойди!» Я посмотрел на раму нашей машины, одиноко стоящую на козлах, полюбовался голубым пламенем горелки и пошёл дальше.
Так я обошёл все цеха. Только в обойный не зашёл — там работала Майка. К ней-то надо было зайти в первую очередь — Майка комсорг. Но между нами всё кончено… Однако, когда я проходил мимо обойного цеха (а проходил я несколько раз), Майка увидела меня и сама вышла ко мне. Как ни в чем не бывало. Мы с ней обсудили положение и решили собрать классное собрание. Я был рад, что Майка сама вышла ко мне.
Конечно, между нами всё кончено. Но Майка, по-видимому, этого не знала. То есть не знала, что между нами всё кончено. Действительно, откуда ей это знать? Я ей не говорил, а сама она могла не догадаться.
23
Как у нас уже повелось, мы собрались на пустыре. Пришли директор автобазы, главный инженер, начальник моторного цеха, наш бригадир Дмитрий Александрович, похожий на испанца, и ещё два бригадира: из обойного и столярного цехов. Получилось прямо-таки торжественное заседание.
Главный инженер сказал:
— Ваша инициатива похвальна. Восстанавливая машину, вы видите общественно полезные результаты своего труда. Но надо считаться с реальными условиями производства. Восстановление машины не предусмотрено планом. На неё нет ни фонда зарплаты, ни лимита материалов. Об этом надо подумать, это надо обсудить.
Наш бригадир Дмитрий Александрович сказал:
— Ребята хорошие. Выполняют. Но восстанавливают машину в рабочее время, а наряды на эту работу не выписывают. Отражается на зарплате.
Бригадир обойщиков спросил:
— Откуда материал брать?
Директор заметил:
— Кроили бы с умом, выкроили бы.
— Норма в обрез, Владимир Георгиевич, — ответил бригадир.
Начальник моторного цеха, самоуверенный молодой человек в пенсне, сказал:
— Возможно, парусину и можно выкроить. А как поршневую группу? По существу говоря, новый мотор собираем.
Директор, глядя себе под ноги, ровным голосом проговорил:
— Формалисты вы! Брак выпускать умеете, болтаться без дела умеете, а где взять четыре доски, не знаете.
Из этого мы поняли, что бригадиры хотят, чтобы директор признал восстановление нашей машины делом официальным, отпускал бы на неё материалы и платил бы за неё зарплату. А директор, наоборот, хочет, чтобы это всё совершалось в неофициальном порядке, чтобы цеха помогали нам своими силами, из внутренних ресурсов. Мы очутились между двух огней.
— Сознательности мало, — продолжал директор, — послушаем, что практиканты скажут!
Что мы могли сказать? Если они не знают, как выйти из положения, то мы и подавно…
Тут, конечно, Игорь открывает рот:
— Владимир Георгиевич, что мы можем сказать? Если товарищи из цехов не хотят нам помогать, то ничего из этого не выйдет.
Это значило, что у Игоря пропала охота восстанавливать машину. Так с ним всегда. Выдвинет идею, нашумит, «нафигурирует», а потом остывает, даже падает духом.
— Класс был полон энтузиазма, — продолжал Игорь, — но обстоятельства выше нас! Обстоятельства вынуждают нас прекратить работу.
Майка насмешливо бросила:
— Не надо было браться за оружие!
Игорь обиженно надул губы:
— Пожалуйста, не показывай свою образованность. Я тоже знаю, кто такой Плеханов. Но Плеханов в данном случае совсем ни при чём.
— Очень даже при чём, — ответила Майка, — а ты типичный оппортунист и соглашатель!
Все в один голос закричали, что Игорь, безусловно, типичный оппортунист и соглашатель!
И я тоже закричал.
Отказываться от восстановления машины значило бы покрыть себя позором.
— Ты давно гнёшь эту линию — прекратить! — сказала Майка. — Но если мы взялись, то должны довести дело до конца. Стыд и позор! Комсомольцы так не поступают! Комсомольцы преодолевают большие трудности! На целине.
Игорь опять усмехнулся:
— Произносить красивые слова мы всё умеем. Но как преодолеть трудности?
Тогда я сказал:
— Единственная наша трудность — это ты. Твоя неустойчивость плюс бюрократизм.
Тут все закричали, чтобы мы перестали препираться. Нужно не препираться, а искать выход из положения.
Тогда я сказал:
— У меня есть предложение!
— Знаем мы твоё предложение, — проворчал Игорь.
— Ты знаешь, а другие но знают, — ответил я, — а предложение у меня такое: давайте закончим машину после работы. Неужели мы не можем десять дней поработать по два лишних часа?
— Конечно, можем! — подтвердил Полекутин.
— Безусловно, можем! — заявили Гринько, Мишка Таранов и другие ребята, у которых были технические наклонности.
— Пожалуй, можно, — неуверенно проговорили ребята с меньшими техническими наклонностями.
— Мы будем оставаться, но ненадолго, — сказали девочки.
Директор повернулся к бригадирам:
— И вам не стыдно? Школьники согласны работать в общественном порядке, а мы, шефы, не хотим им помочь. Ваши дети будут обучаться на этой машине. Плохие вы родители.
Тогда наш бригадир Дмитрий Александрович заявил:
— Если ребята будут делать машину в нерабочее время, мы им поможем. Но как быть с материалом?
Начальник моторного цеха сказал:
— Поскольку вопрос упрощается, то есть ребята будут работать сверхурочно, а рабочие в общественном порядке им помогут, то мы, начальники цехов, изыщем некоторые материалы из внутренних ресурсов. Но как быть с дефицитом?
Дефицит — это части, которые трудно достать. Ими распоряжается сам директор автобазы.
— Ну что ж, — вздохнул директор и посмотрел на небо, — если ребята будут работать сверхурочно, если рабочие будут помогать им в общественном порядке, если начальники цехов изыщут внутренние ресурсы, то дефицит мы отпустим. В порядке шефской помощи школе. Главное, чтобы это мероприятие в основе носило общественный характер.
— Я думаю, двух часов в день будет достаточно, — сказал главный инженер, — по возрасту ребята могут работать по шесть часов, а они работают всего четыре. Так что это будет и законно и педагогично.
— Дело не в часах, а в том, чтобы была общественная основа, — повторил директор.
Основу, в сущности, предложил не кто иной, как я. Но я не стал об этом думать… Понимал, что во мне говорит пустое тщеславие.
24
Сегодня воскресенье!
Последние два воскресенья прошли бездарно. Даже не помню как. Но это воскресенье мы решили провести с толком. Мы — это я и Шмаков Пётр. Поедем в Химки на пляж. Я возьму с собой ласты и маску. Надо же что-то с ними делать.
Позвонил Вадим. Услыхав, что мы едем в Химки, закричал, что едет с нами.
— Но мы уже готовы, — предупредил я.
— Я тоже готов, — ответил Вадим. — На чём поедем? На метро? Потихоньку идите, я вас встречу.
Мы со Шмаковым дошли до дома, где жил Вадим, и увидели Игоря. Он возился с «Москвичом» своего брата. Машина стояла у тротуара. Игорь никак не мог завести её.
— Не гоняй стартёр, — сказал я ему, — посадишь аккумулятор.
Игорь протянул нам заводную ручку:
— Покрутите.
Мы со Шмаковым начали по очереди крутить. Мотор проворачивался, как шарманка, но не заводился.
— Надо проверить зажигание и питание, — сказал я.
Игорь вылез из машины и в нерешительности встал у открытого капота. Честное слово, он не знает, как проверить зажигание и питание. Даю голову на отсечение!
— Проверяй! — сказал я.
Игорь нерешительно тронул свечу, потом другую и растерянно посмотрел на нас.
Я никогда не имел дело с «Москвичом». И у меня нет технических наклонностей. Но «Москвич» это или не «Москвич» — принцип у всех одинаковый. Сначала надо проверить, есть ли искра, потом — поступает ли бензин в карбюратор.
— Проверим искру, — сказал я Шмакову Петру.
Я вытащил из трамблёра проводок, Пётр провернул мотор за ручку, из проводка на массу проскочила сильная голубая искра.
— Зажигание в порядке!
Я воткнул проводок обратно и на всякий случай воткнул туда ещё спичку, чтобы контакт был плотнее. Так мы делаем в гараже.
— Теперь проверим питание. Игорь, дай ключ!
И что же Игорь мне даёт? Заводной ключ! Ни черта не понимает!
— Ты что мне даёшь?! — заорал я. — Что ты мне даёшь, я спрашиваю? Гаечный давай!
Я нисколько не сердился. Только делал вид. Чтобы как следует погонять Игоря.
Игорь порылся в сумке и протянул мне гаечный ключ. Я отвернул бензопровод. Бензин из трубки не шёл. Ясно, засорён бензопровод. Мы его продули — бензин пошёл. Мы со Шмаковым Петром, улыбаясь, смотрели друг на друга. Нашли неисправность!.. А это не так просто. Опытный шофёр и тот иной раз день провозится, пока найдёт неисправность. А мы нашли почти сразу. Приятно всё-таки…
Появился Вадим. Его счастье, что мы задержались с «Москвичом», иначе бы ни за что не ждали.
Игорь сел в машину и начал газовать. Хотел убедиться, что всё в порядке.
Потом голосом человека, который даже не прочь вас подвезти, если ему по дороге, спросил:
— Вы куда?
— На метро.
— Садитесь.
Мы сели и поехали. Игорь совсем очухался, то есть принял свой обычный самоуверенный вид. Глядя на него, нельзя было поверить, что за минуту до этого мы со Шмаковым гоняли его, как мышонка. Он сидел развалясь, правил одной рукой. В общем, задавался.
— В какие края? — покровительственно спросил он.
— На пляж, в Химки.
— Нашли куда ехать! — засмеялся Игорь. — Толкучка! Я еду в Серебряный бор. Пляж — мечта! У меня там встреча с друзьями.
Вадим вздохнул:
— Тебе хорошо — у тебя машина.
В голосе Вадима слышалась просьба взять и нас с собой. Игорь сделал вид, что не понял.
Чего не сумел добиться Вадим, сразу добился Шмаков Пётр. Что значит практическая смётка! Шмаков Пётр иногда просто меня поражает.
— Не доедешь, — равнодушно проговорил Шмаков.
— Почему?
— Бензопровод засорится.
— Ты думаешь? — встревоженно спросил Игорь и по ехал медленнее.
Я сразу понял тактику Шмакова Петра и подхватил:
— Конечно. В баке мусор. Где гарантия, что опять не забьётся?
Игорь ничего не ответил. Молча ехал до самого метро. С одной стороны, ему не хотелось брать нас с собой. С другой стороны, боялся ехать один. Вдруг что в дороге случится? Что он будет делать без нас? То, что делают все неумёхи. Останавливают проходящую машину и просят шофёра помочь.
Мы доехали до метро. Игорь нерешительно сказал:
— Между прочим, нам ещё немного по дороге.
— Очень интересно! — возразил я и приоткрыл дверцу, собираясь вылезти из машины. — На метро мы через десять минут будем на «Соколе». Охота нам на твоём драндулете тащиться!
— Но зачем вам ехать именно в Химки, — в отчаянии проговорил Игорь, — поедем лучше в Серебряный бор.
— Не знаю, — безразличным голосом протянул я, — как ребята.
— Можно, пожалуй, — сказал Шмаков. — Как, Вадим?
— Что ж, поедем, — согласился Вадим.
Мы поехали в Серебряный бор.
Здорово мы разыграли этот спектакль!
25
Пляж в Серебряном бору замечательный! Народу, правда, много, машин полно, но никакого сравнения с Химками. Простор! Красота!
Мы медленно ехали по взгорью. Пляж был усеян людьми. Игорь внимательно всматривался в машины и затормозил, увидев внизу «Победу». Возле неё, уткнувшись в песок, лежал черноволосый человек в белых плавках.
— Николай! — крикнул Игорь.
Человек поднял курчавую голову, лениво махнул Игорю рукой и снова уткнулся в песок.
Мы посоветовали Игорю не спускаться на пляж, оставить машину наверху. Снизу она будет хорошо видна. Но Игорь нас не послушался. Мы проехали дальше, нашли спуск и съехали. Игорь остановил машину:
— Занимайте место, я сейчас вернусь. Доеду до своих знакомых и вернусь.
Мы отлично понимали, почему Игорь оставляет нас здесь. Не хочет знакомить со своими приятелями. Вернее, не хочет их знакомить с нами. Нам, конечно, на это наплевать, мы отлично обойдёмся и без Игоря. Но на чём мы уедем отсюда?
— А на чём мы уедем отсюда? — спросили мы.
— Вот чудаки, — засмеялся Игорь, — я сейчас вернусь!
— Не вернёшься, — сказал Вадим. Он хорошо знал Игоря, сколько лет был его адъютантом.
— Честное благородное слово! — поклялся Игорь.
— Если смотаешься, мы тебе таких навешаем, что будешь помнить! — пригрозил я.
Игорь обиженно надул губы:
— Пожалуйста, без угроз. Какое свинство! А будете угрожать, сейчас уеду!
— Попробуй только! — сказал Шмаков Пётр.
— Какая вам разница, где купаться?! — раздражённо спросил Игорь.
— Очень большая! — ответил Вадим. — В машине мы можем раздеться и будем спокойны за своё барахло. А здесь его могут спереть.
— Кому оно нужно, твоё барахло! — возразил Игорь.
Мне надоело с ним препираться.
— Ладно, отчаливай! Но если уедешь — берегись!
Мы с презрением посмотрели ему вслед и стали отыскивать место, где нам расположиться. Там, где Игорь высадил нас, было плохо. Рядом съезд, ходят машины, тут же продуктовая палатка, снуют люди, валяются консервные банки. Беспокойное место!
Мы пошли по пляжу в ту сторону, куда поехал Игорь. Не будем же мы уходить в другую сторону. Игорь побоится уехать без нас, но упускать его из виду тоже не следует.
Мы нашли хорошее местечко метрах в пятидесяти от «Победы». Рядом с ней стоял «Москвич» Игоря. Сам Игорь, присев на корточки, разговаривал с лежащим на песке Николаем. Потом разделся, сложил одежду в машину, стал по стойке «смирно!», развёл руки и сделал несколько глубоких вдохов и выдохов. Очищал лёгкие от московского воздуха и набирал подмосковный.
Потом он что-то сказал Николаю и пошёл к нам. Увидев нас, сделал радостные глаза, будто только встретился с нами.
— Устроились? Прекрасно! — Он сел рядом. — Будем загорать.
— Пошли купаться, — предложил Вадим.
— Я немного поваляюсь, — сказал Игорь и лёг на спину.
Мы бросились в воду. Река здесь широка, но мелковата, почти по колено. Только в середине чуть поглубже, затем опять мелко до противоположного берега.
В этом году я купался впервые. Каждый раз, когда я залезаю в воду, я решаю купаться ежедневно. Разве это так трудно? Некоторые купаются в любую погоду, даже зимой. Но я не выполняю этого решения. Сам не знаю почему. То лень, то некогда. Но теперь всё! Теперь я твёрдо решил: буду после работы ездить на пляж или в бассейн…
— Почему ты ласты не надел? — спросил Вадим.
Я и забыл про них. Даже не вынул из машины. Там они и лежат.
— В машине забыл, — ответил я, — а твои где?
Вадим засмеялся:
— Вспомнил! Обменял давным-давно.
— На что?
— На одну вещь, — загадочно ответил Вадим.
Он не любил рассказывать про свои обменные операции: прогорал на них и боялся наших насмешек.
Мы ещё немного поплескались и вылезли на берег. Игорь, конечно, смотался к своим друзьям. Сидел там в компании парня в трусах и девицы в красной резиновой шапочке. Я сразу их узнал. Они приезжали к Игорю на этой самой «Победе». Сейчас они сидели, разговаривали. Только Николай по-прежнему лежал ничком.
Если бы на пляже оказались мои знакомые, я мог бы пойти и посидеть с ними. В этом не было бы ничего оскорбительного ни для Вадима, ни для Шмакова Петра. И, если бы здесь нашлись знакомые Вадима или Шмакова, они тоже могли бы пойти и посидеть с ними. Никто бы из нас не навязывался, не лез бы знакомиться, никак бы не реагировал на это… А в поступке Игоря было что-то подлое. Он, как всегда, старался отделаться от нас.
— Тащи ласты, попробуем, — сказал Вадим.
— Не пойду я туда, ну их к чёрту!
— Ласты-то твои, — сказал Шмаков Пётр.
— Разрешаю тебе их взять.
— Сам боишься?
— Не боюсь, а не пойду. Подумают, навязываюсь.
— Из ложного самолюбия мы должны лишать себя удовольствия? — возмутился Вадим. — Пошли все!
Мы подошли. Игорь с беспокойством уставился на нас. Парень и девица тоже воззрились выжидательно. Только Николай продолжал лежать ничком. Такого волосатого человека я ещё в жизни не видал ни на одном пляже. Даже на лопатках у него курчавилась чёрная борода.
— Ласты возьмём, — сказал я Игорю.
— Бери, — ответил Игорь, обрадовавшись тому, что мы пришли только за ластами. Потом повернулся к своим знакомым и извиняющимся голосом добавил: — Это мальчики из нашего дома, я их привёз. Показываю мир божий.
— Игорь — друг детей, — насмешливо провозгласил парень, рыжеватый, длинноносый, с жестковатым и сильным взглядом.
Несмотря на двусмысленность этой фразы, я уловил в ней насмешку не над нами, а над Игорем.
Я открыл машину, взял ласты и маску. Девица протянула руку:
— Покажи.
Николай чуть повернул голову, искоса посмотрел на нас и снова уткнулся в сложенные руки. Я заметил его чёрные глаза и чёрные усики. Девица повертела в руках ласты и спросила:
— Можно в них поплавать?
— Пожалуйста, — сказал я.
Все пошли в воду. Кроме Николая. Николай не шелохнулся.
Мы зашли на глубокое место. Девушка, её звали почему-то Ёлка, с помощью Игоря и рыжеватого парня надела ласты. Парня звали ещё более странным именем — Люся! Мужчина — и вдруг Люся.
Ёлка натянула маску, повертела головой, показала нам язык и нырнула. В воздухе мелькнули удлинённые ластами ноги. Она вынырнула метрах в десяти от нас, стащила с головы маску и объявила:
— Ничего не видно.
— Не надо глаза закрывать, — сказал Люся, — не надо жмуриться. Давай сюда.
После Люси нырнул я, потом Игорь, за Игорем Вадим. Последним нырнул Шмаков Пётр. Но выплыл он почему-то без маски. Держал маску в руке.
Толку в ластах и в маске немного. Короткое время видишь дно и чужие ноги. Может быть, на море они и хороши, но на Москве-реке…
Ёлка и Люся оказались неплохими ребятами. Они были даже простые ребята. Особенно понравилось нам то, что они относились к Игорю без уважения, не принимали его всерьёз. Скажет Игорь что-нибудь, а Люся обязательно ответит: «Ну да?» — с сомнением в голосе. Как говорят с человеком, которому не верят ни на грош.
А Игорь, наоборот, говорил с излишней убедительностью. Как человек, привыкший к тому, что ему не верят ни на грош.
Мы вылезли на берег. Они пошли к своим машинам, мы к своей одежде.
Мы лежали, загорали и говорили об Игоре. Осуждали его прихлебательскую роль. Хорошо, что мы не прихлебатели, никогда ими не были и никогда не будем.
Чувствовали мы себя прекрасно. Солнце пекло вовсю. Ожогов мы не боялись. У Вадима была специальная мазь против ожогов. Мы со Шмаковым выжали на себя весь тюбик, Шмаков даже пятки смазал.
Потом Игорь замахал нам руками. Николай и Люся одевались. Ёлки не было видно, наверно, тоже одевалась в машине. Игорь натягивал на себя штаны. Они уезжают…
Мы оделись и подошли к ним. Николай и Люся садились в машину. Ёлка уже сидела за рулём.
Игорь просительным голосом сказал:
— Я только довезу ребят до метро и сейчас же приеду.
— Ладно, — проговорил Люся.
— Только не уходите без меня.
— Ладно, — небрежно повторил Люся, — поехали, Нико!
Они сели в машину. Хлопнули дверцы. Зарычал мотор. Машина тронулась с места, сделала крутой поворот и поехала по пляжу.
Мы проводили её автоматическим взглядом, каким смотрят вслед всякой уходящей машине. Потом взгляд мой упал на песок… Я вытаращил глаза.
На песке чётко отпечатались резкие, глубокие и широкие следы, как будто здесь прошла не «Победа», а «ГАЗ—69». Точно такие же следы, как там, на дороге к карьеру.
Я потянулся взглядом за этими следами и на том месте, где машина круто повернула, увидел рядом со следами вездехода следы «Победы». Потом там, где машина пошла прямо, следы «Победы» исчезли и остались только следы вездехода…
— Крош, поехали, я опаздываю, — нетерпеливо сказал Игорь, снова обретая свой командирский тон.
Мне было стыдно смотреть на Игоря. Не поворачиваясь, я сказал:
— Какие странные покрышки на этой машине…
— Ничего странного! — ответил Игорь. — У неё покрышки с вездехода, для лучшей проходимости.
С замирающим сердцем я спросил:
— На всех четырёх колёсах?
— Нет! — нетерпеливо ответил Игорь. — Только на задних. На передних у неё обычная резина. Ну хватит, поехали!
26
Мы думали, что после собрания восстановление нашей машины пойдёт медленнее. Ведь раньше мы её делали в течение рабочего дня, а теперь только два часа после работы. Получилось наоборот — гораздо быстрее. Рабочие стали больше помогать. Некоторые так загорелись, что оттирали наших ребят и все делали сами. Это вызывало наше законное недовольство. Ведь восстанавливаем машину мы!
— Видишь ли, университант-эмансипе, — сказал мне бригадир Дмитрий Александрович, — раньше положение было неопределённое. Бригада не знала, на каких условиях восстанавливается машина. А теперь знает: на общественных. И каждый хочет способствовать общему делу.
Если пренебречь обращением «университант-эмансипе», то мысль Дмитрия Александровича показалась мне очень разумной. Даже глубокой. Во всём должна быть полная определённость.
Наконец мы поставили во дворе раму и начали сборку. Началась сборка — дело идёт к концу. Дело идёт к концу — все работают быстрее. Приятно видеть, как голая рама превращается в автомобиль.
Вокруг нашей машины толкались люди. Возле других машин никто не толкался, а возле нашей машины толкались все. Даже директор. Честное слово! И, если случался затор, не хватало чего-либо, он говорил: «Сходите на склад, принесите. Скажите — я велел». Дело шло без бюрократизма и бумажной волокиты.
Я думаю, это происходило оттого, что директору было приятнее сидеть во дворе, на солнышке, чем в прокуренном кабинете. Но просто сидеть во дворе неудобно. А сидеть возле нашей машины удобно — она общественная.
А рабочим приятно порассуждать. Когда они ремонтируют другие машины, рассуждать некогда, надо норму выполнять. А наша машина общественная, можно и порассуждать. И ещё рабочим было приятно, что они могут поспорить с самим директором. В цехе спорить нечего, надо делать, что приказывают. А наша машина общественная, можно и поспорить. Тем более мы её оборудовали как учебную, поставили добавочное управление для инструктора. Чтобы инструктор мог исправить ошибку ученика и предотвратить несчастный случай.
Во время обеденного перерыва рабочие сидели со своим молоком и полбатонами вокруг нашей машины и советовали, как что делать, вносили всякие предложения. Тут же стояли свободные от смены шофёры, вспоминали, как они учились на учебных машинах, и говорили, как лучше сделать нашу. И тоже спорили с директором. И когда директор отстаивал своё мнение, то ссылался не на то, что он директор, а на то, что раньше тоже был шофёром. В общем, вокруг нашей машины установилась свободная, приятная атмосфера. В этой атмосфере всем нравилось работать. Даже служащие, выходя во двор, смотрели, как мы работаем, слушали рассуждения и споры рабочих, удивлялись тому, что мы, школьники, восстанавливаем настоящую машину.
Главный бухгалтер, довольно мрачный человек, сказал:
— Приятно посмотреть.
Это он сказал, по-видимому, в том смысле, что приятно смотреть, когда машину восстанавливают бесплатно. А может быть, в каком-нибудь другом смысле. Я его не расспрашивал.
Все ребята честно отрабатывали свои два часа. Некоторые оставались и дольше. Например, Полекутин, Гринько и другие ребята с техническими наклонностями. Ну и, конечно, мы со Шмаковым. Поскольку мы были первыми помощниками Зуева. Игорь тоже толкался возле машины. Даже шумел больше других. Увидел, что дело пошло на лад. Но ничего, кроме своей папки, в руках не держал.
Дело с амортизаторами стало мне теперь совершенно ясным. Как я сразу не сообразил? К пустырю подъезжала «Победа», но с покрышками от «ГАЗ—69» на задних колёсах. Задние колёса, идя по колее передних, уничтожали их след. А на поворотах, где колеи не совпадают, виднелись и те и другие следы. И это была машина приятелей Игоря.
Я смотрел на Игоря и думал: неужели он участвовал в таком деле?! Даже сейчас я не мог этому поверить. Как же он решился на преступление?.. И Люся, Ёлка, Николай, неужели они преступники? Ведь они плавали и смеялись вместе с нами.
У меня лопалась голова от этих мыслей. В моём представлении преступник был совершенно особенный человек. Даже не человек, а что-то такое, стоящее вне всего. Мне всегда казалось странным, что преступники одеваются, как все люди, некоторые даже франтовато — ведь это проявление человеческих чувств, а всё человеческое им чуждо, непонятно, враждебно. Я не понимал, зачем преступники ходят в кино, ведь там показывают нормальных людей, нормальные человеческие чувства. Я не понимал, почему они слушают музыку, поют песни, даже читают книги, ведь книги учат добру и осуждают зло. Преступник — это антипод человека, и все его поступки, похожие на человеческие, казались мне противоестественными.
Я читал и слышал о преступных детях всяких там хороших и даже заслуженных родителей. Но все это было далёкое, отвлечённое… Я не мог предполагать, что они так похожи на обыкновенных нормальных людей. Игорь, которого я знаю столько лет, Игорь, мои товарищ, — преступник! Эти славные ребята: Люся, Ёлка, флегматичный Николай — тоже преступники…
Тогда, на пляже, я думал, что Вадим и Шмаков не догадались, ведь я один рассматривал следы на песке. Но в вестибюле метро, потихоньку от Вадима, Шмаков мне сказал:
— Машина та самая.
А когда мы спускались по эскалатору, Вадим наклонился ко мне и прошептал:
— Машинка та!
Всю дорогу то Вадим, то Шмаков говорили мне об этой машине. Вадим — улучив момент, когда не слышит Шмаков, Шмаков — когда не слышит Вадим. Чтобы положить конец этой неопределённости, я сказал Вадиму:
— Надо всё рассказать Шмакову Петру.
— Зачем?
— Парень — могила!
Таким образом, Вадим так и не узнал, что я всё уже давным-давно рассказал Шмакову.
Весь тот вечер мы ходили по нашей улице, даже шагов не мерили.
Все расстояния у нас точно вымерены в шагах. Чтобы никому не было обидно, когда мы провожаем друг друга. Если мы с Вадимом идём из школы мимо нашего дома, я обязан проводить его ещё сорок шагов. Если мы идём мимо его дома, он обязан проводить меня ещё шестьдесят.
Но в тот воскресный вечер нам было не до шагов…
— Как хотите, — сказал я, — я не могу поверить, что Игорь вор. Может быть, он просто влип в историю. Мы должны с ним поговорить.
Вадим возразил:
— Нечего с ним говорить. Поставим вопрос на классном собрании.
Я сказал:
— Вспомни, Вадим, ведь вы были товарищи.
— А он поступил как товарищ?! — закричал Вадим. — Хотел всё свалить на меня!
Вадим был добрый парень. Но сейчас он из себя выходил, вспоминая, как подло вёл себя Игорь в истории с запчастями. Вадим часто и незаслуженно бывал у нас в классе козлом отпущения. И, вспоминая теперь о несправедливостях, выпадавших на его долю, кипел от негодования.
Я заметил:
— Надо быть выше!
— Выше чего?
— Выше собственной обиды!
Шмаков Пётр проворчал:
— Скажем Игорю, а они заметут следы. Останемся в дураках. Надо сообщить куда следует.
Я решительно сказал:
— За глаза? Ни за что!
Так мы тогда ни до чего не договорились. То есть мы договорились о том, что ничего не будем делать, пока не договоримся окончательно. И будем хранить тайну.
27
Я не люблю тайн. Другие ребята любят, а я не люблю. Даже не люблю книг с таинственным сюжетом: всё равно в конце всё раскрывается. И обычно сразу смотрю в последние страницы. Читать после этого становится неинтересно.
Книги ещё туда-сюда. А вот таскать в себе всякие тайны — терпеть не могу. Это придаёт человеку оттенок скрытности, неискренности. Например, я иду с Майкой по улице, мы с ней откровенно обо всём разговариваем, и вместе с тем я от неё что-то скрываю. Неудобно и не приятно. Тем более, что Майка комсорг. Скрывать от неё такое дело вообще неправильно.
Когда я иду с Майкой по улице, улица другая, не такая, как обычно. Может быть, оттого, что мы с Майкой ходим по улице только в хорошую погоду, а в плохую сидим дома. Возможно, потому, что все смотрят на Майку, какая она красивая, а заодно смотрят на меня… Мы оказываемся в центре внимания, и я чувствую свою особенную ответственность: на улице хватает и нахалов и грубиянов, которым ничего не стоит толкнуть человека и даже не извиниться… Не знаю… Факт остаётся фактом. Когда я иду с Майкой, улица солнечнее, люди приветливее, всё как-то веселее и смешнее. Тем более, что на улице мы играем в одну игру: разбираем всякие нелепые названия. Например, магазин: «Культтовары». Что это значит? Культурные товары? Выходит, в других магазинах товары некультурные? И могут ли товары, сами по себе, быть культурными или некультурными?.. Или вот ещё: «Инпошив». Я всегда думал, что приставка «ин» от слова «инвалид» — артель инвалидов шьёт платья. Оказывается, ничего подобного. Приставка «ин» от слова «индивидуальный». Довольно нелепо.
Мы шли к Наталье Павловне, нас послал к ней главный инженер. Практика кончалась, и он просил её зайти на автобазу «обсудить вопросы». Какие вопросы, он не сказал. Майка вызвалась передать его просьбу Наталье Павловне. Я вызвался проводить Майку.
Наталья Павловна жила в конце нашей улицы, а наша улица одна из самых длинных в Москве, а может быть, и самая длинная. Специальный автобус ходит по ней из конца в конец, от станции метро до новой заставы.
Как и мы, Наталья Павловна жила в новом доме. Но мы переехали сюда из разных районов Москвы, а Наталья Павловна жила здесь и раньше, в деревне, которая была на этом месте.
И преподавала в школе, вместо которой теперь построена наша школа.
Майке всё это казалось очень значительным. То есть то, что нет больше деревни, где жила Наталья Павловна, нет её дома, нет её школы, а сама Наталья Павловна есть, живёт здесь и по-прежнему преподаёт. Только живёт в новом доме и преподаёт в новой школе.
— Ничего уже нет, а человек остался. Согласись, в этом что-то есть, — говорила Майка.
По правде сказать, ничего особенного я в этом не видел. Старые дома и старую школу снесли по плану. Вместо них построили новые. Ясно, что люди остались. Куда они могли деться? Но Майка в самых, казалось бы, незначительных вещах всегда находила глубокий смысл. А я не люблю философии — у меня от неё голова болит. А Майка пусть философствует, я ей не мешаю. Я промычал в ответ что-то одобрительное.
— Представь, — продолжала Майка, — что через много-много лет этого не будет, — она обвела рукой улицу, — а будет что-то другое. Придут новые люди. И только мы сохранимся от тех далёких времён.
Я удивился:
— Что здесь может быть другое?
— Я к примеру говорю. Допустим, новые дома.
— Эти дома ещё очень долго простоят, — возразил я.
— Я понимаю… Но тем удивительнее жизнь Натальи Павловны, на глазах которой произошла такая разительная перемена.
— При ней были деревянные дома, — сказал я, — не дома, а избы… Снести их ничего не стоило. А разве такие громадные каменные дома будут сносить?
Майка сказала:
— Меня интересует философская сторона вопроса.
Я согласился, что с философской стороны это правильно. Но так как я не хотел больше философии, у меня от неё уже начинала болеть голова, я сказал:
— Метро будут тянуть до Бурцева.
Бурцево — в прошлом подмосковное село, а теперь большой промышленный город. Я читал в газете, что метро сначала дотянут до конца нашей улицы, а потом и до Бурцева. В результате Бурцево сольётся с Москвой.
— Это будет здорово! — сказала Майка.
Мне нравилось, что Майка реагирует на всё новое. Другие девчонки не реагируют, а она реагирует. Я тоже реагирую. Мне приятно, когда что-нибудь строят. Не знаю почему, но приятно. Новый дом, новый магазин, новая мостовая, деревья, новая станция метро, новая автобусная линия. В этом новом доме буду жить не я. Может быть, я ничего не куплю в этом новом магазине. Но то, что они новые, что раньше их не было, а теперь есть, доставляет мне удовольствие. И Майке тоже. А то, что она немного пофилософствует, ничему, в сущности, не мешает.
Наталья Павловна сидела за столом и правила тетради. Она преподаёт литературу в вечерней школе рабочей молодёжи.
Майка бывала у Натальи Павловны и раньше. А я не бывал. Как-то не приходилось. Но я бывал дома у других учителей. И сейчас, у Натальи Павловны, я почувствовал то же самое, что чувствовал у них. Дома учитель выглядит совсем по-другому, похож не на учителя, а на самого обыкновенного человека. Даже как-то странно видеть его в домашней обстановке, в окружении таких будничных предметов: буфет, комод, большой стол посередине, гнутые стулья, старенький диван…
Странно и немного грустно. Может быть, потому, что эти вещи такие же старенькие, как и сама Наталья Павловна. В наших домах жильцы, въезжая, стараются привозить новую мебель. А у Натальи Павловны вещи старые, старомодные, наверно, те самые, что были у неё раньше, когда здесь была деревня.
Мы рассказали Наталье Павловне, какое горячее участие принимают все в восстановлении нашей машины. Наталья Павловна очень этому обрадовалась и стала угощать нас чаем. И, когда я пил чай с конфетами «Сливочная коровка», которые я люблю больше любых других, самых шоколадных конфет, всё здесь показалось мне гораздо уютнее, чем в первую минуту. Всё у Натальи Павловны было под рукой, никуда она не уходила. Нам с Майкой захотелось есть, и мы съели почти целую коробку овсяного печенья. Я его, между прочим, тоже очень люблю.
— Серёжа, что за заявление ты подал директору? — спросила Наталья Павловна.
Я рассказал. Майка с удивлением смотрела на меня. Она ничего про это не знала. Ей понравилось, что я добивался справедливости.
— Да, Зуев, — вздохнула Наталья Павловна, — он ведь у меня учился.
Мы понимали, что Зуев когда-то был школьником, но представить себе это было очень трудно. Такой пожилой, небритый человек учился у той же Натальи Павловны, у которой теперь учимся мы.
— У него погибла семья, — печально проговорила Наталья Павловна. — После войны. Подорвались в поле на немецкой мине. Два мальчика. Жена его тогда тяжело заболела и до сих пор в больнице.
И потому, как Наталья Павловна сказала это, мы поняли, что жена Зуева находится в психиатрической больнице. Меня только удивляет, почему люди стесняются говорить об этом прямо. Ведь ничего позорного в этом нет.
— Он очень хороший мастер, — сказал я.
— Да, — подтвердила Наталья Павловна, — Сергей Сергеич уходит на пенсию, и на его место, по-видимому, пригласят Зуева.
Сергей Сергеич заведовал школьными мастерскими. Я очень обрадовался тому, что Зуев будет работать в нашей школе. Самое главное — у него есть подход к ребятам.
— Его рекомендовал директор автобазы, — сказала Наталья Павловна.
После того, что Наталья Павловна рассказала о Зуеве, мне стало ещё обиднее за него, и я заметил:
— Сначала выговор объявляют, потом рекомендуют.
Наталья Павловна сказала:
— Игорь — вот кто меня беспокоит больше всего!
Я вытаращил глаза: неужели Наталье Павловне всё известно? Откуда?!
— Ничего ему не дала практика, — грустно продолжала Наталья Павловна, — в цех надо было идти. Из всех работ на автобазе ему досталась именно та, которая ему не должна была достаться. Я проглядела. Но и класс виноват. Не работает коллектив с Игорем. Не воспитывает.
Вот это здорово! Выходит, мы же виноваты! Плохо воспитывали… Попробуй воспитай его!
Майка сказала:
— Коллектив коллективом, а каждый тоже должен отвечать за себя.
Они заговорили о воспитательной силе коллектива. Наталья Павловна приводила всякие примеры. Примеры сами по себе довольно убедительные. Но, как только я мысленно применял их к Игорю, они сразу становились неубедительными. Но я молчал. Если я заспорю об Игоре, то могу случайно проговориться и разгласить тайну. А ведь я обещал её хранить.
28
Я бы, конечно, сохранил эту тайну, хотя и не люблю тайн. Но, когда мы возвращались от Натальи Павловны, Майка сама навела меня на этот разговор. Она сказала, что на автобазе мы узнали друг друга больше, чем в школе. И это, мол, доказывает, что по-настоящему характер человека раскрывается в столкновении с реальной жизнью.
Это правильная мысль, но общая. В школе мы тоже хорошо знали друг друга. Просто на производстве характер каждого выявился с большей определённостью.
— Взять того же Игоря, — сказал я, — разве мы не знали, какой он есть?
— Как он себя показал с восстановлением машины! — заметила Майка.
Не желая разглашать тайну, я только сдержанно добавил:
— Не только с этим.
— Да, — согласилась Майка, — и тогда, с частями у Вадима.
— Не только с частями у Вадима, — сдерживаясь изо всех сил, сказал я.
— Вообще всем своим поведением на автобазе, — сказала Майка.
Я промолчал.
Но Майка всегда угадывает, как я молчу: многозначительно или нет. И вопросительно посмотрела на меня. Мне некуда было деваться. И я рассказал Майке историю с амортизаторами. Как комсоргу.
К моему удивлению, мой рассказ не произвёл на неё того впечатления, какое я ожидал.
Она слушала меня несколько недоверчиво, даже чуть иронически. Как слушают подобные вещи девочки, убеждённые, что мальчишки склонны ко всякой таинственности.
На самом деле девочки гораздо больше склонны к таинственности. Но их таинственность распространяется на пустяки. Кто-то в кого-то влюбился… Кто-то кому-то что-то написал… Кто-то с кем-то куда-то пошёл. Но оценить сложное явление, где требуется железная логика, они не могут. Их ум не охватывает такого явления. Чем незначительнее факт, тем значительнее их фантазия. А если факт сам по себе значителен, он не оставляет места для их фантазии.
Всё же Майка сказала:
— Прежде всего надо поговорить с Игорем.
— И я так считаю! — воскликнул я. — Давай сегодня вечером соберёмся у тебя и позовём Игоря.
Вечером мы собрались у Майки.
Шмаков был недоволен тем, что мы решили поговорить с Игорем.
— Он предупредит своих воров, — сказал Шмаков.
— Нельзя в каждом видеть преступника, — заметила Майка.
— Действительно, — подхватил я, — говорим: «Церкви и тюрьмы сровняем с землёй», а в каждом видим преступника.
Явился Игорь, весёлый, насмешливый. Улыбаясь, спросил:
— Что за совет мудрейших и старейших?
Я рассказал ему про амортизаторы. Он засмеялся:
— Почему же вы их не забрали?.. Понятно!.. Хотели выследить вора и проспали. Известные пинкертоны.
— Не смейся, — хладнокровно проговорил я, — на дороге остались следы…
— Индийской кобры?
— Нет. Машины. «Победы»… И у неё очень интересные покрышки: передние с «Победы», задние с «ГАЗ—69».
Мы уставились на Игоря.
Он растерялся под нашими суровыми взглядами и растерянно спросил:
— Что ты хочешь этим сказать?
— А то я хочу этим сказать, — ответил я, — что на машине твоих друзей, этих самых Ёлок, Люсек и Николаев, стоят точно такие же покрышки! Вот что я хочу сказать.
Даже Майка поняла драматичность момента. Убедилась, что это не фантазия, а серьёзное и ответственное дело. И в душе, наверно, восхитилась железной логикой моих вопросов.
— Говори, куда амортизаторы дел?! — грубо потребовал Шмаков.
— Вы что, с ума сошли! — закричал Игорь и вскочил со стула. — Как вы смеете со мной так говорить?!
Его негодование было таким искренним, что мы смутились. А Вадим чуть не плакал. Они с Игорем были когда-то товарищами, и теперь Вадим жалел его до слёз. Только Шмаков не смутился. Презрительно буркнул:
— Не прыгай, стул сломаешь!
На что я Шмакову заметил:
— Нельзя ли без глупых шуток!
— Никто тебя не хочет оскорблять, Игорь, — сказала Майка, — но ты сам понимаешь: надо выяснить!
— Правда, Игорь, — жалобным голосом проговорил Вадим, — ведь лично тебя никто не подозревает.
Игорь немного успокоился, снова сел, закинул ногу на ногу, мрачно произнёс:
— Ни я, ни мои товарищи не брали амортизаторов. Глупо и смешно об этом говорить. И потом: почему следы именно с этой машины? Думаете, мало в Москве машин с разной резиной?
— Всё-таки странное совпадение, — сказала Майка.
— В жизни бывают самые неожиданные совпадения, — изрёк Игорь, снова обретая свой уверенный и насмешливый тон.
— Друзей своих ты зачем на автобазу возил? — спросил вдруг Шмаков Пётр.
Игорь прищурил глаза:
— Когда я их возил?.. Ах да, был такой случай… Я им хотел помочь с ремонтом, познакомил с главным инженером.
— Ну и что?
— Главный инженер отказал.
— Чтобы окончательно с этим покончить, — сказал я, — надо поговорить с твоими приятелями.
Игорь надул губы:
— Пожалуйста! Идите и разговаривайте.
— Ах, так! — сказала Майка. — Значит, ты не хочешь?
— Не хочу.
— Почему?
— Этот разговор меня компрометирует. Я снимаюсь на студии и не желаю, чтобы туда дошла такая чепуха.
— Поставим вопрос на бюро, — сказала Майка.
Игорь молчал.
— Ведь мы у них только спросим насчёт машины, — сказал Вадим, — о тебе даже ни слова…
Игорь угрюмо проговорил:
— Ладно, я им сегодня позвоню.
Если человек ни в чём не виноват, чего ему беспокоиться? Почему Игорь так не хочет нашей встречи со своими друзьями? Чего боится? Ведь он убедил нас, что ни в чём не виноват… Да в этом мы, кроме Шмакова Петра, не сомневались и раньше.
Вот о чём мы думали, когда сидели на школьной площадке и ожидали Игоря и его друзей. Мы не высказывали вслух своих мыслей. Каждый из нас с тревогой задавал себе вопрос: чего боится Игорь? Нам страшно было подумать, что Игорь, наш товарищ, замешан в таком отвратительном деле.
Школьная площадка была пуста. Одиноко высились на её краях щиты с порванными верёвочными корзинками, покосившиеся столбы для волейбольной сетки, низкие, почерневшие длинные скамейки на врытых в землю столбиках; желтел песочек на местах для прыжков; там виднелись даже отпечатки ног, будто кто-то совсем недавно здесь прыгал.
Было уже начало седьмого, когда к школе подъехала знакомая нам «Победа». Из неё вышли Игорь, Люся и Николай. Ёлки не было. Они подошли к нам.
— Вот, — натянуто улыбаясь, сказал Игорь, — эти ребята с автобазы. Я вам говорил. И об амортизаторах тоже говорил. — Он повернулся к нам: — Они уже в курсе дела…
Нам не понравилось, что Игорь им всё рассказал. Кто его просил?
Люся засмеялся:
— На автобазе все такие крошки? Николай, смотри, какие крошки!
Этот насмешливый тон нам тоже не понравился.
— Значит, — продолжал Люся, — вы подозреваете нас в краже каких-то амортизаторов?
— Нет, — возразил я, — никто вас не подозревает. Но амортизаторы вывезены на машине. И на этой машине стояли точно такие же покрышки, как и на вашей.
Люся расхохотался:
— Ах, так! Ты слышишь, Николай?! Но ведь на всех «Победах» одинаковые покрышки.
— Вы рано смеётесь, — сказал я, — на вашей машине сзади стоят покрышки с «ГАЗ—69». И на той машине тоже.
— Николай, ты слышишь? — закричал Люся. — На той машине такие же покрышки.
— А почему вы, собственно говоря, занимаетесь таким следствием? — спросил вдруг Николай.
— Потому, что подозрение пало на нас, на практикантов.
— Вы практиканты? — заинтересованно спросил Люся. — Откуда, из техникума?
— Нет, из школы.
Игорь, красный как рак, перебил меня:
— Дело не в этом…
— Погоди, погоди, — остановил его Люся, — значит, вы практиканты, школьники. Ты слышишь, Николай?! А он? — Люся кивнул на Игоря.
— Он тоже.
Люся покатился с хохоту.
— Николай! Как это тебе нравится? Школьник! Вот комедия! Ай да Игорь, ну и молодец! Николай, как тебе нравится?
Но Николай ничем не показывал, как это ему нравится.
Игорь, не поднимая глаз, с мрачным лицом что-то чертил каблуком на песке.
— Ах, дети, дети, как страшны ваши лета, — насмешливо продолжал Люся. — Оказывается, вы школьники! И Игорь тоже… — Он вдруг нахмурился. — Что же нам с вами делать? А, Николай, что нам с ними делать? Отлупить? Нельзя, малолетние. Уши надрать? Слишком взрослые.
— Отлупить и мы можем, — мрачно проговорил Шмаков.
— А следовало бы, — продолжал Люся, не обращая внимания на Шмакова.
— За что же? — насмешливо спросил я.
Глядя на Игоря, Николай с презрением проговорил:
— «Заместитель начальника технического отдела»! Трепач несчастный!
Мы поняли, в чём дело… И не могли не рассмеяться. Игорь скрывал от своих друзей, что он школьник. Представился заместителем начальника технического отдела. На автобазе и должности такой нет. Ну и Игорь! Теперь понятно, почему он так боялся этой встречи.
Люся насмешливо прищурился:
— Играете во взрослых. Игорь в заместителя начальника, вы в следователей. Сначала Игорь морочил нам голову, теперь вы.
Майка сказала:
— Игорь представился вам крупным деятелем… Глупо! Он любит казаться старше, чем есть на самом деле. Это его недостаток. Но то, о чём мы с вами говорим, очень серьёзно. Жаль, что вы отнеслись к этому так иронически.
Здорово высказалась Майка! Люся с Николаем присмирели. Я немедленно этим воспользовался:
— У нас только один вопрос: была ваша машина ночью на пустыре или нет?
— Что за пустырь?
— За автобазой.
— Нет, — сказал Люся, — мы подъезжали к вашей автобазе только днём. Игорь обещал устроить ремонт машины, ведь он «заместитель начальника технического отдела»… Из этого, конечно, ничего не вышло.
— Вы так её и не отремонтировали? — спросил Вадим.
— Отремонтировали. Частным образом, — ответил Люся. — Но амортизаторов мы не меняли. Всё? Мы свободны?
Он как-то сразу переходил от насмешливого тона к серьёзному и наоборот. И ещё любил повторять: «Ты слышишь, Николай?» Хотя Николай всё отлично слышал. Он был не глухой.
Игорь поднял голову и ленивым голосом сказал:
— Ладно! Я действительно натрепался насчёт технического отдела. Зачем? Просто так, для смеха. Захотелось, и потрепался. Надеюсь, никому это не повредило?
— Инцидент исчерпан! — Люся встал. — Поехали, Николай!
Шмаков Пётр вдруг спросил:
— А кто из рабочих ремонтировал вашу машину?
Люся пожал плечами:
— Я думаю, это были не ваши рабочие.
Тогда я спросил:
— Вы им оставляли машину или они приходили к вам?
Люся посмотрел на меня. И Николай посмотрел на меня. И по этим взглядам мне стало ясно, что они оставляли машину.
— Нет, — сказал Люся, — мы им не оставляли машину. Они пришли ко мне в гараж со своим материалом и всё сделали.
Он подумал и добавил.
— Впрочем, потом они её часа два обкатывали, ездили по городу.
— Это было в среду вечером? — спросил я.
— Кажется…
Я сказал:
— Поздравляю, на вашей машине совершена кража. Можете радоваться.
Некоторое время все молчали.
Было видно, что Люся немного струсил. Но самое интересное, что Игорь тоже перетрусил. Он-то с чего?! Потом Люся сказал:
— Они заменили кольца и вкладыши, собрали мотор, обкатали машину, получили деньги и ушли. Одного звали, кажется, Василием Ивановичем. Вот всё, что я о них знаю.
— Неосторожно доверять свою машину случайным людям, — заметила Майка.
— Мы понадеялись на Игоря, — возразил Люся. — Он выслал какого-то рабочего, который и познакомил нас с этими механиками. Это было у ворот автобазы.
— Этот рабочий — Лагутин? — глядя на Игоря, спросил я.
Игорь молчал.
— Что же ты молчишь? — сказала Майка.
Игорь глухо заговорил:
— Когда я вышел от главного инженера, мне навстречу попался Лагутин. Я спросил у него, не возьмётся ли кто-нибудь отремонтировать мотор. Частным образом. Лагутин ответил, что знает механиков. Надёжные люди, все ими довольны. Потом он показал Люсе этих механиков, они сговорились, вот и всё.
— Ты и заварил эту кашу, — сказал Шмаков Пётр.
— А что я такого сделал? — возмутился Игорь. — Кто-то подменил амортизаторы. При чём тут я, Люся, Николай?! Кто их подменил, пусть за то и отвечает. А кто их подменил — неизвестно.
— Известно, — сказал я, — Лагутин.
— Доказательства?
— Я в этом уверен.
Игорь махнул рукой:
— Твоя уверенность не доказательство. Нужны улики. А улик нет.
— Игорь прав, — сказал Люся. — Амортизаторы вывезли на моей машине? Простая случайность. Их могли вывезти на любой другой, хотя бы на такси. Шофёр такси не обязан знать, что возят его пассажиры.
— Вы здесь ни при чём? — насмешливо спросила Майка.
— Ни при чём, — ответил Люся.
— Нет, при чём, — возразил я. — Игорь знал, что Лагутин нечестный человек, и не имел права обращаться к нему. А он обратился. Хотел вам доказать, какая он могучая и влиятельная личность. А вы постарше, должны были думать.
— Соображать надо, — добавил Шмаков Пётр.
— Что сделано, то сделано, — сказал Люся. — Нам впредь наука: не связываться с такими молокососами, как Игорь.
— Его убить мало, — мрачно проговорил Николай.
— Убивать вам никто не позволит, — сказала Майка, — а вот амортизаторы надо вернуть.
Не только Люся, но и мы все удивились такому неожиданному предложению.
— Чему вы удивляетесь, — сказала Майка, — ничего удивительного нет. Государство не должно отвечать ни за ваше легкомыслие, ни за самомнение Игоря.
— Если мы их вернём, значит, мы их взяли, — возразил Люся.
— Заставьте вернуть тех, кто их взял, — сказал я, — ваших уважаемых механиков.
— Где же мы их найдём? — спросил Люся.
— Ничего! — мрачно проговорил Шмаков. — Лагутин вам скажет, где их найти.
— А почему мы должны вступать в переговоры с каким-то Лагутиным?
— Ага! — сказал я. — Когда вам надо было, вы вступали, а для общего дела не можете! Что ж, покупайте сами.
— Эге! — сказал Николай. — Четыре амортизатора стоят рублей пятьдесят.
— Приходится расплачиваться за свои ошибки, — улыбнулась Майка.
29
Ставим мотор! Ответственнейший момент в сборке машины. Мотор — её сердце, он даёт ей жизнь, движение, без мотора машина мертва.
Мотор подкатили на передвижной тали. Опутанный цепями, он качался и плыл в воздухе, как пёрышко. А ведь в нём, может быть, сто килограммов веса. И поставить его совсем не так просто, нужно очень точно всё подогнать. Так рассчитать, чтобы все крепления попали на своё место.
Закрепили мотор, начали ставить электрооборудование, радиатор, карбюратор… Наконец, залили воду, бензин, масло.
И вот — машина готова! Все, кроме покраски. Покрасят её сегодня вечером, за ночь она обсохнет. Завтра на ней можно будет прокатиться по городу, конечно, с надписью на кузове: «Проба».
А сегодня мы её опробуем по двору.
Когда мы стали машину заводить, все ребята выбежали из цехов. Игорь тоже был с нами. Даже старался что-то делать. Наверно, жалел, что ничему за этот месяц не научился.
Почему-то весь класс знал про историю с амортизаторами. Кто рассказал? Не я, во всяком случае. Я ведь рассказал только Шмакову и Майке, да ещё Полекутину и, кажется, Гринько… А остальным? Интересно, кто рассказал остальным?
Первым сел за руль Зуев, как руководитель нашей работы. И машина покатилась по двору, «при восторженных кликах толпы», как здорово написано в одном романе.
Потом Зуев пересел на инструкторское место. Мы все по очереди сделали на машине круг по двору. Конечно, те, кто имел права юного водителя. Машина получилась великолепная, все агрегаты работали прекрасно.
Подошёл директор, сказал: «Посмотрим, что вы сотворили» — и тоже сделал круг. А когда вылез из кабины, заявил:
— Подходящий аппарат.
После этого мы отогнали машину в малярный цех, где за неё взялись Гаркуша и Рождественский.
Как всегда, вокруг нашей машины толкалось много народу. Даже Лагутин подходил несколько раз. Но он смотрел не на машину, а на меня. И Шмаков Пётр обратил на это внимание.
— Чего он на тебя глаза таращит? — сказал Шмаков.
Я не знал, чего Лагутин таращит на меня глаза. Мне было не до этого. В этот день я сделал одно открытие. Мне показалось, что у меня всё же есть некоторые технические наклонности. Это — серьёзное открытие. Оно могло изменить мои жизненные планы.
Только к концу дня мне стало несколько не по себе от упорного взгляда Лагутина. Действительно, чего он на меня уставился?
Прозвенел звонок. Рабочий день кончился. Рабочие мылись в душе, переодевались у шкафчиков, снимали спецовки и надевали свои костюмы. Мы тоже стали расходиться. Здорово поработали сегодня.
И вот, когда мы со Шмаковым Петром дошли почти до нашего дома, я вдруг почувствовал на своём плече чью-то тяжёлую руку. Я обернулся. Сзади стоял Лагутин. Удивительно, как мы не расслышали его шагов.
Я отдёрнул плечо:
— Можно не хвататься?!
Лагутин посмотрел на Шмакова Петра:
— Отойди, нам поговорить надо.
Но Шмаков и не думал двигаться с места:
— Куда я пойду?
— Отойди, тебе говорят! — повысил голос Лагутин.
Мне, конечно, вовсе не было страшно разговаривать с ним один на один. Но, во-первых, чего он командует? Во-вторых, у меня нет секретов от Шмакова Петра. И я сказал:
— Можно не командовать?!
Тихим, но угрожающим голосом Лагутин проговорил:
— Ты что за бодягу про меня развёл?
— Что вы имеете в виду? — спросил я.
— Забыл?! Я тебе так напомню…
— Ха-ха! — сказал я. — Как страшно!
— Дрожь берёт! — добавил Шмаков Пётр.
— Ты видел, что я амортизаторы брал? — давясь от злости, прошептал Лагутин. — Видел?
— Нет, — ответил я, — не видел. Но их вывезли с пустыря ваши знакомые механики. Даже известно, на какой машине.
— Это доказать надо, — нахально заявил Лагутин.
— Мы ничего не собираемся доказывать! — ответил я. — Вот если амортизаторы не найдутся, тогда придётся что-то доказывать.
— Раньше на Зуева клепал, теперь на меня?
— На Зуева никто не клепал, вы всё сами придумали, — возразил я, — но мне неинтересны ваши выдумки! Мы должны найти амортизаторы, и мы их найдём. А если они сами найдутся, тем лучше. Всё! Говорить больше не о чем. Пошли, Петро!
Мы спокойно повернулись и пошли домой. А куда пошёл Лагутин, мы не видели. Мы ни разу не обернулись.
…Вечером я лежал дома на диване и перечитывал «Мёртвые души» Гоголя. Мне очень нравится эта книга, нравится, как там описаны люди. Очень тонко и смешно! И, когда я открываю «Мёртвые души» и начинаю читать, как в губернский город N въехала рессорная бричка Чичикова и как два мужика рассуждали, доедет ли эта бричка до Москвы и до Казани или не доедет, я уже не могу оторваться. А Плюшкин, Собакевич, Ноздрёв!
И вот, когда я лежал на диване и читал «Мёртвые души», раздался звонок. В коридоре была мама, и она открыла дверь.
Потом заглянула в комнату и сказала:
— Серёжа, к тебе пришли.
Я с сожалением отложил книгу — читал как раз про капитана Копейкина — и вышел в коридор. Выходная дверь была приоткрыта. Я распахнул её… На площадке стояла Зина, диспетчер…
— Вы ко мне? — спросил я, несколько озадаченный таким визитом.
— Серёжа! — взволнованно проговорила Зина. — Мне надо с тобой поговорить!
— Пожалуйста, заходите, — сказал я.
— Выйди на минуточку.
Я вышел на площадку и захлопнул за собой дверь.
Зина схватила меня за руку:
— Серёжа! Что там произошло?
Я сразу догадался, что она имеет в виду. Но я видел, что Зина сейчас заплачет, и ужасно испугался. Я очень не люблю, когда женщины плачут. Женщины, маленькие дети и кошки. Сердце рвётся, когда они плачут. Я стал быстро придумывать ответ, который бы успокоил Зину. Но не успел.
— Ты его совсем не знаешь, — всхлипывая, заговорила Зина, — он очень хороший. Но его друзья сбивают с пути…
Вот до чего доводит людей слепая любовь! И к кому? К человеку, который выказывает ей полное пренебрежение.
Я сказал:
Вот именно, друзья! Пусть он попросит своих друзей вернуть амортизаторы.
Зина стала тяжело дышать и наконец заплакала. Разревелась всё-таки… Ну, что мне делать?
— Я его так люблю, — сквозь слёзы проговорила Зина. — Если с ним что случится, я не знаю, что со мной будет.
Я ещё никогда не разговаривал с женщинами о любви. Наверно, я обрадовался возможности изложить наконец свои взгляды по этому вопросу.
— Любовь — это прежде всего взаимное уважение, — сказал я.
Я очень жалел, что в эту минуту рядом не было Майки. Но, хотя её и не было здесь, я продолжал развивать свои взгляды:
— Один не должен делать того, что обидит другого. Если другому неприятно, то не надо танцевать с разными нахалами.
Плачущим голосом Зина проговорила:
— Я никогда ни с кем не танцевала.
— Вообще танцевать можно, — пояснил я, — но если за этим кроется определённый смысл, то лучше не танцевать. — Я облокотился о перила и продолжал: — И потом, надо честно и прямо смотреть в глаза, говорить друг другу о недостатках и ошибках.
Некоторое время я думал, что бы ещё такое умное сказать на тему о любви, но ничего не придумал.
Зина воспользовалась моим молчанием и спросила:
— А если они их вернут, ничего не будет?
— Конечно, ничего, — ответил я.
— Я так боюсь, — опять чуть не заплакала Зина, — а вдруг в тюрьму посадят.
— При чём здесь тюрьма! — возразил я. — «Церкви и тюрьмы сровняем с землёй»! Вот как стоит вопрос! Если они всё вернут и не будут больше жульничать, то ни в какую тюрьму их не посадят.
Зина прошептала:
— Он никогда ничего себе не позволял. А вот как связался с ними, всё и началось.
— Тем более надо на него воздействовать, — сказал я, — лучше сейчас признать свои ошибки, чем потом отвечать за них.
Зина ушла. Я опять взялся за книгу. Но мне не читалось. Было жалко Зину. Такой несчастной она выглядела. И всё из-за Лагутина. Мало того, что он ведёт себя нечестно, он ещё заставляет страдать других.
Пожалуй, я говорил Зине вовсе не то, что следовало. Надо было сказать: «Если вы любите Лагутина, то помогите ему перевоспитаться». Вот что надо было сказать. А я развёл антимонию насчёт любви.
Что поделаешь! Правильные мысли и нужные слова приходят ко мне приблизительно через час после разговора.
30
Сегодня кончается наша практика. Я рано пришёл на работу. Машины ещё только выезжали на линию.
Они выезжали одна за другой, тяжёлые грузовики и самосвалы мчались по шоссе и растекались по улицам Москвы. В кабинах мелькали суровые лица шофёров.
Во дворе царило обычное в этот ранний час оживление. Раздавался по радио звонкий голос диспетчера, шумел по телефону начальник эксплуатации, мелькало озабоченное лицо главного инженера. Директор стоял на своём обычном месте, внушительный, молчаливый, и провожал глазами уходящие машины.
Я подумал: как странно! Завтра мы будем свободны как птицы. Можем спать сколько влезет. Можем делать что угодно. Через неделю я уеду с мамой в Корюков, буду купаться в реке и удивлять всех своими ластами.
И всё же мне было грустно…
Мне было грустно при мысли, что я не буду больше приходить сюда ранним утром, не буду переодеваться у своего шкафчика, как все рабочие, не буду слушать их шуток и разговоров, не буду равнодушно говорить бригадиру Дмитрию Александровичу: «Кончил, проверяйте!»… И Дмитрий Александрович уже больше мне не скажет: «Ну что ж, университант-эмансипе, подходяще…»
Я не услышу больше шипения паяльной лампы, стрекотания сварки, визга пилы и шуршания рубанка и, наверно, скоро отвыкну от привычного запаха бензина, карбида и ацетона. И мне уже не придётся спорить с кладовщиком о том, что он не вовремя запирает склад. Я не буду каждые две недели получать деньги, заработанные моим собственным трудом.
Конечно, мы не более как практиканты. Но мы чувствовали себя здесь рабочими. Мы делали работу, которую делали все.
Вот о чём я с грустью думал, когда сидел на скамейке возле гаража, грелся на солнце и дожидался начала смены. Потом прозвенел звонок, и мы разошлись по цехам.
По правде сказать, никто из нас сегодня не работал. Пришёл Игорь и сказал, что на доске висит приказ про нас. Мы побежали его читать.
Всем практикантам объявлялась благодарность за хорошую работу. Главному инженеру объявлялась благодарность за хорошее общее руководство. Начальникам цехов — за хорошее конкретное руководство. Бригадирам — просто за руководство. Всем рабочим — за чуткое к нам отношение.
— Ловко написано! — сказал Игорь и состроил ту самую физиономию, которой он давал понять, что ему известна тайная суть.
Но я был с ним не согласен. Теперь, когда практика кончилась, я забыл про плохое, и в памяти осталось только хорошее. Ведь вначале мы ровно ничего не умели делать, и трения были неизбежны.
И ещё объявлялась благодарность Зуеву. За хорошую помощь при восстановлении нашей машины. И с него снимался выговор за аварию в Липках.
Потом прошёл слух, что нам сейчас будут выдавать зарплату. Мы бросились в бухгалтерию. Выдали нам по шестнадцать рублей двадцать копеек, как и в первую получку. Мы так и не поняли, чем расчёт отличается от аванса.
После получки главный инженер велел нам разойтись по цехам и сдать всё, что за нами числится. И добавил:
— Не мешает и с рабочими попрощаться.
Мы это понимали и без главного инженера. Всё же его слова меня приятно удивили. Они свидетельствовали об известной душевной тонкости. А ведь мы считали главного инженера сухарём и занудой.
Мы со Шмаковым пошли в гараж, сдали инструмент, спецовку, очистили свои верстаки и начали прощаться. Все вытирали руки обтирочными концами и пожимали наши руки. Те, кто работал в смотровых ямах, тоже пожали нам руки.
Не все, может быть, горевали по поводу нашего ухода. Но мы целый месяц работали вместе, делили всё хорошее и плохое, и они не могли не проявить к нам рабочей солидарности.
Мы дошли со Шмаковым до ворот гаража и оглянулись. Никто не смотрел нам вслед. Все опять работали, как будто ничего не случилось. Конечно, окончание практики — это событие только для нас. Но всё же мне сделалось как-то не по себе. Неужели мы для гаража уже чужие? Пройдёт несколько дней, и нас, наверно, забудут.
Во дворе нас встретил Игорь и сказал, что сейчас будет заключительная беседа. При этом он как-то особенно посмотрел на меня, противно ухмыльнулся и добавил:
— Готовься, Крош.
По его тону было ясно, что мне надо готовиться к неприятности. Но к какой именно, он не сказал. Такая у Игоря манера — недоговаривать. Этим он подчёркивал свою исключительную осведомлённость.
Эта манера всегда меня очень злит. Я не люблю неопределённости. Какая бы неприятность мне ни угрожала, я предпочитаю узнать о ней сразу. Терпеть не могу, например, когда мне говорят: «Серёжа, мне надо с тобой поговорить». Такая привычка, между прочим, есть у моего отца. Никогда сразу не приступает к делу, а с хмурым видом произносит: «Серёжа, мне надо с тобой поговорить». А говорит дня через два. И эти два дня я мучаюсь неизвестностью. Я знаю, что ничего такого страшного он мне не скажет. Но не люблю этого неопределённого периода между предупреждением о разговоре и самим разговором. Мне неприятно, что отец прямо не высказывает своего недовольства, а ходит с этим недовольством и ждёт особенного момента.
Приблизительно такое же состояние было у меня и сейчас. Я не знал, какая неприятность ожидает меня на заключительной беседе. А если бы знал, то был бы спокоен. И будь Игорь настоящий товарищ, он избавил бы меня от этой противной неизвестности.
Мы собрались на пустыре — обычном, а сегодня уже последнем месте наших собраний.
Там стояла наша машина, блестящая, свежевыкрашенная, точно только выпущенная с завода. Её официально передавали школе.
К нашему возмущению, машину принимал школьный завхоз Иван Семёнович.
Он ходил вокруг машины и радостно потирал руки, очевидно, представлял себе, сколько угля он на ней перевезёт.
Мы поняли, что за эту машину нам предстоит ещё серьёзная борьба.
Директор вынул самопишущую ручку, нахмурился и подписал передаточный акт. С этой минуты машина принадлежала школе.
Завхоз Иван Семёнович одним духом вскочил в кабину, Зуев сел за руль и погнал машину в школьный гараж.
Наша классная руководительница Наталья Павловна сказала:
— Практика кончена! Прошла она хуже или лучше, чем нам хотелось, — дело не в этом. Дело в том, что это был первый месяц вашей самостоятельной жизни. Жизни в труде. Этот месяц вы никогда не забудете.
Это она, между прочим, подметила довольно точно.
Главный инженер объявил, что всем нам присваивается третий разряд, а Полекутину — четвёртый. Некоторые ребята обиделись, а по-моему, это правильно. Полекутин кандидатура бесспорная. А если бы четвёртый разряд присвоили мне или, скажем, Шмакову Петру, то это была бы кандидатура спорная. И оснований для недовольства было бы гораздо больше. Так что главный инженер поступил правильно. Как это он только заметил, что Полекутин лучше нас всех разбирается в технике?
Потом директор сказал:
— Думаю, вы не зря потратили время. Научились кое-чему. И увидели, как всё на свете делается. А делается всё на свете рабочими руками.
В эту минуту к нему подошёл бригадир Дмитрий Александрович и что-то сказал на ухо.
Директор удивился и громко переспросил:
— Где, ты говоришь?
— В чулане.
— Шарада! — пробормотал директор. — Ладно, скоро приду.
Потом он обратился к нам:
— Видите, как хорошо, и амортизаторы нашлись!
Мы-то знали, как они нашлись. Но не подали вида. Пусть это останется загадкой.
— Разберёмся! — продолжал директор. — Так насчёт чего я говорил? — Он посмотрел на небо: — Забыл… Ну, что сказать? Хорошие ребята. Относились добросовестно. Вот Игорь хорошо помогал…
Все посмотрели на Игоря. У него был такой вид, будто он очень смущён похвалой директора; на самом деле он был очень доволен.
— Помогал Игорь, — продолжал директор, — главный инженер дал ему хорошую характеристику. Освоил учёт и документацию. Я, правда, в молодые годы к молотку и зубилу больше подбирался. И вот ничего, директорствую. Но учёт и документация тоже нужны… Так что все ребята работали хорошо. Особых нарушений дисциплины не было. Впрочем, у одного были заскоки по линии дисциплины.
Он обвёл нас глазами. Его взгляд остановился на мне. Я похолодел.
Вот о чём предупреждал меня Игорь! Сейчас директор меня припечатает. Припомнит мне тот разговор в кабинете.
— Ага, вот он, — сказал директор. — Крашенинников, так?
— Так, — пролепетал я.
— Были заскоки?
Я молчал.
— Были, — сам себе ответил директор. — К аварии руку приложил?
— Приложил, — признался я.
— Ну вот! А потом явился в кабинет и начинает устанавливать свои порядки. Так, товарищи, нельзя. Если каждый начнёт меня учить, что же получится?
Я поймал на себе насмешливый взгляд Игоря.
— Вот так обстоит дело, — продолжал директор, — вы ещё молодые, зелёные, вам самим ещё надо учиться. А учить других ещё придёт ваше время. Это надо запомнить. Но в целом хорошие ребята! А что касается Крашенинникова, то, по-простому, по-рабочему, я так скажу: молодец Крош! Честный парень! Давай, Крош, действуй!
Обругал меня, а потом назвал молодцом.
Где логика?
1960
Анатолий Рыбаков. Каникулы Кроша.
Мальчик пристально вглядывается в даль. Что видят его глаза? Таинственные образы проносятся в детских мечтах, подобно песням птиц. Но что мы сделали для того, чтобы королевство фантазии стало рядом с нами навсегда?
Нэцкэ — мальчик с книгой
1
Писать я буду от первого лица. Так это называется в литературе. Вместо «он» говорить «я». Не «он пошёл», а «я пошёл», не «ему надавали по шее», а «мне надавали по шее».
Мою книгу отредактируют — пусть, мол, читатель думает, что её написал настоящий писатель. Если этого не делать, то одни книги будут читать, а другие — нет. А если отредактировано, то читают всех подряд и никому не обидно.
В моей книге будет несколько героев.
Все они живут в нашем доме. Я хорошо знаю жильцов нашего дома — в нём прошла моя сознательная жизнь. С десяти лет. Теперь мне шестнадцать. Только Костя живёт на другой улице. Немного таинственный тип. Пройдёт по двору со своим чемоданчиком, и всё. А в чемодане боксёрские перчатки. Костя — боксёр, чёрненький, худенький паренёк.
Я познакомился с Костей, когда Веэн и Игорь были как раз во дворе. И я тоже был как раз во дворе. Смотрел, как Веэн обтирает свою «Волгу». Игорь ощупывал свой подбородок и тоже смотрел, как Веэн обтирает машину. Перед этим Игорь получил в подбородок и теперь, заботясь о своей внешности, его ощупывал. За что и от кого получил, я расскажу потом.
Веэн показал на запасное колесо:
— Подымем?!
Игорь был занят подбородком. Я помог поднять колесо и затянул гайку на держателе.
— Почему тебя зовут Крош? — спросил Веэн.
Мне опять, в который раз, пришлось объяснить, что меня зовут Сергеем, а Крош — это прозвище, сокращённое от моей фамилии Крашенинников. В школе всегда сокращают фамилии, тем более такую длинную, как моя. Вот и получилось «Крош».
Объясняя это Веэну, я подумал, что он, наверно, не читал повести «Приключения Кроша» — там об этом подробно рассказано.
Тут появился Костя, и мы познакомились.
— Прокатимся? — спросил меня Веэн.
— С удовольствием.
— Где Нора? — спросил Веэн.
— Вот она идёт, — ответил Игорь, массируя подбородок.
Нора в чёрных ажурных чулках. На эти чёрные чулки мне противно смотреть. И голос у неё хриплый от курения.
Игорь кивнул на меня:
— Крош тоже поедет.
— Тебе жалко? — спросил я.
— Разве я что-нибудь сказал? Нора, я что-нибудь сказал?
Нора пожала плечами.
Нора и Игорь ушли из десятого класса будто бы для того, чтобы заработать производственный стаж. На самом деле им лень учиться. Нора расхаживает в чёрных чулках, а Игорь околачивается на «Мосфильме», снимается в массовках, только ему это за производственный стаж всё равно не зачтут.
Мы мчались по Садовому кольцу. Из троллейбусов на нас смотрели пассажиры. Веэн похож на молодого профессора: виски с проседью, белая рубашка с закатанными рукавами, узкие брюки, чёрные туфли. Нора сидела рядом с ним как герцогиня. У Кости бесстрастное лицо боксёра, который не жмурится, когда его лупят по морде. Игорь трепался, будто брат собирается подарить ему своего «Москвича». Я просто ехал.
Веэн искусствовед. Я терпеть не могу искусствоведов, они мешают слушать музыку, прерывают её на самом интересном месте. И когда по радио человек чего-то там бормочет невнятным голосом, то невозможно ни читать, ни заниматься… «Фредерик вошёл в гостиную и сказал… Лаура печально покачала головой… Ах, Фредерик…» Муть! Но Веэн искусствовед по изобразительному искусству, а это совсем другое дело: искусствоведы по изо не мешают слушать музыку. Кроме того, Веэн коллекционер, собирает предметы искусства. И хотя я с ним встречался только во дворе, он мне не казался яркой личностью. Игорь и Костя выполняли какие-то его поручения и напускали такую таинственность, что меня распирало от любопытства. Это была та сторона жизни, которую я ещё не знал. Другие стороны жизни я знал хорошо, а эту ещё слабо и хотел познакомиться.
Мы свернули с Садового кольца и остановились в переулке возле улицы Горького. Веэн обернулся и посмотрел на Костю и Игоря. Те, не говоря ни слова, вышли из машины. А мне Веэн улыбнулся. По его улыбка означала, что я должен остаться. Я остался.
Мы сидели молча: я, Веэн и Нора. Потом Веэн и Нора перебросились несколькими фразами. Поскольку они говорили тихо, я не стал прислушиваться.
В девятом классе за Норой ухаживал артист эстрады, скандал был на всю школу. Норина бабушка, заслуженная общественница, вызвала к себе бюро комсомольской организации; я был тогда членом бюро. Сначала мы не хотели идти, но потом пошли, приняв во внимание возраст бабушки и её заслуги перед общественностью. Мы стояли перед бабушкой, как провинившиеся школьники. Нора сидела на диване, курила сигарету и стряхивала пепел в горшок с цветами. «Если кто сбивается с пути, — говорила бабушка, — то виноват коллектив — недосмотрели». Когда бабушка была молодая, было по-другому… А у нас слаба воспитательная работа, и мы недосмотрели за Норой.
Бабушка сказала, что родители Норы занятые люди, заслуженные артисты, и она, бабушка, тоже занятой человек — пишет мемуары о Станиславском и других выдающихся личностях. Мемуары эти имеют громадное значение для воспитания подрастающего поколения. И, не воспитывая Нору, мы мешаем ей воспитывать подрастающее поколение. Вот какой бенц старушка нам выдала!
Но ещё больший бенц она выдала директору эстрады. Такой она ему выдала бенц, что бедного артиста эстрады услали на длительные гастроли в Ферганскую область.
Такая петрушка произошла с Норой этой зимой.
Вернулись Игорь и Костя. Ни слова не говоря, сели в машину. Веэн включил мотор. Снова по Садовому кольцу мы помчались обратно, домой.
Во дворе Веэн сказал:
— Зайдём к нам.
2
Портреты, портреты, портреты… Вельможи в кафтанах с кружевными жабо и кружевными манжетами, царские генералы в раззолоченных мундирах, дамы с высокими причёсками, тётки в салопах и чепчиках, купцы в шубах, похожие на великого драматурга Островского, девочки с бантиками, мальчики в бархатных костюмчиках…
Тесно стояли шкафы, буфеты, конторки, секретеры, диваны, козетки, ломберные столики. На потолке люстры. Всё это, как объяснил Веэн, старинное и ценное. На двух креслах даже натянуты верёвочки, как это делается в музеях, чтобы на кресла не садились. Меня удивило, что Нора, Игорь и Костя уселись на таком ценном диване. Нора даже взобралась с ногами. Я думал, что этой мебелью пользоваться нельзя. Оказывается, можно. Нельзя сидеть только в креслах, перевязанных верёвочкой, — они сломанные.
Нора курила. Игорь перебирал магнитофонные ленты, Костя перелистывал книгу. Здорово устроились, ничего не скажешь.
В застеклённом шкафу стояли на полках крохотные фигурки из дерева, камня, фарфора. Это нэцкэ, японская миниатюрная скульптура, я видел их в Музее восточных культур.
— В моей коллекции есть уникальные экземпляры.
Сказав это, Веэн снял с полки несколько фигурок и поставил на стол. Они изображали крестьян, монахов, всадников, детей, маски, цветы, птиц, зверей, рыб.
Я бездарен в живописи. Нравится, не нравится — вот всё, что я могу сказать. Но почему нравится или не нравится — сказать не могу. В натюрмортах, пейзажах, во всяких абстракциях я не разбираюсь совершенно. Мне нравятся картины, где изображены люди. Моя любимая картина в Третьяковке — это «Крёстный ход» Репина. Помните мальчика с костылём? Сколько радости и надежды на его лице, как он весь устремлён вперёд! Сейчас произойдёт чудо, он выпрямит спину, бросит костыль и будет такой, как все… Вот это мне нравится! А как положены краски и как распределён свет — в этом я не разбираюсь.
Веэн взял в руки фигурку старика с высоким пучком волос на голове и длинной редкой бородой. Одной рукой старик придерживал полы халата, в другой сжимал свиток. Фигурка была величиной всего с мундштук, и всё равно было ясно, что этот старик — мудрец. Что-то вечное было в его лице, в длинных морщинах, в худом, истощённом теле. Его высокий лоб, скошенные монгольские глаза выражали спокойную и мудрую проницательность. Много нужно затратить труда, чтобы вырезать из дерева такую крохотную и выразительную фигурку.
— Мудрец? — спросил я.
— Мудрец, — ответил Веэн, любуясь фигуркой. — Работа великого мастера Мивы-первого из города Эдо, восемнадцатый век, вишнёвое дерево. Для профана она ничто, но знаток её оценит.
Мне стало немного не по себе — в сущности, я тоже профан.
— Искусство принадлежит тому, кто его любит, понимает и отстаивает, — продолжал Веэн. — Человек, сохранивший для нас «Слово о полку Игореве», сделал не меньше того, кто это «Слово» написал. Шлиман, открывший Микены, превосходит его создателей — они строили город, подчиняясь необходимости, он открыл его, ведомый любовью к искусству. Что было бы с русской живописью без братьев Третьяковых?
В ответ я напомнил слова Пушкина:
— «Чувства добрые я лирой пробуждал» — вот что главное.
— Что я говорила?! — злорадно произнесла Нора.
Эта реплика означала, что Нора предупреждала Веэна: я не подхожу для их компании. Это меня не удивило — мы с Норой терпеть не можем друг друга.
— Крош, ты баптист, — объявил Игорь.
— Но это сказал Пушкин!
— Пушкин жил сто лет назад. Каменный век.
— «Дети, в школу собирайтесь, петушок пропел давно», — сказала Нора.
— Задираемся? — неодобрительно заметил Веэн.
— Мы любим Кроша. Давай поцелуемся, Крош, — сказал Игорь.
— Не шурши! — предупредил я его.
— «Попроворней одевайтесь, смотрит солнышко в окно», — продолжала Нора — «В лесу раздавался топор дровосека…»
— Дружба не терпит подобных шуток, — сказал Веэн, — а без дружбы нет человека. Одиночку сокрушают, в коллективе человек нивелируется. Тройки, четвёрки, пятёрки — вот кто покоряет мир.
— Три мушкетёра… — сказал я.
— Ремарк! — сказал Веэн. — Но герои Дюма покоряли мир, герои Ремарка обороняются от него.
— «Три танкиста, три весёлых друга», — громко пропел Игорь.
— «Чувства добрые…» — снова заговорил Веэн. — Самое доброе чувство — дружба. Есть только одна убеждённость — в своём товарище, только одна вера — в прекрасные творения человека. Всё проходит — идеи, взгляды, убеждения, а эта фигурка будет жить вечно. Её держали в руках цари и полководцы, писатели и философы. Если бы время не стирало отпечатков пальцев, можно было бы но ней создать дактилоскопический альбом многих великих людей. Научись мы создавать скульптурные портреты людей по отпечаткам пальцев, они были бы точнее, чем создаваемые по черепу.
Чёрт возьми, может быть, эту фигурку держали в руках Наполеон или Бальзак, какой-нибудь микадо или братья Гонкур! Замечательная идея! Странно, что Веэн так буднично её высказал, Нора и Игорь спокойно сидели на диване, Костя молча перелистывал журнал.
— Может быть, отпечатки пальцев всё же остаются, — сказал я, — совсем крошечные, незаметные, но с помощью сверхмощного электронного микроскопа их со временем удастся обнаружить.
— Возможно, — согласился Веэн. — Но и без того старинная вещь рассказывает о многом. Собирать произведения искусства поучительно. Каждая фигурка — эпопея, её розыски — тоже эпопея. Собирание — это гигантский труд и медные деньги. Впрочем, — Веэн как-то особенно посмотрел на меня, — мы живём в век новой алхимии, и медь иногда превращается в золото.
Я не совсем понял, что он хотел этим сказать.
— Собирательство — это соревнование, — продолжал Веэн. — Мы, собиратели, хорошо знаем друг друга и свои поиски держим в секрете.
На этот раз я понял, что он хотел сказать.
— Я не трепач.
— Я нуждаюсь в помощниках. Вот Костя помогает и Игорь. Хочешь, и ты будешь помогать?
— С удовольствием.
— Мир искусства обогатит тебя духовно, поможет стать культурным человеком. Ты хочешь стать культурным человеком?
— Хочу.
— На одну удачу приходится двадцать неудач. Но на мелкие расходы ты всегда заработаешь.
Наверно, я здорово покраснел. Получать деньги за помощь, за услугу!.. Но, с другой стороны, надоело обращаться к маме за каждым гривенником. И мне необходим магнитофон.
— У тебя не должно быть секретов от твоих родителей, — продолжал Веэн, — но и не обязательно им всё рассказывать. Каждый имеет право на личную жизнь.
Логично. Ведь я не всё рассказываю своим родителям, как и они мне, — каждый имеет право на личную жизнь.
— Мои родители не вмешиваются в мою личную жизнь, — сказал я.
3
Для меня дружба — дело естественное, я никогда не думал о тройках и пятёрках. Конечно, большая компания чересчур громоздка — один хочет туда, другой сюда. Но вопрос в том, для чего тройки и пятёрки? А в коллективе человек вовсе не нивелируется, коллектив — это моральная категория. Так надо было ответить: коллектив — моральная категория. Но, как всегда, умная мысль пришла мне в голову, когда спор уже был окончен.
Но я понимал также, что по этим словам нельзя судить о Веэне. Судить о человеке надо по всем его мыслям, во всяком случае, по главным мыслям. А главное в Веэне — это любовь к искусству. И, как всякий увлечённый человек, он несколько односторонен, считает, что предмет его увлечения — это главное.
К Норе тоже надо быть терпимее — женщина всё-таки.
Что касается Игоря, то он трепло. Пушкин — каменный век, сказал тоже! У меня сердце щемит, когда я читаю Пушкина, слово даю! «Прими собранье пёстрых глав, полусмешных, полупечальных, простонародных, идеальных… незрелых и увядших лет, ума холодных наблюдений и сердца горестных замёт…» Кто ещё мог так сказать? Только Пушкин!.. «Как часто в горестной разлуке, в моей блуждающей судьбе, Москва, я думал о тебе…» А?! «Блуждающей судьбе»…
Но Игорь не лишён чувства юмора, а чувство юмора — это главное, без юмора нет человека. После Пушкина самые мои любимые книги — это «Мёртвые души», «Бравый солдат Швейк» и «Золотой телёнок». Их я могу перечитывать и перечитывать. Чехова я тоже могу перечитывать и перечитывать — обхохочешься, честное слово! Но у Чехова рассказы, а я говорю о романах. Как-то мы играли в игру: какие десять романов вы взяли бы с собой на необитаемый остров? Я назвал «Войну и мир», «Мёртвые души», «Красное и чёрное», «Бравого солдата Швейка», «Тихий Дон», «Золотого телёнка», «Трёх мушкетёров», «Утраченные иллюзии», «Боги жаждут» и «Кожаный чулок». Я бы ещё назвал, но можно было только десять. А вот если бы меня спросили, чьё собрание сочинений взял бы я с собой на необитаемый остров, я бы ответил — Пушкина! Собрание сочинений Александра Сергеевича Пушкина я бы взял с собой на необитаемый остров.
Больше всех понравился мне в этой компании Костя. За весь день он не проронил ни слова ни во дворе, ни в машине, ни на квартире у Веэна, а вот понравился больше всех. Чудесный парень, боксёр, а не задаётся, не пользуется своей силой. Мне нравятся такие молчаливые ребята.
Есть люди, у которых всё на виду, с ними просто и ясно. Но есть и другие — загадочные, они всегда занимают моё воображение. Бывает, что человек с виду загадочен, а при ближайшем рассмотрении оказывается дурак дураком. Но в данном случае этого не было. Было в Косте что-то таинственное, даже трагическое. Я чувствовал это, когда он проходил по двору с чемоданчиком в руке. И то, что он всё время молчал, только укрепило это чувство.
Когда на следующий день мы с Костей отправились выполнять поручение Веэна, мне было приятно идти с ним по улице, сидеть рядом в вагоне метро. Все думают, что он обыкновенный худенький паренёк, а он, боксёр-перворазрядник, может так двинуть, что от человека останется одно воспоминание. В дверях вагона стояли какие-то нахалы, мешали входу-выходу, один даже задел Костю плечом. Я думал, Костя сейчас их раскидает, но он ничего, спокойно прошёл мимо. Меня поразила его выдержка. Впрочем, в дверях могли стоять тоже боксёры-перворазрядники, а то и мастера спорта.
— В учебнике древней истории, — сказал я, — нарисованы всякие амфоры и вазы. Не думал, что мне придётся этим заниматься.
Костя ничего не ответил. Сидел, несколько развалясь (привык в такой позе отдыхать между раундами), с бесстрастным выражением на медальном лице.
— Интересная мысль — создавать живой портрет по отпечаткам пальцев, — продолжал я. — У тебя нет книг по дактилоскопии?
— Долго?
— Что долго?
— Трепать языком будешь долго?
Мрачный тип! Не слишком большое удовольствие иметь с ним дело. Нет, уж пусть Веэн даёт мне самостоятельные поручения. Сегодняшнее поручение выполню с Костей, а следующее — только самостоятельно.
Мы вышли из метро на Арбатской площади и пошли по Гоголевскому бульвару. Костя молчал, только изредка говорил: «Туда, сюда, сюда, туда».
Я остановился.
— Ты эти «туда-сюда» брось! Куда мы идём?
— На Сивцев Вражек, — процедил он сквозь зубы.
На Сивцевом Вражке он показал мне серый дом.
— Подымешься на третий этаж, квартира восемь, два звонка, Елена Сергеевна. Скажешь: от Владимира Николаевича. Передашь ей этот пакет, она тебе даст другой. Повтори.
— Повторение — мать учения, а кто отец?
Довольный тем, что поставил его в тупик, я положил пакет в карман и вошёл в подъезд. Пакет был совсем крошечный, казалось, в нём лежит катушка с нитками. Но я знал, что там нэцкэ.
Женщина с крашеными волосами и папиросой в зубах провела меня в комнату, плотно закрыла дверь, повернулась ко мне спиной, посмотрела, что в пакете, спрятала его в шкаф и передала мне другой пакет, тоже с нэцкэ. Потом проводила меня до двери и посмотрела, нет ли кого на лестнице. Всё это, не вынимая папиросы изо рта.
— Теперь куда? — спросил я Костю, очутившись на улице.
— На Плющиху.
На Плющихе дверь мне открыл толстый молодой человек в очках. Челюсти его так и ходили взад-вперёд. Я подумал, что он жуёт резинку, но он сделал глотательное движение, рыгнул, и я понял, что это не жевательная резинка. В комнату он со мной не заходил, взял пакет и захлопнул за мной дверь. И лестницу не осматривал: видно, не боялся конкурентов.
Я вернулся к Косте. Он сказал:
— Сейчас поедем в один дом. Разговаривать буду я, а ты слушай.
Я хотел ответить, что у меня нет охоты разговаривать ни с ним, ни с кем бы то ни было. Но ничего не сказал.
На Комсомольском проспекте нас встретил Игорь. Скосил глаза на Костю и сказал: «Всё в порядке». Я не спросил, что именно в порядке, решил вообще ни о чём не спрашивать. Видно было, что Костя и Игорь не склонны разговаривать. Вообще-то Игорь болтун. Но сейчас они не были склонны разговаривать.
Игорь остался на улице. Мы с Костей вошли в большой двор нового дома.
В глубине стоял старенький деревянный флигель из тех, что остаются после сноса старых домов.
И комната, в которой мы очутились, тоже была старая. Потолок неестественно высок, занавески тёмные, тяжёлые, вытертые, мебель изношенная, скучная. На всём лежала печать уныния, оскудения.
И хозяйка комнаты тоже была старая, тяжёлая. Мне жаль толстых старух, они совсем беспомощны. В её искательном взгляде было что-то унизительное, мне даже стало неудобно, будто я делал что-то нехорошее. А ничего плохого я не делал. И Костя не делал. Он рассматривал нэцкэ.
Фигурка изображала двух человечков, нищих музыкантов, со скуластыми монгольскими лицами, узкими щёлочками глаз и приплюснутыми носами. Крохотная деревянная скульптура, размером со спичечную коробку, не больше. Музыканты шли сквозь дождь и ветер, их лохмотья развевались, жёлтые лица были опалены солнцем. У одного человечка рука лежала на крошечном барабане. По выражению их лиц, по растянутым ртам было видно, что они поют нечто жалобное, однообразное, привычное. Вечные скитания, вечные лишения… Ножки крохотные, голова большая, щёки отвислые, видна только одна рука, пропорции нарушены именно так, чтобы подчеркнуть их выразительность. Просто удивительно, как всё это удалось передать на таком крохотном кусочке дерева.
— Сколько вы хотите за неё? — спросил Костя.
— Мне говорили, она стоит пятьдесят рублей, — нерешительно ответила старуха.
Я вытаращил глаза… Неужели эти фигурки ценятся так дорого?
Костя поставил фигурку на стол.
— Вам надо её оценить.
— Мне трудно ездить в антикварный.
— Пошлите кого-нибудь.
— Мне некого послать… — Старуха жалко и искательно смотрела на Костю. — А сколько бы вы дали?
— Раз вы так дорого её цените, вам надо съездить в антикварный.
— Всё же сколько бы вы дали?
— Один мой товарищ выменял отличную нэцкэ на матрёшку, — сказал Костя. — Лучше оцените её в антикварном.
— Куда я поеду… Сколько она, по-вашему, стоит?
— Самое большее — пятнадцать рублей… И то… — Костя снова взял в руки фигурку, — я беру её потому, что собираю работы Томотады или под Томотаду.
— Она подлинная, — торопливо проговорила старуха.
— Кто это может доказать? — Костя снова поставил фигурку на стол. — Возможно, вам удастся продать её дороже.
— Хорошо, — вздохнула старуха, — пусть будет пятнадцать.
4
Игорь поджидал нас на улице, и мы пошли в шашлычную. Действовал неизвестный мне их порядок, мне оставалось подчиняться ему и не задавать вопросов. Когда человек всему удивляется, он выглядит идиотом.
Возможно, фигурка музыкантов не стоит больше пятнадцати рублей. Но неприятно видеть, как люди торгуются, в этом есть что-то базарное, лавочное, что-то от объегоривания и надувательства — кто кого околпачит. То ли дело в магазине! Висит цена. Хочешь — покупай, не хочешь не покупай, есть деньги — бери, нет — уходи. Больше, меньше — какое это имеет значение? А Костя торговался. И с кем? С несчастной старухой. Должен был сказать: «Мне это дорого», или ещё лучше: «Я подумаю», и уйти. Мужчине унизительно торговаться.
Когда папа уезжает в командировку, мы с мамой обедаем в столовой. Обычно я заказываю блинчики с вареньем. Меня удивляет, что люди заказывают, например, котлеты с макаронами. Ведь блинчики гораздо вкуснее.
Но Игорь насмешливо спросил:
— Ты в детском саду?
И заказал суп харчо, шашлыки и по сто граммов коньяка три звёздочки.
Чтобы не опьянеть, я навалился на масло. Говорят, что масло образует на пищеводе плёнку, непроницаемую для винных паров. Я даже где-то читал об этом.
— Здоров ты масло рубать! — удивился Игорь.
Меня от масла чуть не стошнило, зато мой пищевод был надёжно смазан, мне не был страшен никакой коньяк. Я выпил полную рюмку. Пусть Игорь и Костя не думают, что имеют дело с мальчиком.
Игорь сказал наставительно:
— Коньяк надо потягивать. За границей его пьют только после еды, за кофе.
— Ты давно из Парижа? — спросил я.
— Разве это харчо? Разве это шашлыки? — продолжал выдрючиваться Игорь. — Харчо надо подавать в горшочках, шашлык надо готовить по-карски.
— Большой знаток, — насмешливо заметил Костя.
Костя разбирается в людях, этого от него не отнимешь. Дело даже не в том, что Игорь хвастает, — он слишком громко разговаривает, как будто не для собеседника говорит, а для окружающих. А окружающим, может быть, неинтересно его слушать, быть может, чужой разговор мешает их собственным мыслям.
Держа руки под скатертью, Игорь разглядывал музыкантов.
— Это вещь! Как положен лак, а! Какой колорит, уникум!
Я бездарен в изо, я уже признавался в этом. Лучше честно признаться, что не понимаешь, чем делать вид, что понимаешь, когда ни черта не понимаешь. И когда люди начинают с умным видом рассуждать об искусстве, меня тошнит. Когда Игорь начинает долдонить: «Свет, колорит, жанр», — хочется съездить ему по затылку.
— Если ты ещё раз произнесёшь слово «колорит», получишь по затылку, — предупредил я Игоря.
Он невозмутимо ответил:
— Ты тёмный человек, Крош, тебе чуждо чувство прекрасного. Ты даже не понимаешь, что это за нэцкэ. Уникальнейшая вещь!
— Откуда ты знаешь?
— Я всё знаю, я так много знаю, что мне уже неинтересно жить.
— Эрудит! — усмехнулся Костя.
— Эта нэцкэ говорит о бренности всего земного, — продолжал выдрючиваться Игорь. — Были знаменитыми музыкантами, стали нищими. Сик транзит глория мунди… Работа Томотады из города Киото, восемнадцатый век. Томотада — второй величайший мастер Японии…
— А кто первый?
— Мива. Мива-первый из Эдо. Но мне Томотада даже нравится больше. Посмотри на этих музыкантов, какая работа! Цена ей верный кусок.
Кусок! Сто рублей! Неужели эта безделушка стоит таких денег? Значит, Костя надул старуху.
— На любителя и все полтора куска, — хладнокровно проговорил Костя.
Этот откровенный цинизм меня возмутил.
— Ты обманул старуху!
— Почему? — невозмутимо ответил Костя. — В антикварном ей дали бы в лучшем случае десятку.
— Итак, мы облагодетельствовали старуху?
— В известном смысле — да, — сказал Игорь.
— Интересно!
— Попади она на любителя, получила бы больше. А если бы нарвалась на жулика? Что старухе надо? Не пьёт, не курит. Когда я ей предлагал десятку, она и то колебалась, — сказал Игорь.
— Ты уже был у неё?
— А кто, по-твоему, разыскал эту нэцкэ? — с гордостью объявил Игорь.
Игорь сбил цену, а потом Костя забрал нэцкэ.
— Вам эта операция не кажется жульнической?
— Нисколько! — ответил Игорь. — Что стоила эта нэцкэ старухе? Ничего! Валялась в доме фигурка. Кто её приобрёл, когда, где, за сколько — никому не известно. Разве это результат её труда, энергии? Прежде чем напасть на настоящую вещь, истинный коллекционер затратит месяцы, а то и годы на поиски, потеряет массу времени и денег. Ты хочешь, чтобы он к тому же покупал по высшей цене? Тогда проще пойти в антикварный и купить лучшие коллекции нэцкэ. Но это уже не будет коллекционированием, истинные собиратели так не поступают. Понял, Крош? А если понял, то закусывай. Пьёшь, а не закусываешь.
Игорь напрасно беспокоился: коньяк на меня не действовал. Мой пищевод надёжно смазан, я мог выпить ещё столько же, пожалуйста! Прекрасное харчо! Прекрасный шашлык! И при всех своих недостатках Костя славный парень!
Непонятно, как отодвинутая мной тарелка задела фужер, — фужер стоял далеко в стороне… Фужер куда-то поехал, и скатерть куда-то поехала, Игорь с шашлыком поехал вслед за фужером, Костя вслед за скатертью… Вместо них появилась наша квартира, потом старуха, потом ещё кто-то, потом была бездонная пустота, потом я снова увидел шашлычную, скатерть, Игоря и Костю с бокалом боржома в руках.
— Выпей!
Я выпил боржом, стало легче, только не хотелось ворочать языком. Что-то мутное подкатывало от живота к горлу, и тогда кружилась голова. Потом откатывало и становилось легче. Всё от харчо и шашлыка, Игорь прав — здесь ни черта не умеют готовить. Харчо надо подавать в горшочках, шашлык нужно жарить по-карски. Не от коньяка же у меня получилось: мой пищевод надёжно смазан сливочным маслом. При воспоминании о масле у меня снова подкатило от живота к горлу.
— Сошёл с тебя загар, — заметил Игорь.
Стакан горячего чая с лимоном немного меня согрел, но всё равно было муторно и противно. Никогда больше не буду есть харчо, не буду есть шашлык, чёрт бы их побрал!
— Не огорчайся, Крош, — снисходительно заметил Игорь, — я тоже так начинал.
— У меня не от коньяка вовсе.
— Вот именно, от боржома.
5
Костя спит на раскладушке в лоджии — крохотном, застеклённом балконе. Над раскладушкой висят боксёрские перчатки, скакалка, тренировочный костюм, на тумбочке — транзистор «Спидола» и газета «Советский спорт».
Костя спит здесь только летом, зимой он спит в комнате. Половину этой комнаты занимает библиотека — отец Кости конструктор, другую половину — рояль, — сестра Кости учится в музыкальной школе при консерватории. Ей двенадцать лет, но она уже сочиняет музыку и упражняется на рояле по восемь часов в день. Упорная.
Прекрасная штука лоджия. Ощущение будто висишь в воздухе и видишь всю Москву. И это — отдельное помещение. Я мечтаю иметь отдельное помещение. И заняться боксом было бы неплохо.
— Знаешь, Костя, я бы с удовольствием занялся боксом. Просто для самообороны.
Костя промолчал.
— Многих вводит в заблуждение мой небольшой рост. На самом же деле я вовсе не слаб, только не знаю приёмов. Я думал овладеть приёмами самбо, но теперь вижу, что бокс лучше. В самбо надо входить в соприкосновение с противником, а в боксе стукнул раз и пошёл дальше.
— Покажу тебя тренеру.
— Не поздно начинать в шестнадцать лет?
— В самый раз.
Чёрт возьми, а вдруг тренер найдёт у меня данные и я стану настоящим боксёром? Может быть, чемпионом среди юношей в своей весовой категории. Колоссально!
— Чем скорее ты покажешь меня тренеру, тем лучше.
— Хоть завтра.
Грубоватый он парень, но ничего, можно дружить.
В лоджию вошёл отец Кости, сел на край кровати, погладил своё колено, посмотрел на нас и улыбнулся. А Костя смотрел в стену и на вопрос отца: «Как дела?» — холодно ответил:
— Ничего.
— Завтра будем испытывать малолитражку. Помучились с ней.
Костя молчал.
— Отличная будет машина, скорость сто, расход бензина — четыре литра.
Мне стало неудобно: Костя демонстративно молчал.
— Каждый гражданин Советского Союза должен иметь автомобиль, — вмешался я в разговор. — В наш век автомобиль то же самое, что в прошлом веке велосипед. На Западе города задыхаются от избытка автомобилей, но у нас в стране места достаточно.
Отец Кости одобрительно кивал головой и поглаживал своё колено — больное оно у него, что ли? А на вид здоровый мужчина, полный, высокий, добродушный.
— Ты как думаешь? — спросил он у Кости.
— Мне всё равно.
Я поразился такому хамскому ответу. Я тоже иногда бываю в ссоре со своим родителем, но если он делает первый шаг к примирению, то надо тоже быть человеком.
— Вы в ссоре? — спросил я у Кости, когда мы остались одни.
Костя ничего не ответил.
— Нет смысла ссориться с родителями — всё равно приходится мириться.
Костя молчал.
— Твой отец работает на автозаводе?
— Да, — ответил он наконец.
— И мой.
Над раскладушкой висел шкафчик. Костя открыл его, и я увидел там маленькую фигурку.
— Нэцкэ?
— Нэцкэ.
— Покажи.
Мальчик-японец сидел на корточках, и на его коленях лежала книга. Но мальчик смотрел не в книгу, а куда-то вдаль, уносился мыслью далеко-далеко. В его лице была такая ясность, чистота, мечтательность, такая радость и утверждение жизни, что просто было непонятно, какими средствами достиг этого художник. И я понял, что передо мной великое произведение искусства.
— Это и есть великий мастер Мива-первый — «Мальчик с книгой», — сказал Костя.
— Тоже собираешь?
— Нет… Так, одна завалялась… Об этой нэцкэ не говори Веэну. Даже не говори, что ты вообще её видел.
— Ладно.
— Смотри!
— За кого ты меня принимаешь?!
6
Во дворе народ толпился у фонтана. Фонтан — центр архитектурного ансамбля нашего двора. Его ремонтируют каждое лето до осени, когда запускать фонтан уже бессмысленно. И всё равно каждый пуск фонтана — крупное событие в жизни нашего дома. И, конечно, в толпе толкался Шмаков Пётр. Мне кажется, что не Шмаков появляется во дворе в момент событий, а события появляются, когда Шмаков появляется.
При виде Шмакова моё настроение омрачилось: новая дружба с Костей вытесняла старую, проверенную временем и испытаниями дружбу со Шмаковым.
А почему новая дружба должна мешать старой, проверенной временем и испытаниями? Разве мы не можем дружить втроём? Шмаков прекрасный товарищ и тоже может заняться боксом, у него для этого все данные.
Шмаков обсуждал с пенсионером Богаткиным технические проблемы фонтана. Ничего в этом Шмаков не понимал, но здорово умел разговаривать с пенсионерами, находил с ними общий язык. А на меня пенсионеры поглядывают так, будто обдумывают, съездить мне по шее сейчас или немного погодя.
Я улучил момент, когда пенсионер Богаткин отвернулся.
— Слушай, Шмаков, хочешь заняться боксом?
— Зачем?
— Для самообороны.
— От кого обороняться?
— От того, кто нападёт.
— Никто на меня не нападёт.
— Сегодня я был в шашлычной с Костей и Игорем, хватили по сто грамм.
— Спекулянты, шайка.
— Уж, во всяком случае Костя не спекулянт у него сестра в консерватории.
— Спекулировать можно не только в консерватории, но и в филармонии, — сказал Шмаков Пётр.
Я не придал значения словам Шмакова. Он не знает что Костя и Игорь выполняют поручения Веэна в интересах искусства. И когда я начинаю с кем-нибудь дружить, Шмаков об этом человеке отзывается скептически. Но его решительный отказ заняться боксом меня смутил: зря Шмаков отказываться не будет, у него есть практическая хватка. И нельзя не признать того факта, что боксом занимается далеко не большая часть человечества.
Дома папа и мама обсуждали поездку по Волге. На днях они уезжают пароходом по Оке, Волге и Каме. Вёз меня. Я уже два раза плавал — скучища смертная. Один раз ещё куда ни шло, но в третий — извините! А папа с мамой любят. Ну и на здоровье!
Я взялся за энциклопедию. У нас их две. Одна — Брокгауз и Ефрон, другая — БСЭ, Большая советская.
Энциклопедия Брокгауза и Ефрона издана в конце прошлого века. Несмотря на это, она содержит много интересных фактов. Любопытно узнавать, как люди смотрели на мир восемьдесят лет назад; иногда это выглядит довольно курьёзно. И видишь, как далеко ушло вперёд человечество.
«Бокс — род кулачной борьбы, состоящей в искусстве наносить противнику удары от головы до живота включительно… Состязания часто кончаются кровью и увечьями… Они прекращаются лишь тогда, когда один из соперников отделает другого так, что последний становится неспособным к продолжению борьбы».
Если отвлечься от наивного выражения отделает, то в самом определении мало заманчивого. Кровь, увечья, удары от головы до живота… Не обрадуешься! В живот ещё куда ни шло, но если долбать человека по кумполу, он в конце концов обалдеет.
БСЭ — современная энциклопедия. Кое-что в ней наворочено в связи с культом личности. Но вряд ли влияние культа личности сказалось на статье о боксе.
«Бокс — вид спорта, кулачный бой… Цель боя — вывести противника из строя ударом в наиболее чувствительную часть тела… — нокаутом… Нокаут сопровождается полубессознательным или бессознательным состоянием, наступающим чаще всего в результате удара в подбородок или в живот».
Это определение более научно. Но «удар в наиболее чувствительную часть тела… В подбородок или в живот. Бессознательное состояние…»
Приятно, конечно, стать чемпионом мира или Европы. Но если тебя заставят харкать кровью, будут лупцевать по животу, долбать по кумполу, повергнут в полубессознательное, а то и вовсе бессознательное состояние, то лучше стать чемпионом по шашкам. А один наш парень стал чемпионом по настольному теннису, тоже всё понимает.
Всё же неудобно просто так отказаться. Вчера набивался, а сегодня откажусь. И возможно, бокс не так страшен, как написано в энциклопедии. Я много раз видел бокс но телевизору и не замечал ни увечий, ни крови. Боксёры прыгали друг перед другом, нанося редкие и, по-видимому, не слишком болезненные удары перчаткой. И может быть, тренер не захочет меня принять — не будет мест или у меня не окажется данных, — допустим слишком короткие руки, с короткими руками противника не достанешь, он тебя достанет.
По дороге на Цветной бульвар, где находится спортклуб, я сказал Косте:
— А вдруг не примут?
— Всех принимают.
— Никому не отказывают?
— Только тем, кто учится музыке.
— Почему?
— Могут повредить губы и пальцы. Ведь ты не играешь на саксофоне?
— На саксофоне я не играю… Но думал поступить в джаз ударником.
— И родители должны разрешить, — добавил Костя.
Я сразу успокоился. Если впутывают родителей, значит, возможны варианты.
Некоторое время мы ехали молча, потом я сказал:
— Всё время думаю о нэцкэ, что мы купили у старухи. Как-то нехорошо получилось.
— Что нехорошо? — угрюмо спросил Костя.
— В сущности, мы её обманули, старуху. Конечно, собирательство — риск и так далее… Но уж больно жалко старуху: живёт, наверно, на пенсию. Ей бы эти деньги здорово пригодились.
— Ты дурак или умный? — спросил Костя.
— То есть?
— В шашлычной за тебя платили? За красивые глаза? И помалкивай.
— Я эти деньги верну.
— Не задержи, — презрительно сказал Костя.
— И никаких ваших нэцкэ больше не желаю знать.
— Никто тебя и не просит.
7
Троллейбус остановился, и я сошёл. Костя даже не посмотрел мне вслед. Ну и чёрт с ним! Шмаков прав: я попал в компанию спекулянтов. Мир искусства, чёрт бы их побрал! Собиратели, гении, пижоны несчастные, тунеядцы! Я им при случае выскажу всё, что о них думаю. Надо быть принципиальным: принципиальность всегда побеждает, беспринципность проигрывает. Торгаши несчастные, перекупщики!
Домой идти не хотелось, и я зашёл в магазин спортивных товаров. На дверях плакат: «Граждане покупатели, вас обслуживают ученики торговой школы». Правильнее было бы написать «ученицы». Почти все продавщицы в магазине — девушки, довольно хорошенькие.
Самая хорошенькая девушка — Зоя, из отдела спортивной обуви. Шмаков целыми днями торчит у её прилавка, мешает людям примерять кеды. Шмаков убеждён, что у него на Зою больше прав, чем у меня, — она высокая, а Шмаков считает, что мне должны нравиться маленькие и худенькие. Если мы знакомимся с девушками, Шмаков сразу пристраивается к той, которая повыше. А мне, между прочим, тоже нравятся высокие девочки. Не такие дылды, как Нора, но, во всяком случае, не маленькие. Известно, что привлекают контрасты: брюнетам нравятся блондинки, толстым — худенькие, весёлым — серьёзные, высоким — маленькие, болтливым — молчаливые. Я много раз объяснял это Шмакову Петру. И вообще оттирать другого плечом глупо.
Если говорить честно, то больше всех мне нравится Майка. Но Майка уехала на всё лето, и перед самым отъездом мы с ней здорово поспорили по поводу одной книги, — забыл, как она называется, нескладно очень, и я не запомнил. И писателя не запомнил, неизвестный ещё писатель. Неизвестный, а сразу написал книгу о неврастенике. В наш век много неврастеников, вот про одного и написал.
Майка возразила, что у него переходный возраст. А я сказал, что никакого переходного возраста не бывает. Например, один наш парень, Мишка Таранов, сын известного Таранова, написал как-то письмо. «Тому, кто захочет читать» — так озаглавил он своё письмо. Мишка писал, что его отец — великий человек, а он, Мишка, ничтожество и не знает, стоит ли ему дальше жить. Развёл муру на четырёх страницах. Все сказали — переходный возраст, а я Мишке сказал: «Глупо сравнивать себя с отцом. Когда твоему отцу было шестнадцать лет, возможно, он был ещё большим хлюпиком, чем ты теперь». Эти слова на него здорово подействовали. Он сразу переменился, теперь его не узнать. Раньше он даже в футбол не играл, а теперь лучше всех в школе танцует твист.
Майка возразила, что герой книги хочет уйти от суеты, хочет завести хижину в лесу и жить вдали от людей. В ответ я сослался на Полекутина, самого высокого и сильного парня в нашем классе; мы его зовём Папаша. Он, как только схватит двойку, объявляет, что уйдёт в пасечники, пчёл будет разводить на пасеке. Я ничего против пасечников не имею, любая работа почётна, но к любой работе надо иметь призвание. Пасечник должен любить всяких там мошек и букашек, а у Папаши чисто технические наклонности. Я привёл этот пример в доказательство того, что желание завести хижину в лесу может возникнуть у любого человека и ровным счётом ничего не доказывает.
И ещё девочкам нравится, когда в книге много блатных словечек. Они это называют «словесными находками».
А я не люблю ругательств. Терпеть не могу, когда ругаются, особенно при женщинах и детях. Типу, который ругается при женщинах и детях, я стараюсь заехать в физиономию. В художественном произведении приходится иногда воспроизводить то или иное ругательство — литература отражает жизнь. Но и не следует забывать, что беллетристика — это бель летр, красивое письмо. В нашем дворе иной раз услышишь такое… но разве этот бель летр я должен совать в книгу, которую сейчас пишу?!
Майка сказала, что герой книги — продукт капитализма. Может быть, не знаю. Но мне всегда подозрительно, когда человек оправдывается капитализмом. На сельскохозяйственной выставке один наш парень стащил яблоко. На классном собрании этот тип встаёт и говорит: «Простите меня, братцы, не я виноват, родимые пятна капитализма виноваты». Видали! Откуда у него, спрашивается, родимые пятна капитализма в шестнадцать лет? Он капитализма в глаза не видел.
И ещё я сказал Майке, что стендалевского Жюльена Сореля не отдам за тысячу таких неврастеников. Майка возразила, что Жюльен Сорель самый обыкновенный обольститель. Я ответил, что если женщина не хочет, чтобы её обольстили, то никто её не обольстит. Майка объявила, что я в этом мало разбираюсь. Я сказал, что разбираюсь побольше, чем она. И ещё сказал, чтобы она не горячилась, а вспомнила бы последние минуты Жюльена Сореля…
«К счастью, в тот день, когда ему объявили, что пришло время умирать, яркое солнце озарило природу, и Жюльен был мужественно настроен… „Ну что, всё хорошо, — подумал он, — я нисколько не падаю духом…“ Никогда ещё его голова не была настроена так поэтически, как в ту минуту, когда ей предстояло упасть с плеч…»
Майка сказала, что век сентиментальности давно прошёл. Я ответил, что термином «сентиментальность» пользуются чёрствые и бессердечные люди. И в эту минуту я понял, что дружба с Майкой меня ни к чему не обязывает. Тем более, что ещё до того, как мы поспорили с Майкой, мне уже нравилась продавщица Зоя из отдела спортивной обуви. Они мне нравились по-разному: Майка — по-интеллектуальному, Зоя — по-другому. А после того как мы поссорились с Майкой, Зоя стала нравиться ещё больше.
Только мешал Шмаков Пётр. Не потому, что он оттирал меня плечом, — я сам могу оттереть кого угодно. А потому, что Шмакову никто, кроме Зои, не нравился, значит, его чувство было глубже моего. И я не хотел мешать его глубокому чувству.
Сейчас Шмаков тоже стоял у прилавка, оттирал всех плечом и разговаривал с Зоей. На покупателей Зоя не обращала внимания. Надо войти и в её положение — не очень-то приятно смотреть на чужие рваные носки. Есть субъекты, которые совсем не считаются с тем, что их обслуживает девушка. Конечно, всякая работа почётна. Но будь я директором магазина, я бы на продажу всего мужского ставил продавцов-мужчин, на продажу женского — женщин.
— Ты что такой серьёзный? — спросил меня Шмаков насмешливо.
Так он обычно разговаривает со мной при девушках, хочет показать девушкам, что он взрослый, а я подросток. Остолоп. Терпеть не могу эти его штуки. И я ответил:
— Шмаков, не будь остолопом.
Но если говорить честно, меня обрадовала встреча со Шмаковым. Шмаков действует больше плечами, чем головой, но он никогда не втравлял меня в спекуляции. И, как верный друг, предупредил меня, что Игорь и Костя деляги. Но я ему не сказал, что он оказался прав, — я знал, что он ответит: «А кого предупреждали?!»
Зоя стояла за прилавком, высокая полная девушка с пушистыми волосами. Когда она проходит по двору, слесари-водопроводчики смотрят ей вслед — так она им нравится. Красивая, ничего не скажешь. Шмаков Пётр стоит как истукан и глаз с неё не сводит. А что такого?
Другое дело на катке… Что-то появляется в девочке новое, таинственное, волнующее, щёки раскраснелись, глаза блестят. И когда катаешься с ней за руки или зашнуровываешь ботинки, чувствуешь себя мужчиной, тем более что надо охранять её от хулиганов. А Шмаков даже у прилавка стоит как истукан, с места его не сдвинешь. И я пошёл по магазину один.
Я бродил по магазину, любовался новыми моторными лодками и думал о Веэне. Он спросит, почему я не хочу больше иметь с ним дела. А я отвечу: не желаю участвовать в объегоривании старух. Не желаю.
8
Но когда я явился к Веэну, он спросил меня совсем о другом:
— Как ты себя чувствуешь после вчерашнего?
Я не сразу сообразил, о чём он спрашивает. Потом сообразил:
— Всё прошло.
— Неудобно отставать от товарищей, — продолжал Веэн. — Тебе простительно, Косте непростительно — спортсмен, боксёр. Нельзя пить — значит, нельзя. Так ведь?
— Так.
А что я мог ответить? Боксёру действительно пить нельзя.
— Игорь сбивает Костю, — продолжал Веэн. — Странный парень, а мог бы, не лишён вкуса.
На Веэне был вязаный джемпер и белая рубашка. Он был ещё строен и спортивен для своих лет.
— Игорь торопится, суетится, поступает часто необдуманно. Вот эта нэцкэ. — Веэн протянул руку к шкафу и снял с полки фигурку музыкантов, ту, что мы купили с Костей у старухи. — Игорь заверил, что нашёл оригинал, — оказалась копия. И Костя хорош! Я ему велел сначала оценить — он не послушался. Впрочем, каждый может ошибиться, так ведь?
— Так.
А что я мог ответить? Действительно, каждый может ошибиться.
— Потеряю на этой афёре пять рублей, а то и все десять. У тебя с собой паспорт?
— С собой.
— Попрошу тебя, сдай эту нэцкэ в антикварный. Дадут десять рублей — хорошо, пять — всё равно оставишь.
— Ладно.
— Потом съездишь с Костей в одно место.
— Хорошо.
— Понравился тебе Костя?
— Мы ещё мало знакомы.
— Костя славный мальчик, но у него сложный характер. Этому есть причины, со временем ты их узнаешь. А пока я бы хотел, чтобы вы подружились.
— Если он не против.
— Я думаю, ты способен расположить его к себе, — не спуская с меня пристального взгляда, продолжал Веэн. — Он кажется угрюмым, но у него доброе, отзывчивое сердце.
Что я мог сказать? Костя показался мне грубияном, но я мог и ошибиться. Я-то думал, что он надул старуху, а выходит, старуха надула его — уверяла, что это подлинник.
Ужасно быть таким подозрительным. А всё Шмаков — он внушил мне подозрительность.
— У Кости не родной отец, а отчим, — сказал Веэн многозначительно.
Не у одного Кости отчим, ничего в этом особенного нет. Но теперь мне стала ясна холодность Кости в разговоре с отцом, то есть на самом деле с отчимом.
— Костя этого не знает и не должен знать, — сказал Веэн.
Это уже придавало делу некоторую таинственность. Но почему от Кости скрывают правду? Отец у человека — тот, кто его воспитал.
— А зачем это скрывать? — сказал я. — Отец у человека — тот, кто его воспитал.
— Отец Кости погиб при особенных обстоятельствах, Костю пришлось записать на отчима.
— Когда Костя узнает правду…
— Он её никогда не узнает. Об этом знаю только я. Теперь знаешь и ты.
— За меня не беспокойтесь.
— Если ты подружишься с Костей, ты сделаешь доброе дело. «Спеши творить добро» — это сказал Гёте. Ты знаешь Гёте?
— Мы проходили «Фауста».
— В жизни Кости есть и другие сложности, со временем ты узнаешь. И я хочу, чтобы он был готов к своему будущему.
Его взгляд вдруг сделался таким задумчивым и печальным, что мне стало жаль и его и Костю и было стыдно за то, что я подумал о них плохое.
9
В антикварном приёмщик равнодушно повертел в руках фигурку музыкантов.
— Поставлю десять рублей.
— Хорошо, — согласился я, радуясь, что Веэн потеряет всего пятёрку.
Я повернулся и увидел Костю.
— Веэн сказал, что ты здесь. Поедем в мотель.
О вчерашнем ни слова. Благородный парень всё-таки.
Я смотрел теперь на Костю другими глазами. Разве не ужасно положение человека, не знающего, кто он такой? Я не допускал мысли, чтобы такое могли скрыть, например, от меня. Лучше знать, чем не знать, пусть даже самое плохое. Это как в драке, если закрываешь глаза, тебя наверняка отлупят. А от Кости скрывали. Я знал про него больше, чем он сам. И это давало мне над ним некоторое превосходство, позволяло быть снисходительным к его недостаткам. Но без заискивания! Сдержанностью показать, что я выше его грубостей.
В автобусе два старичка рыболова рассуждали о язвах. Один говорил, что лучше язва желудка, другой — что лучше язва двенадцатиперстной кишки. Бедняги, дожить до такого разговора! Хотя смешно…
Мотель стоит на пересечении Минского шоссе и кольцевой автострады. При нём станция обслуживания, бензоколонка и буфет.
По шоссе и автостраде, вверху и внизу, в разные стороны шли машины. Освещённое солнцем, всё это выглядело живописно, как на картинке. Мне понравилась эта оживлённая сутолока. Рюкзаки, термосы, удочки, охотничьи ружья в чехлах, раскладушки, сложенные брезентовые палатки, чемоданы… Очень приятно, что вокруг Москвы выстроена такая красивая автострада. Я вообще за то, чтобы каждый гражданин Советского Союза имел собственный автомобиль. Автомобиль в наш век то же самое, что в прошлом велосипед…
Но когда я сказал об этом Косте, он посмотрел на меня, как на идиота:
— Ты уже об этом вчера распространялся.
Он вошёл в мотель, а я остался его дожидаться. Сквозь широкие окна было видно, как Костя взял в буфете бутылку воды и сел за столик, где сидел человек, по виду иностранец.
Глазеть в окно было неудобно, и я прошёлся по станции. В камере для мойки машин медленно двигался автомобиль, его со всех сторон обмывали веерные души, обтирали большие мохнатые щётки. Двадцатый век! Но когда машина выехала из камеры, мойщица шлангом промыла её снизу, сгибаясь в три погибели, а потом обтёрла машину собственным передником, ругая начальство за то, что не дают обтирочного материала. Это меня порядком удивило. Впрочем, мотель — предприятие новое, переживает трудности, и со временем всё наладится.
К мотелю подошли старички рыболовы, рассуждавшие, какая язва лучше. Один пошёл в буфет, второй остался его дожидаться, сложив рыболовные снасти на ступеньках.
В это время из буфета вышли два подвыпивших парня в ковбойках. Один ни с того ни с сего ударил ногой по ведру. Всё покатилось, расплескалось, рассыпалось.
— Понаставили!
Старичок не слишком удачно расположил своё барахлишко. Но это не повод раскидать его. Парни хохотали, глядя, как бедный старик ползает по земле, спасая рыболовную снасть, и приговаривали:
— С умом ставь, отец, чтобы люди ноги не ломали.
Тогда я спокойно сказал:
— Вы их нарочно толкнули.
— Что?! — заорал парень и с кулаками бросился на меня.
И тут же полетел на землю. Это Костя выскочил из мотеля и нокаутировал хулигана. Второй хулиган бросился на Костю, но я подставил ему ножку, и он приложился об асфальт рядом с первым.
На скандал начали сбегаться люди… проверещал милицейский свисток… Я хотел ещё наподдать негодяям, но Костя схватил меня за руку:
— Бежим!
Мы промчались мимо заправочной станции, обогнули ремонтные помещения, пересекли лесок, выбежали на автостраду и вскочили в отходящий автобус.
Мы позорно бежали. А мы ни в чём не были виноваты. Виноваты были хулиганы, а сволочей надо учить. В таких ситуациях мы со Шмаковым Петром никогда не удираем, а Костя сбежал. Не от трусости — будь он трус, он бы не нокаутировал хулигана. Видно, у него были причины не ввязываться в историю. Лицо у него было бесстрастно, как будто ничего не произошло. Но я поймал на себе его пристальный взгляд. Удивлён, наверно, тому, как я ловко подставил ножку.
Мы сошли с автобуса возле какой-то дачной платформы. У кассы висело объявление — ввиду ремонта пути следующий поезд пройдёт в три с чем-то. Мы купили билеты, спустились с платформы и прилегли на травку. Лежать на травке, в холодке, довольно приятно. Я люблю железную дорогу, платформы, сверкающие на солнце рельсы, бесконечную вереницу чёрных, замасленных шпал, хотя именно с железной дорогой связано самое неприятное воспоминание моей жизни.
Это случилось года три назад, я стоял на платформе. Поезд электрички дал гудок и отошёл от станции. И вот, когда со мной поравнялся последний вагон, из окна высовывается толстая морда и плюёт прямо в меня.
Эта хамская, наглая, ухмыляющаяся рожа до сих пор у меня перед глазами. Сознание, что мерзавец трусливо умчался на электричке, я никогда его не увижу, не смогу рассчитаться и его гнусность останется безнаказанной, было так невыносимо, так обидно и оскорбительно, что я чуть не заплакал. А я никогда не плачу — плакать унизительно. Я не плакал, даже когда был грудным ребёнком; врачи велели меня бить — во время плача у ребёнка развиваются лёгкие. И когда сукин сын из электрички оплевал меня, я не заплакал, и чуть не заплакал. Даже сейчас, через три года, у меня переворачивается сердце при воспоминании об этом, в груди клокочет ярость — я бы эту гнусную харю разорвал на части; главное, укатил на электричке. Ни с того ни с сего оплевал меня и укатил на электричке! С тех пор я стою на таком расстоянии от поезда, чтобы до меня не мог доплюнуть ни один болван, будь он хоть чемпионом мира по плевкам.
Костя лежал ничком на траве. Не поднимая головы, спросил:
— Ты зачем ввязался в историю?
— Стоять в стороне?!
— Накостыляли бы они тебе.
— Если будем стоять в стороне, хулиганы совсем распояшутся.
— Не пойму: дурак ты или умный?
— Если мы будем обзывать друг друга дураками…
— Зачем ты ходишь к Веэну? — неожиданно спросил Костя.
— А ты зачем?
— Мне деньги нужны.
— Зачем тебе деньги?
— Для жилищного кооператива.
— У тебя квартиры нет?
— Это отчима квартира.
Я растерянно пробормотал:
— Ты разве знаешь, что у тебя отчим?
— Знаю.
— Кто-то мне говорил, что они скрывают это от тебя.
— Да.
— Они скрывают от тебя, а ты от них? Зачем?
— Объявлю ему, что он мне не отец?!
— Отец у человека — тот, кто его воспитал. Разве обманывать друг друга лучше?
У Кости сделалось такое лицо, что мне стало как-то не по себе.
— А твоего мнения никто не спрашивает! Понял?
— Понял.
А что я мог ответить? Ведь я бестактно вмешался в его личную жизнь.
— Вот и помолчи. — Костя лёг опять ничком на траву.
Он сгрубил, а мне было его жаль. В сущности, он благородный парень: не хочет огорчать своих родителей — скрывает от них, что знает правду о своём родном отце. Замкнутый, грубый, но благородный человек, какой-то одинокий, чересчур «сам по себе», жертва собственного характера — вот кто он такой! Когда человек — жертва обстоятельств, тут ничего не поделаешь, обстоятельства могут быть чёрт знает какие, например, человек попал под машину и стал калекой, тут уж всё — так калекой и останешься. Но жертва собственного характера? Неужели так трудно переменить характер? Поговорил бы откровенно с матерью, с отчимом, тайна перестала бы тяготеть над ними, исчезла бы надобность жить отдельно и собирать деньги на кооператив.
Костя вынул из кармана нэцкэ. Девочка с куклой. Выражение лица у девочки было такое, как будто она потеряла что-то очень дорогое. Это огорчённое выражение было удивительно детским и точным.
Я кивнул в сторону мотеля:
— Там взял?
— Там.
— Красивая вещь… Но почему все нэцкэ такие грустные?
— Тебе бы только веселиться, — сказал Костя.
10
Я люблю подъезжать к Москве, возвращаясь из дальней поездки, — какое-то меня охватывает особенное чувство. Когда я возвращаюсь из ближней поездки, меня охватывает такое же чувство.
Из окна вагона Москва кажется незнакомой, неподвижной; пытаешься разглядеть какую-нибудь улицу, площадь, но нет ни улиц, ни площадей — одно бесформенное нагромождение зданий. Тем приятнее, выйдя из вокзала, сразу узнать и площадь, и улицы, увидеть машины, спешащих людей, почувствовать движение и запахи Москвы. Ты уверен, что всё изменилось, а на самом деле ничего не изменилось. Та же улица, и дома на ней, и магазины, и асфальт двора, ребятишки на песке, пустые ящики у задних дверей магазина спортивных товаров, фонтан и лифтёрши у подъездов. Никто и не заметил твоего отсутствия, смотрят так, будто ты и не уезжал вовсе. Москва-громадина принимает тебя как песчинку.
В магазине спортивных товаров был обеденный перерыв, продавщицы грелись на солнышке, пили ряженку — в нашем доме молочный магазин. Есть ещё булочная и домовая кухня. Питаться можно.
Зоя из отдела спортивной обуви сидела возле подъезда и тоже пила ряженку. Я подсел. Странно, что нет Шмакова Петра. Во время обеденного перерыва он всегда околачивается во дворе. На этот раз его не было, и я уселся на скамейке возле Зои.
В магазине Зоя не улыбается, а во дворе улыбается. Улыбка сонная, глаза сонные, сама полная, медлительная. Только улыбка её обращена ко всем без различия, и кое-кто может эту улыбку неправильно истолковать. Женщине надо хорошенько подумать, прежде чем улыбаться.
Продавщицы пили ряженку, дурачились, болтали с шофёрами. У нас во дворе много шофёров. Тут же отираются слесари и монтёры с телефонной станции, пытаются заговорить с Зоей, хотя и видят, что я сижу рядом. Думают, что Зоя улыбается им, не понимают, что она просто так улыбается.
Откровенно говоря, я не знаю, о чём разговаривать с Зоей, — Шмаков Пётр знает, а я нет. Шмаков может разговаривать с любой девчонкой. Но если потом вспомнить, о чём он разговаривал, то ничего не вспомнишь: междометия какие-то, совсем бессмысленные. А девчонки смеются и реагируют. Смысла никакого нет, а им нравится. Я стараюсь говорить со смыслом, и девчонкам это не нравится; они не смеются и не реагируют, таращат глаза, будто я несу бог весть какую чепуху.
Наконец мне пришла в голову счастливая мысль.
— Сколько стоит подвесной моторчик к лодке?
— Это не в моём отделе, — улыбаясь, ответила Зоя, — спроси у Светланы.
— Говорят, вы должны получить новые мотороллеры?
— И это не в моём отделе, — улыбалась Зоя, — спроси у Раи.
Я просто не знал, о чём с ней говорить. Чёрт её знает, чем она интересуется?!
— Где ты живёшь?
— На Таганке, в Товарищеском переулке.
— Далеко.
— Далеко.
— Братья-сёстры есть?
— Три брата.
— Старше, младше?
— Старше.
— Ты самая младшая?
— Младшая.
— Где они работают?
— На заводе «Серп и молот».
— У меня тоже есть брат, только двоюродный, живёт в Корюкове.
— Хорошо, — улыбнулась Зоя.
Во двор въехала «Волга» и остановилась у подъезда. Из неё вышел Веэн в сером костюме, белой рубашке, спортивный, похожий на английского лорда, какими их рисуют на рекламных картинках американских автомобильных фирм. Машина его так и сияла на солнце. Появление Веэна произвело сильное впечатление на продавщиц магазина спортивных товаров.
Потом, анализируя своё поведение, я понял, что вёл себя мелко, даже подловато. Но в ту минуту я этого не осознавал. Когда Веэн вышел из машины и оказался в центре внимания, мне захотелось быть причастным к эффекту, который он произвёл, к блеску его машины и общему лордскому виду. Такое мелкое и тщеславное чувство во мне шевельнулось. Захотелось порисоваться перед Зоей, похвастаться Своим знакомством. И я по-приятельски кивнул головой Веэну, улыбнулся: привет, мол, дружище, здорово!
— Ах, Крош, здравствуй!
Веэн смотрел на Зою.
— Познакомьтесь, это Зоя.
Веэн улыбнулся ей ослепительной улыбкой.
— Очень рад, — помахал нам ручкой и скрылся в подъезде.
— Мой хороший знакомый, — сказал я небрежно, — искусствовед и антиквар.
— Интересный мужчина.
Эта реплика меня озадачила. Какой он для неё мужчина? Он ей в отцы годится.
— Красивый костюм.
Это — другое дело. Костюм действительно красивый. Женщины чувствительны к одежде, и замечание Зои вполне естественно.
— Хорошо иметь свою машину, — сказала Зоя улыбаясь.
Я не успел изложить свои взгляды по вопросу о собственных машинах — обеденный перерыв в магазине кончился.
Вечером мне позвонил Игорь:
— Старик, едем завтра на машинах за город. Можешь взять свою девушку.
— Какую девушку?
— Зоеньку.
Он уже знает её имя. Впрочем, Игорь тоже отирается в магазине спорттоваров.
— Она не моя девушка.
— Старик, будь мужчиной.
Конечно, я могу пригласить Зою. Но тайком от Шмакова Петра?
— Я поеду один.
— Дело твоё. По пятёрке с носа.
— У меня нет пятёрки.
— Старик, надо достать.
— Негде.
— Ладно, что-нибудь придумаем. Только с отдачей.
— Какой разговор!
…Мы выехали на двух машинах, на «Волге» Веэна и на «Москвиче» Игоря, вернее, брата Игоря. И хотя каждый раз Игорь делает вид, что это его машина, я знаю, сколько унижений ему стоит её выпросить.
На «Волге» ехали Веэн, Нора, я и Зоя. На «Москвиче» Игорь, Костя, Светлана и Рая — подруги Зои, тоже девушки из магазина спортивных товаров. Девушек пригласил Игорь.
— Старик, по спецзаказу, — подмигнул он мне.
Сначала я растерялся, увидев Зою, потом обрадовался. Если бы я сам её пригласил, то совершил бы предательство по отношению к Шмакову Петру, а раз оказался с ней в одной компании случайно, то не совершил. Тут уж кому как повезёт. И без девушки я бы в этой компании имел глупый вид.
Мы взяли с собой массу вещей: палатку, спальные мешки, надувные подушки, газовую плитку с баллончиками, термосы с кофе и чаем, шампуры для жарения шашлыка и сами шашлыки — полуфабрикаты в громадной кастрюле, залитые уксусом и обложенные кружками лука. Набили машины так, что нам с Зоей пришлось сидеть, прижавшись друг к другу. И Зоя не отодвигалась от меня, иногда оборачивалась, смотрела мне прямо в глаза и молча улыбалась.
О Шмакове Петре я не думал. При чём тут Шмаков Пётр? Отираться у прилавка может всякий, это ещё ничего не доказывает. Если бы он нравился Зое, она бы с нами не поехала. Она знать не хочет никакого Шмакова Петра, даже не думает о нём. Я положил свою руку рядом с её рукой, и она не забрала своей руки, дожидалась, когда я возьму её руку в свою, такая у неё была покорная, мягкая рука. И при мысли о том, что я могу пожать её руку, могу даже поцеловать её и она это позволит, меня охватило такое победное, торжествующее чувство, какого я ещё никогда в жизни не испытывал… Никому не позволит, а мне позволит, только мне одному. Я гордился и упивался этим, всё во мне ликовало; я представлял себе тёмный лес, мы стоим с Зоей под деревом, никого нет, и мы одни… Когда Зоя оборачивалась ко мне и улыбалась, мне казалось, что она думает о том же, о чём думаю я… И хотя из-за свёртков и пакетов мне было не слишком удобно сидеть, я боялся пошевелиться, чтобы Зоя не подумала, что я отодвигаюсь от неё.
Нора сидела рядом с Веэном, как герцогиня, презирала и меня, и Зою, и вообще всех на свете.
Мы промчались по Минскому шоссе мимо мотеля, где позавчера были с Костей, и свернули на Звенигородское шоссе, когда уже смеркалось. Проложенная в просеке узкая асфальтовая дорога то опускалась в глубокие долины, то круто поднималась в гору. Кругом был сплошной непроходимый лес, гигантскими волнами он тоже то опускался вниз, то поднимался к горизонту.
— Подмосковные Альпы, — сказал Веэн.
Места, по которым мы ехали, действительно были очень красивы. Но похожи ли они на Альпы — не знаю, я там не был. При слове «Альпы» я вижу ночь, огоньки фонарей в руках монахов и громадных сенбернаров, разрывающих лапами снег, под которым лежит замерзающий путник.
11
Я помогал Косте натягивать палатку, Рая и Светлана собирали хворост, Игорь налаживал магнитофон, Веэн и Зоя готовили шашлык. Нора сидела на пенёчке и злилась на Зою за то, что та помогает Веэну жарить шашлык. И напрасно злилась — кто-то должен помогать Веэну, неудобно не работать, когда пожилой и солидный дядя, да ещё в фартуке, сам жарит шашлык.
Мы с Костей перетащили в палатки спальные мешки, одеяла и подушки. Обе палатки были малы, каждая самое большее на два человека. В них будем спать мы, а девочки будут спать в машинах на откидных сиденьях.
Рая и Светлана старательно таскали хворост. Эти худенькие, молчаливые девочки держались так, будто попали не на обыкновенный пикник, а на какой-то приём, будто мы здесь все наивысшие интеллектуалы, какие-нибудь народные артисты или заслуженные деятели. На Веэна они не смели поднять глаза, так он их подавлял своей респектабельностью. Возможно, он напоминал им какого-нибудь их начальника.
Зоя раздавала еду, намазывала бутерброды и всё такое прочее. У неё это очень мило и естественно получалось, всем было приятно, даже Веэн говорил ей «Зоенька». И только Нора дулась на неё и на всех.
— Первый бокал за наше небольшое, но сплочённое, а потому могучее содружество, — объявил Веэн.
Мы выпили и закусили.
— Второй — за то, чтобы всем было весело и уютно.
Мы опять выпили и опять закусили.
— Третий — за наших милых девушек!
И Веэн чокнулся с Зоей. Она сидела рядом, и он с ней чокнулся.
Освещённые луной, сидящие вокруг пылающего костра, окружённые неподвижным лесом, отрывающие зубами кусочки мяса от горячих шампуров, мы были, наверно, похожи на вурдалаков.
— Вот так наши далёкие предки жарили и ели у костра мясо, — сказал Веэн.
Светлана и Рая слушали его благоговейно. Но шашлык они рубали будь здоров! Крепкие девчонки!
— Выпьем за нашу восьмёрку, — сказал Веэн. — Ведь нас восемь?
— Восемь, — услужливо подсказал Игорь.
Веэн поднял вверх шампур с шашлыком:
— Пока мы независимы, пока мы вместе, пока мы верны и преданны друг другу, нам ничего не страшно и мы всего добьёмся.
— Девочки, я сниму вас в кино! — Игорь обнял за плечи Светлану и Раю. — Посмотрите на их фигурки — Лоллобриджиды!
— Ты уже режиссёр-постановщик? — спросил я.
— Суть в том, что Игорь хочет им помочь, — заметил Веэн. — Это доброе намерение я и ценю в Игоре. В этом мире надо пробиться! Надгробные речи — слабое утешение для тех, кто прозябал при жизни. Д'Артаньяна я предпочитаю всем великим деятелям прошлого, настоящего и будущего. Итак, за д'Артаньяна, Атоса, Портоса и Арамиса!
И выпил. Вначале следил, чтобы пили все, а теперь пил сам по себе. И всё время упирает на трёх мушкетёров. Он ничего больше не читал? А ведь производит впечатление культурного, начитанного человека.
Но свою тираду Веэн произнёс довольно прочувствованно. Она всех тронула. Может быть, потому, что все были на взводе. И хотя я пил только виноградное вино, оно на меня тоже немного подействовало.
— Танцуем! — объявил Игорь и запустил магнитофон.
Светлана и Рая встали, как по команде, и начали откалывать твист. Здорово они его откалывали, ничего не скажешь, только чересчур серьёзно, уж слишком старательно трудились. Игоря сменил Костя, Костю — я, потом опять Игорь, а Светлана и Рая танцевали как заведённые. И фигуры выделывали дай бог! Костя тоже выделывал фигуры. А Игорь танцевал на одном месте, небрежно, с сигаретой во рту. Я тоже танцевал спокойно — такой танец, выдохнешься в пять минут.
— Пресли — певец номер один, — сказал Игорь.
— Если бы Поль Анка не попал в автомобильную катастрофу, то твой Пресли был бы ничем, — возразил Костя.
Но Игорь настаивал на своём: Пресли — певец номер один, Брубек — пианист номер один, Армстронг — труба номер один.
Костя сказал, что пианист номер один не Брубек, а некий слепой негр-импровизатор, он каждый раз импровизирует заново, не может записывать свои импровизации потому, что слепой.
И Костя запустил ленту с этим самым слепым негром. Это была настоящая музыка, не какие-то там буги-вуги. Он играл «Караван» Дюка Эллингтона, и я с первых же звуков понял, что перед нами действительно великий пианист… Пустыня, покачиваясь, вышагивают верблюды, рядом погонщики в белых тюрбанах… Сразу после первых тактов пошли потрясающие импровизации; тема каравана проступала в них едва-едва — надо было обладать тончайшим слухом, чтобы её уловить. Я, конечно, не уловил, и Игорь не уловил, а Костя уловил и стал напевать её. И тогда мы тоже её услышали сквозь бурные, многозвучные импровизации. Я удивился музыкальным способностям Кости. Впрочем, ничего в этом удивительного нет: его младшая сестра уже сочиняет музыку — музыкально одарённая семья. Но это много прибавляло к интеллектуальному облику Кости. И ведь никогда не хвастался своими музыкальными способностями, даже не обнаруживал их. А когда дошло до дела, то обнаружил.
Игорь признал, что слепой негр играет здорово, но ему лично Брубек нравится больше. И если угодно знать, то первый пианист-модернист — это наш Толя Морковкин, только ему негде развернуться. Но основа джаза — труба, и первая труба мира — Луи Армстронг. Что там ни говори, старик Армстронг — первая труба мира. А может быть, он и первый джазовый певец мира. «Великий простреленный тенор» — так с восторгом отозвался о нём Игорь.
Когда я слушаю джаз, мне кажется, что я всё могу. Мне нравится музыка ритмичная, ударная, бравурная. Слова меня не интересуют. Да и какие нужны слова в джазовой песенке? «Я люблю тебя, ты любишь меня, мы танцуем с тобой вдвоём» — вот и все слова. И цыганская музыка нравится. Одни «Очи чёрные» чего стоят! Луи Армстронг и тот их поёт. А ведь цыганская музыка — наша. Все модерняги дуют наши мелодии. Я уже не говорю о русских эмигрантах… Странно только, что они поют с иностранным акцентом. Забыли родной язык? Или это поют их потомки?
Лента кончилась. Мы устроили небольшую передышку. И тут я увидел, что Веэна и Зои на полянке нет. И я спросил, где они.
— Ушли за водой, — ответил Игорь.
«А что особенного в том, что они пошли за водой? — подумал я. — Наберут воду и придут».
Только я это подумал, появились Веэн и Зоя с чайниками и кастрюлями в руках.
Мы снова раздули костёр, стали греть воду, мыть посуду. Но Зоя больше не улыбалась. Только один раз, когда Веэн что-то ей сказал, на её лице мелькнула улыбка, но смущённая, задумчивая, робкая. Мне сделалось вдруг тоскливо. Неужели Веэн вздумал ухаживать за ней?
Сразу пропало победное, торжествующее чувство, владевшее мной, когда мы сидели рядом с Зоей в машине. Тогда я знал, что могу, имею право пожать Зое руку, поцеловать её и она позволит мне это, только мне одному; я гордился и упивался этим, всё во мне тогда ликовало. Теперь во мне ничего не ликовало, было тоскливо и гадко на душе, что-то сломалось, ушло, рухнуло… Позволила Зоя Веэну ухаживать или не позволила — не имеет значения, она дала повод. Майка бы не дала повода. А Зоя дала повод.
Может быть, когда мы ехали с Зоей в машине, ничего и не было? Может быть, это свёртки и кульки её прижимали? Ведь был уже со мной подобный случай. Этой зимой. Мы читали с одной девчонкой «Историю СССР»: в читальне был только один экземпляр, мы взяли его на двоих, сели рядом и стали читать. И вдруг мне показалось, что она нарочно села так близко ко мне. Я просто окаменел, не видел ни одной строки в книге… Я не решался повернуть к ней голову: если я повернул бы к ней голову, мне пришлось бы её поцеловать, глупо просто так поворачиваться. А я ещё никогда не целовал девочек. И после поцелуя я должен буду ей что-то сказать, а что сказать? «Я тебя люблю»? Но ведь я её не любил вовсе. Я сидел как истукан, а она вдруг спрашивает: «Ты дочитал?» Я даже поперхнулся. Честное слово, ничего не мог сказать, только наклонил голову: да, прочитал, мол. Она спокойно перевернула страницу и стала читать дальше. Кончилось тем, что я схватил двойку по истории. Если бы я хоть её поцеловал, не так было бы обидно. Схватил двойку ни за что ни про что.
Может быть, сейчас происходит то же самое? Мне только кажется, что я нравлюсь Зое?.. И всё равно было противно и муторно на душе. А когда я подумал о Шмакове Петре, сделалось ещё муторнее. Веэн совершил подлость по отношению ко мне, но я совершил подлость по отношению к Шмакову Петру. Он любит Зою больше, чем я, у него настоящая любовь, а у меня только увлечение, а я стал за ней ухаживать и познакомил с Веэном. И если Зоя безвозвратно пропадёт для Шмакова, то в этом буду виноват я, его лучший друг.
Надо во что бы то ни стало увезти отсюда Зою. Привезу её в Москву, всё честно расскажу Шмакову Петру, пусть сам с нею управляется. Ведь я не приглашал её на пикник, даже отказался её пригласить. А о том, что я думал, сидя рядом с ней в машине, никто не узнает, и Зоя тоже никогда не узнает.
Но как увезти её? И куда мы пойдём? Выйти на шоссе я смогу, а дальше? Где станция — направо или налево? И есть ли здесь поблизости станция? И как уговорить Зою уехать? Вдруг она откажется? Предложить ей прогуляться, сбиться с пути и уйти в сторону? Здесь не тайга, попадём на какую-нибудь дорогу. Единственное, что нам может помешать, — это звуки магнитофона.
Я подсел к магнитофону. Дорогая штука, конечно, но судьба человека дороже. Меняя ленту, я просунул палец под диск и оборвал проводок.
— Крош, долго будешь ковыряться? — крикнул Игорь.
— Сейчас, — ответил я, обрывая второй проводок.
Потом нажал кнопки — магнитофон не работал.
— Аппарат не работает! — объявил я.
Игорь оттолкнул меня от магнитофона.
— Не умеешь — не берись.
Он начал возиться с кнопками, а я подошёл к Зое:
— Зоя, на минуточку.
Зоя поднялась и пошла за мной.
12
Мы шли по тропинке. Я хотел уйти так далеко, чтобы не было слышно голосов нашей компании.
— Куда ты меня ведёшь?
— Тут… поляночка красивая… Я тебе её покажу.
Мой глупый ответ, по-видимому, удовлетворил Зою.
Голосов уже не было слышно. Кругом стоял тёмный, неподвижный лес, похрустывали под ногами сухие ветки. Я свернул на другую тропинку, с неё на третью. Возможно, это не были тропинки, в темноте ничего было не разобрать, но ветви деревьев не слишком хлестали по лицу значит, не самая чащоба. Мы шли в сторону, противоположную той, откуда приехали, и забирали вправо — я рассчитывал сделать круг, обойти наших стороной и выйти на дорогу, по которой мы сюда ехали. А там или попадётся попутная машина, или шоссе приведёт нас к какому-нибудь жилью.
Мы вышли на широкую просеку. Можно остановиться. Мы присели на поваленное дерево.
— Ну?! — улыбнулась Зоя. Но не своей обычной улыбкой, а так, как улыбается уже взрослая девушка ещё мальчику — чуть насмешливо, немного поощрительно, с примесью любопытства и с оттенком сомнения.
Я хорошо знаю эту улыбочку, чёрт бы её побрал! Месяца два назад на меня с такой улыбочкой посматривала Елизавета Степановна, дамочка из нашего подъезда. Я даже старался почаще попадаться ей на глаза, сидел во дворе и ждал, когда она выйдет, чтобы увидеть эту предназначенную мне улыбку.
Но Елизавета Степановна вдруг перестала улыбаться. Перестала, и всё. Даже не смотрела в мою сторону… Но как-то раз мы стояли со Шмаковым Петром в воротах, Елизавета Степановна проходила мимо и опять улыбнулась. Я было обрадовался, а когда разобрался, то увидел, что эта улыбка предназначалась не мне, а Шмакову Петру. Я даже терзался некоторое время, завидовал Шмакову Петру — он ходил с победным видом, напускал туману и многозначительности. А потом Елизавета Степановна и ему перестала улыбаться и стала улыбаться Ваське Полянскому.
Всё это было давно, месяца два назад. А сейчас мы сидели с Зоей на поваленном дереве, и Зоя улыбалась мне так же, как Елизавета Степановна, — чуть насмешливо, немного поощрительно, с примесью любопытства и оттенком сомнения. Но я хорошо знал цену этим улыбочкам. И, кроме того, твёрдо решил спасти Зою для Шмакова Петра.
— Как тебе нравится наша компания? — спросил я довольно сухо.
— Игорь смешной.
— А Нора?
— Красивая.
— А Костя нравится?
— И Костя нравится.
— А Веэн?
— Кто это Веэн?
— Владимир Николаевич.
— Нравится.
— Так ведь он старик, ему, может быть, сорок лет.
— Он самостоятельный.
— А Шмаков Пётр?
— Петя — тоже самостоятельный.
Окосеешь от такой логики! Что она вкладывает в слово «самостоятельный»?
— А я самостоятельный?
— Ты славный мальчик.
Спасибо! Они самостоятельные, а я славный мальчик, спасибо!
— А если я тебя поцелую?
— А тебе хочется? — спросила Зоя улыбаясь.
Этот вопрос меня озадачил, я не знал, что ответить. Зоя сидела рядом со мной, в свете луны её лицо казалось особенно милым и красивым; я ужасно волновался, мне страшно хотелось её поцеловать. Но если говорить правду, то я ещё ни разу не целовал девочек. В разных дурацких фантах целовал, а по-настоящему нет. У меня перехватило горло, и я едва сумел выговорить:
— Да.
Она улыбнулась, чуть наклонилась, и я поцеловал её в щёку.
Зоя тихонько засмеялась, передёрнула плечиками и прислонилась ко мне. Её волосы касались моего лица, они пахли чем-то приятным и волнующим. Мне хотелось поцеловать Зою ещё раз, но я боялся потревожить её — так ей было тепло и удобно сидеть.
Потом она тряхнула головой:
— Пойдём, миленький, а то неудобно.
После того как я поцеловал Зою, мне уже не было смысла спасать её для Шмакова Петра. И можно спокойно возвращаться назад — уже нет причин всю ночь таскаться по лесу. Но найду ли я дорогу? Дёрнул меня чёрт сломать магнитофон! Мы бы ориентировались по его звукам.
Мы пошли. Я впереди, Зоя за мной. Смелая девчонка! Не боится идти ночью но лесу.
Я старался идти так, чтобы ветви деревьев поменьше хлестали по лицу. Иногда мы останавливались, прислушивались, но никаких голосов не слышали.
— Мы правильно идём? — спросила Зоя.
— А чёрт его знает!
Зачем скрывать правду, раз она такая отважная девчонка?
— Давай поаукаем, — предложила она.
Мы долго аукали, но никто не ответил. Нам ничего не оставалось, как брести вперёд — авось куда-нибудь выйдем. Лично я могу спать под любым деревом. Но Зое не слишком приятно таскаться по лесу в ста километрах от Москвы.
Зоя объявила, что устала.
— Пройдём ещё немного, я чувствую, что дорога близко.
И действительно, мы прошли шагов сто или двести — лес кончился, и мы увидели высокий берег и блестевшую под луной реку.
Теперь я был спокоен. Река — транспортная артерия — куда-нибудь нас выведет, тем более она впадает в Москву-реку — значит, двигаясь вниз по течению, мы приближаемся к Москве.
Мы немного посидели. Я хотел снова поцеловать Зою, но у неё был усталый вид, ей было не до поцелуев, и мне было неудобно соваться с таким делом.
Мы пошли краем леса. Тропинка извивалась между деревьев, то подымаясь по косогору, то опускаясь к берегу. Вдруг мы услышали плеск воды, смех и увидели купающихся людей. Я здорово удивился, обнаружив, что купаются наши.
Я думал, что наш приход произведёт большое впечатление, но ребята не обратили на нас внимания. Только Веэн скользнул но мне особенным взглядом. Ещё только рассветало, всё было окутано предутренней дымкой, и я не могу отчётливо сказать, что это был за взгляд, — я не столько заметил, сколько почувствовал его, такой мгновенный колючий и вместе с тем жалкий и обречённый взгляд. Мне, по правде сказать, сделалось даже неприятно.
Мы сходили с Зоей к машинам, она взяла купальник, я плавки. Купаться ночью, под луной, — замечательно: вода тёплая, тёмная, перспектива реки таинственная, кажется, что все купаются далеко от тебя, и странно слышать их голоса совсем рядом. Зоя не кидалась в воду с размаху, как Нора, а входила робко, осторожно, потом падала, плескалась и улыбалась мне. Я вспоминал, как поцеловал её в щёку, и был счастлив.
Вернувшись к машинам, мы напились горячего кофе из термоса и закусили бутербродами. Говорят, что кофе бодрит, а нам захотелось спать. Мы проспали до двух часов дня и встали усталые, помятые; у Веэна на щеках выступила щетина, редкие волосы на голове свалялись, под глазами желтели мешки. Мы дорубали остатки еды и решили вернуться в город. Девочкам завтра с утра на работу и никому не хотелось ещё ночь мучиться в палатках.
Мы собрали вещи, сломанный магнитофон, сели в машины и тронулись в дорогу. И вернулись в Москву ещё засветло.
13
Я любил Зою и знал, что она любит меня. Я вспоминал запах её волос, тепло её плеча, меня охватывало волнение, и я был счастлив. Мысль о ней не покидала меня ни на минуту. И я с нетерпением поглядывал на часы, ожидая, когда наконец стрелки покажут одиннадцать, откроется спортмагазин и я сумею повидать Зою.
А пока я валялся в постели, просматривал газету — каникулы как-никак. Внизу во дворе грохотали бутылками — привезли молоко в молочную. Молочная работает с восьми, не то что спортивный. И если бы Зоя работала в молочной, она кончала бы в пять, и весь вечер был бы в нашем распоряжении. Стояла бы у прилавка в белом халате, кружевной наколке и отпускала бы хозяйкам кефир и всё такое прочее. Возле неё не отирались бы пижоны которые делают вид, будто интересуются спортивными товарами, а сами только глазеют на продавщиц и пытаются с ними познакомиться. В молочной у прилавка не постоишь, сыры особенно разглядывать нечего, там не потолкаешься, магазин самообслуживания — покажи, с чем пришёл и с чем вышел. Правда, в молочной можно потолстеть. Нажимают на калории с утра до вечера, а Зоя и без того довольно полная.
За завтраком мама инструктировала меня. Послезавтра они с папой уезжают.
Я должен: открывать дверь только через цепочку, следить за газом на кухне, закрывать кран в ванной, гасить свет, покупая кефир, сдавать бутылки, переходить улицы в положенных местах, тратить деньги равномерно, вести себя хорошо.
И не должен: поздно приходить домой, терять ключи, переходить улицу в неположенных местах, есть много мороженого, ломать телевизор, тратить все деньги сразу, вести себя плохо.
Когда было покончено с завтраком и с инструкциями, я отправился в магазин спортивных товаров.
Зоя стояла за прилавком. У меня сердце забилось, когда я её увидел. Она тоже обрадовалась, увидев меня, улыбнулась, и в её улыбке было воспоминание о том, как мы сидели с ней ночью в лесу.
Светлана и Рая в своих синих форменных платьях выглядели совсем не такими красивыми, как на пикнике, они были из тех девушек, которые красивы, когда идут в театр или в фотоателье. А Зоя была красивой всегда, было в ней что-то особенное, только мне принадлежащее, ради неё я был готов на всё, готов был отдать за неё жизнь. Мне хотелось оберегать, охранять её, я задыхался от ненависти к кому-то неизвестному, кто может обидеть её, готов был растерзать его на части.
Но никто Зою не обижал.
Я немного волновался при мысли, что встречу здесь Шмакова Петра. Объяснение с ним было бы не из приятных: не так уж весело огорчать своего лучшего друга. Как там ни говори, я перешёл дорогу Шмакову Петру, увёл у него девушку. Зоя сама хотела, чтобы я её увёл, но Шмакову от этого не легче. Последнее время я как-то вообще забросил Шмакова Петра, а тут ещё увёл у него девушку. И разве втолкуешь ему, что тут нет никакой моей вины?!
К счастью, Шмакова Петра в магазине не было.
Но я опять не знал, о чём говорить с Зоей. Я спросил, как она себя чувствует после пикника? Хорошо. Не опоздала на работу? Не опоздала… О чём ещё спросить?
Рассказать анекдот, что ли? Я знаю смешные анекдоты, но девчонкам они почему-то не кажутся смешными. Всё же я рассказал Зое анекдот о двух английских лордах, поспоривших, чей слуга глупее. Первый лорд велел своему слуге купить автомобиль за один пенс, второй велел слуге поехать в клуб и передать ему, лорду, что он, лорд, сидит дома. Ни слова не возразив, слуги отправились выполнять приказания, из чего лорды заключили, что слуги круглые идиоты. Однако слуги, встретившись на лестнице, объявили идиотами своих хозяев.
«Велел мне купить автомобиль за один пенс, — сказал первый слуга, — а того не знает, что вечером все магазины закрыты. Идиот!»
«Послал меня в клуб к самому себе, — сказал второй, — как будто не мог поднять трубку и позвонить по телефону. Идиот!»
Смешной анекдот, правда? И Зоя смеялась. Но смеялась, оказывается, тому, что один лорд хотел купить автомобиль за пенс, то есть за копейку, а второй послал к самому себе. Именно это показалось ей смешным. А ведь самое смешное — это разговор слуг, ведь они-то действительно оказались идиотами. Но это до Зои не дошло, смысла анекдота она не уловила. Возможно, потому, что её всё время отвлекали покупатели. А может быть, я плохо рассказал. Иной человек расскажет анекдот так, что обхохочешься, а другой так, что выть захочется от тоски.
Я хотел рассказать ей ещё один анекдот, тоже про английских лордов, но Зою позвали на склад принимать товар. И, когда она ушла, я сообразил, что следовало пригласить её сегодня в кино. Впрочем, приглашу послезавтра, когда папа с мамой уедут. Будем каждый вечер ходить с Зоей в кино, а в выходной ездить на пляж.
Я вернулся домой и взял энциклопедию на букву «Д» — дактилоскопия. У Брокгауза и Ефрона этого слова не было. Восемьдесят лет назад такой науки не существовало, люди ещё не знали, что можно пользоваться отпечатками пальцев. Очень хорошо. Чем моложе наука, тем больше в ней возможности для открытий.
Слово «дактилоскопия» я нашёл в Большой советской энциклопедии.
«Дактилоскопия» — (от греческого дактило — палец, скопия — смотрю)… Установление личности по кожным узорам… пальцев… На каждом пальце каждого человека узор различен, и… этот узор не изменяется в течение всей жизни человека. По этим узорам устанавливают личность задержанных преступников, скрывающих своё имя и прошлое. Если…»
…Если с этой личности раньше был снят и зарегистрирован отпечаток пальцев. Только в этом случае его можно сличить с тем, который остался на той или иной вещи…
Значит, если и удаётся обнаружить на древнем предмете отпечаток пальцев, то как я узнаю, кому этот отпечаток принадлежит? Если нэцкэ держали в руках Бальзак, Наполеон или братья Гонкур, то как доказать, что это именно их отпечатки?
Ни с Бальзака, ни с Наполеона при жизни не снимали отпечатков пальцев.
Так лопнула моя очередная фантазия, продиктованная мелким тщеславием. Стыдно сознаться, но до сих пор я ещё иногда воображаю себя то усмирителем дикой лошади или сбежавшего из цирка льва, то знаменитым джазовым певцом или ударником, футболистом, гимнастом или хоккеистом — достаточно мне посмотреть по телевизору соответствующую передачу.
А вот если бы я стал собирать нэцкэ, то делал бы это не из тщеславия, а ради них самих, мне было бы приятно собирать эти фигурки просто так. Они мне нравятся сами по себе, без всякого тщеславия. С каждой нэцкэ связана легенда, сказание или притча (одну из них я поместил в виде эпиграфа в начале повести), они очень привлекательны и поэтичны. И так как я собираюсь стать писателем, то они бы мне пригодились.
Впрочем, намерение стать писателем тоже тщеславно. Хорошо, что мои размышления прервал своим звонком Игорь и сказал, что Веэн просит меня зайти к нему.
14
Веэн встретил меня не так радушно, как обычно, я это почувствовал по его спине. У меня поразительное чутьё на эти холодные, враждебные спины. Такая спина у нашего школьного учителя математики, широкая, равнодушная спина. Когда у меня не приготовлен урок и я с волнением дожидаюсь звонка, я по его спине всегда точно знаю, спросит он меня или нет. Если урок не приготовлен, обязательно спросит.
Некоторое время Веэн молча рассматривал бумаги на столе, я молча рассматривал его недружелюбную спину Потом он сел и минуты две, сощурившись, смотрел на меня так, будто я перед ним провинился. Я ни в чём не провинился, я это хорошо знаю, и вместе с тем мне было не по себе, будто действительно провинился. Я всегда попадаю в истории, чёрт бы их побрал! Ничего не делаю такого, чтобы попадать, а попадаю. Другие отходят в сторону, а я попадаю. И сейчас у меня тоже было ощущение, что я влип.
— Почему ты не сдержал своего слова? — спросил Веэн.
— Какого слова?
— Ты рассказал Косте про его отчима.
— Что вы! Он мне сам сказал, что у него отчим.
— А ты сказал, что знаешь об этом. Зачем?
— К слову пришлось. И раз он уже знает, зачем мне притворяться, что я не знаю?
— Костя выпытывал у тебя, а ты сразу признался. И он понял, что ты узнал от меня никто, кроме меня, этого не знает. Нехорошо.
Неужели Костя у меня выпытывал? Подло с его стороны! Этого я ему никогда не прощу Недаром меня тогда так поразила его откровенность. А я думал, он простой, честный парень. И Веэн опять прав. Он всегда прав, чёрт бы его побрал с его секретами.
— Ладно, — сказал Веэн уже более мягко, — забудем об этом: ты ничего не говорил Косте, я ничего не говорил тебе. Или ты опять передашь ему наш разговор?
— Что вы!
— Я прошу тебя быть сдержанным. Для твоей же пользы.
Я почувствовал в его словах скрытую угрозу.
— Ребёнок и тот ответствен за свои поступки. Мужчина тем более.
Возразить было нечего. Мужчина ответствен за свои поступки.
— Итак, с этим кончено. Веэн протянул мне руку и улыбнулся дружески, как улыбался раньше.
Потом он снял с полки нэцкэ…
Я даже рот раскрыл от удивления, чуть было не сболтнул того, чего не надо. Это была та самая фигурка, которую я видел у Кости и о которой он велел мне молчать, — мальчик с книгой.
— Чему ты удивлён?
— Красивая фигурка, — нашёлся я.
— Да, прекрасная вещь, запомни её хорошенько.
Я повертел фигурку в руках.
— Хорошо запомнил?
— Хорошо.
Веэн поставил мальчика на полку и снял другую нэцкэ — большую круглую пуговицу. На ней был изображён спрут. Его глаз холодно и беспощадно смотрел из-за громадных щупалец, чуть согнутых, напряжённых, готовых обхватить свою жертву и присосаться к ней жадными, хищными, омерзительными присосами.
Вместе со спрутом Веэн протянул мне записку.
— Поедешь по этому адресу, спросишь художника Краснухина. Предложишь ему обменять спрута на какую-нибудь фигурку. Краснухин покажет тебе свою коллекцию. Осмотр коллекции и есть твоя главная и единственная задача. Ты должен установить: есть у него точно такая же фигурка мальчика с книгой или нет. — Веэн протянул руку к шкафу, где стояла фигурка мальчика с книгой, и повторил: — Есть у него такая фигурка или нет — вот что ты должен выяснить. Понял?
Теперь я хорошо всё понял. Эта фигурка мальчика — копия, а Веэн ищет оригинал.
Он ищет его у художника Краснухина, а на самом деле оригинал у Кости.
— Если мальчик у него, — продолжал Веэн, — попроси в обмен на спрута. Он, конечно, не отдаст, а ты ничего другого не бери. В крайнем случае возьми что-нибудь, но условно: скажи, что хочешь посоветоваться, оценить — это у нас практикуется. Всё понял?
— Понял.
— И последнее. Адрес Краснухина ты получил у своего товарища, скажем у Жени Иванова. Меня не назовёшь ни в коем случае. Если спросит, знаешь ли ты меня, — нет, не знаешь! Прислал Женя Иванов, и всё! Какой Женя Иванов? Женя Иванов, одноклассник, Женя Иванов тоже собирает нэцкэ. Это ты тоже понял?
— Конечно.
— Подойди к шкафу, ещё раз посмотри мальчика и как следует его запомни.
Я подошёл к шкафу. Мне незачем было рассматривать мальчика: я и без того хорошо его запомнил. Я только скользнул по нему взглядом, посмотрел на другие фигурки и вдруг… Я увидел бродячих музыкантов, тех самых, что Костя купил у старухи и которых я сдал в антикварный магазин.
Веэн заметил моё удивление и небрежно сказал:
— В конце концов я достал подлинник музыкантов.
15
Веэн сказал неправду. Когда человек врёт, мне становится стыдно, и тогда я безошибочно узнаю, что он говорит неправду. Это те самые бродячие музыканты, что мы за бесценок купили у старухи. Веэн обманывает меня. Но и Костя обманывает Веэна — подлинный мальчик у него.
А я не хочу никого обманывать, не хочу, чтобы обманывали меня, не люблю говорить неправду. Когда говоришь неправду, то со временем забываешь, какую неправду ты сказал, и говоришь новую неправду. И чтобы не запутаться, приходится всю жизнь помнить, как именно ты соврал.
Конечно, Веэн искусствовед, антиквар, обаятельный человек и так далее, но зачем он обманывает меня? И ухаживание за Зоей. И этот затаённый взгляд, так поразивший меня в лесу.
Безусловно, нэцкэ — произведения искусства, но разве искусство покупается и продаётся? Разве коллекционирование построено на обмане? Я представлял себе коллекционирование по-другому.
Почему Веэн сам никуда не ходит, сам не достаёт, не обменивает своих нэцкэ? Почему такая таинственность? Почему Костя убежал из мотеля? Я ни от кого не хочу убегать — убегать унизительно. Почему я должен всё скрывать от своих родителей, разве я делаю нечто предосудительное? Почему они так темнят с отчимом Кости? Что за тайна такая, что за секрет? В сущности, если меня что и интересует, то именно это. Конечно, я могу бросить их компанию, но это значит бросить и Костю. А я не хочу бросать Костю. Он замкнутый, грубый, но хороший и чем-то несчастный парень.
Я пойду к художнику Краснухину. Но не для того, чтобы узнать, есть ли у него фигурка мальчика с книгой, я-то ведь знаю, что её у него нет. Я пойду, чтобы поближе познакомиться с делом, которым они занимаются и которым, по странному стечению обстоятельств, приходится заниматься и мне.
Что такое, в конце концов, эти самые нэцкэ?
Нэцкэ — миниатюрная японская скульптура. Вот всё, что я о них знаю. Предмет коллекционирования. Но видно, не такой уж простой предмет, если вокруг него происходят такие странные и загадочные вещи.
Как всегда, я начал с Брокгауза и Ефрона. Слова «нэцкэ» там не оказалось. Я посмотрел на букву «е», не «нЭц-кэ, а „нЕцкэ“, но и тут ничего не нашёл. Я вспомнил, что до революции употреблялась буква ъ — ять. Употребление старых букв, вроде „ь“, „i“, „0“… и твёрдого знака — большое неудобство Брокгауза и Ефрона: ищешь слово, а оно, оказывается, раньше писалось совсем по-другому. Но на „ъ“ нэцкэ я тоже не нашёл.
Не оказалось этого слова и в Большой советской энциклопедии. Странно! Нэцкэ — старинная вещь, есть нэцкэ семнадцатого века, а в энциклопедиях они даже не упоминаются. Громадную, на пятьдесят восемь страниц, статью «Япония» я прочитал от первой до последней строчки. Прочитал и общие сведения, и физико-географический очерк, и про берега, рельеф, полезные ископаемые, растительность, животный мир, население, промышленность, транспорт, сельское хозяйство, внешнюю торговлю, финансы; всю историю прочитал с незапамятных времён — про феодализм, абсолютизм, буржуазные революции; познакомился с государственным устройством, религией, вооружёнными силами, политическими партиями, профсоюзным движением, просвещением, философией, литературой, искусством и архитектурой, музыкой, театром и кино. Но слова «нэцкэ» нигде не нашёл.
Я снова взялся за Брокгауза и Ефрона, прочитал и там статью про Японию. Опять пошли всякие сведения и таблицы, гидрографии, средние температуры, осадки, фауна и флора, плотность населения, возрастные группы, сословия, эмиграция и иммиграция, земледелие, горные промыслы, обработка масличных семян, капиталы, банки, страховые общества, монетная система, оспопрививание и всё такое прочее…
И наконец в главе «Японское искусство» я обнаружил единственное упоминание о нэцкэ. Оказывается, нэцкэ — это «маленькие фигурки, носимые на поясе для пристёгивания к ним разных мелких предметов». Вот всё, что там было сказано про нэцкэ. Для того чтобы прочитать эту короткую и мало что говорящую фразу, я потратил столько времени, изучил Страну восходящего солнца со всем её рельефом и финансами.
Конечно, Япония древняя страна, но как же с нэцкэ? «Маленькие фигурки, носимые на поясе для пристёгивания к ним разных мелких предметов». Почему мелкие предметы надо пристёгивать к поясу, да ещё с помощью нэцкэ? И при чём здесь искусство? И почему за ними так охотятся?
Ни на один из этих вопросов я не нашёл ответа ни у Брокгауза, ни в БСЭ. И тогда я отправился в читальню.
Я не люблю читален, особенно больших. Тишина, неподвижность, того и гляди, упадёшь со стула. Можно выходить в буфет, в уборную, в курилку, но если всё время выходить, то какая это работа? Начинаешь потихоньку поглядывать на соседей и обнаруживаешь, что и они на тебя поглядывают. Девчонки поглядывают так, будто ты не работать сюда пришёл, а бездельничать. Самим хочется побездельничать — скука смертная. Попадаются, конечно, дубы — как прирастут к стулу, так не оторвут от него своего седалища. Но я не могу — я люблю наблюдать людей. Сегодня здесь главным образом поступающие в вуз, это видно невооружённым глазом. Первого августа вступительные экзамены — вот они и вкалывают. Никого другого сюда летом палкой не загонишь.
Свободных стульев было много, но к какому ни подойдёшь, перед ним на столе книги и тетради — занято. Наконец я нашёл свободное место, разложил книги и зажёг лампу. На соседей я пока не обращал внимания, хотелось поскорее прочитать про нэцкэ. И можете себе представить, в первой же книге была целая глава о нэцкэ с фотографиями. Оказывается, нэцкэ великое множество: каждый японец носил на поясе нэцкэ, а Япония — одна из населеннейших стран мира.
В традиционном японском костюме нет карманов. То, что европеец носит в кармане, японец носит на поясе: трубка, кисет, коробочка для лекарств, веер, печать, ручка, карандаш. Всё это, связанное вместе или в специальной коробочке, закрепляется на одном конце шнура, а другой его конец протягивается сквозь нэцкэ, в которой для этого есть две крохотные дырочки.
Таким образом, нэцкэ — своего рода пуговица, брелок, застёжка. Со временем их стали делать в виде фигурок из камней, слоновой кости, панциря черепахи и самые лучшие из дерева: самшита, сандалового или вишнёвого. Постепенно они становились украшением, а затем и произведением искусства. Не все, конечно, а те, что были созданы великими мастерами, богатыми лишь талантом, могучим воображением, поразительным вкусом и трудолюбием. Это — высокое и подлинно народное искусство.
Просто удивительно, что я сразу наткнулся на книгу, так полно освещающую этот вопрос, хотя это книга не об нэцкэ, а об японском искусстве вообще. Специальные книги о нэцкэ есть на английском языке. Одну из них я тоже выписал. В ней воспроизведены пятьдесят цветных репродукций нэцкэ поразительной красоты. Просто счастье, что я догадался её выписать. Пятьдесят самых дорогих и редких нэцкэ, составляющих славу японского искусства. И среди них фигурка мальчика с книгой, фигурка, которую я видел у Кости, потом у Веэна и которую должен найти у художника Краснухина. Теперь я понимаю, почему Веэн так охотится за ней.
16
В рубашке с закатанными рукавами и в джинсах, художник Краснухин сидел на низком табурете и лепил. Рубашка его и джинсы были испачканы гипсом, алебастром, извёсткой, углём и красками. Кругом на стенах и на полу были картины, слепки, гипсовые маски, мольберты, подрамники, инструменты, верстак, станки — токарный и шлифовальный, мотки проволоки, куски необработанного дерева, причудливые корневища. Широкая, продавленная тахта была завалена журналами, альбомами. На покосившемся столике стояли бутылка с пивом, коробка с табаком и телефон. Видно было, что здесь человек работает. Человек с толстыми, сильными руками, короткой шеей и широкой могучей грудью. Каштановые волосы двумя прядями падали ему на лоб, и Краснухин всей пятернёй откидывал их назад, а пятерня была в глине. Это мне понравилось. Он был полноват, оттого что работник, ему некогда было заниматься спортом. Передо мной был совсем другой тип коллекционера, именно такой, каким я себе представлял настоящего человека искусства. В его открытом лице, в больших, синих, немного выпуклых глазах, которыми он вращал, когда разговаривал, не было ничего затаённого, ничего лукавого. Я сразу понял, что тоже не сумею с ним хитрить и лукавить. Я вообще не умею хитрить и лукавить. И не желаю обманывать этого художника-работягу ради какого-то сноба и пижона Веэна.
Мастерская была довольно большой, но сама квартира маленькой. Я прошёл через тесный коридорчик, загромождённый вешалками, шкафами, коробками. Из кухни доносился запах жареной трески, из второй комнаты — детские голоса. Это были дети Краснухина — Галя и Саша; они появились в мастерской, как только я вошёл туда. Гале было лет семь, Саше — четыре, он сосал палец и пучил на меня глаза, такие же большие и синие, как у Краснухина, и он вращал ими так же, как отец. И у Гали были такие же большие синие глаза. Поразительно глазастая семья, честное слово!
Наглядевшись на меня, дети залезли на диван, стали прыгать, шуметь, кувыркаться. Краснухин, не глядя на них, говорил: «А ну марш отсюда!» Но они не обращали на эти слова никакого внимания, продолжали прыгать и шуметь. И самому Краснухину они, по-видимому, не слишком мешали. Или он просто такой добрый — не может их выгнать.
Краснухин не спросил, кто я и откуда, взял у меня спрута, рассмотрел.
— Что ты хочешь за него?
— А что у вас есть?
Краснухин повращал глазами.
— Мало ли что у меня есть…
Он отодвинул мольберты, за стеклом шкафа стояли нэцкэ. Много нэцкэ. У Веэна большой шкаф, и каждая нэцкэ видна, как на выставке. А здесь шкаф небольшой, и фигурки стояли тесно, в несколько рядов.
Перебирая нэцкэ и отыскивая ту, которую он собирался дать мне за спрута, Краснухин спросил:
— Давно собираешь?
— Нет.
— Знаком с настоящими коллекционерами?
— Так, с некоторыми…
Мои ответы были неуверенными, мне было стыдно врать. Краснухин внимательно посмотрел на меня. Тем временем Галя и Саша расшумелись на диване так, что мы с Краснухиным почти не слышали друг друга.
— Люда, забери их! — крикнул Краснухин.
В мастерскую вошла молодая женщина, тонкая и стройная, с прекрасным и измученным лицом, какое, наверно, и должно быть у жены настоящего художника: она и натурщица, и мать, и хозяйка в доме, где мало денег и много неприятностей.
Она позвала детей, и они покорно пошли за ней.
Краснухин поставил на стол несколько нэцкэ:
— Выбирай.
Ни одна нэцкэ мне не понравилась. Лебедь, черепаха, крыса, лягушка, кучка грибов, заяц… Наверно, Краснухин предлагал мне не лучшие нэцкэ — да ведь и спрут не многого стоил. И кроме того, мне нравились фигурки людей. Меня охватил азарт обмена, как будто я меняю нэцкэ для себя.
В эту минуту я понял, что коллекционирование — это страсть, игра и риск.
— Мне нравятся изображения людей, — сказал я.
Я показал на ярко раскрашенную фигурку клоуна в колпаке, широченных брюках, с красным, весёлым, разрисованным лицом. Одна нога его была приподнята, он притопывал, приплясывал, излучал радость и веселье. Такую нэцкэ я бы взял с удовольствием.
Краснухин повращал глазами.
— Мало ли, брат, что тебе нравится. Ты, я вижу, не дурак.
— А вы знаете такую нэцкэ — мальчик с книгой? — спросил я.
Краснухин пристально посмотрел на меня.
— Откуда ты знаешь про неё?
— Читал.
— Это знаменитая нэцкэ, — сказал Краснухин, — лучшая из коллекции Мавродаки.
— Кто такой Мавродаки?
— Ты собираешь нэцкэ и не знаешь, кто такой Мавродаки?
— Не знаю, — признался я.
— Коллекция Мавродаки была лучшей в стране.
— Вы сказали Мавродаки?
— Мавродаки.
— А где он?
— Его уже нет.
Странный ответ. Что значит «его уже нет»? Умер? Тогда так и надо сказать: умер. Но по тому, как Краснухин это произнёс, я понял, что он не хочет об этом говорить, и я только спросил:
— А коллекция?
— Исчезла.
— Совсем?
— Изредка появляются отдельные экземпляры, но из разных источников — коллекция разрознена.
— А фигурка мальчика с книгой?
— Не появлялась…
Он помолчал и задумчиво добавил:
— Такие великолепные произведения искусства, а их превращают в предмет спекуляции и наживы.
И посмотрел на меня так, будто именно я превращаю нэцкэ в предмет наживы и спекуляции. Не догадывается ли он, от кого я пришёл?
— Ну как, обмен не состоялся? — спросил Краснухин.
— По-видимому, нет.
Какой мне смысл меняться для Веэна?
Опять, вращая глазами, он посмотрел на меня. Чёрт возьми, как он странно смотрит!
— Ладно, — широкой ладонью Краснухин сгрёб фигурки со стола, — будет время — заходи.
17
Самое лучшее в плавании по реке — это отвал. Гремит музыка, река далеко разносит звуки радиолы, люди веселы и возбуждены. На палубе хлопочут матросы, взбегают по трапам стюардессы; здесь свой, особенный, независимый плавучий мир. Сверкает на солнце белый теплоход. Речной вокзал, лёгкий, красивый, устремлён в небо. С реки дует прохладный ветерок, катера, хлопая днищем, вздымают белую пену бурунов. На меня пахнуло запахом реки, и мне снова захотелось прокатиться по ней… Не так уж это скучно, в конце концов. Берега, пристани, деревни, города, рыбаки, створы, шлюзы, бакены…
Но я не могу ехать — у меня Зоя. На кого я её оставлю? На пижонов, которые толкутся у прилавка? Или на Шмакова Петра, который увязался за мной в Химки и сейчас, как и я, стоит на причале.
Вот за своих стариков я рад. Будут сидеть на палубе, папа будет играть в преферанс. Иногда и мама будет играть, но без папы: вместе они не играют, поссорились как-то во время игры и с тех пор играют отдельно. Будут покупать на пристанях огурцы и помидоры, и свежую сметану, и живую рыбу, если попадётся, и арбузы, и дыни…
Они славные старики, мои родители. Вся их жизнь в труде. Папа целый день на заводе, мама в издательстве. Она корректор, читает рукописи и вёрстки, выискивает в них ошибки. Они рады малейшему развлечению: гостям, театру, всяким дням рождения, всяким там новогодним подаркам и сюрпризам. Мне эти радости кажутся не слишком значительными, но, если разобраться, каждый развлекается по-своему, у каждого свой вкус и свои пристрастия. Им, например, не нравятся некоторые отличные, на мой взгляд, современные молодые поэты, писатели и художники. Я их за это не осуждаю, но некоторый консерватизм налицо. Их интересы несколько ограничены рамками мира, в котором они работают, они не решают общих вопросов жизни. А человек, как там ни говори, должен выходить за сферы своего индивидуального существования.
Прощаясь, папа говорит своё обычное: «Будь человеком!» Так он говорит всегда, прощаясь: «Будь человеком!» Другие, может быть, этого не понимают, а мы с ним хорошо понимаем. Будь человеком, и всё! И это лаконичное «будь человеком» производит на меня большее впечатление, чем предупреждения о газе и мусоропроводе.
Но когда мама поцеловала меня, провела рукой по моей щеке и тревожно заглянула мне в глаза, я чуть не заревел, честное слово! У кого это сказано: «…матери моей печальная рука»?.. «Звезда полей над отчим домом и матери моей печальная рука». Это Бабель сказал, вот кто! У Бабеля в «Конармии» эти строчки.
Опять гремела музыка, все махали платками. Теплоход отдалялся, иллюминаторы на нём становились совсем крошечными, потом и люди стали крошечными, они продолжали махать, но лиц их уже не было видно.
К этому событию Шмаков Пётр отнёсся спокойно. Не его родители уехали, а мои. Но когда уезжают его родители, он тоже невозмутим. Его родители то в Индии, то в Египте: они энергетики или гидростроители и работают на Востоке. Шмаков Пётр привык к тому, что они всё время уезжают, относится к этому чисто практически. И как только теплоход скрылся из глаз, задал мне практический вопрос:
— Сколько тебе отвалили?
— Тридцать.
Он произвёл в уме какие-то вычисления и сказал:
— Пятнадцать ре свободно можешь прогулять.
В ответ я промолчал. Не стану же я докладывать Шмакову свой бюджет. Какое, спрашивается, ему дело!
— Посидим в ресторации, — предложил Шмаков, — я ещё никогда здесь не был.
— Я уже пообедал.
— Что значит пообедал? Я тебе не обедать предлагаю, а поесть стерляжьей ухи. Ты ел когда-нибудь стерляжью уху?
— Я сыт.
— Стерляжья уха — это не еда, это деликатес. Идиотство — быть в Химках и не поесть стерляжьей ухи. Кретином надо быть. Стоит самое большее три с полтиной. Вернёмся домой, я тебе свою половину отдам.
— Ты отдашь!!!
— Чтобы мне воли не видать.
— Не хочу.
— И после этого называешь меня жмотом? Сам ты жмот.
Ничего нет неприятнее обвинения в скупости. Но зачем мне эта дурацкая стерляжья уха? Пижонство!
— Нет, нет и нет, — решительно сказал я, — пойдём на пляж, искупаемся.
— Я есть хочу.
— Не умрёшь.
На пляже я купил плавки с карманчиком на «молнии» и вышитым якорем. Зое будет приятно появиться со мной на пляже, если на мне будут такие шикарные плавки. Если бы Шмаков Пётр уговорил меня пойти в ресторан, я бы эти деньги всё равно прожрал. Я их чудом отстоял: ведь от Шмакова невозможно отвязаться.
Такие плавки могут быть только на хорошем пловце или прыгуне в воду. Плавал я неплохо, а прыжками в воду надо будет заняться. Мы приходим с Зоей на пляж, она сидит рядом со мной, восторгается теми, кто прыгает в воду, а я молчу. Молчу, молчу, а потом этак небрежно поднимаюсь на вышку и хоп — прыжок ласточкой! Хоп — двойное сальто с оборотом! Хоп — обратное сальто с переворотом!.. Зоя рот разинет от удивления. Как здорово, что я купил плавки, не потратил деньги на идиотскую стерляжью уху. Недоставало идти на поводу у такого низменного инстинкта, как чревоугодие. Надо есть простую, здоровую пищу. От излишества развивается подагра, склероз и всякая такая муровина.
— Эх, ты! — простонал Шмаков Пётр. — Что такое плавки? Яркая заплата на ветхом рубище пловца. А так пожрали бы стерляжьей ухи. Теперь самый стерляжий сезон, самый стерляжий лов.
— Нашёлся гастроном, — сказал я насмешливо, — стерляжьей ухи ему захотелось. Может быть, тебе ананасы подать? Ананасы в шампанском? Кофе-гляссе!
— Слушай, — перебил меня Шмаков, — а ты, оказывается, ездил с Зоей на пикник?
Вопрос застал меня врасплох.
— Да, были…
— Со своей бражней?
— В компании были.
— Почему мне не сказал?
— А где тебя было искать? Меня самого позвали. Прокатились, покупались, шашлыков поели…
Я говорил совсем не то, что хотел, не то, что надо было… Надо было прямо сказать: мы с Зоей любим друг друга, встречаемся и будем встречаться. Но у меня не поворачивался язык это сказать, я не мог огорчить Шмакова Петра таким сообщением. И между нами не принято говорить про любовь: Шмаков начнёт смеяться, а я не хотел, чтобы он смеялся над этим, сделал бы это предметом своих глупых шуток.
И я ничего не сказал Шмакову Петру, хотя было самое удобное время сказать. А я мямлил. Боялся, что Шмаков встанет и уйдёт. Будет топать пешком от самых Химок — денег у него, как всегда, нет. Если я это допущу, буду последним гадом. Тем более, он из-за меня сюда приехал.
— А шашлыки были хорошие? — спросил Шмаков.
Ну, Шмаков! Тоскует о шашлыках. Всё! Теперь я ему ничего не обязан рассказывать.
Шмаков зевнул.
— Надо сегодня зайти к Зойке, пригласить её в киношку.
У меня сердце оборвалось: я сам собирался пригласить Зою сегодня в кино. Надо было мне сказать это раньше, а теперь первым сказал Шмаков и, следовательно, имеет право первым пригласить её.
— Между прочим, я сегодня тоже собирался пойти с ней в кино.
— Красота! Возьмёшь билеты на троих.
— Почему я должен брать билеты на троих?
— Ты при деньгах.
— Мы собирались пойти вдвоём.
— Думаю, она пойдёт всё же со мной, а не с тобой, — объявил Шмаков.
— То, что ты целыми днями отираешься у её прилавка, ещё ничего не доказывает. Отираться у прилавка может всякий. Она пойдёт именно со мной.
— Мальчик, куда ты лезешь?
— Имею основания так предполагать.
— Может быть, спросим у неё самой?
— Хоть сейчас.
Мне уже не было жалко Шмакова Петра. Уж слишком вызывающе ведёт себя.
…Зоя стояла за прилавком и разговаривала с высоким парнем. И по тому, как парень небрежно облокотился о прилавок, как Зоя с ним разговаривала, смеялась и улыбалась, было ясно, что это не просто покупатель, даже вовсе не покупатель: покупателям Зоя не улыбается. Странно! Какой-то верзила расположился возле Зои, как у себя дома, заливается, треплется, видно, болтун из болтунов. А нам Зоя хотя и кивнула, но довольно сдержанно, даже небрежно, как далёким знакомым.
— Что за фрукт? — спросил Шмаков Пётр.
— Брат, — ответил я, не задумываясь.
— У неё есть брат?
— Даже три, — объявил я, окончательно подавив Шмакова своей осведомлённостью. — Как поступим?
— Что ж, при брате, неудобно при брате.
— Мне лично всё равно, могу и при брате.
— Неудобно, — повторил Шмаков, — отложим.
— Если ты этого хочешь, пожалуйста, — согласился я.
18
Полная неожиданность. Веэн остался мной доволен. Ходил по комнате, потирал руки и говорил Косте и Игорю:
— Я не ошибся в Кроше. Клоун у Краснухина, понятно… А мальчика с книгой нет?
— Я не видел.
Костя и бровью не повёл.
— У тебя есть возможность ещё раз проверить, — сказал Веэн, — пойдёшь к нему с другой нэцкэ. Контакт установлен. Зачем Краснухину нэцкэ? Он художник, а не коллекционер, должен создавать, а не собирать.
— Он хороший художник? — спросил я.
Веэн состроил гримасу:
— Не без дарования, но оригинальничает, мне приходилось о нём писать. Принципы достойны уважения, но нереализованное искусство — не искусство. Талант требует признания, иначе он хиреет.
— Разве нет художников, получивших признание после смерти? — спросил я.
— Таких художников нет, — категорически объявил Веэн. — После смерти можно получить большее признание, но, не получив при жизни никакого признания, не получишь его и после смерти.
— Но он ещё сравнительно молодой.
— Как сказать… Он окончил институт, вернувшись с фронта. Впрочем, как художник он нас интересует меньше всего. Нас интересует его нэцкэ. Он не собиратель, собиратели — мы. Каждая коллекция — эпоха, каждый великий художник — эпоха. Если мы сумеем собрать все имеющиеся у нас в стране работы Мивы-первого, Ядзамицу, Томотады, Мадзанао — это будут коллекции мирового класса.
— Возможно, Краснухин тоже составляет коллекцию, — предположил я.
— Краснухин собирает между прочим, — с раздражением ответил Веэн, — а для меня это — главное дело жизни. Чем выше цель, тем больше прав у человека на любые средства в этой борьбе. Или Краснухин завладеет моими коллекциями, или я завладею нэцкэ Краснухина, нэцкэ других любителей (Веэн произнёс это слово с презрением) и создам одну из величайших коллекций в мире. Моральное право на моей стороне. А ты как думаешь? — неожиданно спросил он меня.
— Я плохо разбираюсь в этом, — ответил я уклончиво.
— Будешь разбираться! Пошёл в библиотеку, познакомился с литературой — это мне нравится, это серьёзный подход к делу.
Эти слова были адресованы Игорю и Косте, но они сделали вид, будто это относится вовсе не к ним.
— Но того, что есть у меня, ты не найдёшь ни в одной библиотеке, — продолжал Веэн. — У меня есть все, что вышло о нэцкэ на любом языке. Вышло не так много. Капитальное исследование впереди.
Это было сказано тоном, показывающим, что именно он, Веэн, напишет капитальный труд о нэцкэ.
Я неизмеримо вырос в глазах Веэна, в глазах Игоря и Кости. И всё из-за того, что перелистал несколько книг о нэцкэ. Естественное дело — познакомиться с вопросом, которым ты занимаешься. Но на них это произвело большое впечатление, подняло мой авторитет. Я стал полноправным членом их компании. Испытательный срок прошёл. Я выполнил самостоятельное поручение, выполнил удачно, обнаружил серьёзный подход к делу.
Костя молчал. Из-за того, что он передал Веэну наш разговор об отчиме, я стал относиться к нему холодно. Он это, видимо, чувствовал и потому молчал.
Игорь, правда, пытался протолкнуться со своими насмешками. Мол, Крош серьёзный человек, склонен к исследовательской работе. Но шуток его никто не подхватил, и он заглох.
Веэн вынул из шкафа нэцкэ:
— Пойдёшь к Краснухину вот с этим.
Это была большая пуговица с изображением бамбука. Видно было, что бамбук сейчас упадёт, доживает последние минуты. Чем достигалось такое ощущение — не могу сказать. Вероятно, расположением колец, их особенным рисунком, выражавшим последние судороги ствола, который только что был живым и стройным. Поразительное искусство — эти нэцкэ, могучие художники их создавали.
— Это уже что-то, — говорил Веэн, любуясь нэцкэ. — Краснухин её, несомненно, знает. Меняться будешь только на Миву-первого. Пусть покажет, что у него есть, так мы и выясним его коллекцию… Кстати, Крош, как у тебя с деньгами?
— У меня есть.
— Ты ведь теперь один, — улыбаясь, сказал Веэн. — Если оскудеешь, приходи. Тарелка супа всегда найдётся.
Мы вышли от Веэна: я, Костя, Игорь.
— Кто куда, а я в парикмахерскую, — сказал Игорь.
— В какую? — спросил я.
— В салон, где ещё можно прилично постричься! — Он критически осмотрел мою голову. — И тебе не мешает.
Я сам знал, что не мешает. Но я не решался идти один в салон, не знал, какие там правила. А с Игорем можно, Игорь знает все правила.
— Я стригусь у Павла Ивановича, — сказал Игорь, — знаю всех мастеров, и все мастера знают меня. Посажу тебя к специалисту, метнёшь ему полтинник.
— Встретимся, как договорились, — сказал Костя.
— Ку-ку, — ответил Игорь.
Как они договорились, я не стал спрашивать — не хотел первый заговаривать с Костей. Что касается «ку-ку», то у Игоря оно означало «до свидания».
Возможно, Игорь знал всех мастеров в салоне, но знали ли все мастера его самого, я не был уверен. Это была совсем не такая парикмахерская, как у нас на углу: зеркала во всю стену, кресла массивные, вращающиеся, пахло хорошим одеколоном. Мастера — пожилые, важные, похожие на профессоров — работали молча, а если и перебрасывались словами, то вполголоса.
У моего мастера был такой неприступный и строгий вид, что я боялся пошевелиться. Он меня о чём-то спросил, я не разобрал, что именно, а переспросить постеснялся. Пусть делает что хочет, он лучше меня знает, что делать. И я неопределённо протянул «ага».
Стриг он меня раза в три дольше, чем в нашей парикмахерской. Откидывался назад, смотрел: снова стриг, заходил с разных сторон, смотрел, стриг, смотрел. Потом помыл мне голову, высушил под электрическим аппаратом, смочил одеколоном и сделал повязку.
Принесли прибор для бритья. Я ещё ни разу не брился. На щеках у меня пушок, небольшой, но довольно противный; иногда мне кажется, что именно из-за него девушки относятся ко мне несерьёзно. И мелкие дурацкие прыщики. Папа говорит, что они пройдут с возрастом. В нашей парикмахерской меня спрашивают, хочу ли я побриться, а здесь мастер ничего не спросил, взял и побрил. Потом сделал компресс, потом массаж, опять компресс, спрыснул одеколоном, помахал салфеткой, вытер мне морду и пристально посмотрел, решая, что ещё можно сделать. Делать было больше нечего.
Я посмотрел на себя в зеркало. Причёска была что надо! Но оттого что меня побрили впервые, кожа на висках, щеках и подбородке была неестественно белая: кругом кожа загорела, а под пушком она не загорела и теперь выделялась. И в эту минуту я понял петровских бояр, которые, после того как им сбрили бороды, жаловались, что лица у них стали босые.
Я уплатил в кассу рубль восемьдесят копеек вместо двадцати копеек, которые плачу обычно у нас, на углу, — не каждый день стрижёшься в салоне. Смущало другое: как я метну мастеру полтинник сверх счёта. Ужасно стыдно и неудобно. Мастер может возмутиться, ведь это унизительно — брать чаевые.
Смущаясь и краснея, я протянул ему вместе с карточкой полтинник. Спокойным, полным достоинства движением мастер, похожий на профессора, опустил полтинник в карман белого халата.
19
— Теперь ты похож на человека, — сказал Игорь. — Ты метнул?
— Да. Ужасно было неудобно.
— Сё ля ви, — заметил Игорь философски. И ещё более философски добавил: — Не мешает выпить по чашке кофе. Если где и можно выпить кофе, то именно здесь.
И он показал на кафе рядом с салоном.
Я ещё никогда не был в этом кафе, но знал, что там собираются поэты, художники и артисты.
В кафе нас ожидал Костя. Я внимательно рассмотрел посетителей, но ни одного известного актёра, поэта или писателя не увидел.
— Веэн человек эрудированный, — начал Игорь, — но человек сложный… — Он многозначительно посмотрел на меня: — Разговор между нами?!
— Конечно.
По тому, как Костя молчал, я понял, что разговор не случаен, они зазвали меня сюда нарочно. Что ж, пожалуйста, интересно…
— Ты наш товарищ, — продолжал Игорь, — и мы обязаны тебя предупредить. Веэн собирает нэцкэ вовсе не из возвышенных соображений. Это его бизнес. И он пишет исследование, которое даст ему докторскую.
— Что из этого следует?
— А то, что Веэн человек коммерческий. И мы у него тоже делаем свой небольшой бизнес. И только. А ты строишь идеалиста, отказываешься от гонорара. Веэну, конечно, выгоднее иметь дело с простофилей.
— Сбиваю вам цену?
— Зачем так грубо? — поморщился Игорь. — Ты проявляешь излишнее рвение, странную наивность… Библиотека, книги — зачем это тебе? Получай свои талеры и живи!
— А если талеры мне не нужны?
— Зачем же ты влез в дело?
— Так получилось.
— Так ничего не получается. Я отлично помню твой первый разговор с Веэном. Он сказал, что дело идёт о заработке. Сказал?
— Допустим.
— Знал, на что идёшь?
— А если нэцкэ заинтересовали меня сами по себе?
— Это — твоё личное дело. Но в отношениях с Веэном изволь исходить из наших общих интересов.
— Ты напрасно меня пугаешь.
— Никто тебя не пугает, — не глядя на меня, протянул Игорь, — но мы не хотим, чтобы тебя постигло разочарование.
— Ах как трогательно!
— С тобой трудно разговаривать, но наберёмся терпения. Что такое Краснухин? Краснухин одарённый художник. Я не всё принимаю в его творчестве, но он художник прогрессивный — это бесспорно.
Мне стало смешно: Игорь чего-то там не принимает в творчестве Краснухина. Потеха!
— Я думаю, Краснухин это переживёт.
— Что именно? — сощурился Игорь.
— То, что ты не всё принимаешь в его творчестве.
— Шутки оставим на потом!
— Давай ковыляй дальше!
— Так вот, Веэн раздолбал Краснухина не по каким-то там идейным соображениям, а потому, что это было выгодно для его карьеры… В душе он сноб, всё ему до лампочки, кроме нэцкэ, картин и коммерции. Поэтому он сам не идёт к Краснухину, посылает тебя. А ты принимаешь это всерьёз, даже отказываешься от гонорара. А когда ты разберёшься, то потеряешь веру в человечество. А мы не хотим, чтобы ты терял веру в человечество.
— Если всё это так, зачем вы помогаете Веэну? — спросил я.
— Чудак! Мы ему помогаем собирать нэцкэ — честное, законное дело. Каждый зарабатывает как может, иногда и не слишком приятным способом. — Игорь кивнул на официанта. — Возможно, ему импонирует его должность, а мне нет. Я не хочу подавать кофе, я хочу, чтобы мне подавали.
— В обществе нужны и официанты. Всякая работа почётна.
— Крош, без романтики. Век романтики кончился, наступили суровые будни. Человек работает ради заработка. Я имею в виду честный заработок.
— Взять у старухи настоящую нэцкэ и заплатить как за копию — честно?
— Что — старуха! Без этого нет собирательства. Веэн объяснил это тебе довольно популярно. На одном собиратель выигрывает, на другом проигрывает.
— Обманывать художника Краснухина честно?
Игорь передёрнулся.
— Зачем так упрощать! Художника Краснухина никто не обманывает, он пользуется уважением моих друзей, и я не позволю его обманывать. Другое дело Краснухин-собиратель; здесь действуют законы иной сферы. Думаешь, Краснухин меньше Веэна разбирается в нэцкэ? Не беспокойся, он не даст себя обмануть. Произойдёт обмен, выгодный для обеих сторон.
— Веэн-карьерист раздолбал Краснухина — это честно?
— Какое мне до этого дело! — воскликнул Игорь. — Сегодня Веэн раздолбал Краснухина, завтра Краснухин раздолбает Веэна. Сегодня правы одни, завтра другие. Я не касаюсь их споров и дискуссий, мне наплевать и на формалистов, и на натуралистов, пусть дерутся, если им охота! Мне нужны деньги, и я нашёл свой честный заработок.
— Ах, ты будешь стекляшки собирать, а ишачить на тебя будет дядя? Этот официант будет бегать взад-вперёд, а ты будешь кейфовать?
— Если у него только на это хватает мозгов…
— Неизвестно, у кого мозгов больше.
— Параноик какой-то, клинический случай, — пробормотал Игорь. — Чего ты орёшь!
— Я не ору, а говорю. Кроме денег, существуют ещё принципы.
— Пошёл, пошёл, — сморщился Игорь. — «Принципы»… Где ты их видел, где встречал? Это все умершие категории, их давным-давно отменили. Каждый устраивается как может. Ты стал очень идейным, с чего бы это?.. Ладно! Намерен ты работать с Веэном на тех же условиях, что и мы?
— Я вообще не намерен работать с каким-то прохвостом Веэном. — Я вынул из кармана нэцкэ бамбук и положил на стол. — Можете вернуть её Веэну, я не желаю больше иметь с ним дело. А вы можете продолжать, если нравится.
Костя, который до этого не проронил ни слова, кивнул на нэцкэ:
— Убери со стола.
— Она мне не нужна.
— Веэн дал её тебе, ты и возвращай. Никто за тебя не обязан это делать.
Это логично. Я положил нэцкэ в карман.
— Что ты скажешь Веэну? — спросил Костя.
— Я нанимался к нему?
— Ты в курсе его дел, пил, гулял на его счёт… Так просто не бросают.
— Я закабалился? Крепостное право отменено сто лет назад.
Костя посмотрел на меня своим холодным взглядом.
— Ты оставишь Веэна, когда и мы с Игорем его оставим.
— Я оставлю Веэна, когда сочту это нужным.
— Не пожалей потом!
— Угрозы и запугивания прибереги для кого-нибудь другого, — ответил я. — Ты боксёр, но это не так страшно. Не всегда можно добиться кулаками, во всяком случае не у меня.
— Бросьте, ребята, — примирительно сказал Игорь.
Костя не сводил с меня холодного, угрожающего взгляда. Но мне нисколько не было страшно, я его ни капельки не боялся. Он боксёр, но здесь не ринг, здесь дерутся не по правилам, а не по правилам и я умею. И не верилось, что Костя полезет драться, ведь я как-то подружился с ним, чем-то он был даже мне дорог, мне было жаль оставлять его в этой компании. И я спокойно сказал:
— Вы никогда не заставите меня делать то, чего я не хочу. Я верну эту нэцкэ Веэну, и с ним всё кончено.
— Ты дал слово, что разговор останется между нами, — напомнил Игорь.
— Не беспокойтесь, я не передаю чужих разговоров, как некоторые.
Я выразительно посмотрел на Костю.
— Что ты на меня так смотришь? — спросил он.
— Смотреть нельзя?
— Кто эти «некоторые»?
— Эти «некоторые» сами знают, что они «некоторые».
— На кого ты намекаешь?!
— Мы говорили с тобой о твоём отчиме. Зачем ты передал этот разговор Веэну?
Костя изумлённо смотрел на меня.
— Мы с тобой говорили лично, — продолжал я, — а ты передал Веэну. Зачем?
— Я ему ничего не передавал, — возразил Костя. — Веэн у меня спросил: «Знает Крош, что у тебя отчим?» Я ответил: «Да, знает».
— А мне Веэн сказал по-другому: будто я проболтался про твоего отчима. В вашей компании каждое слово перевирается и перетолковывается, а я к этому не привык. И не желаю привыкать. С вами запутаешься: тот сказал то-то, этот передал так-то… Ну вас к чёрту! Кончим на этом. Только у меня есть один вопрос: вам известна такая фамилия — Мавродаки?
— Мавродаки? — повторил Игорь. — Греческая фамилия… Нет, не знаю. Кто он?
— А ты? — спросил я у Кости и сразу осёкся…
Костя так странно смотрел на меня, что я даже испугался, честное слово!
— Откуда ты знаешь эту фамилию? — спросил он глухо.
— Слыхал.
— Так вот, — сказал Костя, — забудь её. Навсегда. И никогда нигде не вспоминай. Понял?!
20
Первым моим побуждением было пойти к Веэну и вернуть ему нэцкэ бамбук. Но вернуть ему её значило отрезать себе дорогу к Краснухину — единственному человеку, который может пролить свет на это загадочное дело.
Почему Костя побледнел при упоминании о Мавродаки? Запретил произносить его имя? Откуда у него фигурка мальчика — лучшая нэцкэ из коллекции Мавродаки? Почему он скрывает это от Веэна?
Надо подумать. Решу завтра. Тем более уже конец дня и надо успеть пригласить Зою в кино.
Я заехал в «Ударник» и купил билеты. Билеты производят на девчонок магическое действие — я много раз замечал. Когда нет билетов, то неизвестно, достанем ли мы их, и на какой сеанс, и на какую картину, и где будем сидеть — всё неопределённо, эфемерно, неясно. А когда билеты на руках — всё ясно, определённо, точно.
И действительно, увидев билеты, Зоя сказала:
— Жди меня на выходе.
— Билеты на семь тридцать, — предупредил я.
— Успеем.
Я стал прохаживаться возле дверей магазина, с беспокойством поглядывая по сторонам: каждую минуту из-за угла мог появиться Шмаков Пётр или верзила — Зоин брат. Из магазина выходили девушки-продавщицы, наконец появилась и Зоя. На моих часах было семь восемнадцать. Бежать до метро, потом от метро до кино — значит наверняка опоздать. На наше счастье, у магазина остановилось такси. Мы вскочили в него. В зал мы вбежали, когда уже потушили свет.
Картина была про служебную собаку-ищейку, о том, как её обучают ловить преступников. Конечно, преступников надо ловить, но ведь ищейку можно натравить и на порядочного человека; всё зависит от проводника: прикажет он собаке перегрызть вам горло — она не задумываясь это сделает. В сущности, злобное существо. Вот чеховская Каштанка, или Муму, или Белый Клык — это совсем другое, это настоящие друзья человека.
И ещё не понравились мне плоские шутки вроде той, что в присутствии начальства собака тоже нервничает, и тому подобные аналогии между собакой и человеком. Как будто из собачьей жизни можно делать выводы для жизни человеческой.
А Зоя переживала, смеялась, мои доводы были ей непонятны. «Что ты говоришь! Такая славненькая собачка, не выдумывай, пожалуйста…»
Но картину мы обсудили уже после сеанса. А во время сеанса я думал о том, как мне взять Зоину руку в свою. Зоя, не отрываясь, смотрела на экран. Я видел её милый профиль и кудряшки на лбу, просто очаровательная девчонка. Я чувствовал её плечо рядом с собой, но никак не мог взять её руку в свою. Если бы на подлокотнике лежала её ладонь, то я бы это мог сделать запросто, но на подлокотнике лежал её локоть.
Но тут, к счастью, произошёл самый драматический эпизод в картине — преступник выстрелил в собаку. «Он убьёт её!» — в страхе прошептала Зоя и сама схватила меня за руку. Я, уж конечно, не отпускал её до конца сеанса. Это был единственный стоящий эпизод в картине, но он, чёрт побери, произошёл перед самым концом.
А вот уже на улице я начал критиковать картину. Зоя не согласилась, даже рассердилась на меня. Я поступил как дурак: приглашая Зою, хотел доставить ей удовольствие и сам же это удовольствие испортил. Надо же быть таким ослом! Можно было не хвалить картину, но зачем было её ругать?
На улице накрапывал дождик. Зоя предложила ехать на такси. И я отвёз её на Таганку, в Товарищеский переулок.
— Хочешь пойти завтра опять в кино? — спросил я, прощаясь.
— Каждый день ходить в кино? А что дома скажут? — засмеялась Зоя.
— Тогда поедем в воскресенье в Химки.
— В воскресенье я работаю.
— В понедельник.
— До понедельника далеко, — ответила Зоя и опять почему-то засмеялась.
Я застал Краснухина на этот раз за письменным столом. С озабоченным лицом он что-то писал. Так же тесно было в тёмном коридоре, только пахло не жареной треской, а только что вскипячённым молоком. И не было видно ни Гали, ни Саши, не было слышно их голосов — наверно, ушли куда-то с матерью, оставили Краснухина одного.
— Хорошая нэцкэ, — сказал Краснухин про бамбук. — Не знаю, сумею ли предложить тебе взамен что-либо равноценное. Вот если только стрекозу…
Он достал из шкафа большую плоскую пуговицу не то из дерева, не то из рога. На ней была выгравирована стрекоза — лёгкая, прозрачная, стремительная.
— Нэцкэ того же мастера, что и твой бамбук. Оцени их в антикварном, а там решим.
— Вы не боитесь, что я с ней убегу?
Он повращал глазами:
— Ты вор?
— Но ведь вы меня не знаете.
Краснухин опять начал писать. Видно, писал что-то срочное. А я ему мешал.
— Я вас долго не задержу, — сказал я. — В прошлый раз вы сказали, что коллекция Мавродаки исчезла в конце сороковых годов. Куда же она могла деться, ведь это было после войны. В войну многое потерялось, но после… Куда она могла исчезнуть? И куда исчез сам Мавродаки?
— Мавродаки покончил с собой в сорок восьмом году. Ты какого года?
— Сорок восьмого.
— В сорок восьмом его и не стало.
— Вы его знали?
— Он был нашим профессором, — ответил Краснухин, морща лоб и продолжая писать.
— А семья, родственники?
— У него не было семьи. Всё это случилось неожиданно. Была статья в газете, потом собрание в институте… Он был добрый, знающий, но слабый человек, а время было сложное. — Краснухин встал. — Ну, друже, топай, некогда…
Я кивнул на бумаги:
— Что вы пишете?
— Всё объясняемся, что, да почему, да как получилось… Ну, чеши!
— Последний вопрос, — торопливо сказал я, — а в какой газете была статья про Мавродаки?
Краснухин назвал мне газету. Сейчас она уже не выходит. Я хотел ещё спросить, в каком номере газеты была эта статья. Но Краснухин хотя и добродушно, но решительно вытолкал меня за дверь.
21
Я испытывал некоторую робость, входя к Веэну. Постыдное чувство. Я не трус, но всё же неудобно сказать человеку, что он прохвост. Особенно такому респектабельному господину, как Веэн. Тем более в момент, когда он к тебе расположен, хвалит и превозносит тебя. Он тебя хвалит и превозносит, а ты ему объявляешь, что он прохвост.
Веэн и сейчас выказывал мне полное расположение, улыбался, не поворачивался спиной, а если и поворачивался, то спина была не враждебной, а мягкой и дружелюбной.
— Был у Краснухина?
Я мог, конечно, ответить, что да, был, ничего подходящего не нашёл, мог вернуть Веэну его бамбук, уйти и больше не приходить. Словом, мог порвать с Веэном без объяснений. Но это значило бы трусливо уйти от сложностей. Сделав так, я бы не уважал самого себя.
— Владимир Николаевич, больше ваших поручений я выполнять не буду.
Веэн стоял, наклонившись к книжному шкафу. Он обернулся и посмотрел мне в лицо:
— Почему ты не будешь выполнять моих поручений?
— Не хочу.
— Почему не хочешь?
— Не хочу, и всё. Это моё дело, почему я не хочу.
— Это не только твоё дело, это наше общее дело.
— Никто не заставит меня делать того, что я не хочу делать. Это ясно и понятно.
— Ты изменяешь нашей дружбе?
Я пожал плечами.
— Вы странно рассуждаете. Костя увлекается боксом — разве должны заниматься боксом его друзья? Я люблю прыжки в воду, но ведь мои друзья не обязаны тоже прыгать. Меня не привлекает собирательство, не интересуют нэцкэ, вот и всё!
Насчёт прыжков в воду я припустил — я ещё только собирался ими заняться. Но как довод это было весьма удачно.
— Нэцкэ тебя не интересуют… — возразил Веэн. — Ходил в библиотеку, прочитал кучу книг, а сегодня вдруг «не интересуют». Нелогично, неубедительно. Я не оспариваю твоего права прекратить знакомство со мной. Но ты не можешь оспорить и моего права знать, чем это вызвано: с порядочными людьми так не прекращают знакомства.
Теперь я жалел, что пустился в объяснения. Веэн сильнее меня в софистике. Он стоял, прислонясь к книжному шкафу, смотрел мне в глаза, как человек, готовый честно ответить на любые вопросы, опровергнуть любые обвинения. Да и что я мог ему предъявить? Старуха со странствующими музыкантами, статья против Краснухина, которую я не читал. И я не мог сослаться на разговор с Игорем. Я очутился в дурацком положении. Надо было просто уйти, а я пустился в объяснения.
И тут меня осенила мысль: спрошу про Мавродаки. Веэн не может не знать такого крупного собирателя нэцкэ. И пока Веэн будет рассказывать про Мавродаки, я обдумаю, как поступить дальше.
— Владимир Николаевич, вы знали Мавродаки?
Наверно, я не сумею передать реакцию Веэна на мой вопрос. Только что, опираясь о книжный шкаф, стоял респектабельный искусствовед Веэн, в лёгком, элегантном костюме, спокойно и уверенно смотрел на меня… Теперь там стоял совсем другой человек, стоял, быть может, одну минуту, одну секунду, одно мгновение. Но это мгновение я запомнил. Я увидел взгляд, который тогда, на берегу реки, только почувствовал, — мгновенный, колючий и вместе с тем жалкий и обречённый взгляд. Впервые почувствовал я, что такое «мурашки забегали по спине». Слышал такое выражение, сам употреблял его, но как мурашки бегают по спине, я впервые почувствовал теперь, когда Веэн смотрел на меня.
Но мгновение прошло, и Веэн снова превратился в спокойного, респектабельного господина, каким был минуту назад, только, быть может, несколько более хмурого.
Он опустился в кресло, положил ногу на ногу, прикрыл глаза рукой.
— Кто тебе рассказал про Мавродаки?
— Краснухин.
— Что он тебе рассказал?
— Сказал, что был такой знаменитый коллекционер нэцкэ Мавродаки.
— Ещё что?
— Больше ничего.
Из-за раздвинутых пальцев Веэн испытующе смотрел на меня.
— Ты сказал ему, что знаком со мной?
— Нет.
Некоторое время он молчал, прикрыв глаза рукой, потом сказал:
— Итак, Краснухин рассказал тебе про Мавродаки и после этого ты решил порвать со мной знакомство?
— При чём тут Мавродаки?
— Что же заставило тебя принять такое решение?
Мы вернулись к тому, с чего начали. Что я могу ему сказать? Он добивается правды, а правда заключается в том, что он прохвост, а сказать это неудобно.
Мне осталось только встать.
— Я пошёл.
— Подожди!
Я опять сел.
— Тебе придётся сказать правду.
— Что я вам скажу! — закричал я. — Мне не нравится всё это, я не люблю тайн, не люблю секретов. Я не должен говорить Косте про его отчима, Краснухину — что пришёл от вас, моим родителям — что выполняю ваши поручения, должен всё время что-то скрывать, утаивать, выпытывать, узнавать. Я не привык к этому. И я путаюсь: что я должен говорить, чего не должен. Может быть, так нужно для собирательства. Но такое собирательство меня не привлекает.
— Я тебя понимаю, — сочувственно ответил Веэн. — Но разве я заставляю тебя лгать? Взрослея, мы всё меньше делимся с родителями своими делами. Если тебе нравится девочка, вряд ли ты бежишь рассказывать об этом папе и маме, так ведь?
— Так.
А что я мог ответить? О Майке и Зое я не рассказывал и не собираюсь рассказывать.
— Что касается Краснухина, то поверь мне: он знает мою коллекцию лучше, чем я его. Он крупный специалист, хотя и дилетант. Он во многом дилетант, к сожалению. Он рассказывал тебе о Мавродаки, но сути дела он не знает, хотя и учился у него.
— Краснухин говорил, что была статья в газете, потом собрание…
— Было и это, — подчёркнуто небрежно сказал Веэн, — но главное в другом. Незадолго до этой трагедии Мавродаки женился. Он горячо любил свою жену, но она ушла к другому человеку, к его лучшему другу… Вот действительная причина того, что произошло. Всё остальное — внешнее. Но это дело прошлое, давно забытое, а жизнь идёт. Краснухин соревнуется со мной, я с Краснухиным, и ничего здесь предосудительного нет, законом это не карается.
Я не знал, что ему ответить. Голову сломаешь с этими собирателями!
— Возможно, вы и правы. Но лично я не хочу.
Не обращая внимания на мои слова, Веэн продолжал:
— Когда я просил тебя не говорить с Костей об его отчиме, мной руководило элементарное чувство деликатности: Костя болезненно переживает трагедию своего отца. Я тебе доверил — ты обвиняешь меня в том, что я толкаю тебя на ложь и обман. Не скрою — ты попал в нашу компанию не случайно: я хотел Косте такого друга, как ты. Его много обманывали, отсюда его угрюмость, замкнутость, вспыльчивость. Я надеялся, что общение с тобой сделает его более спокойным и уравновешенным. Я хочу, чтобы Костя стал настоящим человеком, — в этом я вижу свой долг; мне казалось, что дружба с тобой будет полезна ему в этом смысле. Мне казалось, что, узнав сложную судьбу Кости, ты захочешь мне в этом помочь. Ты отказываешься — очень жаль. Вот всё, что я могу сказать: очень жаль.
Слушая Веэна, я вдруг подумал, что, наверно, болен раздвоением личности. Когда я думал о Веэне, факты доказывали, что он прохвост. Когда говорил Веэн, факты оборачивались по-другому, Веэн выглядел порядочным человеком. И в то же время (вот оно, раздвоение личности) я знал, что, как только выйду от Веэна, он снова будет выглядеть в моих глазах прохвостом. И я твёрдо решил не дать уговорить себя.
Мне вдруг захотелось смеяться. Такое случается на уроке — ни с того ни с сего начинаешь смеяться. Все на тебя таращат глаза, не понимают, в чём дело, а ты давишься с хохоту. Нельзя, а ты не в силах удержаться. Сейчас тебя выставят из класса, а ты не можешь остановиться. Так было со мной сейчас. Нервное, что ли, чёрт его знает! Я смеялся, как кретин, даже слёзы выступили на глазах.
Позже я сообразил, что это был нервный шок. Веэн пытался подавить меня своей волей — моя воля сопротивлялась; от такого напряжения и получился нервный шок. Стыдно! В любой ситуации надо сохранять спокойствие, невозмутимость, бесстрастие. Где-то я читал, что англичане носят с этой целью монокль в глазу, — мол, что ни случись, я и бровью не поведу. Англичане это здорово придумали, хорошая тренировочка. Но в наше время с моноклем в глазу будешь выглядеть полным шизиком. Надо придумать другую тренировку — выработать спокойствие, хладнокровие, невозмутимость, иначе выдашь себя в любую минуту, как выдал себя Веэн, когда я спросил у него про Мавродаки: ему изменили нервы, выдержки не хватило, вот что. Хвати у него выдержки, возможно, он убедил бы меня.
Веэн не удивился моему смеху, смотрел на меня и дожидался, когда я кончу смеяться. Я кончил смеяться так же внезапно, как начал. Вытер глаза и перестал смеяться.
— Что же будет дальше? — спросил Веэн. — Намерен ты дружить с Костей?
— С Костей дружить буду, а заниматься нэцкэ — нет, не буду.
По-видимому, я сказал это очень твёрдо. Веэн пристально посмотрел на меня:
— Это твоё окончательное решение?
— Окончательное.
— Дело твоё. Где нэцкэ бамбук?
Я опустил руку в карман и вынул обе нэцкэ — бамбук и стрекозу. Краснухин так торопился меня выпроводить, что я забыл вернуть ему стрекозу.
— А ну покажи, что это у тебя?!
Веэн внимательно рассмотрел стрекозу.
— Краснухин дал?
— Краснухин.
— Зачем?
— Дал.
— Забавная нэцкэ.
— Забавная.
— Надеюсь, ты мне её оставишь?
— Как же я могу вам её оставить?
Веэн вынул из шкафа фигурку, изображавшую крестьянина верхом на буйволе. Вечер, кончилась работа в поле, крестьянин возвращается домой, отдыхает, сидя верхом на буйволе, поёт свою песню. Это была хорошая нэцкэ. От неё веяло тишиной, спокойствием, умиротворённостью свершённого трудового дня.
— Отдашь ему буйвола.
— А если он не захочет меняться?
— Поставишь его перед совершившимся фактом.
Я положил стрекозу в карман.
— Этого я не сделаю.
Некоторое время Веэн пристально смотрел на меня. Честное слово, мне казалось, что он сейчас бросится отнимать у меня нэцкэ. От этих собирателей всего можно ожидать. Когда дело касается их коллекции, они становятся форменными психами.
Веэн не бросился отнимать у меня фигурку. Некоторое время он молчал, потом сказал:
— На твой паспорт сдана нэцкэ в антикварный, кажется музыканты… Если она продана, надо получить деньги.
— Дайте квитанцию, я пойду получу.
— Я удивился тому, что от тебя приняли её на комиссию. При получении денег они обязательно потребуют, чтобы пришли твои родители.
— Мои родители в отъезде.
— Приедут.
Мне не слишком хотелось, чтобы об этом узнали мои родители, — зачем им знать какой-то случайный эпизод моей жизни? Тем более, что я последний раз встречаюсь с Веэном. Но Веэн меня шантажирует, хочет воспользоваться этой злополучной квитанцией. Ну и чёрт с ним! Я сам всё расскажу своим старикам. Конечно, мне не хочется их огорчать. Я всегда предпочитаю, чтобы со мной случилось что-либо плохое, а не с ними. Если у человека и бывает тревога, то именно за близких ему людей. Когда я представляю себе какие-нибудь опасные ситуации: нападение бандитов, например, или стихийное бедствие — землетрясение, наводнение, мне становится беспокойно прежде всего за моих стариков. И хоть мой папа гораздо сильнее меня, я беспокоюсь за него больше, чем за себя. И всё же лучше неприятное объяснение с отцом и матерью, чем вязнуть дальше в этой истории. Лучше признаться в плохом, чем продолжать его.
— Хорошо, — сказал я, — когда вам понадобится получить деньги за музыкантов, я это сделаю.
22
Утром ко мне явился Игорь.
— Дрыхнешь, старик?
— Лежал, читал.
— Бальзак… — Игорь повертел в руках книгу, потом положил. — Архаика, каменный век… Как ты сквозь это продираешься?
— Продираюсь.
— Бесконечные описания, никому не нужные детали, занудство, недержание мысли.
— Зато какие мысли!
— Писатель не должен высказывать своих мыслей: рассуждения автора мешают читателю думать самому.
— Всё зависит от количества серого вещества в мозгу, — возразил я. — Меня лично мысли Бальзака поражают своей глубиной. И какие страсти, какие образы! Растиньяк! Или Вотрен — могучая фигура!
Игорь снисходительно улыбнулся:
— Мелодрама, провинциальный театр, буффонада, страсти-мордасти… В сущности, единственная тема Бальзака — деньги, как делать деньги.
— Не просто деньги, а разрушительная сила денег в обществе, которое…
— Общество здесь ни при чём, — поморщился Игорь так, будто мои рассуждения доставляют ему физическую боль. — В любом обществе деньги — главная сила, и не будем закрывать на это глаза… Кстати, о деньгах. Веэн велел получить с тебя должок.
— Какой должок?
— Пятнадцать талеров.
— Какие пятнадцать талеров?
— Два с полтиной — шашлычная, помнишь? Ещё два с полтиной — транспортные расходы. Костя за тебя платил десять — пикник. Итого пятнадцать.
— Но ведь ты сказал — на пикник по пятёрке, — только сумел пролепетать я.
— Да, с носа. А кто должен платить за твою даму?
— Но почему именно сейчас?
— Старик, никто не наступает тебе на горло, ни тебе, ни твоей песне. Зайди к Веэну и договорись, он пойдёт тебе навстречу.
Я вынул деньги и молча отсчитал пятнадцать рублей. Всё ясно! Они хотят, чтобы я пришёл с повинной, но я не приду с повинной.
— Сразу видно делового человека, — проговорил Игорь с кислой миной. Не ожидал, что я отдам деньги.
— Сразу видно мелкую душонку, — ответил я.
— Ты о ком?!
— О Веэне.
— Зачем так грубо…
— И за тебя я рад. Наконец ты нашёл своё истинное призвание. Из тебя получится отличный сборщик налогов.
— Старик, есть вещи, за которые бьют по морде!
— Ах так! — воскликнул я. — Ты хочешь получить и этот долг?
Здесь я должен рассказать про эпизод, с которого начал записки, — за что Шмаков стукнул Игоря в подбородок. Я должен был стукнуть, но Шмаков стоял ближе и опередил меня. Схлопотал же Игорь за то, что не закрыл дверь лифта. Стоял на площадке восьмого этажа, трепался с Норой, а лифт его дожидался. Жильцы выходили из себя: лифт месяц не работал, теперь работает, а ехать нельзя, изволь дожидаться, когда Игорь перестанет трепаться с Норой. Мы со Шмаковым Петром стояли внизу и дожидались, чем кончится эта заваруха, было ясно, что ничем хорошим она не кончится. И когда Игорь наконец спустился и вышел во двор, мы ему заметили, что не следует быть эгоистом. Он ответил чересчур пренебрежительно и схлопотал в подбородок. От Шмакова Петра. И если бы не вмешался Веэн, то и от меня схлопотал бы. Об этом я сейчас ему и напомнил.
— После такого разговора мы вряд ли будем продолжать знакомство, — объявил Игорь высокомерно, впрочем делая шаг назад.
Я распахнул входную дверь.
— Сае нара!
По-японски это означает «до свидания». Но у меня оно прозвучало как «Позвольте вам выйти вон!».
Здорово я показал Игорю на дверь, классический жест! «Позвольте вам выйти вон!» Отлично сработано! Отбрил я их, мелкие, ничтожные душонки. Думали купить меня за пятнадцать рублей, кусочники несчастные!
Конечно, моему бюджету они нанесли сокрушительный удар. Интересно, сколько у меня осталось? Страшновато подсчитывать, но надо смотреть правде в глаза.
Я обалдел: шесть рублей — вот всё, что у меня осталось. На что же я буду жить? И куда я столько профукал?
Пятнадцать — Веэну. Крепко он меня подрубил! И не следовало отдавать — ведь я выполнял его поручения. Но поздно думать об этом, надо смотреть правде в глаза…
Итак, пятнадцать рублей Веэну… И почему всё сразу? На худой конец, мог бы отдавать частями. Ужасно жалко! Веэн отлично знает, что я сейчас один и взять мне негде. Безжалостный человек! Ладно! Не умру. И надо смотреть правде в глаза.
Итак, Веэну пятнадцать рублей… Если бы… Но кончено с этим, не желаю даже думать… Веэну — пятнадцать, плавки — три с полтиной, парикмахерская — два тридцать, кофе с Игорем и Костей — восемьдесят (мог обойтись без кафе, ни одного поэта или артиста я там не увидел), телеграмма маме (сыновний долг!). Обеды вчера, позавчера и позапозавчера, кино с Зоей — рубль, такси с Зоей — ещё рубль, на метро ездил, газировку пил, мороженое ел… Чёрт возьми, придётся быть поэкономнее!
Итак, железный бюджет! Утром яйцо всмятку, стакан чая и хлеб с маслом. Чая мама оставила целую коробку, масла тоже здоровый кусище, сахара — пачка, соли — вагон… Куплю сразу десяток яиц — на все десять дней. В обед тарелка супа, ужин отдай врагу… В тридцать копеек можно уложиться. Трёшка у меня остаётся — схожу с Зоей три раза в кино. Конечно, никаких такси. Интересно, почему Зоя так любит такси?
Я тут же отправился в магазин, купил десяток яиц и увидел там пакетики с супом. Разведёшь такой пакетик в кипятке и получаешь две тарелки супа. Красота! И не надо ходить в столовую. Я купил пять пакетиков — десять обедов есть! Потом купил пять плавленых сырков — десять ужинов есть! Я обеспечен сдой до самого маминого приезда.
Угроза голодной смерти перестала висеть надо мной. Я свободно могу тратить оставшуюся трёшку. А когда истрачу, скажу Зое: «Остался без копейки, погуляем так». Она хороший товарищ, я в этом убедился ещё в лесу, она поймёт. Даже сделаю так: пойду сейчас к Зое и скажу: «У меня трёшка, давай прокутим, а там будет видно». Это по-мужски. Чёрт с ними, с деньгами! Просажу трёшку и перестану думать об этом. Тратить так тратить! Долой приобретателей, скопидомов, деляг и жмотов! Долой банду рвачей и выжиг! Молодец я — кинул Игорю пятнадцать ре, показал своё моральное и прочее превосходство. И эту трёшку просажу сегодня же.
Однако в этот вечер мне не удалось просадить трёшку.
Во-первых, в магазине околачивался Шмаков Пётр. Во-вторых, висело объявление — сегодня в заводском саду вечер торговой молодёжи. Все продавцы и продавщицы магазина спортивных товаров идут туда. Будет диспут, и будут танцы. И Зоя будет. Мы со Шмаковым Петром тоже решили пойти.
23
Мне понравилось, что не было президиума. Собрание вёл один парень, он назвался Володей; вёл, между прочим, с блеском, ловко и организованно провернул эту работёнку. И главное, сидел не в президиуме, а в зале. Иногда вставал, оборачивался и был хорошо всем виден. Безусловно, он действовал по заранее разработанному плану: сценарий был дай бог! Но орава собралась человек триста, попробуй поруководи ими из зала! Надо приложить мозги, — это не колокольчиком позванивать из президиума.
Выступавшие тоже говорили с места. Никакой казёнщины, свободная, непринуждённая обстановка. Приходилось, правда, вертеть башкой во все стороны, но это лучше, чем глядеть истуканом на сцену, где какой-нибудь зануда долдонит по бумажке свою тягомотину.
Только двое вылезли на трибуну: Сизов и Коротков. Они живут в нашем доме и работают на инструментальной базе — есть у нас на улице такая оптовая база Главинструмента. Обыкновенные ребята, поотпустили длинные волосы. Володя — парень, что вёл диспут, — спросил, для чего им длинные волосы. Коротков и Сизов вылезли на трибуну и маячили там целых полчаса. Им было приятно торчать на виду у всех. Топтались на трибуне и бубнили.
— Дело идёт к зиме, — бубнил Сизов.
— К зиме идёт дело, — повторял за ним Коротков.
Ничего больше они сказать не могли. Стояли в своих толстых пиджаках и узких брючках, длинноволосые, смешные, и долдонили: «Тем более дело идёт к зиме. К зиме идёт дело». Мол, наступают холода, и надо отращивать волосы. На дворе июль, жара смертная, а они стоят на трибуне и бубнят: «Дело идёт к зиме». Диспут уже перешёл на другую тему, а Сизов и Коротков все топтались на трибуне, пока ребята, сидевшие в первом ряду, не схватили их за ноги и не сволокли со сцены.
Диспут шёл организованно.
Продавщица Рая, та самая, что ездила с нами на пикник, сказала:
— Отращивает бороду тот, кто ничем другим не может отличиться.
Ей возражал матрос в тельняшке и чёрной куртке. Я часто встречаю на собраниях и диспутах таких вот, неизвестно откуда взявшихся матросов. Они вворачивают мудрёные словечки, говорят «у нас на флоте» и произносят «компас» вместо «компас». Но сегодняшний матросик напирал больше на предков и на исконные традиции.
— Маркс, Энгельс, Калинин, Дзержинский, академик Курчатов — все носили бороды, — говорил матрос. — Борода — это характерная черта русского человека. Кто нам дал бороду? Природа! А всё, что дала нам природа, прекрасно! И, кроме того, я лично за широкие брюки — человек в широких брюках имеет молодцеватый вид, ребята в широких брюках выглядят устойчивыми людьми, твёрдого характера. Иван Поддубный носил брюки клёш и не имел себе равного борца в мире…
И понёс такую околесицу, что Володя попросил его дать высказаться и другим. Но матрос ещё долго не унимался. Из угла, где он сидел, весь вечер доносился глухой шум — матрос спорил с соседями.
Тут высовывается девушка в очках:
— Зачем сугубо частным бородам придавать государственное значение? Надо бороться не с бородами, а с обладателями мелких душонок и мещанских взглядов.
— С хулиганами надо бороться! — закричали все.
Стали выяснять причины хулиганства и предлагать меры. Одни предлагали перевоспитывать хулиганов, другие — сажать в тюрьму, третьи — и то и другое: и перевоспитывать, и сажать в тюрьму. Матрос предложил даже расстреливать. Не всех, правда, а бандитов и рецидивистов.
— Фашистскую Германию мы победили, — сказал матрос, — хулиганов и бандитов победить не можем. Парадокс.
Один парень, рабочий склада, сказал:
— Всё дело в пьянстве. Выпьет мозгляк на три копейки, идёт по улице, куражится, всех задевает. А набить ему морду нельзя — тебя же привлекут за хулиганство.
Это он точно подметил. Как-то один сукин сын привязался к чистильщику ботинок на нашей улице, потребовал, чтобы тот почистил ему ботинки, а сам на ногах не стоит. Чистильщик ему говорит: «Иди домой, проспись», а он в ответ: «Армяшка!» Мы со Шмаковым Петром оттёрли этого расиста от ларька и взяли его в коробочку. Так это у нас называется взять в коробочку: стиснуть с обеих сторон и надавить под рёбра. Очень удобная штука. Но у этого типа пошла носом кровь. Какая-то тётка заорала, что мы убиваем человека. Моментально собралась толпа и явился милиционер. Когда пьяный субчик дебоширил, никого не было, а тут все сбежались. Мы каким-то чудом выкрутились из этой истории.
Опять встаёт девица в очках:
— Я согласна с предыдущим оратором: всё начинается с водки. И надо подумать, почему некоторые ребята чрезмерно пьют.
Я сказал сидевшему рядом Шмакову Петру:
— Если бы каждый гражданин Советского Союза имел автомобиль или даже мотоцикл, то никакого пьянства бы не было.
Шмаков скосился на меня:
— Почему?
— В нетрезвом виде нельзя управлять машиной.
— Это не решение проблемы, — ответил Шмаков. — Пока мы построим заводы, пьянство будет продолжаться.
— Построить автомобильные заводы — не такая уж проблема в наш век.
— А ты выступи и скажи. Выступи, выступи.
— Зачем мне выступать?
— Тогда не звони!
Надо бы, конечно, выступить, но я не умею выступать на собраниях — теряюсь, обстановка на меня действует, что ли… Если бы здесь не было Зои, я бы, возможно, выступил, а при Зое не хочу.
Речь между тем шла о вкусе.
— Вкус — это способность к пониманию и сознательному суждению о прекрасном, — сказал Володя.
Сам он это сформулировал или прочитал где-нибудь? Всё равно здорово! Не так-то просто запомнить такие формулировочки!
Железно он подвёл к такому выводу. Начали с бороды, а перешли к серьёзным вопросам. Большое искусство — вести собрание. Почему на школьных диспутах скучища? Боятся, что ребята скажут лишнее. А когда боишься сказать лишнее, не скажешь и главного.
Поднимается человек пенсионного возраста. Такие старички появляются на молодёжных собраниях ещё чаще, чем матросы.
— Мы стремимся к зажиточной жизни, — сказал старичок. — Почему же наша молодёжь должна носить узкое да короткое? Это у первобытных людей не хватало материала, а у нас текстильная промышленность идёт вперёд. Зачем нам перенимать у Запада их беретики? И что плохого в мраморных слониках? Пусть стоят себе как олицетворение нашего благосостояния. Нам есть чем гордиться.
Ну вот! Шёл разговор о серьёзных вещах, а старичок опять о барахле. Тут уж я не вытерпел:
— Мы должны гордиться не мраморными слониками, а спутниками, космонавтами, нашими талантливыми молодыми поэтами и художниками.
Мне даже захлопали, честное слово!
Ободрённый успехом, я добавил:
— Что касается беретов, то берет может сидеть на пустой голове с таким же успехом, что и шляпа.
Я уже было хотел сказать об автомобиле как о могучем средстве против пьянства, но старичок вскакивает багровый, злой и кричит:
— Разве так воспитывают молодёжь?!
И показывает на свою голову. А на голове у него шляпа.
— Оратор имел в виду шляпу как головной убор вообще, а не чей-либо конкретно, — сказал Володя и, чтобы замять инцидент, предоставил слово высокой девушке в свитере.
— Я работаю товароведом, — сказала девушка в свитере, — и хочу сказать: истинная красота человека не в одежде, а в духовном мире. Мы много говорим об одежде и мало об идеалах. А идеалы — это главное.
Диспут принял наконец правильное направление. Я уже подумывал, что бы такое сказать об идеалах. В это время Зоя обернулась, я тоже обернулся и увидел верзилу — Зоиного брата. Зоя тут же встала и ушла. Не говоря ни слова. Даже не попрощалась. Обидно. Ведь я пошёл на собрание торговых работников только из-за неё, надеялся с ней потанцевать. А она, не говоря ни слова, встала и ушла.
24
Утром я позавтракал (одним яйцом) и поехал в читальню. Пришлось тщательно просмотреть комплекты газет за целый год — я не знал ни числа, ни места, ни названия статьи, ни фамилии автора.
Через три часа я добрался только до июня. Если статья о Мавродаки опубликована, скажем, в декабре, мне придётся сидеть до вечера. А я позавтракал одним яйцом. Хотелось жевать. Сходить в буфет — значило нарушить свой железный бюджет, съездить домой — потерять кучу времени. Я выбрал первое и пошёл в буфет.
Утолив голод винегретом и двумя стаканами чая, я вернулся в зал. И сразу, в первом же июльском номере, нашёл статью о Мавродаки. Такая же ругательная, как и другие, — здорово долбали в то время! Оказывается, Мавродаки возвеличивал искусство самураев, возвеличивал самих самураев и вообще феодалов. Чем именно возвеличивал, я не понял, но было написано, что возвеличивал. И не просто возвеличивал, а всю жизнь только тем и занимался, что возвеличивал. И никакой пользы науке не принёс. Так прямо и было написано — «псевдоучёный». И неблаговидными поступками порочил честь советского человека. Что за поступки, опять же сказано не было. В общем, статья начисто зачёркивала Мавродаки и как учёного и как советского человека. Была она подписана И. Максимовым. Какой-нибудь тип вроде того, что оплевал меня из окна вагона. Даже назвал Мавродаки подонком. Назови меня кто-нибудь подонком, я бы дал по роже и был бы нрав, между прочим.
Я мог бы вырезать эту статью, но если все начнут вырезать нужные им статьи, то от газет останутся одни названия. На её переписку у меня ушло ещё часа полтора.
Возвращаясь из читальни, я увидел возле нашего дома афишу о лично-командном первенстве но боксу среди юношей и подумал, что в них будет участвовать и Костя. И когда Костя позвонил мне и сказал, что едет на соревнование, я этому не удивился. Я удивился тому, что он предложил поехать с ним. Мне казалось, что после ссоры в кафе Костя не будет встречаться со мной. А он сам позвонил и позвал на соревнования. Я обрадовался его звонку — лично с ним я не желал ссориться.
И мы поехали с Костей на Ленинградский проспект, в клуб «Крылья Советов».
Костя провёл меня без билета. Я не люблю проходить без билета, я всегда попадаюсь. И когда тебя выводят из зала, это выглядит довольно унизительно, все смотрят на тебя, как на жулика. Но, с другой стороны, глупо брать билет, когда в зале полно свободных мест. И Костя, как участник соревнования, имеет моральное право провести хотя бы одного человека.
Народу в зале было немного. И то, как мне показалось, не настоящие зрители, а разного рода спортивные деятели. Всё носило деловой и будничный характер, без азарта, который должен быть на соревнованиях. Звучал гонг, боксёры двигались по рингу, рефери собирал записочки и передавал их судьям, судьи переговаривались между собой и не смотрели на боксёров, секунданты лениво обмахивали полотенцами своих подопечных, что-то им внушали, а подопечные сидели развалясь, тяжело дышали и делали вид, будто слушают своих секундантов. Одни боксёры дрались лучше, другие хуже, но ничего значительного за этим не стояло. Я вспомнил «Мексиканца» Джека Лондона и подумал, что бой мексиканца с красавчиком Дэнни так волновал потому, что мексиканец дрался за идею, его борьба была одухотворённой, очеловеченной, он бился во имя Свободы и потому победил. А здесь было всего-навсего соревнование силы, ловкости, опыта, и больше ничего, ничего великого.
Кто-то сел рядом со мной. Я оглянулся. Это был отчим Кости. Он тоже смотрел на меня, вспоминая, где меня видел. Потом вспомнил и улыбнулся:
— Пришёл посмотреть?
— Мы с Костей пришли.
Он ещё раз улыбнулся, как мне показалось, несколько смущённо, даже растерянно, отвернулся и стал смотреть на ринг. И как в прошлый раз, он мне очень понравился. Добрый человек — сразу видно.
Объявили фамилию Кости. Он пролез под канатами и очутился в своём углу. Следом за ним появился и его противник.
Костя дрался уверенно. Он левша, стоит в правосторонней стойке, а это всегда опасно для противника: у него сильный удар и правой и левой. Противник был выше. И всё равно Костя уже в первом раунде послал его в нокдаун и во втором раунде послал в нокдаун. Рефери прекратил бой и присудил Косте победу ввиду явного преимущества.
Отчим Кости повернулся ко мне:
— Молодец он всё-таки!
У него было счастливое лицо. Приятно смотреть на человека, радующегося успеху другого.
— Понимаешь, — сказал он, — Костя не любит, когда мы, его родители, приходим на соревнования. Многие боксёры этого не любят. Я не хотел, чтобы Костя знал…
— Не беспокойтесь, — ответил я.
— Ну, спасибо. — Он потрепал меня по плечу и быстро ушёл — не хотел встречаться с Костей.
Конечно, мой отец не пришёл бы тайком смотреть на меня, он пришёл бы открыто. И если бы я дрался так здорово, как Костя, я бы сам позвал на соревнования моих стариков — пусть посмотрят. И дерись я так здорово, как Костя, я бы прямо сейчас, не сходя с места, надавал бы Косте плюх. Так мне было жаль Костиного отчима. Он любит Костю, а Костя заставляет его унижаться. Хам!
Подошёл Костя, и мы с ним досмотрели соревнования. Стало немного интереснее — на ринг вышли тяжеловесы, а в тяжёлом весе ударят так ударят. Костя сказал, что сегодня только четверть финала. А когда будет финал, зал будет битком набит.
Мы вышли из клуба.
— Дойдём до Белорусского, а там доедем на метро, — предложил Костя.
Бульвар тянулся посередине Ленинградского проспекта.
— Что у тебя произошло с Веэном? — спросил Костя.
Начинается! Опять надо изворачиваться. Мы говорили с Веэном о Мавродаки, а о нём Костя запретил говорить. По-видимому, Веэн уже передал ему наш разговор. Ну и чёрт с ними! Надоело, честное слово, тайны, секреты — невыносимо!
— Он просил тебя обменять нэцкэ?
Ах так, разговор о нэцкэ. Значит, Веэн не передал ему нашего разговора о Мавродаки. Странно! Почему?
— Да, просил.
— Он предлагал тебе взамен хорошую нэцкэ?
— Я не имею права менять.
— Чья она?
— Художника Краснухина.
— Тебе какая разница?
— Не желаю иметь дела с Веэном.
— А со мной?
— С тобой — пожалуйста.
Костя вынул из чемодана нэцкэ. Она изображала всадника с мечом, луком и стрелами в крошечном колчане. Удивительное в этой фигурке было то, что всадник ещё не падал с коня, даже не соскальзывал, не склонялся на его гриву, и всё равно было ясно, что он ранен и сейчас упадёт. В фигурке было какое-то неуловимое движение, был последний скачок коня, после которого и конь и всадник рухнут на землю.
— Эта нэцкэ лучше твоей стрекозы.
— Ты её меняешь для Веэна?
— Какая тебе разница!
— Веэну я её не отдам. Если ты так о нём заботишься, почему ты не отдаёшь ему своего мальчика с книгой? Веэн разыскивает её по всей Москве, а она у тебя. Хоть пожалел бы его труды.
— Не твоё дело!
— Ах, не моё?! Тогда не вмешивайся и в мои дела. Нэцкэ я не отдам. Кончен разговор.
— Разговор далеко не кончен, — процедил сквозь зубы Костя.
Опять угрозы… Смешно, ей-богу! Думают, что я их боюсь, дурачки, честное слово! Идиотики!
Я остановился.
— Вот что, Костя! Угрозы и запугивания оставь для кого-нибудь другого — я уже тебе это говорил и повторяю опять. Твой Веэн прохвост, вот кто он такой, и ты в этом когда-нибудь убедишься, смотри, чтобы не было слишком поздно. А я не желаю. Вы изолгались и изоврались, а я не желаю. Твой отчим добрый, порядочный человек, а ты ему хамишь. Веэн прохвост — ты ему лучший друг. Ну и пожалуйста, с богом!
— Не касайся этого! — закричал Костя.
— Мне нельзя касаться твоих дел, а тебе моих можно? Так не пойдёт.
— Мои дела — это мои дела, а твои — наши общие, мы их делали вместе.
— Делали, а теперь не будем. Тебе надо заработать у Веэна, а мне не надо. Дёшево ты продаёшься. Прохвост Веэн тебе дороже человека, который тебя воспитал. Я только что видел твоего отчима.
Костя поднял на меня глаза.
— Где ты его видел?
— В клубе. Он был рад и счастлив тому, что ты выиграл бой. А ты вынуждаешь его приходить тайком. Он просил меня не говорить тебе, что я его видел, — вот как ты заставляешь его унижаться. А что он сделал тебе плохого? Ты мучаешь своих родных из-за кого? Из-за прохвоста Веэна? А кто тебе Веэн? Ведь не отдаёшь ты ему мальчика с книгой, всё понимаешь!
Эта догадка пришла мне в голову неожиданно.
Костя молчал. Я попал в самую точку. Надо развивать успех.
— Не воображай, что все такие дураки. Если людям запрещают говорить, то они не перестают думать. Ты не позволяешь произносить одно имя, но ты не можешь запретить догадываться… Я не знаю, как попала к тебе лучшая нэцкэ этого человека, но я знаю, за чьей коллекцией гоняется Веэн. И ты это знаешь. И ты знаешь, что такое Веэн. Коварный, вероломный человек, всех путает, всех ссорит между собой, всех обманывает и тебя обманывает, ты ещё убедишься в этом.
Костино лицо выражало страдание. То, о чём мы говорили, было главным, самым важным в его жизни. И надо говорить только об этом, больше ни о чём. И я сказал:
— Краснухин хорошо знал Мавродаки. Пойдём к нему?
25
Я в третий раз у Краснухина, но у меня ощущение, будто я хожу сюда всю жизнь, так здесь всё знакомо, привычно, хорошо. Тесно, нагромождено, пахнет кухней. Галя и Саша прыгают на диване, звонит телефон. Краснухин басит в трубку, нет ни дорогих картин, ни старинной мебели, как у Веэна, ни изящных безделушек, и всё же именно здесь живёт и работает настоящий человек искусства.
В лице Краснухина не было озабоченности, как в прошлый раз, он был спокоен, безмятежен, видимо, всё устроилось, всё обошлось, он объяснился, и больше объясняться пока не надо. На Краснухине был тёмно-синий костюм и белая рубашка с галстуком. Костюм был старенький, потёртый, заношенный, сидел мешком, и всё же Краснухин выглядел в нём очень представительным — крупный, сильный, красивый мужчина.
Чувствовался подъём, праздник, что ли, какой-то. Из кухни пахло не треской и не молоком, а чем-то вкусным, аппетитным, жареным мясом как будто… Жена Краснухина была озабочена не как в прошлый раз, а оживлённо, как хозяйка, ждущая гостей.
— Я сегодня при деньгах, — сказал Краснухин кому-то по телефону, — давай подгребай.
Из дальнейшего разговора я понял, что Краснухин выполнил срочный заказ, оформил, проиллюстрировал книгу в издательстве и по этому поводу созывает гостей.
В общем, пришла удача, особенно ощутимая в доме, где удачи бывают не часто.
И я был этому рад — должны же быть удачи и у непризнанного художника, чёрт побери!
Несколько минут Краснухин не сводил с Кости своих громадных глазищ. На меня он так не смотрел ни в прошлый раз, ни в позапрошлый, а на Костю смотрел особенно, я бы сказал — потрясённо: понял, кого я привёл с собой. Самое правильное — оставить их вдвоём. Я встал.
— Пойду, пожалуй, а ты, Костя, посиди.
Недоуменный взгляд Кости показал, что он не оценил моего дипломатического хода.
Тогда я сказал Краснухину:
— Евгений Алексеевич, это мой товарищ, Костя. Вы не расскажете ему о профессоре Мавродаки?
Краснухин ещё раз посмотрел на Костю, повращал глазами, потом долго рылся в бумагах, развязывал и завязывал тесёмки на папках, перебирал карточки и рисунки и наконец нашёл то, что искал, — большую групповую фотографию.
— Наш выпуск.
Тонко очиненным карандашом он показал на небольшого чёрненького, улыбающегося человека в центре группы. Это был Мавродаки… И я поразился его сходству с Костей.
Костя так и впился глазами в фотографию.
Я не хотел ему мешать и отошёл в сторону, рассматривая висящие на стене гипсовые слепки рук.
Краснухин тоже делал вид, что не обращает внимания на Костю, ходил по мастерской, чего-то перебирал, переставлял, выходил на кухню, разговаривал с женой, снова возвращался. Было видно, что он не умеет не работать, не привык отдыхать, не привык к тёмно-синему костюму, неважно чувствует себя в белой рубашке и галстуке.
— Вы можете мне её дать? — спросил Костя про фотографию.
— Насовсем — нет, переснять — пожалуйста.
— Это Владимир Николаевич? — спросил вдруг Костя.
Краснухин наклонился к фотографии.
— Да, по-видимому… Он был тогда в аспирантуре.
Это новость! Веэн ещё в то время лично знал Мавродаки. Почему же он ничего мне об этом не сказал?
— Вам не знакома такая фамилия — Максимов? — спросил я.
— Кто такой Максимов?
— Критик, наверно.
— Держусь от них подальше.
— Говорят, Владимир Николаевич прокатился по вашему адресу?
— Было дело.
— А что он писал?
— Тебя это интересует?
— Интересует.
Он кивнул на лежащую в углу кучу журналов:
— Поищи третий номер за прошлый год.
Найти журнал тоже оказалось не так просто. Я поразился беспечности Краснухина. О нём написана статья, а он её засунул сам не знает куда.
Я нашёл журнал не в той куче бумаг, которую показал мне Краснухин, а совсем в другом углу, за токарным станком.
В статье было написано, что творчество Краснухина не самостоятельно и не находится в главном русле. Потом следовала фраза: «Искусство принадлежит тому, кто несёт его народу». Правильная мысль! Но ведь мне Веэн говорил другое: «Искусство принадлежит тому, кто его любит, понимает и отстаивает». Как-то раз он даже сказал: «Приходя на выставку, я чувствую себя обокраденным». Он хочет, чтобы искусство принадлежало ему одному, хочет набить им свои шкафы и полки. Дело даже не в том, что он думает одно, а пишет другое. Веэн прохвост, это мне известно. Дело в том, что в статье Максимова тоже трактовался этот вопрос. Я разыскал это место, вот оно: «Искусство не принадлежит тому, кто им занимается. Оно прежде всего орудие…» Мысли разные, но высказывал их один человек, это ясно, один и тот же беспринципный человек. В статье Максимова было больше ругательств, в статье Веэна — меньше, но писал их один человек, это точно.
— Вы дадите мне на пару дней журнал? — спросил я.
— Гм… А с чем я останусь?.. Впрочем, только верни…
Поразительный человек! Ни в чём не может отказать.
— Через два дня журнал будет у вас.
Краснухин достал из шкафа нэцкэ — круглую лакированную пуговицу с изображением цветка на высоком, тонком стебле. Цветок тянулся к солнцу, прекрасный, молодой, гибкий, излучающий радость и торжество жизни. Кругом был мир и зелень, за горизонтом пылало солнце, а цветок стоял один, гордый, сильный, чуть наклонённый в своём стремительном порыве.
Несколько минут Краснухин молча любовался пуговицей, потом сказал:
— Что прекрасно в этой нэцкэ? Прекрасно доброе чувство, которое двигало её создателем, сознание, что и сотни лет назад люди радовались прекрасному и доброму. Я бы так и оценивал произведения искусства: по степени доброго чувства, которое они вызывают.
— Это верно, — заметил я. — Ещё Пушкин сказал: «Чувства добрые я лирой пробуждал…»
Краснухин повращал на меня глазами, но ничего не ответил. А чего отвечать? Лучше Пушкина не скажешь!
Краснухин положил нэцкэ в коробочку и протянул Косте:
— Возьми, это из коллекции твоего отца.
26
Мы вышли с Костей от Краснухина.
— Краснухин — человек, — сказал я.
Костя молчал.
— А Веэн написал про него подлую статью, — продолжал я.
Костя молчал.
— Хороший человек не напишет подлую статью, — заключил я.
Костя молчал.
— Ты знаешь, как умер твой отец?
Его лицо потемнело.
— Знаю.
— А почему он это сделал, знаешь?
— Моя мать ушла к другому человеку.
— Кто тебе сказал?
— Это не имеет значения.
— Тот, кто тебе это сказал, — лгун и обманщик.
— Молчи, ты ничего не знаешь!
— Ты молчи! Я знаю больше тебя, сейчас ты в этом убедишься. Давай присядем.
Мы присели на скамейку. Я протянул Косте статью Максимова. Он прочитал её. Ни один мускул не дрогнул на его лице. Сильный парень, ничего не скажешь.
— Тебе всё ясно? — спросил я.
— Зачем они скрывали от меня? — проговорил Костя.
— Как ты можешь это говорить! Ты не знаешь всех обстоятельств, ты ни разу не говорил с матерью. Как ты можешь её осуждать! Ты вообще не можешь её осуждать — она тебе мать.
— Я никого не осуждаю, — возразил Костя, — но не хочу с ними жить и не буду.
Он произнёс это со своим обычным упрямством. Убеждение его было поколеблено статьёй, но он травмирован неправдой, в которой вырос, никому и ничему не верит. Ужасно жаль этого парня, но как его переубедить?
— Куда девалась коллекция?
— Не знаю.
— Ты поговоришь с матерью?
Он молчал.
— Ты поговоришь с матерью?
— Подумаю.
…Во дворе, у магазина спорттоваров, девушки разгружали фургон. Их развлекал Шмаков Пётр. Нёс какую-то чепуху, а они смеялись. Какую бы ересь ни порол Шмаков Пётр, девчонки всегда хохочут. Несут футбольные мячи, а он: «Забьём голешник»… Все хохочут. А что смешного? Тащат теннисные ракетки, а Шмаков: «Полетим на этой ракете на Луну». Глупо? Глупо! А все смеются.
— Что делаем после работы? — развязно спросил Шмаков у Зои.
— А что вы предлагаете? — в тон ему бойко ответила Зоя.
— Есть дивные пластинки у меня, свободная квартирка у Кроша.
Я не против того, чтобы собраться. Но мог бы сначала спросить: располагаю я свободным временем или нет?
Кроме электропроигрывателя, Шмаков притащил коробку с новыми пластинками. На мой вопрос, где он их достал, ответил:
— Где достал, там уже нету.
Любит порисоваться, особенно перед девчонками. И командовать любит. И пожрать.
— Девушки, наверно, голодны. Жарь яичницу, Крош!
— Я сама пожарю, — сказала Зоя.
Светлана и Рая мыли посуду, Зоя жарила яичницу, я накрывал на стол. Шмаков менял пластинки на проигрывателе.
Всё получилось очень весело и мило, не хуже, чем на пикнике. Мы съели яичницу из восьми яиц (два я съел раньше), рубанули все плавленые сырки. Шмаков ещё потребовал, чтобы я сварил суп изо всех пакетиков, но я предложил сделать это ему самому, и он отказался.
Потом мы смотрели по телевизору соревнования по художественной гимнастике. Соревнования понравились девочкам — они сказали, что в их магазине недавно продавались такие же костюмы, какие были на гимнастках.
Я предложил всей компании поехать завтра в Химки, на пляж.
— Завтра не могу, — загадочно улыбаясь, ответила Зоя.
— Ведь завтра понедельник — в магазине выходной.
— Потому и не могу, что выходной.
Девчонки захихикали, стали подмигивать друг другу, точно у них была бог весть какая тайна.
— Вы чего? — недоуменно спросил я.
Они продолжали перемигиваться и хихикать, не обращая внимания на мой вопрос, игнорируя моё недоумение, на что-то намекали, просили Зою чего-то там купить. Они до того дохихикались, доперемигивались и доигнорировались, что в конце концов проболтались: завтра Зоя едет в магазин для новобрачных. Как торговый работник? В порядке обмена опытом? Ничего подобного! Зоя едет в магазин для новобрачных как новобрачная. Она собирается выйти замуж. Чёрт возьми! И за кого? За верзилу, которого я хотел считать её братом.
— Это правда? — спросил я Зою с полным достоинством.
— Это правда, — ответила Зоя тоже с полным достоинством и со своей проклятой улыбкой.
Шмаков Пётр смотрел на меня. Ещё ухмыляется, остолоп! Мне что! Я не влюблён в Зою, как он. Его девушка выходит замуж, а он ухмыляется.
— Не огорчайся, Крош! — рассмеялась Рая. — Мы тебе найдём другую невесту.
Дуры, как разговаривают со мной!
— Для меня это не новость, — сказал я. — Жених — шофёр такси.
— Откуда ты знаешь? — удивилась Зоя.
— Видел, как он к магазину подъезжал, — заметил Шмаков, завидуя моей проницательности.
— Я всё знаю. Я так много знаю, что мне уже неинтересно жить.
Я повторил выпендрючку Игоря. Но здесь она годилась: главное было — сохранить достоинство. А догадаться, кто приучил Зою раскатываться на такси, было нетрудно.
Непонятно только, зачем она тогда, в лесу, разрешила себя поцеловать. Таковы они!
27
Не так уж я любил Зою. Конечно, приятная девчонка. Но если бы, допустим, мы плыли на пароходе — я, Зоя и Майка — и пароход стал бы тонуть, я ещё не знаю, на помощь кому бы я бросился в первую очередь: на помощь Майке или на помощь Зое? По-видимому, сначала Майке. А уж вытащив Майку, кинулся бы за Зоей. Не исключено, что за это время Зоя пошла бы ко дну. Но не думаю — она крепкая девчонка и полная. А полные, как известно, лучше держатся на воде и не так быстро тонут.
Если разобраться, то любви у неё ко мне не было, так, дурака валяла. Недаром меня насторожила её улыбка, насмешливая, поощрительная, с примесью любопытства и с оттенком сомнения, — улыбочка Елизаветы Степановны, чёрт бы побрал эту улыбочку! В сущности, это улыбка поверхностных, неглубоких натур. У Майки не бывает такой улыбки. Майка никогда не ставит себя в двусмысленное положение. Как она отбрила слесаря Лагутина, когда мы проходили производственную практику на автобазе! И с Майкой есть о чём разговаривать, бывают иногда разногласия, но это естественно — люди не могут думать одинаково. А с Зоей я решительно не знаю, о чём говорить, мы не понимаем друг друга. Шмакова Петра она понимает, а меня никак. Анекдот про английских лордов и тот не поняла. И не слишком интересно ухаживать за девчонкой, которая улыбается всем без разбора.
Я, конечно, утешал себя. Что там ни говори, обидно. То, что она дала повод Веэну, — могло получиться случайно. Но зачем она дала повод мне? Улыбалась, позволила поцеловать, ходила в кино. Легкомысленная девчонка! Верзила совершает большую ошибку, женясь на ней.
Даже если они разыграли меня, всё кончено. Кончено с Зоей. Но они не разыгрывали. Достаточно вспомнить, как они обсуждали, что будут покупать в своём пошлом салоне для новобрачных!
И всё же было обидно. На душе скребли кошки. Богатое событиями лето: я узнал, как бегают по спине мурашки и как на душе скребут кошки. Или, как говорят наши наставники, у меня прибавилось жизненного опыта. Стало ли мне от этого лучше — не знаю.
Я заставил себя не думать о Зое. Весь следующий день ждал звонка Кости. Не выходил из дому, опасался, что он позвонит без меня. Питался супом из пакетиков, но из дому не выходил. Порубал три пакетика.
Костя не позвонил, и я отправился к нему сам.
Дверь мне открыла худенькая женщина с грустными глазами — мать Кости. Она сказала, что Костя у себя. Через большую комнату, где играла на рояле Костина сестра, я прошёл в лоджию.
Костя лежал на раскладушке и читал. Он скосил на меня глаза, но не положил книгу.
— Чего не звонишь?
— Занят был.
Я кивнул в сторону большой комнаты.
— Говорил?
— Да.
— Ну и что?
— Всё получилось из-за статьи.
— Всё ясно, теперь сравни. — Я протянул ему журнал со статьёй Веэна, туда была вложена и переписанная мной статья Максимова.
Больше мне нечего было говорить. Костя достаточно умён, чтобы во всём разобраться.
— Мама вышла за отчима через несколько лет после того, как всё это случилось, — сказал Костя. — И отчим меня усыновил. Они не хотели, чтобы я знал, как умер мой отец, боялись меня огорчить, что ли, и потому скрывали от меня правду.
— Ну что ж, — сказал я, — самое время подвести итоги.
— Я это сделаю сам, — сказал Костя.
— Мы это сделаем вместе, — ответил я.
28
…Веэн встретил нас насторожённо. Не ожидал, что я приду снова, да ещё с Костей.
Костя поставил на стол фигурку мальчика с книгой.
— Откуда она у тебя? — спросил Веэн спокойно.
— Она всегда была у меня.
— Понятно.
За его спокойствием угадывалась тревога.
— Я читал вашу статью о Краснухине, она мне не понравилась, — сказал Костя.
— Мне она тоже не слишком нравится, — ответил Веэн, — но напиши её другой, она была бы ещё хуже.
Уж слишком издалека начинает Костя. Так мы никогда не доберёмся до сути. Я спросил напрямик:
— Вы знали такого — Максимова?
— Что за Максимов?
— В сорок восьмом году он написал статью о Костином отце.
Передо мной мелькнул знакомый мне уже мгновенный, колючий и вместе с тем жалкий и обречённый взгляд.
— Да, такая статья была, я помню.
— Максимов бесчестный человек, — сказал Костя.
— Ты встречал абсолютно честных людей? Где? Назови! — сощурился Веэн.
Костя посмотрел на меня. Веэн перехватил его взгляд и пренебрежительно поморщился:
— Крош бесплодный фантазёр и мечтатель. А тебе предстоит жизнь. В мире, где слабый падает под ударами судьбы. Тебя не обманет только твоя независимость — я тебе её дам.
Меня поразила страсть, с которой говорил Веэн. Он любит Костю, это точно. Его неподдельная искренность поколебала даже меня. Я снова почувствовал в себе раздвоение личности. Надо взять себя в руки! Что из того, что он любит Костю? Вотрен тоже любил Люсьена де Рюбампре.
— У меня такое впечатление, — сказал я, — что статью о профессоре Мавродаки и статью о художнике Краснухине писал один человек.
Того, что произошло вслед за этим, я никак не ожидал. Веэн бросился на меня и схватил за грудь. Хорошо, что я сидел, если бы я стоял, то наверняка бы упал — так стремительно бросился он на меня. И если бы Костя не схватил его за руки, он наверняка задушил бы, слово даю!
— Ничтожество! — бормотал Веэн трясущимися губами. — Как ты смеешь! Дрянь!
Вероятно, я немного испугался. Испугаешься, когда здоровый, спортивного вида гражданин хватает тебя за горло. Если разобраться, то произошла отвратительная сцена. Взрослый, как будто интеллигентный человек бросился драться. Вот бы уж никогда не подумал, никогда не ожидал. А мы ещё на диспутах рассуждаем о мелком хулиганстве!
Веэн опустился в кресло и закрыл глаза руками. Довольно трагическая поза. Мне даже сделалось как-то неловко. Но Костю эта поза никак не тронула, я видел это по его холодному, бесстрастному лицу. И правильно! Хорошим отношением к Косте Веэн хотел искупить свою вину. Но ведь он хотел сделать Костю таким же проходимцем, каким был сам. Какое же это искупление вины? Это — усугубление вины.
Не отнимая рук от лица, Веэн глухо проговорил:
— Всё не так, как ты думаешь, Костя. Со временем ты всё поймёшь. Но верь только мне! Всё, что я делаю, я делаю для тебя, ты это знаешь.
— Максимов — это вы? — холодно спросил Костя.
— Нет! — закричал Веэн, отнимая руки, и я поразился тому, как сразу постарело его лицо. — Максимов — это не я. Максимов — это время…
Потом я сообразил, как мне следовало ответить Веэну: «Плохого времени не бывает, бывают плохие люди». Это было бы сказано! Но поздно думать об этом! Впрочем, если представится случай, я это выскажу.
На улице я хотел обсудить с Костей всё, что произошло. Надо было выяснить ещё некоторые детали. Но Костя не был настроен разговаривать. Я только спросил:
— Будешь приходить к нам?
— Буду.
Он вынул из кармана нэцкэ — мальчика с книгой — и протянул мне:
— Возьми, может быть, будешь собирать…
— Зачем… Такая дорогая штука. И я не знаю, буду ли я собирать, скорее всего, что не буду. И потом, ведь это…
Я хотел сказать, что ведь эта нэцкэ — память об отце. Но Костя не дал мне договорить:
— У меня есть ещё одна, та, что дал Краснухин, — цветок…
— Спасибо, — сказал я. — Так приходи.
— Ладно, — ответил Костя, повернулся и пошёл по улице.
Некоторое время я видел его маленькую, но сильную фигурку, потом он смешался с толпой прохожих.
Я представил себе, как он придёт домой и будет разговаривать со своей матерью и со своим отчимом. И когда я представил себе отчима, я подумал, что на свете всё же хороших людей гораздо больше, чем плохих.
Потом я открыл коробочку и снова рассмотрел нэцкэ — мальчика с книгой, — лучшую нэцкэ из коллекции Мавродаки.
Мальчик пристально вглядывается в даль. Что видят его глаза? Таинственные образы проносятся в детских мечтах подобно песням птиц. Но что мы сделали для того, чтобы королевство фантазии стало рядом с нами навсегда?
Хорошая притча, правда?
Ею я начал, ею и заканчиваю свои записки.
До свидания!
1964—1965
Анатолий Рыбаков. Неизвестный солдат.
1
Я единственный внук, и дедушка меня любит. Я его тоже очень люблю. Он осенил моё детство добрыми воспоминаниями. Они до сих пор волнуют и трогают меня. Даже сейчас, когда он прикасается ко мне своей широкой, сильной рукой, у меня щемит сердце.
Я приехал в Корюков двадцатого августа, после заключительного экзамена. Опять получил четвёрку. Стало очевидно, что в университет я не поступлю.
Дедушка ожидал меня на перроне. Такой, каким я оставил его пять дет назад, когда в последний раз был в Корюкове. Его короткая густая борода слегка поседела, но широкоскулое Лицо было по-прежнему мраморно-белое, и карие глаза такие же живые, как и раньше. Всё тот же вытертый тёмный костюм с брюками, заправленными в сапоги. В сапогах он ходил и зимой и летом. Когда-то он учил меня надевать портянки. Ловким движением закручивал портянку, любовался своей работой. Патом натягивал сапог, морщась не оттого, что сапог жал, а от удовольствия, что он так ладно сидит на ноге.
С ощущением, будто я исполняю комический цирковой номер, я взобрался на старую бричку. Но никто на привокзальной площади не обратил на нас внимания. Дедушка перебрал в руках вожжи. Лошадка, мотнув головой, побежала с места бодрой рысцой.
Мы ехали вдоль новой автомагистрали. При въезде в Корюков асфальт перешёл в знакомую мне выбитую булыжную мостовую. По словам дедушки, улицу должен заасфальтировать сам город, а у города нет средств.
— Какие наши доходы? Раньше тракт проходил, торговали, река была судоходной — обмелела. Остался один конезавод. Есть лошади! Мировые знаменитости есть. Но город от этого мало что имеет.
К моему провалу в университет дедушка отнёсся философски:
— Поступишь в следующем году, не поступишь в следующем — поступишь после армии. И все дела.
А я был огорчён неудачей. Не повезло! «Роль лирического пейзажа в произведениях Салтыкова-Щедрина». Тема! Выслушав мой ответ, экзаменатор уставился на меня, ждал продолжения. Продолжать мне было нечего. Я стал развивать собственные мысли о Салтыкове-Щедрине. Экзаменатору они были не интересны.
Те же деревянные домики с садами и огородами, базарчик на площади, магазин райпотребсоюза, столовая «Байкал», школа, те же вековые дубы вдоль улицы.
Новой была лишь автомагистраль, на которую мы опять попали, выехав из города на конезавод. Здесь она ещё только строилась. Дымился горячий асфальт; его укладывали загорелые ребята в брезентовых рукавицах. Девушки в майках, в надвинутых на лоб косынках разбрасывали гравий. Бульдозеры блестящими ножами срезали грунт. Ковши экскаваторов вгрызались в землю. Могучая техника, грохоча и лязгая, наступала на пространство. На обочине стояли жилые вагончики — свидетельство походной жизни.
Мы сдали на конезавод бричку и лошадь и пошли обратно берегом Корюковки. Я помню, как гордился, впервые переплыв её. Теперь бы я её пересёк одним толчком от берега. И деревянный мостик, с которого я когда-то прыгал с замирающим от страха сердцем, висел над самой водой.
На тропинке, ещё по-летнему твёрдой, местами потрескавшейся от жары, шуршали под ногами первые опавшие листья. Желтели снопы в поле, трещал кузнечик, одинокий трактор подымал зябь.
Раньше в это время я уезжал от дедушки, и грусть расставания смешивалась тогда с радостным ожиданием Москвы. Но сейчас я только приехал, и мне не хотелось возвращаться.
Я люблю отца и мать, уважаю их. Но что-то сломалось привычное, изменилось в доме, стало раздражать, даже мелочи. Например, мамино обращение к знакомым женщинам в мужском роде: «милый» вместо «милая», «дорогой» вместо «дорогая». Что-то было в этом неестественное, претенциозное. Как и в том, что свои красивые, чёрные с проседью волосы она покрасила в рыже-бронзовый цвет. Для чего, для кого?
Утром я просыпался: отец, проходя через столовую, где я сплю, хлопал шлёпанцами — туфлями без задников. Он и раньше ими хлопал, но тогда я но просыпался, а теперь просыпался от одного предчувствия этого хлопанья, а потом не мог заснуть.
У каждого человека свои привычки, не совсем, может быть, приятные; приходится с ними мириться, надо притираться друг к другу. А я не мог притираться. Неужели я стал психом?
Мне стали неинтересны разговоры о папиной и маминой работе. О людях, про которых я слышал много лет, но ни разу не видел. О каком-то негодяе Крептюкове — фамилия, ненавистная мне с детства; я готов был задушить этого Крептюкова. Потом оказалось, что Крептюкова душить не следует, наоборот, надо защищать, его место может занять гораздо худший Крептюков. Конфликты на работе неизбежны, глупо всё время говорить о них. Я вставал из-за стола и уходил. Это обижало стариков. Но я ничего не мог поделать с собой.
Всё это было тем более удивительно, что мы были, как говорится, дружной семьёй. Ссоры, разлады, скандалы, разводы, суды и тяжбы — ничего этого у нас не было и быть не могло. Я никогда не обманывал родителей и знал, что они не обманывают меня. То, что они скрывали от меня, считая меня маленьким, я воспринимал снисходительно. Это наивное родительское заблуждение лучше снобистской откровенности, которую кое-кто считает современным методом воспитания. Я не ханжа, но в некоторых вещах между детьми и родителями существует дистанция, есть сфера, в которой следует соблюдать сдержанность; это не мешает ни дружбе, ни доверию. Так всегда и было в нашей семье. И вдруг мне захотелось уйти из дома, забиться в какую-нибудь дыру. Может быть, я устал от экзаменов? Тяжело переживаю неудачу? Старики ни в чём меня не упрекали, но я подвёл, обманул их ожидание. Восемнадцать лет, а всё сижу на их шее. Мне стало стыдно просить даже на кино. Раньше была перспектива — университет. Но я не смог добиться того, чего добиваются десятки тысяч других ребят, ежегодно поступающих в высшие учебные заведения.
2
Старые гнутые венские стулья в маленьком дедушкином доме. Скрипят под ногами ссохшиеся половицы, краска на них местами облупилась, и видны её слои — от тёмно-коричневого до желтовато-белого. На стенах фотографии: дедушка в кавалерийской форме держит в поводу коня, дедушка — объездчик, рядом с ним два мальчика — жокеи, его сыновья, мои дяди, — тоже держат в поводу лошадей, знаменитых рысаков, объезженных дедушкой.
Новым был увеличенный портрет бабушки, умершей три года назад. На портрете она точно такая, какой я её помню, — седая, представительная, важная, похожая на директора школы. Что в своё время соединило её с простым лошадником, я не знаю. В том далёком, отрывистом, смутном, что мы называем воспоминаниями детства и что, возможно, есть только наше представление о нём, были разговоры, будто из-за дедушки сыновья не стали учиться, заделались лошадниками, потом кавалеристами и погибли на войне. А получи они образование, как хотела бабушка, их судьба, вероятно, сложилась бы по-другому. С тех лет у меня сохранились сочувствие к дедушке, который никак не был виноват в гибели сыновей, и неприязнь к бабушке, предъявлявшей ему такие несправедливые и жестокие обвинения.
На столе бутылка портвейна, белый хлеб, совсем не такой, как в Москве, гораздо вкуснее, и варёная колбаса неопределённого сорта, тоже вкусная, свежая, и масло со слезой, завёрнутое в капустный лист. Что-то есть особенное в этих простых произведениях районной пищевой промышленности.
— Пьёшь вино? — спросил дедушка.
— Так, понемногу.
— Сильно пьёт молодёжь, — сказал дедушка, — в моё время так не пили.
Я сослался на большой объём информации, получаемой современным человеком. И на связанную с этим обострённую чувствительность, возбудимость и ранимость.
Дедушка улыбался, кивал головой, как бы соглашаясь со мной, хотя, скорее всего, не соглашался. Но своё несогласие он выражал редко. Внимательно слушал, улыбался, кивал головой, а потом говорил что-нибудь такое, что хотя и деликатно, но опровергало собеседника.
— Я как-то раз выпил на ярмарке, — сказал дедушка, — меня мой родитель та-ак вожжами отделал.
Он улыбался, добрые морщинки собирались вокруг его глаз.
— Я бы не позволил!
— Дикость, конечно, — охотно согласился дедушка, — только раньше отец был глава семьи. У нас, пока отец за стол не сядет, никто не смеет сесть, пока не встанет — и не думай подыматься. Ему и первый кусок — кормилец, работник. Утром отец первым к умывальнику, за ним старший сын, потом остальные — соблюдалось. А сейчас жена чуть свет на работу убегает, поздно приходит, усталая, злая: обед, магазин, дом… А ведь сама зарабатывает! Какой муж ей авторитет? Она ему уважения не оказывает, за ней и дети. Вот он и перестал чувствовать свою ответственность. Зажал трёшку — и за пол-литром. Сам пьёт и детям показывает пример.
В чем-то дедушка был прав. Но это только один аспект проблемы, и, возможно, не самый главный.
Точно угадав мои мысли, дедушка сказал:
— Я не призываю к кнуту и к домострою. Как раньше люди жили — их дело. Мы за предков не отвечаем, мы за потомков отвечаем.
Правильная мысль! Человечество отвечает прежде всего за своих потомков!
— Сердца вот пересаживают… — продолжал дедушка. — Мне семьдесят — на сердце не жалуюсь, не пил, не курил. А молодые и пьют и курят — вот и подавай им в сорок чужое сердце. И не подумают, как это: нравственно или безнравственно?
— А ты как считаешь?
— Я считаю, безусловно, безнравственно. На все сто процентов. Лежит человек в больнице и ждёт не дождётся, когда другой сыграет в ящик. На улице гололёд, а ему праздник: кто-нибудь расшибёт котелок. Сегодня пересаживают сердца, завтра возьмутся за мозги, потом начнут из двух несовершенных людей делать одного совершенного. Например, слабосильному вундеркинду пересадят сердце здорового болвана или, наоборот, болвану — мозги вундеркинда; будут, понимаешь, свинчивать гениев, а остальные на запчасти.
— Есть у меня один знакомый писатель, — поддержал я дедушкину мысль, — хочет написать такой рассказ. Больному человеку пересаживали сердца от разных зверей и животных. Но ни с одним таким сердцем он не мог жить — перенимал характер того зверя, от которого получал сердце. Сердце льва — становился кровожадным, осла — упрямым, свиньи — хамом. В конце концов он пошёл к врачу и сказал: «Верните мне моё сердце, пусть больное, но зато моё, человеческое».
Я сказал неправду. Знакомых писателей у меня нет. Этот рассказ я собирался написать сам. Но было стыдно признаться дедушке, что пописываю. Я ещё никому не признавался.
— В общем, лучше здоровое сердце, чем большой желудок… — Такой старомодной шуткой дедушка заключил медицинскую часть нашего разговора и перешёл к деловой: — Делать чего собираешься?
— Работать пойду. Заодно буду готовиться к экзаменам.
— Рабочие кругом требуются, — согласился дедушка, — вон дорогу строят, автомагистраль Москва-Поронск. Знаешь Поронск?
— Слыхал.
— Старинный город, церкви, соборы. Ты стариной не увлекаешься?
— Что-то не тянет.
— Сейчас старина в моде, даже молодые пристрастились. Ну, а в Поронске этой старины на каждом шагу, иностранцы приезжают. Вот и строят международный туристский центр, а к нему — магистраль. По всему городу объявления: требуются рабочие, полевые-командировочные платят. Заработаешь, потом сиди зиму — занимайся. И все дела.
3
Итак, эта прекрасная мысль пришла в голову дедушке, с его практическим умом и мудростью. Он вообще считал, что меня воспитывают слишком домашним, тепличным и мне надо попробовать жизни. Мне казалось даже, что он доволен моим непоступлением в университет. Может быть, он против высшего образования? Последователь Руссо? Считает, что цивилизация ничего хорошего людям не принесла? Но дал же он образование своей дочери — моей маме. Просто дедушка хочет, чтобы я попробовал жизни. А заодно пожил бы у него и тем скрасил его одиночество.
Меня это тоже устраивало.
Никаких объяснений с родителями не потребуется. Я поставлю их перед совершившимся фактом. Здесь меня никто не знает, и я буду избавлен от прозвища «Крош» — оно мне порядком надоело. Поработаю до декабря, вернусь домой с деньгами. У меня есть водительские права, любительские, мне их обменяют на профессиональные. В виде исключения: в школе мы изучали автодело, проходили практику на автобазе. Поезжу с отрядом по стране, буду готовиться к экзаменам. Что делать вечером в поле? Сиди почитывай. Это не чистенький, светлый цех, где восемь часов торчишь на одном и том же месте. Это не киношная романтика с торжественными провожаниями на вокзале, речами и оркестрами. Было что-то очень привлекательное в этих вагончиках на обочине дороги — дымок костров, кочевая жизнь, дальние дороги, здоровенные загорелые парни в брезентовых рукавицах. И эти девушки с оголёнными руками, со стройными ногами, в косынках, надвинутых на лоб. Что-то сладкое и тревожное щемило мне сердце.
Но объявления висят давно. Возможно, люди уже набраны. С единственной целью выяснить ситуацию я отправился на участок.
Вагончики стояли на обочине полукругом. Между ними были натянуты верёвки, на них сушилось бельё. Один конец верёвки был привязан к Доске почёта. Несколько в стороне располагалась столовая под большим деревянным навесом.
По приставной лестнице я поднялся в вагончик с табличкой «Управление дорожно-строительного участка».
В вагончике за столом сидел начальник. За чертёжной доской — модная девчонка с косящим на дверь глазом. Сейчас она скосилась на меня.
— Я по поводу объявления, — обратился я к начальнику.
— Документы! — коротко ответил он. Ему было на вид лет тридцать пять, сухощавый человек с нахмуренным лицом, озабоченный и категоричный администратор.
Я протянул паспорт и водительские права.
— Права любительские, — заметил он.
— Я их обменяю на профессиональные.
— Нигде ещё не работал?
— Слесарем работал.
Он недоверчиво сощурился:
— Где ты работал слесарем?
— На автобазе, на практике по ремонту машин.
Он перелистал паспорт, посмотрел прописку.
— Сюда зачем приехал?
— К дедушке.
— На деревню дедушке… В институте провалился?
— Не поступил.
— Пиши заявление: прошу зачислить подсобным рабочим. Обменяешь права — переведём на машину.
Несколько неожиданно. Ведь я пришёл только выяснить ситуацию.
— Я бы хотел сначала обменять права и сразу сесть на машину.
— У нас и сменишь. Напишем в автоинспекцию.
Ясно! Начальник заинтересован в рабочей силе, особенно в подсобниках. Никто не хочет идти на физическую работу. Это только теперь так деликатно называется — подсобный рабочий. Раньше называлось — чернорабочий.
Я не боюсь физической работы. Могу, если надо, поворочать гравий лопатой. Но зачем же я проходил практику на автобазе? У меня хватило ума сказать:
— Не можете посадить на машину, возьмите пока в слесари. Зачем же я буду квалификацию терять?
Начальник недовольно сморщился. Ему очень хотелось всучить мне лопату и грабли.
— Ещё надо проверить твою квалификацию.
— Для этого есть испытательный срок.
— Всё знает! — усмехнулся начальник, обращаясь к чертёжнице. Видно, у него такая манера: обращаться не к собеседнику, а к третьему лицу.
Чертёжница ничего не ответила. Опять скосилась на меня.
— Слесари на повремёнке, много не заработаешь, — предупредил начальник.
— Понятно, — ответил я.
— И жить придётся в вагончике, — продолжал начальник, — механизмы работают в две смены — слесарь должен быть под рукой.
Надо бы пожить недельку с дедушкой. Но жизнь в вагончике меня тоже привлекала.
— Можно и в вагончике.
— Ладно, — нахмурился он, — пиши заявление.
Я присел и на краю стола написал заявление: «Прошу зачислить меня слесарем по ремонту, с дальнейшим переводом на машину».
Вручив его начальнику, я спросил:
— В каком вагончике я буду жить?
— Видали его! — Он опять обратился к чертёжнице. — Спальное место ему подавай! Ты сначала поработай, заслужи.
С этими словами он размашисто начертал на углу моего заявления: «Зачислить с двадцать третьего августа».
Сегодня двадцать второе августа.
Только выйдя из вагончика, я осознал нелепую скоропалительность своего поступка. Куда и зачем я торопился? Не хватило духу сказать: «Я подумаю». Ведь я пришёл только выяснить ситуацию. Каждый человек, решая свою судьбу, должен взвесить всё. А я проявил слабость, поддался внешним обстоятельствам. С той минуты, как вошёл в вагончик, сразу стал оформляемым на работу, действовал не так, как это нужно мне, а как нужно начальнику участка. Удивительно даже, как я сумел отбиться от лопаты и граблей. Нажми он на меня чуть посильнее — я бы на лопату согласился и на грабли. Меня оформили слесарем; я считал это своей победой, на самом деле это было поражением. Начальник участка предложил мне наихудший вариант (чернорабочий), чтобы потом, сделав якобы уступку, зачислить простым слесарем, вместо того чтобы принять шофёром. Он надул меня, оболванил, объегорил. Я даже не спросил, какой у меня будет оклад! Повремёнка, а какая повремёнка? Сколько мне будут платить? Что я здесь заработаю? Неудобно, видите ли, спрашивать. Болван. Сноб! Ради оклада люди и работают, а меня это, видите ли, не интересует.
И как быть с дедушкой! Вчера приехал, завтра ухожу на работу. Хоть бы пожил с недельку со стариком. Он так этого хотел, пять лет мы с ним не виделись. Чертовски неудобно получилось! Просто ужасно.
Я шёл вдоль трассы. Так же работали загорелые парни в брезентовых рукавицах и девушки в майках с оголёнными руками и стройными ногами. Дымился асфальт. Подъезжали и отъезжали самосвалы. Мне это не казалось таким привлекательным, как вчера. Грубые, незнакомые, чужие лица. На практике мы были школьники, чего с нас спрашивать? А здесь пощады не жди, никто за тебя вкалывать не будет. Какой я, в сущности, слесарь? Отличу простой ключ от торцового, отвёртку от зубила, могу отвинтить или завинтить, что покажут. А если поручат самостоятельную работу? Здесь не ждут, тут давай, тут строительство. Вкапался в историю.
Дома я без обиняков всё объяснил дедушке. Пришёл выяснить ситуацию, а они сразу зачислили меня на работу.
— А ты думал, — рассмеялся дедушка, — людей-то не хватает.
4
Всё оказалось проще, чем я думал. Дорожный участок переходит с места на место, и люди часто меняются. Одни увольняются, набираются новые, а те, что работают постоянно, не видятся неделями, мало знакомы, а то и вовсе не знакомы — трасса растянута на сорок километров. На новеньких здесь не обращают внимания. Даже не знают, кто новенький, кто не новенький.
Главная работа не асфальтирование, или, как здесь говорят, сооружение покрытия, а устройство земляного полотна. Тут много машин: экскаваторы, бульдозеры, канавокопатели, самосвалы. Потому здесь же и слесарная мастерская: навес, верстак, тиски, точило, наковальня, сверло, пресс, сварка, кладовая запчастей. Работа примитивная: что-нибудь подогнать, заклепать, просверлить, отнести на трассу какую-нибудь часть — механизатор сам её поставит. Механизаторы опытные, привыкли в полевых условиях всё делать сами. На ремонтников не надеются. У ремонтников стандартный ответ: «Мы на повремёнке, нам торопиться некуда». Подчёркивают этим, что механизатор выгоняет в месяц до двухсот рублей, а ставка слесаря, скажем, моего разряда — шестьдесят пять.
Мастерская держится на механике. Его фамилия Сидоров. Пожилой, опытный механик. Главное, понимает, что с нас взять нечего: всё делает сам, а мы на подхвате. И никогда нам не выговаривает. Только когда кто-нибудь уж чересчур начнёт канючить, жаловаться на жару или ещё на что, скажет:
— На фронте жарче было.
Он бывший фронтовик и до сих пор ходит в гимнастёрке. Непонятно, как она у него сохранилась… Впрочем, это могла быть не фронтовая, а послевоенная гимнастёрка.
Может, начальник участка — кстати, его фамилия Воронов — имеет влияние на автоинспекцию. Но всё равно будет экзамен по вождению, по правилам движения, и главное, нужна новая медицинская справка о состоянии здоровья. Приедет квалифкомиссия в Корюков десятого сентября.
И потому, возвращаясь с работы, я садился за «Курс автомобиля». Самосвал объезжал трассу, долго собирал живущих в городе, и добирался я домой часов в семь, а то и в восемь. Усталый как чёрт. А здесь уже в одиннадцать часов выключают свет — город на ограниченном лимите электроэнергии.
Ко всему, понимаете ли, меня стали задерживать на работе. Один раз до ночи ремонтировали экскаватор. Машина в город уже ушла. Я остался ночевать в вагончике на койке, её хозяин был в командировке. Потом задержали ещё раз. Потом третий. Конечно, сейчас горячая пора, механизмы не должны простаивать, но не слишком приятно ночевать на чужой койке, без постели, не раздеваясь и опасаясь, что вот-вот вернётся хозяин и даст тебе по шее. А главное, на носу экзамены, надо готовиться, а меня задерживают.
Я так и сказал начальнику участка Воронову.
— Через две недели квалифкомиссия, а вы мне не даёте подготовиться.
Разговор этот происходил в том же служебном вагончике, в присутствии той же чертёжницы. Её зовут Люда.
Обращаясь к ней, Воронов, усмехаясь, ответил:
— Видали его! Он учиться сюда пришёл. А работать кто будет? Ломоносов? — Потом повернулся ко мне: — Я тебя предупреждал: слесарь может понадобиться в любое время.
— Да, вы предупреждали. Но вы обещали вагончик, а я живу в городе.
— Вот оно что. — Воронов нахмурился, будто я нанёс ему тяжкое оскорбление, напомнив о его невыполненном обещании. — Хорошо, получишь место. — И угрожающе добавил: — Только уж тогда не хныкать.
Воронов невзлюбил меня, почему — не знаю. Возможно, чувствовал, что и он мне не нравится. Мне несимпатичны люди такого типа: властные, категоричные, насмешливые. В нём была скрытая каверзность, каждую минуту жди подвоха. Может быть, у него такой метод руководства: держать подчинённого в напряжении? Уступив в одном случае, он потом доказывал свою власть и преимущество в десяти других случаях. Так получилось и со мной. Я не поддался ему, не взялся за лопату и за грабли — одна зарубка, заставил дать место в вагончике — вторая.
Произошло это ровно через три дня. Мы с механиком Сидоровым были на трассе, меняли тягу у канавокопателя. Впереди двигался бульдозер, срезал блестящим ножом и отваливал в сторону грунт. Вёл бульдозер Андрей, здоровый молчаливый парень.
Вдруг бульдозер остановился. Андрей вышел и что-то разглядывал на дороге.
Сидоров поставил тягу, велел мне закрепить её, а сам пошёл посмотреть, в чём причина остановки. Нагнувшись, Андрей и Сидоров что-то рассматривали на дороге.
Подъехал самосвал, из него вышел шофёр Юра — красивый деловой парень в кожаной куртке с «молниями».
— Нашли клад, ребята? Я в доле.
Я затянул последнюю гайку и подошёл к ним.
Бульдозер стоял перед маленьким холмиком, поросшим травой. Вокруг валялся низкий, полусгнивший штакетник.
Сидоров поднял из травы выцветшую деревянную звезду. Солдатская могила — видно, осталась ещё с войны. Она была вырыта в стороне от прежней дороги. Но, прокладывая новую, мы спрямляли магистраль. И вот бульдозер Андрея наткнулся на могилу.
Андрей сел в кабину, включил рычаги, нож надвинулся на холмик.
— Ты что делаешь? — Сидоров встал на холмик.
— Чего, — ответил Андрей, — сровняю…
— Я тебе сровняю! — сказал Сидоров.
— Разница тебе, где он будет лежать: над дорогой, под дорогой? — спросил шофёр Юра.
— Ты в земле не лежал, а я лежал, может, рядом с ним, — сказал Сидоров.
В это время подъехал ещё один самосвал. Из него вышел Воронов, подошёл к нам, нахмурился:
— Стоим?!
Взгляд его остановился на могиле, на штакетнике; кто-то уже собрал его в кучку и положил сверху выцветшую звезду. На лице Воронова отразилось неудовольствие, он не любил задержек, а могила на дороге — это задержка. И он недовольно смотрел на нас, будто мы виноваты в том, что именно здесь похоронен солдат.
Потом сказал Андрею:
— Обойди это место. Завтра пришлю землекопов — перенесут могилу.
Молчавший всё время Сидоров заметил:
— По штакетнику и по звезде видать, кто-то ухаживал, надо бы хозяина найти.
— Не на Камчатку перенесём. Придёт хозяин — найдёт. Да и нет никакого хозяина — сгнило всё, — ответил Воронов.
— При нём документы могут быть или какие вещественные доказательства, — настаивал Сидоров.
И Воронов уступил. За что, конечно, Сидорову придётся потом расплатиться. Потом. А пока расплатился я.
— Крашенинников! Поезжай в город, поспрашивай, чья могила.
Я был поражён таким приказанием:
— У кого же я буду спрашивать?
— У кого — у местных жителей.
— А почему именно я?
— Потому что ты местный.
— Я не местный.
— Всё равно, у тебя здесь дедушка, бабушка…
— Нет у меня бабушки, умерла, — мрачно ответил я.
— Тем более, старые люди, — со странной логикой продолжал Воронов. — Город весь вот, — он показал кончик ногтя, — три улицы… Найдёшь хозяина, попроси: пусть забирают могилу, что надо, поможем, перевезём, а не найдёшь хозяина, зайди с утра в военкомат: мол, наткнулись на могилу, пусть пришлют представителя для вскрытия и переноса. Понял? — Он повернулся к Юре: — Добрось его до карьера, а там дойдёт.
— А кто за меня будет работать? — спросил я.
— На твою квалификацию найдём замену, — насмешливо ответил Воронов.
Такой хам!
— Ну, поехали! — сказал Юра.
5
…Вторым заходом самолёт дал на бреющем полёте пулемётную очередь и снова скрылся, оставив за собой длинную, медленно и косо сползающую к земле голубоватую полосу дыма.
Старшина Бокарев поднялся, стряхнул с себя землю, подтянул сзади гимнастёрку, оправил широкий командирский ремень и портупею, перевернул на лицевую сторону медаль «За отвагу» и посмотрел на дорогу.
Машины — два «ЗИСа» и три полуторки «ГАЗ-АА» — стояли на прежнем месте, на просёлке, одинокие среди неубранных полей.
Потом поднялся Вакулин, опасливо посмотрел на осеннее, но чистое небо, и его тонкое, юное, совсем ещё мальчишеское лицо выразило недоумение: неужели только что над ними дважды пролетала смерть?
Встал и Краюшкин, отряхнулся, вытер винтовку — аккуратный, бывалый пожилой солдат.
Раздвигая высокую, осыпающуюся пшеницу, Бокарев пошёл в глубь поля, хмуро осмотрелся и увидел наконец Лыкова и Огородникова. Они всё ещё лежали, прижавшись к земле.
— Долго будем лежать?!
Лыков повернул голову, скосился на старшину, потом посмотрел на небо, поднялся, держа винтовку в руках, — небольшой, кругленький, мордастенький солдатик, — философски проговорил:
— Согласно стратегии и тактике, не должон он сюда залететь.
— Стратегия… тактика… Оправьте гимнастёрку, рядовой Лыков!
— Гимнастёрку — это можно. — Лыков снял и перетянул ремень.
Поднялся и Огородников — степенный, представительный шофёр с брюшком, снял пилотку, вытер платком лысеющую голову, сварливо заметил:
— На то и война, чтобы самолёты летали и стреляли. Тем более, едем без маскировки. Непорядок.
Упрёк этот адресовался Бокареву. Но лицо старшины было непроницаемо.
— Много рассуждаете, рядовой Огородников! Где ваша винтовка?
— В кабине.
— Оружие бросил. Солдат называется! За такие дела — трибунал.
— Это известно, — огрызнулся Огородников.
— Идите к машинам! — приказал Бокарев.
Все вышли на пустую просёлочную дорогу к своим старым, потрёпанным машинам — двум «ЗИСам» и трём полуторкам.
Стоя на подножке, Лыков объявил:
— Кабину прошил, гад!
— Это он специально за тобой гонялся, Лыков, — добродушно заметил Краюшкин. — «Который, думает, тут Лыков?..» А Лыков эвон куда уполз…
— Не уполз, а рассредоточился, — отшутился Лыков.
Бокарев хмуро поглядывал, как Огородников прикрывает срубленным деревом кабину и кузов. Хочет доказать своё!
Командирским голосом он приказал:
— По машинам! Интервал пятьдесят метров! Не отставать!
Километров через пять они свернули с просёлка и, приминая мелкий кустарник, въехали в молодой березняк. Прибитая к дереву деревянная стрелка с надписью «Хозяйство Стручкова» указывала на низкие здания брошенной МТС, прижавшейся к косогору.
— Приготовить машины к сдаче! — приказал Бокарев.
Он вынул из-под сиденья сапожную щётку и бархатку и стал надраивать свои хромовые сапоги.
— Товарищ старшина! — обратился к нему Лыков.
— Чего тебе?
— Товарищ старшина, — Лыков понизил голос, — я бывал в этой ПРБ, тут порядки такие: кто прибыл без сухого пайка, тех посылают на продпункт, в город.
— Ну и что?
— В городе продпункт, говорю…
— Вам выдан сухой паёк.
— А если бы не выдали?
Бокарев сообразил наконец, на что намекает Лыков, посмотрел на него.
Лыков поднял палец.
— Город всё-таки… Корюков называется. Женский пол имеется. Цивилизация.
Бокарев завернул щётку и мазь в бархатку, положил под сиденье.
— Много берёте на себя, рядовой Лыков!
— Обстановку докладываю, товарищ старшина.
Бокарев оправил гимнастёрку, ремень, портупею, просунул палец под подворотничок, покрутил шеей.
— И без тебя есть кому принять решение!
Обычная, известная Бокареву картина ПРБ — походно-ремонтной базы, размещённой на этот раз в эвакуированной МТС. Рокочет мотор на стенде, шипит паяльная лампа, трещит электросварка; слесаря в замасленных комбинезонах, под которыми видны гимнастёрки, ремонтируют машины. Движется по монорельсу двигатель; его придерживает слесарь; другой, видимо механик, направляет двигатель на шасси.
Мотор не садился на место, и механик приказал Бокареву:
— А ну-ка, старшина, попридержи!
— Ещё не приступил к работе, — отрезал Бокарев. — Где командир?
— Какой тебе командир?
— Какой… Командир ПРБ.
— Капитан Стручков?
— Капитан Стручков.
— Я капитан Стручков.
Бокарев был опытный старшина. Он мог ошибиться, не распознав в механике командира части, но распознать, разыгрывают его или нет, — тут уж он не ошибётся. Его не разыгрывали.
— Докладывает старшина Бокарев. Прибыл из отдельной автороты сто семьдесят второй стрелковой дивизии. Доставил пять машин в ремонт.
Он лихо приложил, потом отбросил руку от фуражки.
Стручков насмешливо осмотрел Бокарева с головы до ног, усмехнулся его надраенным сапогам, его франтоватому виду.
— Очистите машины от грязи, чтобы блестели, как ваши сапоги. Ставьте под навес и приступайте к разборке.
— Понятно, товарищ капитан, будет исполнено! Позвольте обратиться с просьбой, товарищ капитан!
— Какая просьба?
— Товарищ капитан! Люди с передовой, с первого дня. Позвольте в город сходить, в баньке помыться, письма послать, купить кое-чего по мелочи. Завтра вернёмся, отработаем — очень просят люди.
Все просятся в город. И лучше отпустить их сейчас, иначе потом сами будут бегать. Раньше чем через два дня их машины всё равно не пойдут в ремонт — очередь. А уж тогда он с этого франта потребует работу.
— Идите! Завтра к вечеру быть здесь. Опоздание — самоволка.
Теперь они шли по полевой дороге. Впереди Бокарев с Вакулиным, за ними Краюшкин, Лыков и Огородников. Над ними хмурое осеннее небо, вокруг неубранные поля.
— Какие хлеба богатые погибают… — вздохнул Краюшкин.
— Сентябрь, — подхватил Лыков, — в сентябре свадьбы гуляют.
— Жених нашёлся, — усмехнулся Огородников.
— А чего ж, — примирительно сказал Краюшкин, — он ещё парень молодой, может жениться. Хочешь жениться, Лыков?
— Да я уж три года как женат.
— И молодец! — одобрил Краюшкин. — Рано жениться — детей вовремя вырастить. Сейчас ребята у меня большие: один в ремесленном, другой в школе. А вспоминаю я их маленькими. Спать их, бывало, уложишь, а они всё не угомонятся, головки с подушек поднимают, как ёжики. Младший, Валерик, добрый, жалостливый, кошек, собак любит, кроликами интересуется. Какой где птенчик из гнезда выпал — обратно положит. Доктором будет.
— «Дети — цветы жизни», глубокомысленно изрёк Лыков, — Максим Горький сказал. Сейчас, конечно, трудно — война, да ведь на то они и дети, в любом климате акклиматизируются: приспосабливается детский организм.
— К голоду не приспособишься, — желчно заметил Огородников.
— Извините, что перебиваю вас, — опять обратился Лыков к Краюшкину, хотя вовсе не перебивал его, — но детям надо давать самостоятельность. В какой-то книжке я читал, видный учёный написал, профессор…
— Лыков! — перебил его Огородников. — А у тебя дети-то есть?
— Не пришлось обзавестись.
— А рассуждаешь — боронишь, как борона.
— Нет, — возразил Лыков, — я хоть в этом деле не специалист, но скажу…
Огородников опять перебил его:
— Чтобы детей иметь, специальность не требуется. У меня их четверо, без университетов сработал.
Краюшкин аккуратно прислюнил окурок, спрятал его за отворот пилотки, рассудительно заключил:
— Да, трудно с детьми, и без детей худо. Я и на Кузнецком работал, и в Магнитогорске, бросало во все стороны. Бараки, особенно не разгуляешься, тем более с детьми.
— Выходит, вы заслуженный человек, товарищ Краюшкин, — восхитился Лыков, — все пятилетки объездили.
— Довелось, — подтвердил Краюшкин. — Представляли меня к медали «За трудовое отличие», да затерялись где-то бумаги. Все думали: получит Краюшкин медаль, а он не получил. Смеху было…
— На фронте получите, — утешил его Лыков. — Теперь, как вперёд пойдём, их много будут раздавать, мне один лейтенант говорил.
— Получишь свинцовую медальку в грудь, — проворчал Огородников.
Некоторое время они шли молча, потом Лыков сказал со вздохом:
— Сейчас бы неплохо буханочкой в зубах поковырять.
— Не мешало бы, — согласился Краюшкин, — сесть на пенёк да съесть пирожок.
В лесу послышались треск, шорох, опять треск, и всё стихло.
Солдаты остановились, прислушались.
Лес стоял неподвижно под низкими тоскливыми серыми облаками.
— Пошли! — сказал Бокарев.
И вдруг небольшой конусообразный предмет, похожий на гранату, вылетел из леса и упал к ногам Вакулина.
— Залечь! — крикнул Бокарев.
Они упали там, где стояли.
Граната лежала прямо против Вакулина, но не взрывалась. Он открыл глаза и со страхом посмотрел на неё, потом чуть подался вперёд — перед ним лежала большая коричневая шишка.
Он встал, поднял шишку. Солдаты тоже встали.
Вакулин сделал несколько шагов к лесу.
На дереве, свесив босые ноги, сидела девчонка лет семнадцати и улыбалась.
— Ты что, дура, делаешь, — сказал Вакулин, — а если бы я тебя, дурёха, пристрелил?!
— Вояка — шишки испугался, — рассмеялась девчонка, дерзко глядя в глаза Вакулину: видно, ей понравился молоденький хорошенький солдатик.
— Не у места такие шутки, девушка, — заметил Огородников.
Краюшкин добродушно качнул головой:
— Шустрая.
Снова раздался треск — коза с большим выменем и грязной, свалявшейся под брюхом шерстью обдирала кору с деревьев.
— Ты откуда? — строго спросил старшина Бокарев девчонку.
— А вон из Фёдоровки, из деревни…
Она мотнула головой в сторону поля.
— У вас в деревне все девки такие весёлые? — спросил Лыков.
— Для кого весёлые, для кого нет, — бойко ответила девчонка, поглядывая на Вакулина.
— Музыкальные инструменты есть, баян, например?
— Есть! Четыре патефона и одна пластинка.
— А звать тебя как?
— Нюра.
— Товарищ старшина, — предложил Лыков, — чем в город тащиться, пойдём в деревню.
— Непорядок, — возразил Огородников, — отпросились в город, надо идти в город.
Возражение Огородникова решило дело.
Бокарев хмуро посмотрел на него, перевёл взгляд на девчонку:
— Зачем на дерево взобралась?
— Козы боюсь, бодается, — засмеялась она.
— Рядовой Огородников! — распорядился Бокарев. — Отвязать козу и препроводить в населённый пункт.
6
Почему именно я должен ходить по домам? Спрашивать, чей покойник на дороге? Могли послать того же Юру на машине, с запиской в военкомат. Хозяина могилы всё равно не найдёшь. Нет никакого хозяина, всё заросло травой. Воронов нарочно дал мне такое нелепое поручение. Повозись, мол, брат, походи, здесь на трассе ты особенно не требуешься. И стыдно перед дедушкой: сразу поймёт, на каком я тут положении — мальчик.
Но дедушка отнёсся к этому делу нормально.
Он сидел против меня. Смотрел, как я рубаю творог со сметаной со здоровенным кусищем хлеба. Морщинки собрались в уголках его глаз; он улыбался моему молодому, здоровому аппетиту. Мне нравится такая старость — мудрая, умиротворённая. Человек не суетится, мало думает о себе, а больше о других, спокоен и доброжелателен. И наоборот, очень не нравятся нервные, раздражительные, беспокойные старики.
— Солдатских могил тут много, — сказал дедушка. — В сорок втором немцы прорвались на юг, на Сталинград и на Кавказ. Бои были тяжёлые. Какие могилы раскопали, перенесли в братские, обелиски поставили, — видел, наверно… А эта могила, значит, осталась. И хозяин, видно, был: по штакетнику можно судить, кто их в войну ставил, эти штакетники! Кто-то ухаживал, только, может быть, умер уже. Ладно, не горюй, я похожу, поспрашиваю.
Получилось как в сказке: дедушка ушёл порасспрашивать, а я лёг спать. Проснулся, когда было уже совсем темно. В окне виднелись огни соседских домов. Было слышно, как дедушка возится на кухне, с кем-то разговаривает.
Я не стал прислушиваться. Мне неинтересны люди, посещающие дедушку, такие же пенсионеры, как и он, старики и старухи. Он знакомил меня с ними, представлял их важными, значительными, даже выдающимися людьми. Тот — генерал в отставке, чуть ли не принимал капитуляцию Германии. Другой — бывший директор завода, конечно, самого большого в СССР. Эта старая большевичка чуть ли не с самим Лениным работала. Но эти выдающиеся знаменитости обсуждали что-то мелкое, житейское, незначительное, свои заботы, хвори, неудачи. Всё это обсуждалось у дедушки. Потом дедушка надевал фуражку и отправлялся по учреждениям. Ходил, хлопотал, устраивал больных в больницу, детишек в ясли и детские сады, добивался пересмотра дела в суде, всяких там переселений и улучшений бытовых условий. Хотя сам был не моложе своих просителей, даже старше. Но был здоров, не признавал врачей, от всех болезней сам употреблял и другим рекомендовал гнилые яблоки.
Я встал, включил свет, побегал на месте, разминаясь.
Между тем дедушка проводил своего посетителя и вошёл в комнату:
— Отоспался? Нет? Поужинай и снова ложись. Гречневую кашу как предпочитаешь? С молоком, с маслом?
Я предпочёл и с молоком и с маслом.
Пока я уминал кашу, дедушка рассказывал:
— Есть такие сведения, будто на могилу при дороге ходила женщина, Смирнова Софья Павловна, живёт на улице Щорса, дом десять, — это новые наши дома. Думал я к ней зайти, да неловко через третьи руки. Сам поговоришь — отчитаешься перед начальством.
Я посмотрел на часы — половина десятого.
— Сейчас, пожалуй, поздно.
— Поздно. Завтра с утра сходи.
Утром я не слишком торопился. Рабочий день пропал, на трассу я уже не поеду. Пришёл я в новые панельные дома часам к двенадцати. Они выглядели довольно нелепо среди огородов и старых дровяных сараев. Дети играли на деревянных мостках, сушилось бельё.
И маленькая квартирка, в которую я попал, тоже производила впечатление деревенского быта, втиснутого в городской дом. На полах цветастые дорожки. На нитках сушатся грибы. Вёдра на скамейке прикрыты плавающими в воде круглыми деревянными крышками. Пахнет капустой и солёными огурцами. В комнате громадный сундук, окованный железом. И как единственный знак современности — громадный телевизор марки «Рубин» старого выпуска.
Перед телевизором сидела старая, грузная женщина, с толстыми, отёкшими ногами. Она вопросительно посмотрела на меня. Я объяснил ей причину своего прихода.
— Ходили мы с подругами на могилу, — ответила Софья Павловна, — и в войну и после войны ходили, потом померли подруги мои, осталась я одна; тоже ходила, а теперь совсем больна стала, не двигаются ноги, в магазин спуститься и то проблема.
И снова воззрилась на телевизор. На экране элегантные молодые люди и девушки показывали танцевальные фигуры. Их комментировал ещё более элегантный инструктор: «Дамы делают полуоборот направо, кавалеры — полуоборот налево…»
— В безвозвратно прошедшие годы, — вздохнула Софья Павловна, — была я большая любительница до танцев, обожала танцы — вальс, краковяк, падеспань. Призы брала.
— А фокстрот, чарльстон, шейк? — поинтересовался я.
— Всё как есть танцевала, — ответила Софья Павловна, — курсов не кончала, да и не было в моё время ни курсов, ни телевизора — телевизор ещё не изобретён был, — а я лишь посмотрю, как люди танцуют, и весь танец понимаю.
«Может быть, и правда в ней погибла великая исполнительница модных танцев…» — подумал я.
Сверху послышался топот.
— Кругом люди, — продолжала Софья Павловна, — а я одна. Ночью во всех углах трещит, а что трещит — не пойму.
— Сверчок, — предположил я.
— О сверчке я даже мечтаю. Не знаю только, как достать, — ответила старуха, глядя на меня как будто с надеждой: нет ли у меня сверчка?
Это выглядело смешно и грустно.
— А как фамилия солдата, кто он такой? — спросил я.
— И, милый… Кабы знала я его фамилию. Нету у него фамилии. Знаем только: закидал гранатами немецкий штаб, разгромил вчистую.
Я с удивлением посмотрел на неё. Такой героический поступок не мог остаться неизвестным. А вот никто, кроме неё, о нём не знает. Выдумывает, наверно. Выдумывает, что танцевала шейк, которого тогда и в помине не было. О сверчке мечтает.
— Пригнали нас ночью, — продолжала между тем Софья Павловна, — он ничком лежал; выкопали мы яму, они его туда и спихнули. Мужчина был представительный, высокий — яму длинную копали… Ходили мы с подругами, и одна я ходила, а теперь душа болит: лежит один в чистом поле, а что делать? Найдутся, думаю, добрые люди, доглядят. Школьники вот… Какие вещи после него остались, всё им передала.
Она тяжело поднялась, подошла к окну, выглянула в него, крикнула:
— Дора Степановна, а Дора Степановна… Наташка твоя дома? Пусть зайдёт, скажи…
Она вернулась, опустилась на стул.
— Вот Наташка тебе и покажет, ей всё отдала.
Разговор с какой-то Наташкой совсем не входил в мои планы. Нет фамилии, нет документов, и фактически нет хозяина могилы. Так и доложу Воронову.
— Нет, зачем, — сказал я, вставая, — мне ведь только узнать надо было насчёт могилы. Мы её перенесём на другое место.
— А ты поинтересуйся, — сказала Софья Павловна, — может, школьники узнали его фамилию. У них ноги молодые. А я что? Ходила тут к одному, к Михееву, сады богатые держит: у него в войну солдат наш раненый от немцев прятался. Ходила к Агаповым — у них тоже был наш солдат. Никто ничего не знает — были солдаты и ушли. А больше и ходить не к кому было.
Я досадовал на старуху: зачем мне школьники? Но уходить было неудобно. Я сидел и ждал, когда явится Наташа.
А старуха смотрела телевизор. Танцы сменились передачей для детей, а она всё смотрела.
Наконец дверь открылась. Появилась Наташа.
Честное слово, никогда не думал, что в Корюкове, да ещё в этих панельных домах, есть такие девочки!
7
И вот мы с Наташей идём по пустой школе. Шаги наши гулко отдаются в пустом коридоре. Справа — громадные окна, в их стёкла бьёт яркий солнечный свет. Слева — закрытые двери классов. Чудится, будто там идут уроки, хоть знаешь, что никаких уроков нет.
Мы спустились по коротко» боковой лестнице и очутились перед дверью, на которой било написано: «Штаб рейда „Дорогой славы отцов“. В моей школе но было такого штаба и не было такого рейда. Я знал об их существовании, но видел впервые.
На стендах лежали старые солдатские каски, пилотки, гильзы, винтовки без затворов, с зарубками на прикладе. Видно, отмечал снайпер, сколько немцев убил из неё.
На стенах висели увеличенные портреты воинов — суровые лики войны. Я сказал:
— Если бы даже на них не было гимнастёрок, я бы сразу определил, что это солдаты Отечественной войны. Эпоха накладывает на лица свой отпечаток.
Не знаю, дошёл ли до неё внутренний смысл моих слов. Наверно, не дошёл, слишком серьёзно она ответила:
— Эти солдаты погибли в наших местах. Мы разыскали их родственников.
Конечно, дело это нужное и полезное. Но меня не убедишь, что действительно есть энтузиасты рыть могилы, переносить останки, разыскивать родных, которые и без того знают, что их близкие погибли. Да и какие родственники сейчас, через тридцать лет? Отцы и матери умерли, дети забыли, внуки в глаза не видели.
Но Наташа мне понравилась, и я сочувственно заметил:
— Это было, наверно, чертовски трудно?
— Это было сложно, — ответила она.
У неё гладкое лицо и серые пристальные глаза. Стройная, смуглая, спортивная девчонка. Она мне сразу понравилась. Хотя я и сразу понял, что совершенно ей безразличен. Интерес у неё не возник, а когда интерес не обоюден — тогда мёртвое дело.
Она рылась в большом книжном шкафу.
— Ты в каком классе — в девятом, в десятом?
Она ничего не ответила. Ей не нравятся мои вопросы? Почувствовала мой интерес? А что в нём предосудительного? Я знаю этих серьёзных, замкнутых девчонок, это гроб с музыкой… И всё же именно в таких девчонок я всегда врезываюсь. Их замкнутость, что ли, меня интригует? И чем бесперспективней, тем больше стараюсь. Мистика!
Она достала из шкафа свёрток:
— Вот пакет Софьи Павловны. Здесь нет ни фамилии солдата, ни документов. Мы отложили розыск до осени.
Она развернула пакет и выложила его содержимое на стол: фотография, старая промокашка, кисет с вышитой на нём буквой «К», самодельная зажигалка из патрона, маленький картонный квадратик из детского лото с изображением утки.
Фотография была разорвана на четыре части, потом склеена. Пять солдат сидели на поваленном дереве на фоне леса. В середине — бравый, щеголеватый старшина со значком на груди, с медалью, с широким командирским ремнём и портупеей через плечо. Справа от него — два молодых солдата, слева — два пожилых. Я перевернул фотографию. Там было написано: «Будем помнить ПРБ—96».
— Что за ПРБ—96?
— Название ремонтной части, их уже давно не существует, — ответила Наташа, — и найти её невозможно. Когда часть строевая — полк, дивизия, — тогда легче. И потом, на карточке пять солдат. Кто из них в могиле — неизвестно.
Она говорила в воздух. Будто я не живой человек, а казённая единица, пришедшая посмотреть казённое дело.
— Слушай, — сказал я, — у вас тут, кажется, есть танцплощадка.
— Есть. — Она насмешливо посмотрела на меня. — Могут и тебя пустить, если подстрижёшься.
— Дело идёт к зиме — утепляюсь.
— А дорога — это что: романтика?
Итак, прояснилось её мнение обо мне.
— Тут ты угадала: муза дальних странствий.
Я говорил и держался развязно. Тоже мистика! С девчонками, с которыми нужно держаться развязно, я серьёзен. И наоборот: с кем нужно быть серьёзным, говорю развязно. Чувствую, что всё порчу, а иначе не могу. Я всегда стараюсь укрепить первое впечатление о себе, даже если это впечатление для меня невыгодно. Возможно, у меня какое-то психическое нарушение — делать всё во вред себе.
— Кстати, дай мне фотографию, — сказал я.
— Зачем?
— Отчитаться перед начальством, а то скажут — не ходил. Я лицо должностное.
— Только верни, — после некоторого колебания ответила она.
— А как же, завтра же. Ты где живёшь? Дом я знаю, а квартира?
Она пожала плечами:
— Какая тебе разница? Принеси в школу — мне передадут.
Понятно… И всё же я её так не отпущу. Вижу, что дело гиблое, а не отпущу. Психи мы, психи!
— Так как, договорились? Идём на танцы? Завтра!
— Завтра нет танцев.
— Послезавтра.
— Послезавтра я буду у бабушки.
— Послепослезавтра.
— Опять нет танцев.
— Ясно. А как насчёт кино?
— Я видела эту картину.
— Какую?
Она засмеялась:
— Видела…
— Да, слушай, Софья Павловна сказала: про солдата знают ваши местные жители — Михеев и Агаповы. Известны тебе такие?
— Известны.
— Сходим узнаем, найдём этого солдата.
— Курьеры, курьеры, тридцать тысяч курьеров.
— Ты хочешь сказать, что это не так просто.
— Да, приблизительно это я и хотела сказать.
— А попытаться?
— Попытайся.
Из школы я отправился на почту. Дал телеграмму в Центральный военный архив:
«Прошу сообщить где в сентябре 1942 года находился ПРБ—96 жив ли кто-нибудь из его командиров их адреса».
Обратный адрес я указал: Корюков, дорожно-строительный участок, мне. Так запрос выглядел солиднее.
Квитанцию я скрепкой прикрепил к фотографии. Снова, на этот раз внимательно, рассмотрел её. Солдаты сидели на поваленном дереве. У старшины через плечо висела полевая сумка, на левой стороне груди медаль, какая — не разберёшь, а на правой — значок, по форме напоминающий гвардейский.
8
Вагончики и навес-столовая были ярко освещены. Уютно тарахтела электростанция. Тишина, покой, отдых после тяжёлого трудового дня.
Рабочие обедали за столами, сколоченными из толстых, обтёсанных досок с врытыми в землю крестовинами.
Мои соседи по вагончику — бульдозерист Андрей, тот самый, что наткнулся на могилу, и шофёр Юра, подвозивший меня в город, — помахали мне. Я подсел к их столику. С ними сидела чертёжница Люда. Как я понял, у неё с Юрой любовь.
— Чего узнал? — спросил Юра.
Всё равно придётся докладывать Воронову. Я счёл лишним рассказывать сейчас.
— Справки по ноль девять.
— Во даёт! — восхитился моим ответом Андрей.
Из кармана куртки он вытащил пол-литра, разлил по стаканам. Люда мизинцем провела по самому донышку, показала, сколько ей налить. На ней был немыслимо короткий плащ с погончиками, этакий мини-плащ. Странно, что такая молодая девчонка работает на строительстве дороги и живёт в вагончике. Может быть, из-за Юры?
Водку я не люблю. Но выпить пришлось. Как объяснил Андрей, мы выпиваем в честь моего переезда в вагончик. Сегодня они, старожилы, угощают меня, завтра я, новосёл, угощу их — таков обычай.
Так объяснил Андрей.
За соседними столами тоже ужинали, шумели, галдели. Но Андрей, Юра и Люда держались особняком. Сидели с видом людей, которые обо всём уже переговорили, молча понимают друг друга, сознают свою значительность. В коллективе каждый создаёт себе положение как сумеет. Эти решили создать себе положение, держась независимо и значительно.
Мимо нас прошёл инженер Виктор Борисович, пожилой интеллигентный человек с помятым лицом. Окинул наш стол внешне безразличным, а на самом деле зорким взглядом.
— Присаживайтесь, Виктор Борисович, — пригласил его Андрей, придвигая табуретку.
Виктор Борисович присел чуть в стороне, опёрся на палку. Не то сидел с нами, не то сам по себе.
Андрей налил и ему.
Ужин кончался, рабочие расходились. Официантка Ирина с подносом в руках собирала со столов посуду.
— Ириночка, прелесть моя, — Виктор Борисович погладил её руку, — какая ручка, какое чудо!.. Радость моя, попросите на кухне немного льда и томатный сок.
— Ладно, — недовольно проговорила Ирина и пошла дальше, собирая на поднос посуду. У неё довольно правильные, даже тонкие черты лица, испорченные, однако, выражением недовольства.
— Только в глуши попадаются такие иконописные лица. И имя византийское — Ирина, — сказал Виктор Борисович.
— Византия — Константинополь — Стамбул, — небрежно проронил Юра, показывая свою образованность.
— Ирина, жена византийского императора Льва Четвёртого, красавица, умница, — Виктор Борисович бросил в стакан лёд, добавил томатного сока, — управляла государством вместо своего сына Константина, которого свергла с престола и ослепила.
Ребята с интересом слушали этого пожилого, видно, образованного застольного краснобая.
— Какие женщины были! — заметил Юра.
— То есть! — многозначительно произнесла Люда.
Это выражение обозначало у неё высшую степень согласия.
— Сына ослепила! — возмутился Андрей. — Её надо было посадить на кол, четвертовать, колесовать, расстрелять и повесить.
— Боже, какой кровожадный! — с деланным ужасом проговорила Люда.
Виктор Борисович продолжал:
— Не только не повесили, дорогой мой друг Андрей. А наоборот, была она высоко отмечена церковью за преследование иконоборцев, то есть тех, кто боролся с культом икон.
— И правильно преследовала, — заметила Люда, — сейчас иконы ценятся.
— Иконы — это другое, — возразил Андрей, — это древность, история. Поронск отстраивают — тоже древность, история.
Виктор Борисович вдруг опустил голову и печально проговорил:
— Неизвестно ещё, где она, настоящая история. Возможно, в Поронске, а может быть, и ещё где-то.
— В старину люди крупнее были, — объявил Юра, — кипели сильные страсти. Олег на лодках доходил до Цареграда.
— «Как ныне сбирается вещий Олег отметить неразумным хозарам… — запел Андрей. У него был сильный низкий голос, а главное, могучая грудная клетка: он, наверное, мог бы заменить целый хор. — Их сёла и нивы за буйный набег обрёк он мечам и пожарам…»
Юра и Люда подхватили:
— «Так громче, музыка, играй победу, мы победили, и враг бежит, бежит, бежит…»
И когда они прокричали это самое «бежит, бежит, бежит», в столовую вошёл Воронов, окинул её хмурым взглядом, подошёл, сел за наш стол.
— Что, узнал?
Я положил перед ним фотографию и рассказал о Софье Павловне и о школе. О телеграмме, которую дал в Москву, естественно не сказал. О Наташе тоже.
Пока я рассказывал, фотография обошла всех и наконец задержалась у Виктора Борисовича: перед тем как рассмотреть её, он долго дрожащими руками искал по карманам очки.
— Ясно, — сказал Воронов, — тётку нашли, а она ничего не знает. Фотография есть, а кто похоронен — неизвестно.
— Про то и разговор, — поддакнул я, намекая, что дело требует дальнейшего расследования: мне очень хотелось опять повидать Наташу.
Виктор Борисович наконец водрузил очки на нос. Рассматривая фотографию, сказал:
— Старшина — красавец. Как вы считаете, Люда?
— То есть!
С некоторым оттенком ревности Воронов заметил:
— Для нашей Люды один красавец — Юра. Он для неё Собинов плюс Шаляпин.
— Вас я тоже считаю красавцем, — парировала Люда.
— Спасибо! — поблагодарил Воронов.
Виктор Борисович показал на самого пожилого солдата:
— А этот на тебя похож, Серёжа, как будто твой отец или дед.
— У меня все предки живы до четвёртого колена, — соврал я, — наша семья славится долголетием. Железные нервы.
— Видали его! — сказал Воронов, обращаясь на этот раз ко всем за столом. — Какой долгожитель! Всё! Завтра переносим могилу. Твоя миссия окончена, Мафусаил!
Железобетонным голосом я возразил:
— Во-первых, я должен вернуть фотографию. Во-вторых, надо зайти к одному человеку, по фамилии Михеев, и к женщине, по фамилии Агапова. При немцах у них прятались наши солдаты.
— Нет уж, — ещё более железобетонным голосом ответил Воронов, — мы своё дело сделали. А остальным пусть занимаются школьники, военкомат — кому положено. Всё. Точка.
— Но я обещал прийти. Меня будут ждать. Люди!
— Видали его! — снова обратился Воронов к сидящим за столом. — То вовсе не хотел идти, а теперь бежит — не остановишь. А кто за тебя будет работать?
— Вы сами говорили: на мою квалификацию замена найдётся, — напомнил я.
— Всё помнит! — заметил Воронов.
Рабочие кончили ужинать, разошлись. Столовая опустела. Официантка Ирина подметала пол.
Виктор Борисович положил на стол фотографию, пробормотал:
— «Великий Цезарь, обращённый в тлен, пошёл, быть может, на обмазку стен…»
— Шекспир, «Гамлет»! — заметил я.
— Знает! — кивнул головой Воронов, хлебая борщ.
— Если солдат этот действительно разгромил немецкий штаб, тогда стоит поискать, — заметил Андрей.
— Прошлое обрастает легендами, люди создают мифы, — пробормотал Виктор Борисович.
— Герой не герой, — сказал Юра, — а разыскать его невозможно. В войну погибли миллионы… Только надо и о живых думать. А кому до нас дело? Сидим в поле.
— Переходи на такси. — Воронов отодвинул тарелку, встал. — Завтра переносим могилу. А ты, — он обращался ко мне, — как-нибудь вечерком на попутной машине отвези фотографию.
И вышел из столовой.
Официантка Ирина с веником в руках и византийским выражением на лице только этого и ждала:
— А ну подымите копыта!
9
Есть теория, будто внимание приятно любой девушке, льстит её самолюбию. Теория эта несостоятельна. При моём появлении на лице Наташи изобразилась досада. Я был ей неинтересен, неприятен, может быть, даже противен.
Прав Пушкин: «Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей». Я нарушил завет великого поэта.
По двору она шла со мной, как сквозь строй, как на Голгофу.
Судачили женщины. Мужчины под грибком забивали «козла». Парни в подъезде своими взглядами дали мне понять, что если я ещё раз появлюсь здесь с девчонкой с ихнего двора, то они самое малое оторвут мне голову.
Стараясь держаться возможно официальнее, я сказал Наташе, что могилу мы переносим. Но должны получить разрешение вышестоящих инстанций; требуется знать, чья могила. Таково правило. Таков закон. Их мы не смеем нарушить, иначе остановится строительство дороги. А дорога должна быть закончена в твёрдые сроки. От этого зависит открытие международного туристического центра в Поронске. Туристический центр — это, между прочим, валюта. Недобор валюты — подрыв государственного бюджета.
Так я ей всё это расписал, так разукрасил. Она если не смягчилась, то, во всяком случае, прониклась серьёзностью задачи. И сам я, несомненно, вырос в её глазах. С этого бы мне, дураку, и начинать тогда в школе, а я завёл бодягу насчёт танцев. Впрочем, возможно, всё к лучшему. Ей теперь не может не быть стыдно за то, что ошибочно приняла меня за пошляка и циника.
Михеева, сухощавого старика с садовым ножом на поясе и двустволкой в руках (он стрелял по галкам), мы застали в саду. Пахло яблоками. У ворот лежали кучи песка, торфа, навоза. На цепи рвалась и лаяла овчарка.
— Скажите, пожалуйста, у вас в войну лежал наш раненый солдат? — спросила Наташа. Задавать такие вопросы было для неё делом привычным.
Михеев опёрся на ружьё, посмотрел на нас:
— Какой такой солдат?
— Наш, советский, при немцах, — пояснила Наташа.
— Был у меня солдат, был, а как же, — охотно подтвердил Михеев.
— Вы его фамилию не помните?
— Как можно помнить то, чего не знал, — ответил Михеев, — чего не знал, того не знал. И не знаю.
Я протянул ему фотографию:
— Есть он здесь?
Михеев надел очки:
— Зрение уже не то, да и времени прошло много, стираются детали в памяти человеческой.
Он долго рассматривал фотографию. Потом посмотрел на меня, на Наташу и показал на самого молодого солдата:
— Вот этот.
На снимке, справа от старшины, сидели два солдата. Один совсем молоденький, беленький — на него и показал Михеев.
— Вот этот солдат и был у меня. Звали его Иваном. Фамилии не знал и не знаю. А зачем он вам нужен, солдат этот?
Я объяснил. Мы нашли могилу при дороге. Выясняем личность солдата. Никаких документов при нём, кроме этой фотографии, не было.
Михеев выслушал мои объяснения, потом сказал:
— Лежал он у меня раненный, а тут немцы вошли в город. Он не пожелал остаться: найдут, говорит, лучше в лес подамся. Собрался, я его на тропку вывел, он ушёл.
Я спросил, не слыхал ли Михеев о нападении на немецкий штаб и не этот ли солдат совершил такой геройский поступок.
— Слыхали мы про взрыв штаба, — ответил Михеев, — только не мог мой солдат этого сделать. Ушёл он от меня в тот день, когда вошли немцы, а штаб взорвали на четвёртый или на пятый день. К тому же был серьёзно ранен и если сумел дойти до леса, то слава богу. — Он показал на старшину. — На третью или четвёртую ночь приходил ко мне этот старшина, искал Ивана. Я ему всё объяснил: нет, мол, Ивана. С тем старшина и ушёл — видно, прятался в городе. И когда те взрывы произошли, я сразу подумал: его рук дело. Может быть, я ошибаюсь, только все мои предположения именно на него, на старшину.
Рассказ Михеева произвёл впечатление достоверности. Он говорил твёрдо, убеждённо и доказательно. Я ни на минуту не сомневался в правде его слов. Хотя сам Михеев казался мне малосимпатичным, сухим и рассказ его сухим, слишком деловым. Таким же тоном он мог бы рассказать о пропавшей телеге. Ничто не дрогнуло в его лице, не шевельнулось в душе, не защемило сердце. Был парнишка, ушёл. Может, дошёл до леса, может, нет. Был старшина, пришёл ночью, спросил, ушёл; наверно, он взорвал штаб, а может, и не он.
По дороге к Агаповым я поделился этой мыслью с Наташей.
— Все реагируют по-разному, — ответила она, — он рассказал, что знал.
— Видимо, ты права, — согласился я, — мне не приходилось с этим сталкиваться, потому и показалось странным. Во всяком случае, его рассказ — серьёзное свидетельство: есть одно имя — Иван, Ваня. Есть предположение, кто взорвал штаб — старшина. Теперь остаётся узнать его фамилию.
— Остаётся совершеннейший пустяк, — насмешливо проговорила Наташа.
Она была в простом синем пальтишке, но выглядела как богиня. Подул ветер, и она подняла воротник.
Нет контакта, хоть убей! Держусь официально, делаем одно дело, и всё равно — враждебность. Теперь она торопилась к Агаповым. Чтобы отделаться от меня.
У Агаповых её встретили как знакомую: в маленьких городках все знают друг друга.
У Михеева разговор ограничился хотя и содержательной, но сухой и короткой информацией. Здесь же он принял характер пресс-конференции. Мы даже сидели за круглым столом: Агапова-старшая — худенькая старушка с беспокойным лицом, Агапова-младшая — интеллигентная моложавая женщина, её сын Вячеслав, или Слава, толстый молодой человек двадцати трёх лет в очках, Наташа и я.
Таков был состав участников этой незабываемой встречи.
Рассмотрев фотографию, Агапова-старшая сказала:
— В войну у нас стояло много солдат. Разве можно всех запомнить?
Я пояснил:
— Речь идёт о том дне, когда в город вошли немцы.
— Когда вошли немцы — это было в сентябре сорок второго года, — у нас были два солдата. Эти или нет — не помню. Немцы всех нас выселили и разместили на улице свой штаб. А солдаты наши, как увидели, что в город вошли немцы, исчезли.
— Исчезли? — переспросил я.
— Исчезли, — подтвердила старушка. — Я не успела оглянуться, как они исчезли. Растаяли в воздухе.
— Мистика! А вы не слышали про солдата, который разгромил немецкий штаб?
— Слышала… Но немцы его убили, кажется.
— Мог это быть один из ваших двух солдат?
Она пожала худенькими плечиками:
— Мог и быть, мог и не быть, я этого не знаю.
И тут вмешался молчавший всё время Слава:
— А почему я ничего не знаю об этой истории?
В семье Агаповых мне понравились все, кроме вот этого самого Славки. Он мне сразу не понравился. Молодой очкарик, к тому же толстый, обычно ассоциируется с каким-нибудь добродушным увальнем вроде Пьера Безухова. А если очкарик худой, то с каким-нибудь болезненным хлюпиком типа… Не приходит на память тип… Во всяком случае, очки, свидетельствуя о каком-то изъяне, о физическом недостатке, придают их обладателям обаяние человечности, некоей беспомощности. Я не мог бы себе представить, скажем, Гитлера, Геринга или Муссолини в очках. Но если в очках хам, то он из всех хамов — хам, из всех нахалов — нахал, я в этом много раз убеждался. У таких очки подчёркивают их хищную насторожённость. Их скрытое за стёклами коварство.
Вот таким очкариком и был Слава. И он спросил довольно капризно:
— А почему я ничего не знаю об этой истории?
Бабушка развела руками:
— Война была, стояли солдаты, ушли, ничего такого особенного.
— Как же ничего особенного — штаб разгромил, — возразил Слава.
— Я ведь не видела, кто разгромил штаб.
Бабушка не так проста — даёт сдачи нахальному внуку.
Тогда внук обратился ко мне:
— Для чего вы ведёте розыск?
Я коротко его проинформировал.
— Значит, вы с дороги, у Воронова работаете. Понятно.
Есть люди: упомяни при них какое-нибудь учреждение, они тут же назовут фамилию его начальника. Будто этот начальник их ближайший приятель или даже подчинённый.
— Да, кажется, фамилия нашего начальника Воронов, — небрежно подтвердил я.
— А я думал, ты из школы, — уж совсем пренебрежительно и притом «тыкая», объявил Слава.
— Нет, — возразил я. — Мы на практике, с четвёртого курса автодорожного института.
— Сколько же вам лет, когда вы успели? — удивилась Агапова-бабушка.
— Меня приняли в институт досрочно, как особо одарённого дипломанта Всесоюзного математического конкурса.
— Строите дорогу, — сказала Агапова-мать, — неужели нельзя было заасфальтировать хотя бы главную улицу?
— А зачем? Сносить будут ваш город.
Все ошеломлённо уставились на меня, даже индифферентная Наташа. Но меня понесло. Меня раздражал самоуверенный Слава, его очки, их хищный блеск.
— Теперь установка на города-гиганты, — продолжал я, — а у вас ни промышленности, ни индустрии, ни лёгкой, ни тяжёлой. Свет и тот выключают в одиннадцать часов. Юмор.
— Наш город, — сказала Агапова-мать, — древнее Москвы, здесь была крепость, защищала Русь от кочевников.
Она сказала это с достоинством и обидой за свой город. Мне сделалось стыдно.
— Мама, не беспокойся, — иронически заметил Слава, хищно косясь на меня своими очками, — молодой человек фантазирует.
Мне надоела эта бодяга:
— Может быть, всё же вспомните, кто из солдат был у вас?
Бабушка снова рассмотрела фото, развела руками:
— Нет, не могу вспомнить.
Агапова-мать взяла фотографию:
— Дай-ка я посмотрю.
Она тоже долго смотрела на фотографию, потом показала на старшину:
— По-моему, этот. Второго не помню, а этот был.
— Тебе тогда было двенадцать лет, — напомнила бабушка.
— И всё равно помню. Такой был молодой, красивый. Он у меня промокашку попросил.
Я привстал.
— Промокашку?!
— Да. Я делала уроки, и он или его товарищ, в общем, кто-то из них попросил промокашку, и я дала.
— Почему вас так поразила промокашка? — спросил Слава.
Вместо меня ответила Наташа:
— Среди вещей солдата есть промокашка.
Это были первые и последние слова, произнесённые ею за весь вечер.
10
Наташа не позволила проводить себя. Я один побрёл к дедушке.
Жаль, хорошая девчонка. Но что поделаешь: опаздываю. Все девчонки уже разобраны. Тем более хорошенькие.
Я шёл по ночным, тёмным улочкам Корюкова, по узенькому-узенькому асфальтированному тротуару, недавно положенному — пять лет назад тут были деревянные тротуары. Фонари не горели. Только в редких окнах мелькал свет.
Есть что-то особенное в маленьком ночном городке, в спящих деревянных домишках, в этой темноте и безлюдности, какая-то таинственность и первозданность мира.
Такой же тёмной ночью здесь прятались наши солдаты. А потом вышли на улицу, к этой школе, там размещался немецкий штаб, гранатами разгромили его. Их убили, закопали в землю, и никто не знает их фамилий, никто не знал бы даже об их могиле, если бы бульдозер Андрея случайно не наткнулся на неё.
У меня в кармане фотография. На ней хорошенький, беленький солдатик Ваня; тяжело раненный, он ушёл из дома Михеева, и его, может быть, застрелили немцы. И бравый старшина, полный сил и жизни, крадучись шёл такой вот ночью, чтобы узнать о своём раненом товарище, и не нашёл его, а потом шёл по этой улице и разгромил немецкий штаб.
Всё это совершилось здесь. Драма войны, не оставившая следов, кроме могилы неизвестного солдата. А может быть, и других таких никому не ведомых могил.
Будь я помоложе, будь мне лет этак двенадцать или четырнадцать, я бы не отступил от этой истории: в том возрасте такие розыски очень увлекают. В третьем или четвёртом классе мы нашли во дворе кусок надгробной плиты со стёртой надписью о том, что здесь захоронен какой-то мещанин, и занимались этой плитой чуть ли не весь год. А здесь действительно история героическая, быть может, трагическая, ещё живы свидетели Михеев, Агаповы, Софья Павловна. И есть промокашка. Да, при желании можно узнать. Если школьные следопыты проявят настойчивость, то могут установить имя неизвестного солдата.
Дедушка дожидался меня, отложил книгу, снял очки:
— Ужинать будешь?
— Так, что-нибудь.
— Борщ тебе подогрею, мясо в борще.
— Давай борщ, давай мясо.
За ужином я рассказал дедушке о Михееве и об Агаповых.
— Я хорошо знал самого Агапова, — сказал дедушка, — вместе служили на конезаводе; то мой «Изумруд» первым придёт, то его «Планета». И в армии вместе служили, и погиб он геройски. Настоящий был конник, рубака, каких теперь нет. И семья образованная, интеллигентная, дочка библиотекой заведует. Видел дочку?
— Видел.
— А зятя?
— Нет.
— Зять — директор педучилища. Много для города делает. Сейчас добивается, чтобы к нам из Поронска перевели пединститут. Поронск теперь город туристский, зачем ему пединститут?
Я согласился. Пединститут действительно целесообразно перевести из Поронска в Корюков.
— А сын их — Вячеслав, видел его?
— Видел, видел.
— Историк, большой специалист по старине. Печатается.
— Карамзин!
— Парень одарённый — стихи, рассказы пишет.
— Державин!
Я уже говорил, что дедушке люди представлялись очень значительными, о каждом он отзывался с большим почтением, в самых превосходных степенях. Значительными представлялись ему и Агаповы. О Михееве он, правда, отозвался несколько сдержаннее, но тоже, в общем, благожелательно, как о садоводе-мичуринце. Такое благодушие мало шло к дедушкиной цыганской, даже несколько разбойничьей физиономии.
Рассматривая фотографию солдат, дедушка сказал:
— Молодые ребята, им бы жить и жить… Вот так-то вот молодых война косит. Меня, старого, пощадила, а их нет. — Он показал на стену, где висели портреты моих дядей. — Пришло матери извещение: погибли в боях, а где их могилы — не знаю… Всё бы отдал, чтобы узнать.
Дедушка сказал это просто, как всё, что говорил. Но у меня перехватило горло. Я никогда не интересовался, где похоронены мои дяди: погибли на войне — вот всё, что я о них знал. И никто не говорил мне, что их могилы неизвестны.
— Да, — вздохнул дедушка. — Конечно, трудно найти солдата. А каждый кому-то дорог, особенно матерям. Помнишь, у Некрасова?
~Средь лицемерных наших дел
И всякой пошлости и прозы
Одни я в мире подсмотрел
Святые искренние слёзы.
То слёзы бедных матерей.
Им не забыть своих детей,
Погибших на кровавой ниве,
Как не поднять плакучей иве
~Своих поникнувших ветвей.
Дедушка прочитал эти стихи по-старинному, «с выражением», «с чувством». Но, честное слово, это было очень трогательно.
11
…Деревня была пуста.
Оценивающим взглядом Бокарев обвёл два ряда покосившихся избёнок, вытянувшихся по обе стороны широкой, поросшей желтеющей травой бугристой улицы. В середине её колодец одиноко вздымал к небу свой длинный журавль.
— Вакулин, Краюшкин! — приказал Бокарев. — Разместите людей!
— Не так дом ищите, как хозяйку, — добавил Лыков.
Бокарев повернулся к Нюре:
— Какое тут у вас начальство? Кто председатель?
— Председателя у нас нет, — бойко ответила Нюра, — Клавдия у нас за бригадира. Я за ней сбегаю.
— Одна нога здесь, другая там, — поторопил её Бокарев.
Нюра привязала козу к плетню и исчезла.
Солдаты присели у колодца.
Краюшкин почесал щёку, заросшую рыжей щетиной:
— Побриться бы надо.
— И так красивый, — усмехнулся Огородников.
— Был бы ещё красивее, — добродушно возразил Краюшкин.
— Не твоим мощам чудеса творить, — заключил Огородников.
Лыков покачал головой:
— Всё тебе не так, Огородников! Людей не любишь.
— А за что тебя любить? За длинный язык? Притащил нас сюда… Зачем?!
— Не я притащил, старшина приказал, — возразил Лыков, рассчитывая, что Бокарев осадит Огородникова.
Но Бокарев молчал, он и не слушал их разговор. В его солдатской жизни редко выпадали такие дни. На срочной и на сверхсрочной были увольнительные в город, были знакомые женщины. Но уже больше года, с первого дня войны, не было у него ни увольнительных, ни знакомых женщин. Пустынный вид деревни его не беспокоил. Он сам из деревни, из далёкого приангарского села; днём деревня в поле, в лесу, на реке, на огородах. Тем более сейчас, без мужиков, хватает женщинам работы. И правильно, что не пошли в город. Пришли бы к вечеру, знакомства там сложные, долгие, придёшь и уйдёшь…
Его предположения оказались правильными. Набежали ребятишки, выполз старик в валенках и полушубке, пришли женщины, и, наконец, появилась Нюра, переодетая в сатиновое платье, с яркой косынкой на шее, в туфлях на босу ногу, и с ней бригадир Клавдия — миловидная женщина с пышной, ещё стройной фигурой, в платке (под ним виднелись гладкие чёрные волосы), в жакете и в сапогах, плотно охватывающих её сильные полные икры, — Бокарев уже не мог оторвать от неё глаз.
Он козырнул, молодцевато расправил плечи:
— Привет начальству!
— Здравствуйте, наши защитнички, — бойко ответила Клавдия.
— Такое, значит, дело, товарищ бригадир, — продолжал Бокарев, — есть предписание остановиться в вашем населённом пункте. Поживём день-другой, а хорошо примете, то и недельку. — Он снял фуражку, движением головы откинул назад свои красивые волосы. — Много нам не надо: крышу над головой, постель…
— Постель, наверно, широкую потребуете, — засмеялась пожилая женщина с высоко подоткнутой юбкой.
— Это уж как устроите, — в тон ей ответил Бокарев. — Еда у нас своя, а выпить не откажемся, если поднесёте.
— Где её достанешь, водку-то? — заметила та же пожилая женщина.
— А достанешь, вам же отдашь, чтобы до города довезли, — добавила другая и подняла высоко руку. — Вот так с поллитрой и голосуешь.
Бокарев внушительно заметил:
— Гражданочка, среди военных шофёров калымщик — редкое и позорное явление.
— Нам не для кого водку держать: все мимо нас едут, никто не останавливается, никому мы не нужны. — На лице Клавдии блуждала загадочная улыбка: не то завлекает, не то сама развлекается болтовнёй.
Бокарев пристально посмотрел на неё, потом, показывая на небо, спросил:
— Немец часто летает?
— А вы его боитесь? — поддразнила его Клавдия.
— Мы немцев не боимся, мы женщин боимся.
— Чем это вас женщины так напугали?
— Ихнего коварства боимся, — заглядывая ей в глаза, ответил Бокарев.
— Старшина времени не теряет, — тихо проговорил Лыков.
— Дело молодое, — добродушно ответил Краюшкин.
— Итак, товарищ бригадир Клавдия, — продолжал Бокарев, — просьба разместить военнослужащих и затопить баньку: для солдата баня — второе удовольствие в жизни.
— А первое?
— Первое — с прекрасным полом побеседовать…
— Баньку можно затопить, — деловито сказала Клавдия, — только воду с реки таскаем: засорился колодец, грязь одна. — Она тронула рукой сгнивший сруб. — Подходить боимся. А мужиков в деревне всего один. — Она показала на дремлющего на завалинке деда. — Не можем мы последним мужиком рисковать.
Женщины засмеялись.
— Ты нашего деда не обижай, — сказала Нюра, поглядывая на Вакулина, — он у нас хороший.
Рисуясь перед Клавдией, Бокарев командирским голосом приказал:
— Вакулин и Огородников, очистить колодец от посторонних предметов. Краюшкин и Лыков — заготовить новые венцы! Гражданское население прошу доставить вёдра, верёвки, багры в нужном количестве.
Огородников сварливо проговорил:
— А чего венцы менять, крепкие ещё.
Он нажал на верхние венцы сруба и чуть не обрушился с ними в колодец.
— Много рассуждаете, рядовой Огородников! — прикрикнул Бокарев. — Выполняйте приказ: обеспечить население нормальной питьевой водой. Об исполнении доложить!
Изба пахла свежевымытыми полами, той чистотой, когда в доме живёт одинокая, хозяйственная, работящая молодая женщина. Это было совсем не то, что встречал Бокарев на танцульках, на вечерах самодеятельности, которые устраивали для них шефы, не то, что попадалось ему во время коротких увольнительных в город, и не то, что видел он на фронте: девушки-регулировщицы, санитарки, телефонистки, такие же военные, как он сам. Здесь было далёкое, родное: молодая здоровая женщина, только покультурнее, чем девки и бабы в его далёком сибирском селе.
Клавдия сняла платок — её чёрные смоляные волосы были разделены пробором, — сняла жакет и осталась в кофточке, открывавшей за каёмкой загара полную белую шею и руки, широкие, рабочие, но тоже белые и полные; от них пахло душистым мылом, и этот запах мешался с запахом пота работающей женщины, — эти запахи пьянили Бокарева.
Она сидела рядом с ним на лавке и смотрела, как он пьёт молоко, закусывает хлебом, разрезая его блестящим, остро заточенным финским ножом.
— Какой нож у вас страшный.
— На фронте без холодного оружия как без рук, — ответил Бокарев.
— Фрицев скоро прогоните?
— Точную дату назвать не могу, но думаю, что в будущем году войну закончим успешно. Сейчас на фронте положение слоёного пирога.
— Какого такого пирога? — удивилась Клавдия.
Бокарев, ударяя ребром ладони по столу, показал:
— Тут мы, тут фриц, опять мы, опять фриц. Вопрос в том, кто кого в котёл возьмёт. Всё от вас зависит.
— От нас? — ещё больше удивилась Клавдия.
— От того, как тыл будет сочувствовать фронту, — многозначительно произнёс Бокарев, подвигаясь ближе к Клавдии.
Она опустила глаза, тронула медаль на его груди.
— «За отвагу»… А в чём отвага-то была?
— Всё вам надо знать? — загадочно ответил Бокарев.
— Военная тайна, — засмеялась Клавдия.
— Вот именно. Могу рассказать только близкому человеку.
Она подняла голову, посмотрела ему в глаза серьёзным, глубоким взглядом.
— Тебе сколько лет?
— Двадцать три.
— Молодой… — Она протянула руку, провела рукой по его волосам, слегка потрепала их. — Русоволосый… Любят тебя, наверно, девки.
Он попытался удержать её руку.
— Любили когда-то. А сейчас не знаю: любят или нет.
Она вздохнула:
— Полюбят ещё молодые, красивые…
— Такую, как вы, мечталось встретить.
— Я старая, — вздохнула Клавдия, — тебе двадцать три, а мне тридцать.
— Самый возраст для женщины… — начал Бокарев.
Она кивнула на его полевую сумку:
— Сумка-то, наверно, письмами набита и фотографиями. Показал бы свою девушку?
— Какую девушку, нет у меня девушки. — Бокарев суетливо открыл планшет. — Письма у меня только от матери, мать у меня в Сибири живёт… фотокарточка вот, снялись мы с командой.
На фотографии он был снят вместе с Вакулиным и Лыковым — справа, Краюшкиным и Огородниковым — слева.
— Военный фотокорреспондент снял. Ехал с нами, ночевали вместе, вот и снял. Всем по карточке на память роздал, известный фотокорреспондент, для «Правды» и «Известий» снимает. Могу оставить на память. Если взамен свою дадите.
— Фотографии у меня старые, я на них молодая, непохожая, — засмеялась Клавдия.
— Подарите, прошу убедительно.
— Подумаем, — сказала она, вставая, — пойдём, миленький, посмотрим, что у колодца.
Бокарев недовольно поморщился:
— О колодце не беспокойтесь. Всё будет сделано согласно предписанию. В армии приказ командира — закон!
— Неудобно, — Клавдия натянула жакет, покрыла голову платком, — люди работают, а мы сидим.
Краюшкин и Лыков сидели на обтёсанных досках, перед крынкой молока и краюхой хлеба, закусывали, дожидаясь, когда Вакулин и Огородников кончат свою работу.
Зияло открытое отверстие колодца; рядом, в луже, валялись гнилые доски старого сруба; их растаскивали по дворам бабы и ребятишки.
Над колодцем, с верёвкой в руках, стоял Огородников. Тут же на корточках сидела Нюра, заглядывая в колодец, держа в руках верёвку, которой был обвязан Вакулин.
— Тащи! — послышался из колодца голос Вакулина.
Перебирая верёвку, Огородников вытащил из колодца ведро, неловко перехватил, немного воды выплеснулось.
— Осторожнее, боров! — закричала Нюра. — Там человек.
— Брысь! — ответил Огородников.
Бокарев заглянул в ведро: вода была чистой, свежей. Всё же он приказал:
— Ещё одну пробу.
Огородников выплеснул воду, снова спустил ведро, Вакулин опять наполнил его.
Попробовав воду и причмокнув от удовольствия, Бокарев сказал Клавдии:
— Прошу произвести дегустацию!
Клавдия сдвинула платок со лба, наклонилась к ведру, отпила и согласилась, что вода хорошая — пить можно.
За ней и другие женщины, наклоняясь к ведру, пробовали воду, хвалили.
Лыков удовлетворённо сказал:
— Чистый аш два о!
— Аш два о по-учёному означает: чистый лимонад, — объяснил Бокарев. — Попрошу местное население убрать территорию в смысле санитарии и гигиены. Завтра кладём сруб.
— Идите, ребята, парьтесь, затопили для вас баньку, — сказала женщина с подоткнутой юбкой, — а хотите, придём веничком постегаем.
— А Ваня там останется?! — закричала Нюра.
— Поднять наверх рядового Вакулина! — распорядился Бокарев.
Солдаты потащили верёвку и подняли Вакулина. Он был в трусах, майке, сапогах и широкой соломенной шляпе, с которой капала грязь, — чёрный как трубочист.
— Ванечка, бедненький, — жалобно проговорила Нюра.
— Вот на какие жертвы идёт геройский советский солдат Во имя тыла, — назидательно проговорил Бокарев. И, наклонившись к Клавдии, тихо добавил: — А вы, чуть что — отодвигаетесь…
12
До квалификационной комиссии осталось пять дней.
Экзамена по правилам движения я не боялся. Я их знал практически, сумею объяснить и теоретически. Запомнил ещё с того дня, когда получал любительские права.
Экзамена по вождению автомобиля тоже не боялся. Я и раньше ездил прилично, а здесь практиковался на Юрином самосвале. Мы жили с Юрой в одном вагончике, были соседи, а следовательно, приятели. Здесь так принято: живёшь в одном вагончике — значит, приятель. А не ужился с соседями, переходишь из вагончика в вагончик — значит, склочник. Именно как соседу, а следовательно, приятелю, Юра давал мне руль, хотя был раздражителен и нетерпим в своих наставлениях: «Рвёшь сцепление! Не газуй! Куда прёшь — в кювет?! Глаза у тебя есть — видишь знак?!»
Несмотря на свою пижонскую внешность, на свои курточки с «молниями» и замшевые пиджаки, Юра считался одним из лучших водителей, даже одним из лучших рабочих участка. На Доске почёта всегда висела его фотография. Сам он говорил, что и дорога, и туристический центр, и Поронск ему «до лампочки», лишь бы побольше заработать: это, мол, и привело его сюда. Было только непонятно, зачем ему деньги. Тратил он их безалаберно, всех угощал, ездил с Людой в Поронск, шиковал в ресторане, покупал транзисторы и портативные магнитофоны, а Люде кофточки. Он был тщеславен и такими фокусами утверждал себя в жизни. Я думаю, что и с Людой он завёл роман из тщеславия — единственная на участке городская, стильная девушка. Ко мне он относился, как к козявке, но руль давал — подчинялся закону соседской солидарности. Я тоже не обращал на него особенного внимания — даёт руль, и ладно! И сколько бы он ни орал при этом, видел — езжу прилично.
Так что экзаменов я не боялся, боялся я только вопросов по уходу за автомобилем.
Я обзавёлся учебником и, читая его, имел предметное представление, о чём идёт речь: автомобиль мы изучали в школе и я проходил практику на автобазе. Но я не обладал техническим складом ума. Своим воображением я осложнял простые вещи, механизмы казались мне более таинственными и непонятными, чем они были на самом деле; казалось, что там есть ещё что-то, чего нет в книге и чего я не знаю.
Я честно зубрил «Курс автомобиля». Но условий для занятий в вагончике не было.
Маленький вагончик на четыре койки. Под койками сундучки и чемоданы. В углу висят телогрейки и дождевики, отдельно, в целлофановом мешке, шикарный плащ Андрея. К стенам приколоты картинки из журналов и фотографии. На столе, в гранёном стаканчике, — букетик полевых цветов. Непритязательный, походный, мужской уют.
Кроме Юры, моими соседями были бульдозерист Андрей и водитель катка — Маврин.
Андрей, наверно, мог бы поднимать тяжести не хуже Василия Алексеева. Но тяжестей не поднимал, лежал на койке, читал исторические романы, а потом довольно связно их пересказывал. Непонятно только, почему, например, рассказ о подпоручике Мировиче пересыпан не слишком изысканными выражениями? Зарабатывал не меньше Юры, тратил тоже безалаберно. Покупал костюмы, плащи и особенно туфли: если, мол, не купит сейчас, то потом не достанет своего размера — сорок пятого. Вещи дорогие, но он их не носил, ходил в спецовке; его шикарный гардероб пылился под простынёй в вагончике, туфли валялись под койкой вместе с историческими романами Лажечникова, Данилевского и Яна. Андрей разошёлся с женой, у него из зарплаты вычитали одну четвёртую часть — алименты для дочки. Женился он после армии, прожил с женой год, а потом разошёлся.
Над его койкой висела фотография дочери — голенькая девочка месяцев семи-восьми лежала на животике, чуть приподняв и повернув голову, смотрела на аппарат с испуганным любопытством, видно, фотограф привлёк её короткое внимание, сказал, наверно: «Смотри, сейчас птичка вылетит» — и в эту минуту сфотографировал. О дочери, как и о жене, Андрей ничего не говорил.
Четвёртый обитатель вагончика был водитель катка, демобилизованный моряк Маврин. Какой он моряк — не знаю. Морских словечек не произносил, но носил тельнягу; считалось, что демобилизован с флота. Тщедушный, щуплый, с заметной лысиной, он почитал себя красавцем. На участке у него была репутация сердцееда. Он часто не ночевал дома, прибегал рано утром опухший, невыспавшийся, переодевался и отправлялся к своему катку. Иногда являлся с синяком под глазом или рассечённой губой. Говорил, что подрался с деревенскими, всех раскидал или нарвался на мужа, муж призвал родственников, он и родственников раскидал, но, конечно, и ему перепало. Мне он казался хвастуном и лгуном. Колотили его, наверно, сами женщины, чтобы не приставал. Отлежавшись день-другой, он снова отправлялся совершать свои подвиги. Маврин не тратил деньги, как Юра и Андрей, копил на кооперативную квартиру. Надо, мол, обзавестись семьёй и начать новую жизнь. Про новую жизнь он говорил, когда бывал особенно сильно поколочен.
Вообще народ тут сборный, со всех концов: нынче здесь, завтра там, многие бродяги по натуре, без кола без двора; работа тяжёлая и в жару, и в мороз, и в грязь, и в слякоть. Обстановка напоминала Ревущий стан Брет-Гарта, с той разницей, что там была одна женщина, а здесь их было порядочно.
Верховодила ими бригадир Мария Лаврентьевна, грузная женщина в брезентовых брюках и зелёной майке без рукавов. Все её побаивались, даже сам начальник участка Воронов. Она была чем-то вроде матери этого стана, этакая матрона, прародительница, женщина-патриарх или матриарх — от слова «матриархат». Не знаю, можно ли употреблять такое выражение, надо посмотреть у Ушакова. Будь это монастырь, она была бы игуменьей. Но участок никак не походил на монастырь, а девушки никак не походили на монашек. Они тоже были с бору по сосенке: кто из окрестных деревень, кто из Корюкова, некоторые были жёны рабочих, живших в вагончиках. Были кадровые, как Мария Лаврентьевна. Были непонятно откуда взявшиеся женщины средних лет или, наоборот, молодые девушки лет по двадцать — двадцать два, здоровые, крепконогие, загорелые, крикливые.
Они задевали каждого проходившего мимо них парня. Задевали и меня. Я старался обходить их стороной. Если обходить не удавалось, не обращал внимания на их шутки. Не знаю, откуда они узнали про Наташу. Возможно, кто-нибудь видел, как я ходил с ней в школу, и к Михееву, и к Агаповым. Теперь они при каждом случае донимали меня Наташей.
— Смотрите, девоньки, женишок наш явился.
— Молодую-то какую взял, с домом, с садом?
— Вот беда: был у нас один свободный мужик и того увели.
— Тебе что: своих не хватает? Смотри, сколько нас тут.
А Мария Лаврентьевна заключала:
— Не трогайте его, он ещё сам красна девица.
Эти девушки, эти молодые женщины, их шутки и намёки, их притягательная красота, волновали меня, всё в них было откровенное, зазывное. Казалось, что с ними всё просто и легко, и от сознания этого я немного ошалел.
Но я знал, что с ними совсем не так просто, как кажется. Когда они вместе, в куче, тут они храбры, веселятся, озоруют, создают вокруг себя такую стихию. Но каждая в отдельности — совсем другое. Как-то в столовой Маврин положил руку на плечо Ксюше, самой красивой девчонке. Она так отшвырнула его руку, что Маврин чуть со скамейки не слетел. «Куда руки тянешь, паразит, я тебе потяну!» А уж тем более наедине! Тут они недотроги — не подступишься. И потому в отряде ничего такого не было и быть не могло, тут каждая соблюдала себя. Если кто-нибудь приставал к девушке, то на другой день об этом знала вся женская бригада, а от бригады весь участок, и все потешались над незадачливым ухажёром. Такие тут нравы. И потому наши ребята предпочитали с ними не важдаться. А если уж и важдались, то это была настоящая, серьёзная любовь, как, например, у Юры с Людой. Девушки эти мне нравились и волновали меня, но я не хотел становиться посмешищем, никаких знакомств не заводил, хоть мне и казалось, что кое-кому здесь нравлюсь.
Про Наташу я тоже старался не думать, хотя и был повод её увидеть: надо вернуть фотографию солдат. Но нет так нет! И не было времени: десятого в Корюков приезжает квалифкомиссия ГАИ.
Обнадёживало меня то, что я не сдаю экзамены заново, а меняю свои права. Экзамены я уже сдал, и не где-нибудь, а в Москве. Следовательно, требования ко мне должны быть совсем другие, пониженные, простая формальность, в сущности.
Юра на это сказал:
— Первый раз сдаёшь или десятый — никакой разницы нет, спрашивать будут одинаково, а может, и побольше: раз ты со стажем — больше должен знать. Так что ты свою любительскую липу лучше припрячь, не показывай.
Я услышал в его словах только презрение к моим любительским правам и не послушался. И зря.
13
Я не провалился на уходе за автомобилем. Я провалился по правилам движения.
«Какие документы должен иметь водитель при управлении транспортом? По требованиям каких лиц он обязан их предъявить?»
Простейший вопрос! Я на него ответил без запинки:
— При управлении транспортом водитель обязан иметь водительское удостоверение, путевой или маршрутный лист и талон технического паспорта. И обязан предъявлять их по требованию работников милиции.
Точно так, как это было в университете, экзаменатор воззрился на меня, ожидая продолжения. С той только разницей, что там передо мной сидел солидный доцент, а здесь молоденький лейтенант милиции — автоинспектор.
Продолжать мне было нечего. А излагать собственные мысли не приходится. Правила движения — это не Салтыков-Щедрин.
И провалился!
Водитель обязан предъявлять документы не только по требованию работников милиции, но и общественных автоинспекторов.
Подумать только! Общественных автоинспекторов! Кто их знает, этих общественных автоинспекторов?! Я видел машины, на стёклах которых намалёвана этикетка «Общественный автоинспектор», — они нарушали правила почище других. И вот из-за этих несчастных общественных автоинспекторов я не получу водительских прав и не пересяду на самосвал.
— Приходите в следующий раз!
Утешил! Следующий раз — это через месяц. Как я явлюсь на участок, как на меня посмотрят ребята, что скажет Воронов?! И ещё месяц работать слесарем… Из-за общественных автоинспекторов.
Нас сидело за столом шесть человек. Простые ребята с шофёрских курсов, колхозники; каждый отвечал по своему билету бойко, точно, правильно — натаскали их на курсах. А я, единственный с законченным полным средним образованием, уже имеющий права и умеющий водить автомобиль, я провалился! Общественные автоинспекторы!
Я был потрясён больше, чем провалом в университет. Там конкурс, несколько человек на место. А здесь никакого конкурса, элементарное дело — и вот пожалуйста! Я был оглушён, уничтожен, раздавлен.
Я подошёл к девушке, ведающей бумажным хозяйством комиссии, и попросил вернуть мне мои любительские права. Она отказалась: раз я сдаю на профессионала, то мои любительские права гасятся — человек не может иметь двух удостоверений на вождение автомобиля. Значит, я и профессиональных прав не получил и любительских лишился. Я не профессионал и не любитель. Кто ж я такой?
Мысль, что я ничего не достиг и всё потерял, потрясла меня. Я чуть не плакал, честное слово! Со мной случилось нечто вроде истерики, ей-богу! Я, наверно, выглядел сумасшедшим, во всяком случае такое испуганное лицо сделалось у девушки. Я кричал, что я не местный, я из Москвы, вот мой паспорт, завтра уезжаю, любительские права дал ей случайно, и вовсе не менял их, просто захотелось получить профессиональные, у меня никто не отбирал моих любительских прав и не имеет права отбирать, что ж мне теперь — пешком в Москву идти, это беззаконие и произвол. У меня был вид шизика. Я то орал, то умолял, то грозился, то чуть не плакал. Она с испуганным видом швырнула мне мои водительские права.
Я их схватил и поторопился убраться из милиции, пока она не передумала. Или пока не вмешался какой-нибудь высший чин, на которого моя истерика могла бы и не подействовать.
Возвращаясь из ГАИ, я трогал карман. Ощущение, что любительские права при мне, постепенно успокаивало меня. Чёрт с ними, с профессиональными правами. С дорогой всё кончено, не буду же я ещё месяц околачиваться в слесарях. Вообще я не нашёл здесь романтики, которую искал. Вернусь в Москву и уеду в какую-нибудь дальнюю экспедицию. В Сибирь, на Дальний Восток, в Среднюю Азию — вот там действительно дым костров.
С таким настроением я и пришёл к дедушке.
К этой моей неудаче дедушка отнёсся так же философски, как и к прошлой: сдашь в следующий раз. Я сказал, что брошу дорогу и вернусь в Москву. Он неодобрительно качнул головой.
— Я не слесарь — я шофёр. Руля не дают, делать мне здесь нечего. Уж лучше отправлюсь в какую-нибудь дальнюю экспедицию.
— А там тебе дадут руль?
— Может быть, дадут. А если не дадут — всё равно. Там Сибирь, освоение новых земель.
— Думаешь, в Сибири лучше?
Дедушка поглаживал бороду — признак скрытого душевного волнения. Он не согласен со мной, осуждает за дезертирство. Обидно.
— Думаешь, приятно валяться в грязи под машинами?
— А кто тебе сказал, что жизнь должна быть всегда приятной?
— Работа должна приносить радость, удовлетворение, а на участке мне неинтересно.
— Любая работа приносит радость, если она хорошо сделана, — сказал дедушка.
Зерно истины было в его словах. Но я отступал не перед трудностями. Меня не устраивало моё положение. Могу выполнять настоящую работу, а я на подхвате. Представляю себе физиономию Воронова…
— Меня засмеют на участке.
— Все будут за животики держаться? — усомнился дедушка.
Я дёрнул плечом, разговор начинал надоедать.
— Делай как хочешь, — заключил дедушка, — ты взрослый. Жаль только, мало у меня пожил.
У меня сердце сжалось от этих слов. Я не провёл с ним ни одного дня. Сукин я сын! Ведь я его люблю. Все мы эгоисты.
— Если я уйду с дороги, это вовсе не значит, что я должен немедленно уехать отсюда, — сказал я.
Мы помолчали, потом дедушка спросил:
— Слушай-ка, Серёжа, что это ты наших корюковских пугаешь?
— Пугаю? Кого я пугаю?
— Старуха Агапова рассказывала. Говорит: ваш внук собирается Корюков сносить.
Дёрнул меня чёрт за язык! Здесь не Москва, здесь все друг друга знают, каждое слово передаётся, всё принимается всерьёз, чувство юмора им недоступно. Агапова передала ему и мой трёп про институт, где я якобы учусь как особо одарённый. Дедушка из деликатности умалчивает.
— Я трепался, шутил, дурака валял, а они и уши развесили. Ты пойми: город снесут, можно этому поверить? Дикари какие-то, зулусы. Ты им скажи, что я раздумал сносить. Пусть живут спокойно.
14
На участке к моему провалу отнеслись равнодушно. Для механизаторов, водителей, трактористов такие происшествия — обычное дело.
Только Юра сказал:
— Ну и дурак!
Имел в виду, что на таком вопросе мог провалиться только идиот. Возразить было нечего: на таком вопросе действительно мог провалиться только круглый болван.
Юра явился к нам в мастерскую на своём самосвале и, сообщив мне, что я дурак, обратился к механику Сидорову:
— Фёдор Фёдорович! Могилу перенесли. Воронов приказал везти штакетник и всё прочее. — Он опять повернулся ко мне: — А тебе приказано явиться в контору.
Под навесом нашей мастерской лежали новый штакетник, четыре столбика, восемь узких тесин, маленький деревянный обелиск и красная металлическая звёздочка с длинным остриём на одном конце, изготовленные нами для новой могилы неизвестного солдата. Мы погрузили всё это на Юрин самосвал и поехали.
Трясясь в кузове самосвала и придерживая рукой деревянный обелиск, чтобы его не расколотило о железные борта машины, я думал. Зачем меня вызывает Воронов, тем более в рабочее время? Поглумиться над моим провалом в ГАИ? Он может сделать это вечером, в столовой, не отрывая ни меня, ни себя от дела. Может быть, вспомнил о своём обещании помочь мне? Ни черта не помог, теперь его мучает совесть, и он хочет что-либо предпринять… Может быть, уже предпринял. Он имеет влияние в ГАИ — проезжие автоинспекторы заправляются у нас бензином. И вот теперь, когда Воронова замучила совесть, он всё устроил. Скажем, договорился, что мне просто обменяют права, без экзамена. Или разрешат работать с любительскими правами, хотя бы временно, до будущего экзамена. Ведь водители требуются, не хватает водителей.
Новую могилу неизвестному солдату выкопали немного в стороне от трассы, на холмике, на довольно видном месте.
Останки солдата были перенесены, и могила уже закидана свежей землёй. Возле неё, опираясь на лопаты, стояли Мария Лаврентьевна, наша красотка Ксения и ещё две женщины.
Мы врыли столбики, приколотили тесины, набили на них штакетник, поставили обелиск, в его верхушку воткнули звезду.
В небе пронёсся реактивный самолёт, оставив за собой длинный голубой хвост. Кругом расстилались безмолвные, пожелтевшие поля. Вдали темнел лес. Было тихо, грустно, печально. День был не жаркий, солнечный, ясный, сентябрьский.
— В сорок третьем году, — сказал Сидоров, — мы освобождали эти места. Может, кто из наших ребят…
Мы помолчали.
Мария Лаврентьевна смахнула со щеки слезу. Ксения и обе женщины тоже вытерли слёзы.
Сидоров снял кепку. Мы с Юрой тоже сняли свои береты.
— Прощай, безвестная душа солдатская, пусть земля тебе будет пухом, — сказал Сидоров.
Мы собрали лопаты, топоры, молотки, корзинку с гвоздями и пошли к машине.
…В служебном вагончике, кроме Воронова, были, как обычно, инженер Виктор Борисович и Люда.
— А, пришёл! — так приветствовал меня Воронов и перебрал бумаги на столе. — Слушай, ты писал в военный архив?
Военный архив… Я совсем забыл о нём.
— Да, писал.
— На, читай.
На бумаге со штампом Центрального военного архива было написано, что бывший командир ПРБ—96 гражданин Стручков Ростислав Корнеевич проживает в Москве, служит в Министерстве строительства СССР.
— Прочитал? — спросил Воронов.
— Прочитал.
— Теперь скажи: зачем запрашивал?
— Выяснял.
Воронов повернулся к Виктору Борисовичу:
— Видали его! «Выяснял»! Нашёлся, понимаете, Фенимор Купер. — Он повернулся ко мне: — А кто тебя уполномочивал?
— Сам себя уполномочил.
— Ты это брось! — повысил голос Воронов. — Мы своё дело сделали: могилу перенесли, документы сдали. Никто не забыт, ничто не забыто. Понял?
— Понял.
— Теперь розыском пусть занимаются те, кому это положено. А наше дело — строить дорогу. Ещё не одну могилу встретим… Подпиши акт!
Я подписал акт о переносе могилы неизвестного солдата. Кроме моей, там стояло ещё много подписей. Я их не разобрал.
— Вот так, — сказал Воронов, — а эту архивную бумагу снеси в школу. Ты вернул им фотографию?
— Вернул, — соврал я.
— И эту отдай. И кончай это дело.
Люда, улыбаясь, скосилась на меня:
— Он не может так просто всё это кончить. У него там девушка.
— Никакие девушки меня не интересуют! — взорвался Воронов. — Тут могила, память о солдате, а они, видите ли, амуры разводят, секс!
Я остолбенел. Он даже не понимает значения этого слова. И Фенимор Купер! А ещё имеет высшее техническое образование. Вот результат узкой специализации. Об экзаменах и о том, что обещал помочь, ни слова. Руководитель называется!
— Я не прошёл квалифкомиссию, — объявил я.
Он сначала не сообразил, о чём я говорю, потом сообразил.
— Вот, пожалуйста, полюбуйтесь!
Опять он обращался к Виктору Борисовичу. Но тот мрачно молчал.
— Полюбуйтесь! — продолжал Воронов. — Ему создали условия, дали спальное место в общежитии, а он провалился. А ведь когда пришёл, сколько было гонору: руль ему подавай! И немедленно!..
Я перебил его:
— Мне надо съездить в Москву.
Он уставился на меня:
— Зачем?
— За тёплыми вещами. Становится довольно прохладно. Особенно когда нет условий для ремонта механизмов.
Он нахмурился, как всегда, когда ему вворачивали что-нибудь неприятное.
— Насчёт условий ты мне не рассказывай! Условия у нас полевые. И ставки полевые. А не нравится — иди на шоколадную фабрику, там тепло и сладко и заработаешь на леденцы. У тебя отец-мать есть?
— Ну, допустим…
— Пусть вышлют почтой. А то один за носками поедет, другой за шарфиком.
— Я сам должен съездить за своими вещами, — твёрдо сказал я.
Последовало заключительное хамство:
— Соскакиваем? На ходу?! Желаю тебе крепкого здоровья, успехов в труде и счастья в личной жизни. Видали мы таких гастролёров.
15
Как бы далеко ты ни заехал, в какую бы глушь ни забивался, когда возвращаешься домой, у тебя щемит сердце.
Эти покинутые осенние дачные платформы. Одинокие пассажиры, отворачивающие лицо от ветра и от мчащегося мимо поезда дальнего следования. Закрытые до следующего лета привокзальные ларьки, пустые пионерские лагеря, дальние контуры Москвы, её высотные здания… Улица твоего детства, отчий дом.
Возвращение блудного сына, чёрт возьми! Ни слова о моей попытке жить самостоятельно, работать на неизвестной, дальней дороге. Ни намёка, ни тени насмешки, никаких разговоров об этом. Мама целовала меня и обнимала. Я не отстранялся. Этот знакомый запах её кофточки, духов… Её крашеные волосы выглядели трогательно — это её слабость. Ну что же, она женщина, хочет выглядеть помоложе, естественно в её возрасте, только чёрствая душа может этого не понимать. Отец при галстуке, как на приёме, и это тоже трогательно; он никогда дома не ходил в галстуке, даже при гостях. На моей кровати лежал новый шерстяной тренировочный костюм, такой, в каких выступали наши олимпийцы. И был праздничный обед: бульон, пирожок с капустой, цыплята-табака из кулинарии, и апельсины, и ананас, как громадная сосновая шишка, и бутылка цинандали.
За столом никаких служебных дел, никаких Крептюковых. Разговор шёл о дедушке, о Корюкове, о Поронске — это уже мама, она интересуется стариной и собирается съездить в Поронск. И хотя вслед за Поронском возник разговор о дороге, которую я строил, но не о том, почему и зачем я пошёл её строить и почему ушёл оттуда, а о новых современных дорожных механизмах, о стоимости погонного километра дорог с твёрдым покрытием — оказывается, один километр стоит чуть ли не сто тысяч рублей, — и о прочих технических проблемах. Папа так напирал на технические проблемы, что я понял: готовит мне что-то техническое. Возможно, завод, где работает сам.
После обеда мы смотрели футбол; выиграло «Торпедо», мы были его болельщиками, и вечер закончился прекрасно.
Я принял душ и улёгся в постель, свою постель, привычную, удобную, на свои простыни и наволочки, свежие, холодноватые, твёрдые, накрахмаленные, под такой же свежий, накрахмаленный пододеяльник. Это не вагончик! Не пахнет сырой одеждой, грязной обувью, открытыми рыбными консервами. Комфорт! С мыслью о комфорте я и уснул.
С мыслью о комфорте я и проснулся. Нет, это не вагончик, где ночью входят и выходят люди, одни на дежурство, другие с дежурства, где одному хочется спать, другому читать, а третьему слушать транзистор. В квартире было тихо, папа с мамой ушли на работу; на кухне под салфеткой меня ожидал завтрак, и, уж конечно, не такой, как в участковой столовой под шатром, хотя там шеф-повар из самой Риги.
Корюков… Он отодвинулся далеко-далеко, я был там давным-давно, теперь я дома, в родной стихии. То было случайное, блажь какая-то. Всё. Кончено.
Впрочем, не кончено. Я должен повидать Стручкова. Обещал дедушке всё узнать и написать.
Бедный дедушка! Мысль о нём терзала моё сердце. Он провожал меня точно так же, как и встречал, на той же бричке и на той же лошадёнке. Бричка и лошадка были ни к чему: вещей у меня не прибавилось, тот же рюкзак. На дедушке был тот же вытертый тёмный костюм с брюками, заправленными в сапоги. И он так же улыбался мне и гладил по голове, хотя я поступил как свинья — уехал.
Когда я раньше приезжал в Корюков, мне казалось, что дедушка смотрит на мир хотя и благожелательно, но немного со стороны. Единственное, чем он серьёзно, как мне казалось, увлекался, — это работа в общественном совете конного завода, составленном из таких же ветеранов производства, как и он.
Но теперь я понимал, что главным в дедушкиной жизни было другое: именно пенсии, пособия, устройства в больницу, ясли, детский сад, дела в суде, похороны одиноких — тонкие нити жизни, по на них держались человеческие судьбы, они сходились к дедушке, хотя он не был ни начальником, ни депутатом, ни генералом в отставке. Просто он был уважаемый человек в городе.
Наверно, в каждом городишке есть такой уважаемый человек. В Корюкове им был мой дедушка.
И когда я уезжал, дедушка попросил меня зайти к Стручкову. Я занимался в Корюкове делом неизвестного солдата. Теперь я уехал и перестал им заниматься. Но нить не должна была порваться.
Впрочем, я и сам этим интересовался: кто всё-таки неизвестный солдат? Кто из пяти разгромил штаб? Какова судьба остальных? Фотография у меня, не отдал её Наташе, она нужна мне для Стручкова.
В Москве несколько министерств строительства: жилищного, транспортного, промышленного, сельского, монтажных и специальных работ и так далее… В каком из них найти Стручкова, мне сказали сразу. Но в этой лёгкости и скрывалась трудность. Стручкова знали потому, что он заместитель министра. Узнать о нём было легко, попасть к нему трудно.
В просторном вестибюле у двери стояла толстая вахтёрша с казённым выражением лица. Мимо неё, предъявляя пропуска, проходили деловые люди с портфелями, папками, свёрнутыми в рулон чертежами. Я подошёл к окошечку, просунул голову в узкое отверстие и попросил дать мне пропуск к товарищу Стручкову.
— Позвоните 28—32! — ответила мне женщина за окошечком.
В этих узких окошечках есть что-то унизительное. Надо изгибаться в три погибели, чтобы увидеть лицо сидящего там человека.
Я набрал номер и услышал в ответ молодой женский голос, по-видимому, секретарши Стручкова.
Я назвал свою фамилию и попросил дать пропуск.
— Вы откуда? — спросила секретарша.
— Из Корюкова.
— Откуда, откуда?
Слово «Корюков» ничего ей не говорило. Она понятия не имела, что такое Корюков.
— По какому делу?
— Тут, по одному.
— Товарищ, говорите конкретно!
— Конкретно: мне нужно к товарищу Стручкову.
— Товарищ Стручков принимает по средам.
— Но сегодня как раз среда.
— На сегодня запись кончена. Записываю вас на следующую среду. Не задерживайте меня, товарищ. Ваша фамилия?
— Крашенинников.
— Крашенинников, — повторила секретарша, записывая мою фамилию, — двадцать четвёртого, десять часов утра, пропуск будет в проходной.
И положила трубку.
Из министерства я по Сретенке вышел на площадь Дзержинского к магазину «Детский мир», куда ездил раньше с мамой, потом один, потом перестал ездить. По проспекту Маркса спустился вниз, дошёл до «Метрополя», постоял у витрин «Интуриста», почитал рекламы международных авиалиний. Иностранные туристы и их машины выглядели довольно живописно. Я люблю центр Москвы, его оживление, толпу людей, текущую к ГУМу, к Мосторгу, к театральным кассам, к метро, к гостиницам.
В Александровском саду горел Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата, лежали на мраморе букетики цветов. На плите было высечено: «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен».
Подходили люди, клали цветы, стояли, потом уходили, приходили другие, тоже клали цветы, тоже стояли…
И я подумал о том, другом, который лежит на холмике у дороги, возле города Корюкова, безвестно погибший и безвестно похороненный нами без почестей и оркестра. Опять зарастёт травой его могила, не будет на ней ни цветов, ни надписей. А ведь он такой же, как этот. Оба они неизвестные солдаты.
Нет, чёрт возьми, у Стручкова должно найтись для него время, будь он не только заместителем министра, будь он самим министром, даже премьер-министром!
Я вернулся в вестибюль и снова позвонил по 28—32.
— Товарищ! — послышался в трубке знакомый голос секретарши. — Я вам сказала: вы записаны на двадцать четвёртое, десять часов утра.
— Но у меня очень срочное дело.
— Какое дело? Вы даже не можете его объяснить.
— Доложите товарищу Стручкову. По делу ПРБ—96. Он знает.
Она переспросила:
— ПРБ—96?
— Да, ПРБ—96.
— И он знает?
— Да, очень хорошо знает.
— Подождите.
Я ждал довольно долго. Потом в трубке зашуршало, и секретарша сказала:
— Соединяю вас с Ростиславом Корнеевичем.
Мужской начальнический голос произнёс:
— Я слушаю.
— Товарищ Стручков, — сказал я, — я по поводу неизвестного солдата.
— Какого неизвестного солдата?
— Из ПРБ—96.
— Да? Из ПРБ?.. Как ваша фамилия?
— Крашенинников.
— Крашенинников… Что-то не помню. Вы там служили или родственник?
— Родственник.
— И у вас срочное дело?
— Очень срочное. Я завтра уезжаю.
Он некоторое время молчал, потом, видно, по другому телефону сказал:
— Выпишите ему пропуск.
16
В глубине кабинета стоял громадный письменный стол, сбоку длинный стол для заседаний под зелёным сукном.
Группа людей рассматривала у стены большой красочный план. Жёлчный, лысый человечек водил но нему указкой, сердито говорил:
— Таким образом, план застройки района может быть осуществлён в двух вариантах. Вариант первый, — он провёл по плану указкой, — осевая линия застройки пройдёт по набережной реки, с некоторым спрямлением её русла, в пределах отметок 186—189…
Кто в этой группе Стручков? Докладчик?
От группы отделился суховатый, подтянутый гражданин лет пятидесяти, пошёл к письменному столу и сделал мне знак следовать за ним.
Я последовал.
Докладчик бросил на меня раздражённый взгляд — я оторвал Стручкова — и продолжал что-то бормотать. Что именно, я уже не слышал.
— Что у вас? — спросил Стручков.
— Я из Корюкова, из дорожно-строительного участка… — начал я.
— Вы же сказали из ПРБ—96? — перебил меня Стручков.
— Это не я из ПРБ, это солдат из ПРБ.
— Какой солдат?
Чёрт возьми! Он всё время меня перебивает, не даёт связно изложить.
— Солдат, которого мы нашли при дороге.
Стручков смотрел на меня как на сумасшедшего.
— Кто он такой, этот солдат?
— В том-то и дело, что никто не знает, кто он такой.
— Послушайте, — сказал Стручков, — вы сказали, что вы родственник одного из работников ПРБ, вы назвали свою фамилию…
— Крашенинников, — подсказал я.
— Вот именно — Крашенинников. Теперь скажите толком: зачем вы ко мне пришли? — Он поднял голову и сказал людям у стены: — Товарищи, я сейчас освобожусь.
И опять воззрился на меня, ожидая ответа.
Вместо ответа я вынул фотографию солдат и положил её перед ним.
Он наклонился, рассмотрел фотографию, потом как-то странно посмотрел на меня, опять склонился к фотографии, перевернул, прочитал надпись: «Будем помнить ПРБ—96», снова посмотрел на меня:
— Откуда вы приехали?
— Из города Корюкова.
— Корюков… — задумчиво проговорил Стручков. — Помню такой город. Мы стояли возле него летом сорок второго года, ушли оттуда в сентябре.
— Вот именно, — подхватил я, — именно в сентябре сорок второго года.
Дело начинало, кажется, проясняться.
Стручков снова рассмотрел фотографию, потом обратился к своим инженерам:
— Товарищи! Скоро обед, прервёмся.
— Ростислав Корнеевич, — плачущим голосом возразил маленький докладчик, — мы должны сегодня принять решение.
— Примем, — пообещал Стручков.
Я сидел в кресле у письменного стола.
Стручков стоял у окна, думал. Вспоминал, что ли, этих солдат?
Он вернулся к столу, сел, снова посмотрел фотографию, потом посмотрел на меня и медленно, подбирая и обдумывая каждое слово: сказал:
— Война сложна: люди гибнут, пропадают без вести, попадают в плен — мы не всегда знаем, при каких обстоятельствах это произошло, свидетелей может не быть, или они могли тоже погибнуть, пропасть без вести, попасть в плен. И потому, когда перед нами голые факты, мы можем судить только по этим фактам, по их логической связи.
К чему он разводит такую антимонию? Я и без него знаю, что война — штука сложная. Никогда не думал, что министры так многоречивы.
Зазвонил телефон. Стручков поднял трубку и, не ответив, положил её обратно на рычаг. Придаёт нашему разговору особенное значение.
Меня это заинтриговало.
— Итак, — продолжал Стручков, — в таких случаях мы опираемся только на факты. На факты мы вынуждены были опираться и в данном конкретном случае. Эти люди пригнали машины в ремонт. Я их отпустил на один день в город. Они не вернулись ни к нам, ни в свою часть, мы их не нашли и в городе.
Я начинал понимать, к какой мысли старается он меня подвести своими туманными рассуждениями.
— Правда, — продолжал Стручков, — тогда прорвались немцы. Мы снялись по тревоге и двинулись в направлении города Корюкова, то есть туда, куда они ушли. Но ни по дороге в Корюков, ни в самом Корюкове их не встретили: они исчезли. После передислокации на новое место нас запрашивал автобат о судьбе этих шофёров, мы запрашивали комендатуру, но никаких следов их не обнаружили. Они могли попасть в какие-то исключительные обстоятельства — война, прорыв немцев; обвинять их у меня нет оснований, хотя и защищать их тоже не могу. Дело это давнее, забытое, тебя оно никак не может касаться. А кто из них твой родственник?
— Никто. Тут нет моих родственников.
— Ты же сказал — родственник?!
— Вы меня не поняли. У меня в Корюкове родственники, дедушка у меня в Корюкове.
— А откуда у тебя фотография?
— Из школы. Знаете, школьники разыскивают. Следопыты. Штаб «Дорогой славы отцов».
Стручков облегчённо вздохнул.
— А я понял так, что ты родственник одного из этих солдат… Тогда другое дело… Какая там «Дорога славы отцов»… Я помню этого старшину. Такой был щёголь в хромовых сапогах. От работы отлынивал, канючил, в город отпросился. Я отпустил на один день, а они не вернулись и до города даже не дошли. Устроился, наверно, у какой-нибудь молодки, а тут немцы…
— Вы не помните его фамилии? — спросил я.
Стручков пожал плечами:
— Через ПРБ проходили сотни людей, долго не задерживались: пригонят машины, поработают несколько дней и уезжают. Я вообще ничьих фамилий не знал, а этих тем более — они и часа не работали. И видел я одного старшину. А как попала в школу фотография?
Теперь настала моя очередь подбирать слова. То, что я ему сейчас сообщу, будет для него гораздо неожиданнее того, что он сообщил мне.
— Видите ли, — сказал я, — один из этих солдат, по-видимому, старшина… — Я поднял глаза на Стручкова, он с интересом слушал меня. — По-видимому, старшина, — повторил я, — разгромил немецкий штаб, закидал его гранатами, вывел из строя большое количество техники и живой силы противника. — Это уж я прибавил от себя. — Немцы его убили. Похоронили его наши женщины, они и нашли у него эту фотографию.
Стручков сидел с замкнутым, бесстрастным лицом. Мой рассказ, видимо, его поразил.
Секретарша внесла на подносе чай. Но, остановленная взглядом Стручкова, попятилась обратно и исчезла за дверью вместе с подносом.
— При строительстве дороги мы наткнулись на его могилу, — продолжал я. — Мы её перенесли, поставили обелиск, но фамилии солдата не знаем. Где его родные, знают ли, как он погиб, — ничего это не известно. Может быть, им сообщили, что он дезертир?
Я не хотел огорчать Стручкова, как и он не хотел огорчать меня. Но всё же ужасно обидно за солдата.
Стручков опять отошёл к окну, постоял там, подумал, вернулся к столу, снова посмотрел на фотографию, задумчиво, как бы собираясь с мыслями, сказал:
— Осень была хорошая, солнечная, золотая была осень.
Потом, видно, собрался с мыслями и уже твёрдым голосом продолжал:
— Архивы ПРБ сохранились; наверно, и архивы автобата, во всяком случае, переписка об исчезновении этих солдат наверняка. Я думаю, можно установить их фамилии. Вы когда уезжаете?
Если я ему скажу, что вовсе не уезжаю, то он не будет торопиться.
— Я уезжаю завтра.
Он покачал головой:
— Надо задержаться дня на два, на три.
— Если это очень нужно, — будто бы нехотя согласился я.
— У вас есть где остановиться? — спросил Стручков.
— Есть.
— А то, пожалуйста, моя квартира в вашем распоряжении.
— Нет, спасибо, у меня тут родственники.
— Ну, смотрите… Фотографию оставьте мне; без неё я не сумею опознать людей.
— Но вы мне её вернёте?
— Конечно. Наведу справки и верну. Позвоните мне послезавтра. Вот мой прямой служебный телефон, а вот домашний.
Он вырвал из большого настольного блокнота лист бумаги, написал оба телефона и протянул мне.
— А когда позвонить?
— Позвоните послезавтра, — ответил Стручков.
17
…Той же полевой дорогой, которой пришли в деревню, они возвращались обратно.
Впереди шёл Бокарев, обходя лужи и заполненные водой колеи — ночью прошёл дождь. За ним шли Краюшкин, Лыков и Огородников. Замыкали шествие Вакулин и Нюра.
Солдаты были выбриты, всё на них было выстирано, выглажено, подворотнички блестели.
— По моим вкусовым качествам, — сказал Лыков, — лучше простой деревенской пищи ничего не надо.
— Вкусовые качества бывают у пищи, а не у человека. У человека бывает вкус, — поправил его Огородников.
— Значит, по моему вкусу, — согласился Лыков, — деревенская пища; она хоть и грубая, но полезная.
— Тебя приваживать нельзя, — добродушно заметил Краюшкин, — у тебя память девичья: где обедал, туда и ужинать идёшь.
— Ужин не нужен, обед дорогой, — отшутился Лыков, — а не мешало бы денёк-другой так похарчиться.
— И не стыдно на бабьих-то харчах? — всё так же добродушно поддразнил его Краюшкин.
— Стыдненько, да сытенько, — в тон ему ответил Лыков.
— И в городе можно пообедать, и не хуже, — заметил Огородников.
— Огородников, ты сам откуда? — спросил Лыков.
— Откуда, — мрачно ответил Огородников, — из Ленинграда.
— Семья, выходит, в блокаде, — сочувственно констатировал Лыков.
— Догадливый, — усмехнулся Огородников.
— А я вот, — сказал Лыков, — кроме своего колхоза, ничего не видел. Как кончил курсы, посадили на колхозную машину — пылил до самой войны.
— Ну, — сказал Краюшкин, обходя большую лужу, — вся грязь будет наша. Шинель бы не запачкать. — Он подобрал полы шинели под ремень, улыбнулся: — Подоткнулся, точно коров пошёл доить.
Вакулин остановился:
— Беги домой, Нюра! Дальше посторонним нельзя.
Нюра молчала, ковыряла мокрую землю голой пяткой. Ямка, которую она выковырила, тотчас наполнилась водой.
— Писать будешь? — спросил Вакулин.
Она по-прежнему молчала, ковыряла голой пяткой другую ямку.
— Полевая почта 72392, — напомнил Вакулин. — Ну, чего молчишь?
Она посмотрела на него исподлобья.
— Барышень своих целовать не будешь?
— Нет у меня барышень, говорил тебе.
— «Говорил»… У шофёра в каждой деревне барышня.
— Дура ты, дура…
Нюра исподлобья смотрела на Вакулина, положила ему на плеч» худые загорелые руки, прижалась, поцеловала в губы.
— Ну, ну… — Вакулин смущённо оглянулся на товарищей, — нашла место… Ну, прощай! Пиши!
…Он догнал своих, когда они входили на территорию МТС. И вместе со всеми растерянно остановился посреди двора — ПРБ не было. Под навесами и в цехах валялись негодные части, старые рамы, ржавое железо, промасленные тряпки.
— Ни горы, ни воза, — заметил Краюшкин.
— Погнались за девками, — пробормотал Огородников.
— Помолчи уж, — оборвал его Лыков, — всё ему не так.
Бокарев раскрыл планшет, посмотрел карту, объявил:
— Пойдём на Корюков, пятнадцать километров в восточном направлении. Там узнаем, где ПРБ.
— Слушайте! — сказал Вакулин.
Они прислушались и услышали отдалённое жужжание. Вдали, на шоссе, показались три немецких мотоцикла.
— Попали меж косяка и двери, — тем же добродушно философским тоном заметил Краюшкин.
— Залечь! — приказал Бокарев.
Они легли на землю, приготовили винтовки, вглядываясь в приближающиеся по шоссе мотоциклы. Те шли уступом: первый — по левой стороне дороги, второй — посередине, третий — справа, с интервалами, чтобы последующий мотоцикл мог прикрыть огнём предыдущий. На каждом мотоциклист и два автоматчика — в коляске и на заднем сиденье. Передний мотоцикл вооружён пулемётом.
— Мотоциклы БМВ, — тихо проговорил Лыков.
— «Пундап», — возразил Огородников.
— Молчать! — грозным шёпотом оборвал их Бокарев, не отрывая взгляда от приближающихся мотоциклов.
Мотоциклисты сблизились у развилки, рассматривали карту, что-то обсуждали. Потом один мотоцикл отделился и, переваливаясь на ухабах полевой дороги и разбрызгивая грязь, медленно поехал в сторону МТС.
Бокарев оглянулся. За навесом — ограда, а там поля: будет нетрудно укрыться в высокой пшенице; немец едет проверить, пуста ли МТС.
Бокарев всё хорошо понимал. Он здесь единственный строевой младший командир-сверхсрочник, он не был даже уверен, умеют ли его шофёры по-настоящему стрелять. Дать приказ уйти? Но он лежал лицом к противнику, над ним хмурое, осеннее родное небо, и вот разъезжает немец и уверен, что никто его не тронет. Он, Бокарев, и его солдаты хоть небольшой, пусть ненадёжный, но заслон: уничтожить разведку — значит сорвать план противника. Немцев девять, при них автоматы и пулемёт, а у Бокарева, вместе с ним, всего пять человек, но они видят противника, ждут его, а противник их не видит и не ждёт. И это давало им преимущество.
Всё было чётко и ясно, как на детской картинке. Внизу шоссейная дорога. От неё к МТС просёлок; расстояния тут с километр. На развилке два немецких мотоцикла; третий медленно приближается к МТС. За МТС — ложбина, по ней до излучины шоссе метров триста — четыреста. А там кювет и кусты вдоль дороги.
Бокарев показал, где надо устроить засаду.
— Ползите к тем кустам. Как услышите мой выстрел, открывайте огонь. Беспорядочного огня не вести, только прицельный. В кучу не сбивайтесь, рассредоточьтесь!
Пригибаясь к земле, скрытые за строениями, солдаты перебежали двор, перелезли через ограду, плюхнулись в ложбину и поползли.
Поняли они задачу или нет, хотели ползти или не хотели, доползут или не доползут, обнаружат их немцы или нет — ничего этого Бокарев не знал. Справится ли он один с тремя мотоциклистами, приближающимися к МТС, он тоже не знал. Он был сибиряк, охотник и действовал как охотник: не дать обнаружить себя зверю, обложить его и взять.
Он поднялся и стал за углом сарая. Отсюда были видны и немцы на дороге, и ползущие к ним солдаты, и мотоцикл, едущий к МТС.
Переваливаясь на ухабах и разбрызгивая грязь, мотоцикл приближался. Потом остановился возле футбольных ворот. Они одиноко стояли в стороне от дороги — одни ворота с вытоптанной перед ними травой. Может, рабочие МТС в обеденный перерыв били в одни ворота, а может, существовали раньше и вторые ворота, только сломали их.
Немец, сидевший на заднем сиденье, сошёл с мотоцикла и пошёл к воротам.
Зачем ему понадобились эти ворота, Бокарев так и не сообразил: они стояли на ровном месте, ничего возле них не было. Но хорошо, что немцы задержались: ребята всё ещё ползли по ложбине.
Немец тронул столб, потом перекладину, покачал их — ворота стояли крепко.
Затем вернулся, и мотоцикл двинулся дальше.
Бокарев перевёл взгляд на ложбину — солдаты всё ещё ползли.
Мотоцикл приближался. Немцы были уже отчётливо видны — в касках с пристёгнутыми под подбородком ремешками.
Мотоцикл остановился у МТС. Мотоциклист был чернявый, горбоносый, по росту, видать, небольшой. И тот, что сидел на заднем сиденье, тоже был вроде чернявый, или это так падала на его лицо тень от каски. А того, кто сидел в коляске, Бокарев разглядеть не мог: коляска была на другой стороне.
Бокарев был отличный стрелок. Он мог первым выстрелом снять мотоциклиста, вторым — немца на заднем сиденье, потом снял бы и третьего, пока тот выбирался бы из коляски. Но делать этого нельзя — ребята ещё не доползли до дороги.
Немцы переговаривались, голоса их заглушались стрекотом невыключенного мотора. Как понимал Бокарев, они совещались, кому идти: наверно, надо было идти тому, кто в коляске, а он не хотел, пригрелся.
Бокарев пытался предугадать их замысел; сам мог действовать, только понимая значение каждого их движения. И он следил за каждым их движением, вглядываясь в то же время в ложбину: его солдаты ползли уже совсем близко к дороге.
Наконец с заднего сиденья сошёл тот же немец, что ходил к воротам, — Бокарев отметил это с удовлетворением: этот будет осматривать МТС не так тщательно; только что осмотрел ворота и, видно, спокоен, уверен, что никого здесь нет.
С автоматом наизготовку немец вошёл во двор, постоял, осмотрелся, направился к навесу, осмотрел его, ткнул ногой кусок железа, заглянул в окна цеха — они были в частых, мелких переплётах. Потом подошёл к двери, вошёл в цех… Вышел из цеха.
Бокарев бросил быстрый взгляд на ложбину — солдат уже не видно, значит, ползут по кювету, рассредоточиваются. Теперь, когда уже больше их не видел, он рассчитывал только время: ползут, рассредоточиваются, занимают позиции для стрельбы, изготовляются к ведению огня.
Опустив автомат, немец возвращался обратно. Бокарев зажал нож в кулаке, ещё теснее прижался к столбу, пропуская немца мимо себя. Немец увидел его; перед Бокаревым мелькнуло только мгновенное удивление в его глазах; он левой рукой, как могучим крюком, обхватил его голову, зажал рот, сразу почувствовал на ладони влажное тепло его рта, напор его горячего дыхания, и правой рукой всадил нож; нож прошёл, не коснувшись кости, тело немца повисло в судороге на его руке. Бокарев всё дальше всаживал нож, по самую рукоятку, левой рукой удерживая тело. Потом осторожно опустил на землю, локтем придержал каску, чтобы не гремела, правой рукой перехватил автомат.
Теперь он тянул время, ждал, когда солдаты изготовятся к стрельбе. Они себя не обнаружили, немцы на шоссе не открыли огня.
— Алло, Ганс!
С автоматом в руке Бокарев прошёл вдоль сарая и посмотрел на дорогу.
Оба немца — и мотоциклист, и тот, что ехал в коляске, — с автоматами наизготовку стояли против въезда в МТС.
— Алло, Ганс!
Они стояли во весь рост, встревоженно вглядываясь во двор.
— Алло, Ганс!
Немец добавил ещё что-то, видно, ругательное: думал, что Ганс разыгрывает их.
Бокарев дал по ним очередь.
В ту же минуту раздались винтовочные выстрелы на дороге — ребята открыли огонь.
Бокарев снял с убитых автоматы, дал очередь по баку — мотоцикл вспыхнул голубым пламенем — и побежал к дороге, не по ложбине, а напрямик, полем, заходя в тыл немцам: они развернули мотоциклы и пытались пробиться обратно сквозь засаду, ведя пулемётный и автоматный огонь.
Бокарев бежал, пригибаясь к земле. Он видел, как врезался в кювет один мотоцикл, с него соскочил немец, пополз к лесу. Второй мотоцикл остановился; пулемётчик, неуязвимый за металлическим щитком, вол с него огонь. Ему в тыл и забегал Бокарев, уже не пригибаясь, чтобы его увидели свои, и с ходу скосил пулемётчика из автомата.
Пулемёт смолк.
На шоссе лежали три убитых немца, ещё двое — в кювете, возле перевёрнутого мотоцикла, один ушёл или залёг в лесу. Бокарев присел за мотоциклом, вглядываясь в лес по ту сторону шоссе, прислушиваясь к его тишине, пытаясь уловить треск сучьев или шелест сухих листьев. Теперь они поменялись ролями: немец видит их, а они его не видят.
Всё произошло неожиданно, в одну короткую, непоправимую секунду. Он не увидел, а почувствовал, краем глаза заметил: по шоссе бежит Лыков, потом услышал крик:
— Старшина! Товарищ старшина!
Лыков бежал и кричал в том возбуждённом состоянии, какое бывает у солдата, только что вышедшего из боя, ещё оглушённого, ещё пылающего его огнём, бежал в распахнутой шинели, волоча винтовку.
— Ложись! — Бокарев не то крикнул это, не то сказал, не то подумал.
Лыков был обречён, и немец был обречён. Мелькнул из леса огонь выстрела, Бокарев тут же дал по огоньку очередь. Немец умолк.
Лыков упал.
Бокарев переполз шоссе, пополз по кювету. Немец лежал, уткнувшись в землю. Бокарев дал по нему очередь, вернулся на шоссе, подошёл к Лыкову: он лежал на спине, широко раскинув мёртвые руки.
Бокарев подошёл к Вакулину. Он сидел, привалившись к откосу кювета, мертвенно-бледный. Краюшкин уже распоясал его, поднял рубашку: и рубашка и кальсоны были залиты кровью.
— Пакет есть? — спросил Бокарев.
— Есть, — ответил Краюшкин.
Огородников всё ещё лежал в кювете, с винтовкой, нацеленной на шоссе.
— Долго будем лежать? — спросил Бокарев.
Огородников не ответил.
Бокарев нагнулся, тронул его, перевернул.
Огородников был мёртв.
18
Почему я вернулся?
Дом меня больше не раздражал. Ни отец, ни мать — никто не раздражал. Две недели жизни у дедушки успокоили мои нервы, вагончик отучил просыпаться от звука шлёпанцев. Но запах дымящегося асфальта на московских улицах не давал мне покоя.
На дорожных работах в Москве техники не меньше, чем на нашем участке. Вероятно, даже больше. И шику больше — рабочие в жёлтых кофтах, в жёлтых шлемах. И всё же нет того масштаба, нет той перспективы, техника здесь огорожена щитами, защищена предупредительными знаками и фонарями, теряется среди высоких домов; видишь одни объезды, заторы, пробки, мостки вместо тротуаров. Только чувствуешь запах горячего асфальта. И этот запах влечёт тебя туда, на дорогу, где всё открыто, всё видно, лязгает и грохочет, освещено солнцем и обдувается ветром.
Я скучал по вагончикам, по ребятам. Неплохие, в сущности, ребята — заносчивый Юра, флегматичный Андрей, щуплый сердцеед Маврин.
И потом… дедушка.
Я не предупредил его о своём приезде, и он меня не встречал на бричке, хотя на этот раз вещичек у меня было порядочно. Я протащил свой чемодан от станции до дедушкиного дома и вошёл в дом с бьющимся сердцем.
Дедушка сидел на низком табурете, перетягивал пружины диванчика. Диванчик лежал на полу, косо торчали его круглые резные ножки, спиралились пружины, перетянутые шпагатом.
Дедушка повернул ко мне голову. Его чёрные глаза с синеватыми белками сверкнули по-цыгански. Колоритный старик всё-таки!
Опять я ел борщ со сметаной, и гречневую кашу, и творог с молоком и допил бутылку портвейна, купленную дедушкой к моему первому приезду, и помидоры, и лук, и солёные огурчики. У нас дома всё это считалось несовместимым. А дедушка считал совместимым. И когда я рубал, он посматривал на меня, может быть, даже думал, что я вернулся из-за него. И не ошибался. Я вернулся из-за него, из-за всего, что было вокруг него. Пусть я опять буду жить в вагончике, всё равно дедушка здесь, я в любую минуту могу прийти к нему, остаться ночевать. Он постелит мне на этом диванчике, и лунные блики, преломлённые листьями фикуса, причудливым узором будут лежать на полу.
При всей своей выдержке дедушка не смог сдержать удивления, узнав, что у меня в кармане список пяти солдат. Этого он не ожидал. А список был у меня. Стручков его раздобыл. Стручков всё сделал.
Вручая мне список, Стручков сказал:
— Запросим военкоматы, возможно, кто-нибудь из них жив или живы родственники. Запрос сделаем от министерства — это убыстрит дело, а обратный адрес укажем твой. Если хочешь, я попрошу подписать министра.
— Я думаю, вашей подписи будет достаточно.
Ответить иначе было бы некорректно.
— Если будет время, сообщи о результатах.
— Обязательно, — пообещал я.
Выйдя из министерства, я сообразил, что следовало обратный адрес указать дедушкин: тогда бы ни Воронов, ни кто другой не совал бы нос в мои дела. Но возвращаться к Стручкову было неудобно.
И вот список солдат у меня. Я положил на стол фотографию и показал дедушке каждого.
Старшина в центре фотографии — Бокарев Дмитрий Васильевич из Бокаревского района, Красноярского края.
Справа, самый молодой, — Вакулин Иван Степанович из Рязани.
Крайний справа — Лыков Василий Афанасьевич из Пугачёвского района, Саратовской области.
Слева, самый пожилой, — Краюшкин Пётр Иванович из Пскова.
Крайний слева, средних лет, представительный, — Огородников Сергей Сергеевич из Ленинграда.
— В Корюкове были трое, — сказал я, — один у Михеева и два у Агаповых. Кто они? Во-первых, старшина Бокарев: его опознали и Агаповы и Михеев. Во-вторых, Вакулин: на него показал Михеев и имя назвал правильно — Иван. И третий, по-моему, это Краюшкин. На кисете вышита буква «К». Больше ни у кого ни фамилии, ни имя не начинаются на «К». Значит: Бокарев, Вакулин и Краюшкин. Кто же из них неизвестный солдат, кто разгромил штаб? Вакулин отпадает — Михеев это доказал. Остаются старшина Бокарев и Краюшкин.
Слушая мои рассуждения, дедушка поглядывал на фотографию, потом сказал:
— На Огородникове могла быть шинель Краюшкина. Или у Вакулина документы убитого Лыкова. Всё могло быть, вариантов много. Запросили военкоматы — это хорошо. И здесь розыск идёт.
Он достал с комода местную газету и протянул мне. Я прочитал такое объявление:
«В 1942 году в нашем городе было произведено нападение на немецкий штаб. При этом был убит советский солдат. Лиц, имеющих что-либо сообщить по этому поводу, просят зайти или написать в редакцию, Агапову».
— Такое объявление и по местному радио сделано, — добавил дедушка.
— А что за Агапов? — спросил я. — Какой-такой Агапов?
— Ты его знаешь, Славик Агапов.
— Любитель старины?
— Он.
— Он?! А зачем он суётся не в своё дело?
— Заинтересовался. Хочет написать: ведь пописывает, я тебе говорил.
— А что он Написал? «Евгения Онегина»? «Капитанскую дочку»? Что-то я не слыхал про такого писателя.
Я сам пописываю, но никому не говорю об этом: мне стыдно, может быть, я графоман. А есть ребята — ещё не написали ни строчки, а уже рассуждают, понимаете, о своём творчестве, делятся своими творческими планами, кого-то ругают, кого-то снисходительно хвалят, как собрата по перу.
По-видимому, именно таким писателем и был молодой историк Агапов.
Мне неприятно, что он ввязался в это дело. Моей монополии тут нет, но при чём здесь этот хищный очкарик? Его не волновал неизвестный солдат, он был для него лишь поводом, материалом, счастливой находкой, которую можно использовать.
Как там ни говори, я разыскал Стручкова, я достал список солдат, я поднял это дело, я был у Софьи Павловны, в школе, у Михеева, у тех же Агаповых. И вот является тин!
Нет, извините, пусть сам поищет!
Это я твёрдо решил: пусть сам поищет. Написал в газете, объявил по радио — прекрасно! Пусть продолжает. Он — по своей линии, я — по своей.
— Прекрасно! — сказал я. — Пусть даёт объявления, пусть пишет — это делу не помешает. Но вот этим, — я показал на список солдат, — я буду заниматься сам.
Дедушка ничего не ответил. Не знаю, одобрил ли он меня. Вероятно, не одобрил. Но он хорошо понял, что я имею в виду. От него юный Агапов не узнает об этом списке.
Дедушка наклонился к фотографии, показал на Бокарева:
— Старшина, видно, орёл! А всё же на войне бывает самый неожиданный поворот событий.
19
Да, старшина — орёл! Его могила, он разгромил штаб. Вот только кисет с буквой «К»…
Мои разговоры с Михеевым, с Софьей Павловной, с теми же Агаповыми были случайными, неожиданными: я застал людей врасплох, они не подготовились, ничего не воскресили в памяти. А сейчас, по прошествии времени, воскресили.
Но идти к Агаповым я не мог — там Славик. Отпадает. К Софье Павловне? Она живёт в одном доме с Наташей. Наташа может подумать, что я ищу встречи с ней. А я не ищу встречи с ней.
Ладно, схожу к Михееву, а там будет видно.
Михеева я застал опять в саду. Опять он стрелял из двустволки по галкам.
Увидев меня, он опустил ружьё.
— До чего вредная птица! Человек плоды из земли добывает, а она портит.
— Безобразие! — согласился я и перешёл к делу. — Я к вам насчёт Вакулина.
— Какого такого Вакулина?
— Раненого солдата, что у вас лежал.
— А откуда известно, что он Вакулин?
— Суду всё известно, — пошутил я.
— Не знаю, не знаю… Вакулин… Он мне своей фамилии не докладывал.
Он произнёс это, как мне показалось, нервно, даже раздражённо. Он был не такой прошлый раз, не такой спокойный и деловой, как тогда.
Потом спросил:
— Фамилию-то где узнал?
— В военном архиве.
— Только его фамилию сообщили?
— Нет, известны фамилии всех пятерых. Тот, кого вы показали, — Вакулин.
— А из остальных есть кто живой?
— Этого мы пока не знаем.
— Так, — задумчиво проговорил Михеев, — так чего ты спрашиваешь?
— Как Вакулин попал к вам?
— Раненый он был. Привели его два солдата и ушли. Один из них старшина, другой просто солдат.
Я протянул ему фотографию:
— Есть здесь этот третий солдат?
Он надел очки, долго рассматривал фотографию, потом снял очки, положил в футляр, вернул мне фотографию:
— Не могу сказать, ошибиться боюсь. Может, кто из этих, а кто — не помню. Ивана помню, старшину помню, а третьего не помню. А зачем он вам?
— Как — зачем? Выясняем, чья могила.
— Так ведь могила того, кто штаб разгромил.
— Да.
— А штаб разгромил старшина, я ведь говорил.
— Но вы этого не видели.
— Не видел. Только всё сопоставление фактов такое. Старшина разгромил, никто другой.
— Допустим, — согласился я, — но где старшина прятался четыре дня?
— Вот этого я сказать не могу.
— Значит, его прятал какой-то местный житель.
— Весьма возможно. Только как этого жителя найдёшь, может, нет его и в живых… В войну кто здесь был? Старики или инвалиды вроде меня. Все почти вымерли, и меня скоро не будет. По радио объявляли и в газете писали, может, и придёт тот, кто старшину прятал. Вам лучше знать, — заключил он, вероятно предполагая, что я имею отношение к этим объявлениям.
Софью Павловну я застал в той же позиции — у телевизора. Смотрела кинопанораму.
На мой вопрос: действительно ли убитый был такой высокий, как она говорила, ответила:
— И, милый… Как теперь скажешь: высокий был или невысокий. Не стоял ведь, а лежал. Ночью дело было. Помнится мне, яму длинную копали. А может, показалось, что длинную, — я их никогда в жизни не копала, могилы эти. Может, и не такая уж она длинная была. Торопили нас немцы: давай, давай, шнель!..
— Хорошо, — сказал я, — допустим. Ну, а кисет — это точно его?
Она даже обиделась:
— Что же, я свой кисет подсунула? Я не курящая. В молодых годах выкуришь, бывало, в компании папироску, а чтобы махоркой вонять, кисет — да ты что, милый, в уме?
— Возможно, некоторые мои вопросы и выглядят нелепо, вы меня извините, — сказал я, — но очень запутанное дело, и хочется выяснить.
— Чего же тут запутанного? — удивилась она. — Убили солдата, похоронили, сберегли могилку. Теперь вот, говорят, памятник поставили. Хочу пойти посмотреть, да ноги не ходят. Может, кто на машине подвезёт…
— И долго тут немцы были?
— С месяц, наверно, были, а то и два, недолго пановали.
Я вышел от Софьи Павловны и во дворе столкнулся с Наташей.
Я далёк от мистики. Но если подсчитать шансы «за» и «против» того, что в те несколько минут, что буду пересекать двор, я встречу Наташу, то они будут выглядеть, как единица к ста. И вот, представьте, я с ней столкнулся во дворе.
Но главная мистика заключалась в том, что, идя сюда, я знал, что встречу её. Хотите верьте, хотите нет, но был уверен, что встречу. И встретил.
— А, Наташа, приветик!
— Здравствуй!
— Как жизнь?
— Спасибо, — ответила она.
— Школьнички уселись за парты?.. Куют процент успеваемости?
Она не ответила.
— В сущности, — сказал я проникновенно, — это лучшее время нашей жизни.
Наташа и тут промолчала.
Она была в тёмном демисезонном пальто, в беретике, в тёмных туфельках. Стройная, смугленькая девчонка, к сердцу которой я так и не нашёл дороги. Стоишь перед ней, чувствуешь другой, чужой и чуждый тебе мир. И не понимаешь, почему это происходит.
— Чего ты на меня дуешься? — спросил я.
— Я? С чего ты взял?
— Я же не слепой.
Она пожала плечами:
— Я отношусь к тебе, как ко всем.
Она честно сказала, спасибо! Она относится ко мне, как ко всем, то есть никак. А я отношусь к ней не так, как ко всем. В этом разница.
Но развивать эту мысль значило настаивать на том, чтобы она относилась ко мне, как я отношусь к ней. Конечно, любовь должна быть настойчивой, её нужно добиваться, надо завоёвывать женское сердце. Но я не знал, как это делается. Есть такие упорные, настырные ребята, ухаживают, добиваются, даже женятся в конце концов. Но я думаю, что в итоге ничего хорошего из этого не может получиться. Если сразу не возникла обоюдная симпатия, то она уже не возникнет, как ни старайся.
— Кстати, — сказал я, — у меня есть список солдат.
Она не поняла:
— Каких солдат?
— Ну, тех пяти, что на фотографии.
— Да? — оживилась она. — Как это тебе удалось?
Она способна на эмоции! Только не в связи со мной.
— Удалось! Тридцать тысяч курьеров доставили.
— Покажи.
Я показал ей список солдат.
— Отдай его в школу, — сказала она, — ребята этим будут заниматься.
— А ты не будешь?
— Ведь я в десятом, — ответила она, как мне показалось, с некоторым сожалением.
Ах да! Розысками, штабом занимаются восьмые и девятые классы. Десятые классы готовятся достойно завершить полное среднее образование.
Но я был рад, что сказал ей про список. У меня гора упала с плеч, камень свалился с сердца. Я не скрывал этого списка. А докладывать о нём Агапову не обязан.
— Ну, бывай, — сказал я.
— До свидания, — ответила она.
20
— Видали его! — Воронов обращался к инженеру Виктору Борисовичу. — Вернулся! Не взяли тебя на шоколадную фабрику?
— Не взяли.
— Я знал, что ты вернёшься, — сказал Воронов, — потому что ты в душе своей бродяга. Хип-пи — вот ты кто!
И когда он произнёс «хип-пи», растягивая его и смакуя, я окончательно убедился, что я снова на своём дорожном участке. В Советском Союзе есть, наверно, только один дорожно-строительный участок, где его начальник — заметьте, инженер — произносит слова, значение которых плохо понимает. «Хиппи»!
— А куда бродяге идти? — продолжал Воронов. — Дорогу строить — вот куда.
— Это не совсем так, — возразил я сдержанно. Не хотел спорить.
Однако Воронова не интересовало, хочу я спорить или не хочу. Есть повод поучить меня, вот он и поучает.
— А меня судьба назначила руководить вами, бродягами, — продолжал он, — и это совсем не просто. Я прощаю тебе первое дезертирство, второго не прощу. Если уж ты хиппи, то проявляй сознательность. Потому что здесь производство. Понял? Про-из-вод-ство! А теперь иди, приступай к работе.
Я пошёл и приступил к работе.
Механик Сидоров и ремонтники встретили меня так, будто ничего не случилось. Возможно даже, не знали, что я уезжал в Москву: думали, околачиваюсь где-нибудь на участке.
Некоторые изменения произошли в моём вагончике. Андрей купил «Курс русской истории» Ключевского в пяти томах и теперь изучал историю не по романам, а по первоисточникам. У Маврина физиономия была цела. Юра приобрёл новый японский транзистор «Сильвер», но ходил мрачный — поссорился с Людой.
Если среди нас и были бродяги, как утверждал Воронов, то это Люда. Её родители жили в Сочи, но она уехала оттуда, когда ей было шестнадцать лет. Сейчас ей девятнадцать. Все едут в Сочи, все стремятся туда, а она удрала оттуда.
Мне уже попадались вот такие бродячие девчонки. Все они, как правило, с юга — из Сочи, из Ялты, из Сухуми. Такая Люда с детства видит людей, ведущих курортный, то есть праздный образ жизни: не работают, днём валяются на пляже, вечерами веселятся в ресторанах, на них модные костюмы, платья, украшения. И Люде кажется, что в Москве всё сплошные курортники. Она не понимает, что перед ней такие же простые люди, как её отец и мать, как она сама, только на отдыхе. И если её родители поедут в отпуск куда-нибудь на Рижское взморье, то тамошним девчонкам и мальчишкам тоже будут казаться бездельниками.
Ничего этого в свои шестнадцать лет Люда не понимала. Перед ней были шикарно одетые и праздно живущие люди. Ей хотелось такой же жизни, хотелось Москвы, столицы, модных тряпок, тем более что была смазливенькая. И вот уехала в Москву. Как, каким образом, одна или не одна — я не знаю, она мне не рассказывала, и не знаю, рассказывала ли вообще кому-нибудь. Может быть, как большинство таких красоток, надеялась стать киноактрисой и околачивалась в проходной «Мосфильма» или студии имени Горького. Или пыталась поступить в театральное училище. Или выйти замуж за престарелого академика. Не знаю. Только ни киноактрисой, ни студенткой театрального училища, ни женою академика не стала, в Москве не прописалась. Очутилась на дорожно-строительном участке, в вагончике, в должности нормировщицы.
Среди наших простых рабочих женщин она выглядела как белая ворона в своей мини-юбке (я думаю, единственной), в своём мини-плаще (я думаю, зимой он заменял ей шубу), в двух кофточках (одну она надевала утром, на работу, другую — вечером, когда мы сидели под шатром в столовой). Наши кадровые работницы, жившие в вагончиках, к примеру та же Мария Лаврентьевна, имели где-то свой дом, семью, получали письма, сами писали, посылали деньги. Люда писем не получала, сама, наверно, никому тоже не писала, а денег уж наверняка не посылала. У неё их не было.
Она была перекати-поле — вот кем она была. Я никогда не думал, что ей всего девятнадцать лет; думал, года двадцать три — двадцать четыре. И хоть здорово поколотила её жизнь, била и трепала её, но, видно, уж такова её натура: она не могла сидеть на одном месте и собиралась уехать. А Юра не хотел, чтобы она уезжала, ходил сам не свой, мрачный, злой, объявил, что не отпустит Люду. По какому праву? Не отпустит, и всё. Пусть попробует уехать! Пусть только попробует!
Я не знаю, что скрывалось за этой угрозой. Убьёт он её, что ли? Мне казалась странной такая примитивность нравов. А если Люда его разлюбила? Она же свободный человек! Мне нравится Наташа, а я ей — нет; я отошёл в сторону, и всё. Так и он должен сделать — отойти в сторону. Но ребята в вагончике были другого мнения.
— Выходит, зазря он всё это ей покупал, — говорил Маврин, — и туфли, и кофточки, и плащ купил? Ведь на ней ни черта не было — я помню, как она к нам приехала. А теперь смывается.
Я был поражён такой логикой, таким ходом мыслей, такой моралью.
— Выходит, он её купил? Навечно! Она его собственность? Странная философия.
— Ничего странного нет, — возражал Маврин, — если ты не собираешься с человеком жить, тогда и не принимай от него ничего. Это ведь не коробка шоколадного набора. Коробка шоколадного набора — это для знакомства, ну, ещё духи «Красная Москва». Но уж если он её одевает, обувает, значит, сам понимаешь…
— А если она ему отдаст его барахло? — сказал я.
— А зачем оно ему? — возразил Маврин. — Продавать? Другой дарить? Не в барахле дело. А в том, что брала. Это всё равно что жена.
— Почему бы им не жениться? — подхватил я.
— Легко сказать — жениться! — заметил Андрей. — А где жить? Думаешь, им Воронов даст отдельный вагончик?
— Но ведь у неё где-то есть дом, и у него есть дом. И если люди любят друг друга, то какое имеет это значение…
— Мальчик ты ещё рассуждать, Серёжка, — сказал Маврин, — ничего ты в этом не понимаешь. Женщину надо найти самостоятельную, хозяйку, а Людка что?
— Из таких вот девчонок, как Люда, выходят самые лучшие жёны, — объявил я.
— Во даёт! — усмехнулся Андрей. — А ты откуда знаешь? По собственному опыту?
— Может быть, и по собственному.
Я действительно где-то читал, что легкомысленные особы становятся верными супругами.
— Никак не пойму, — сказал Андрей, — ты на самом деле дурной или притворяешься?
— Глядя на тебя, об этом даже не приходится задумываться, — врезал я ему.
А Маврин твердил своё:
— Юрка этого так не оставит. Быть тут серьёзному происшествию.
21
Но пока никаких происшествий не было и не предвиделось. Люда по-прежнему сидела с нами в столовой, с нами обедала и ужинала, инженер Виктор Борисович развлекал нас своими рассказами.
Как-то вечером мы сидели у костра: я, Юра, Андрей, Маврин, Люда и Виктор Борисович.
Виктор Борисович говорил, что Максим Горький очень любил жечь костры и даже придавал им мистическое значение. Не знаю, правда это или нет. Но, когда жгли костёр, вагончик был пуст, и я мог спокойно заниматься, а когда кончал заниматься, присаживался к ним.
Пекли картошку, иногда жарили шашлык или просто мясо.
Сегодня пекли картошку.
Качалось пламя костра. В деревне лаяли собаки. Далеко маячили тусклые огни Корюкова.
Люда щепкой вытаскивала из костра готовые картофелины, подвигала их нам. Обжигая пальцы, мы снимали с них кожуру, посыпали солью и ели.
У нас на участке неплохая столовая, шеф-повар из Риги. Как говорил Воронов, тоже бродяга и вот попал к нам. Но его Воронов ценил больше всех: хорошее питание — залог устойчивости кадров. И всё же столовая надоедала. Такие ужины у костра мы очень любили.
— Из картофеля можно изготовить сто блюд, — сказал Виктор Борисович и начал загибать пальцы, — картофель печёный, отварной, жареный, сушёный, тушёный, в мундире, пюре, молодой в сметане, фаршированный мясом, рыбой, селёдкой. Картофельные оладьи, котлеты, крокеты, хлопья…
— Моя мамаша, — перебил его Андрей, — печёт пирожки с картофелем — пальчики оближешь.
— А моя муттер, — сказал Маврин, — в мясной стюдень кладёт куриные косточки. Объедение!
Он так и сказал — «стюдень», закрыл глаза, закачал головой, даже замычал от удовольствия.
Странно было слышать, что у Маврина где-то мать и он помнит о ней.
Мне тоже хотелось отметить мою маму. Но я не сумел сразу вспомнить, какое блюдо она готовит лучше всего: она их всё хорошо готовит. Пока я перебирал их в памяти, Виктор Борисович продолжал рассказывать про картофель, про его происхождение и историю: как его завезли из Перу первые испанские завоеватели, как принудительно насаждали при Екатерине, про картофельные бунты и всё такое прочее.
Виктор Борисович передавал общеизвестные факты. Но для ребят его рассказы были гранью их тяжёлой полевой жизни, и это была светлая грань. И в том, как ребята слушали, и было очарование его баек.
Нас неожиданно ослепил свет фар — подъехала машина. Не наша машина — наши машины, подъезжая ночью к вагончикам, переходят на ближний свет.
Шофёр погасил фары, мы увидели старую «Победу». Из неё вышел человек и направился к нам. Сердце у меня ёкнуло — это был Славик Агапов; я сразу понял, зачем он пожаловал сюда.
— Простите, — начал Славик, подойдя к костру и блестя своими очками, — где я могу…
Тут он увидел меня, тоже сразу узнал:
— Ага, я как раз к тебе. Здравствуй!
— ЗдравствуйТЕ!
Я подчеркнул слог «ТЕ», чтобы он мне не «тыкал».
— Слушай, — своим нахальным, категоричным голосом продолжал он, — в школе мне сказали, что у тебя есть адрес этого солдата.
Значит, вот кто меня продал — Наташа. Впрочем, она не знает, что я не желаю вмешательства этого типа.
— Какого — этого? — переспросил я.
— Ты ведь знаешь, о ком я говорю.
Ну что ж, раз он мне так упорно «тыкает», я тоже буду «тыкать».
— Видишь ли, — сказал я, — у меня есть адреса всех пяти солдат. Какой именно тебя интересует?
— Старшина.
— Могу я узнать, почему именно он?
На его лице появилась гримаса, но он был в моих руках и понимал это: я могу послать его ко всем чертям!
Я не услышал зубовного скрежета, но думаю, что он скрежетал зубами. Во всяком случае, круглые стёкла его очков ещё никогда так хищно не блестели.
— Потому что он и есть неизвестный солдат.
— Из чего это следует?
Какого чёрта он приволокся сюда! Теперь все в отряде узнают, что я занимаюсь делом неизвестного солдата. А я не хотел, чтобы здесь об этом знали. И если этот будущий Стендаль хочет искать — пусть ищет. Я ему не обязан докладывать о своих розысках.
Я говорил с ним так, что другой на его месте исчез бы моментально. Но это был очень настырный и упрямый тип.
— Из чего? — спокойно переспросил он. — Его узнал Михеев, его узнала моя мама, на него показывает женщина, которая его закапывала. И, наконец, именно у него нашли промокашку.
Ребята, разинув рты, слушали наш разговор.
Я вынул из углей картошку, побросал в руках, отодрал сверху шкурку, посыпал солью, куснул.
Славик стоял и ждал, пока я проделал эту процедуру. Он был в моих руках и понимал это.
Андрей лениво поднялся, пошёл в вагончик, принёс табуретку.
Агапов сел, процедив сквозь зубы нечто вроде «благодарю». То, что он хам, я заметил сразу. Но раз ты хам, то будь хоть вежливым хамом.
— Твоя мама не утверждает категорически, что её взял именно старшина, — возразил я, — она сказала: кто-то из них, то есть из двух солдат, взял промокашку.
— Да, она так сказала, тогда для неё это было неожиданно. А теперь она вспомнила и утверждает: промокашку взял старшина.
— Ну что ж, — согласился я, — промокашка, безусловно, доказательство. Но, понимаешь, не единственное. Там был ещё кисет. Ты его видел?
— Видел, — нетерпеливо ответил Агапов.
Мои вопросы начинали его злить. Ничего, потерпит.
— Ты видел, что вышито на кисете?
Он помолчал, и я ответил за него:
— На кисете вышита буква «К». Значит, имя или фамилия этого солдата начинается на «К». А старшину зовут Дмитрий, фамилия его Бокарев. Так-то вот.
Но на Агапова это не произвело ни малейшего впечатления.
— Это не имеет ровно никакого значения, — объявил он, — вряд ли молодой солдат занимался вышиванием. Вышивала эту букву женщина, та, что подарила ему кисет, и она могла поставить первую букву своего имени: Ксения, Клавдия…
Рассуждал он логично. По всему, неизвестный солдат — это старшина Бокарев. Но кисет, кисет… И один из солдат — Краюшкин. Славик этого не знает и, что самое смешное, не хочет знать. Он интересуется только старшиной. Он настолько убеждён, что это старшина, что даже не спрашивает фамилии остальных. Ну и пожалуйста!
— Так что тебе от меня нужно? — спросил я.
— Мне нужен адрес старшины. Как ты его назвал?
Я повторил:
— Бокарев Дмитрий Васильевич.
Он вынул блокнот, ручку и записал это.
— А адрес?
— Адреса у меня нет.
— Как — нет? Наташа сказала, что есть.
— Я не знаю, что вам сказала Наташа, — я опять перешёл на «вы» и тем самым пригласил и его это сделать, — но у меня их адресов нет. У меня есть только названия населённых пунктов, из которых они в своё время были призваны в ряды Красной Армии.
Так официально я всё это сформулировал.
— Хорошо, — согласился Агапов, — а откуда был призван Бокарев?
— Село Бокари, Красноярского края.
Он записал, потом спросил:
— Точно?
— Не знаю, — усмехнулся я, — я при этом не был. Так значится в справке военного архива.
— Вы можете показать мне эту справку?
Ну вот, наконец он понял, что мне нельзя «тыкать».
Мне не хотелось показывать ему справку. Я даже опасался, что он положит её в карман. От хама всего можно ожидать. Но нет, побоится, нас тут много, а он один.
Я вынес из вагончика список.
Он поднёс его к очкам, взялся за ручку и блокнот. Я думал, он сейчас его перепишет. Но нет, он только сверил со списком свою запись о Бокареве. Запись оказалась правильной, и он вернул мне список. Больше его никто не интересовал. И это понятно. Ведь его не интересовал солдат сам по себе. Для него он был всего лишь исторический персонаж. И этот персонаж, видно, уже готов в его воображении, под это он и подгоняет факты. А может быть, он вовсе не историк Просто легкомысленный, поверхностный человек, организатор всякого рода сенсаций и шумих.
Как бы в подтверждение моих мыслей Агапов сказал:
— Между прочим, установлено: старшина прятался в нашем доме, на сеновале, и, выйдя оттуда, разгромил штаб.
Ах вот оно что! Товарищ Агапов, оказывается, имеет некоторое отношение к подвигу.
Он встал, положил в карман блокнот, сунул авторучку и, обращаясь ко всем и ни к кому, сказал:
— До свидания!
Кто-то из ребят что-то пробормотал в ответ. А кто и ничего не пробормотал. Этот тип всем не понравился.
Только Люда громко и насмешливо произнесла:
— Наше вам сё!
«Сё» обозначало у неё «сердечный привет».
Некоторое время мы сидели молча, потом Юра сказал:
— Ну ты и фрукт!
— Что ты имеешь в виду? — удивился я.
— За этим ездил в Москву?
— Попутно.
— И правильно сделал, — похвалил Андрей.
— А в чём суть? — спросил Виктор Борисович. — Я не всё понял в вашем споре.
Я рассказал и саму историю, и её суть, и почему Славик настаивает на Бокареве, привёл все доказательства «за» и «против» Бокарева, «за» и «против» Краюшкина и Вакулина.
— Всё же самые убедительные доказательства — в пользу старшины, — заметил Виктор Борисович.
Все согласились, что неизвестный солдат, скорее всего, старшина Бокарев. Причём Маврин выдвинул такой аргумент:
— Из этих пяти только он один и мог разгромить штаб. Остальные шоферня — они и гранаты не умеют бросать.
Но все также согласились, что надо точно выяснить и зря молодой Агапов так торопится. В объяснение его торопливости тот же Маврин выдвинул неожиданную версию.
— Выдали они нашего солдата, вот и заметают следы.
— Да нет, — решительно возразил я, — никто никого не выдавал, это вполне порядочные люди, там совсем другое.
Однако нелепое предположение Маврина оказалось предметом нашего спора.
— Всё могло быть, — сказал Андрей, — в войну всё было. На его месте любой бы торопился.
— Я бы не торопился, — возразил я. — Если бы кто-нибудь сказал про моего отца, что он предатель, я бы просто дал этому человеку по морде.
— А если бы к этому были доказательства? — спросил Юра.
— Я бы сказал: пожалуйста, давайте их обсудим, давайте исследуем историю каждого из пяти солдат, чтобы всё было абсолютно ясно. Я бы не торопился.
— А если Славик не верит своей бабушке? — настаивал Юра. — Сейчас она хорошая, а двадцать пять лет назад испугалась немцев. Вот он и не хочет никакого исследования. Хочет доказать, что их солдат разгромил штаб, а потому, значит, они его не выдали.
— Это ты брось! — вмешался Маврин. — Раз выдали немцам нашего солдата, то и нечего защищать.
— Что же ему, родных предавать? — возразил Юра.
При всей нелепости мотива спор начинал приобретать остроту.
Я сказал:
— Отца нельзя предавать. Отцу надо верить.
— Но исторические факты?! — возразил Андрей.
— Я не хочу знать никаких исторических фактов, — закричал я, — сын не может предавать своего отца! Если мы не будем верить в своих отцов, тогда мы ничего не стоим.
— Чего ты кричишь! — сказал Андрей. — Разобраться надо, а ты кричишь. На свете есть подлецы, у подлецов есть дети. Что же этим детям — защищать своих отцов-подлецов?
Вопрос был поставлен коварно. Все смотрели на меня, ждали моего ответа. И во взгляде Люды я заметил что-то такое особенное. Видно, неважно у неё сложилось с родителями.
— Говорите что хотите, — сказал я, — но я убеждён в одном: сын не может быть судьёй своего отца. Если мой отец преступник, я не могу быть его защитником. Но я не могу и быть его обвинителем. Пусть его судит суд, общество, пусть его вина падёт и на меня, и позор пусть падёт на меня. Если я не сумею жить с этим позором, я умру.
— А он дело говорит, — заметил Андрей.
Юра скривил губы:
— В теории всё выглядит красиво.
— Между прочим, — опять сказал я, — эти пять солдат считаются исчезнувшими при загадочных обстоятельствах, по их делу велось следствие. Возможно, их родным сообщили, что они дезертиры. Мы здесь похоронили героя, разгромившего немецкий штаб, а его сын ходит по свету с мыслью, что его отец дезертир. Должен он этому верить? Нет, не должен! Дезертир! Докажите, что он дезертир! Покажите этого дезертира! Где он сейчас? Если мы не верим в своих отцов, то и не должны искать их могил.
Я никогда не произносил таких длинных речей. Но что-то очень возбудило меня в этом разговоре.
Люда встала и, не говоря ни слова, ушла в свой вагончик.
22
Председатель сельсовета шёл по широкой деревенской улице. По обе её стороны стояли большие бревенчатые чёрно-серые избы под тесовыми крышами, кое-где поросшими зелёным мохом.
Село стояло на горе, огороды тянулись по её склону до самого берега, где сушились на подпорках сети, покачивались на воде лодки, привязанные к врытым в землю столбикам.
Могучая река, широко и быстро огибая острова и устремляясь в бесчисленные протоки, несла свои светлые, прозрачные воды. Над рекой нависали высокие скалы, обрывы, усеянные гранитными россыпями, прослоённые бурыми, жёлтыми, серыми известняками, обнажившими первозданное строение земли. За скалами вздымался в гору сплошной, бескрайний, непроходимый лес — тайга.
На лице председателя было важное и озабоченное выражение человека, сознающего и значительность своей должности, и необычность предстоящего дела. И чем ближе подходил он к дому Бокаревой, тем суровее становилось его лицо. Хоть был он молод и председательствовал всего год, он твёрдо усвоил правило: чем сложнее вопрос, тем официальнее надо выглядеть, особенно если имеешь дело с женщиной.
Дом Бокаревой ничем не отличался от других домов в селе: выходил на улицу торцом, окна в резных наличниках, выкрашенных фиолетовой краской, крыльцо во дворе, огороженном плотным забором из вертикально поставленных досок и вымощенном тоже досками, с пустыми надворными постройками и развешанной для сушки рыбой.
И внутри изба эта была такой же, как и другие избы. Большая горница, за ней спальня. В переднем углу божница — полочка с иконами, в другом — угловик с зеркалом и вышитым полотенцем, на стене фотографии, за перегородкой кухня. У печки хлопотала хозяйка Антонина Васильевна Бокарева, маленькая старушка лет семидесяти, а может, и больше.
— Здравствуйте, Антонина Васильевна, — сказал председатель официально и вынул из портфеля бумагу, — письмо получено насчёт сына вашего, Дмитрия.
Антонина Васильевна улыбнулась, подняла палец к уху, показала, что плохо слышит.
Председатель повысил голос, отчего он зазвучал ещё официальнее:
— Нашлась могила, где похоронен сын ваш, Дмитрий.
Она опустилась на скамейку, положила на колени натруженные руки, помолчала, потом спросила:
— Где могилка-то?
Председатель заглянул в письмо:
— Город Корюков. Слыхали?
— Кто нашёл-то?
— Школьники нашли. Запрашивают из газеты: в каком году погиб Бокарев Дмитрий, какие письма с войны от него были?
Антонина Васильевна помолчала, потом дрогнувшим голосом произнесла:
— Вот и нашлась Митина могилка…
Наступила та тягостная минута, которой председатель больше всего опасался: начнутся слёзы, причитания, и никакая тут официальность не поможет, и слова не помогут, потому что слова ещё больше подогревают, и женщины начинают выть в голос.
Выручила соседка, Елизавета Филатовна, бойкая бабёнка из тех, кто первые всё узнают и кому до всего есть дело. Именно за это председатель её не любил, но сейчас был доволен её появлением.
Она вбежала в дом, возбуждённо заговорила:
— Радость-то какая: не раскиданы, значит, по земле его косточки. Уж такое тебе утешение, Васильевна, на старости лет, такое утешение…
Председатель благоразумно отошёл в сторону и стал разглядывать висевшие на стене фотографии.
Он увидел на снимке бравого, щеголеватого старшину с гвардейским значком на груди и медалью «За отвагу», с широким командирским ремнём и портупеей через плечо. Это и был пропавший без вести почти тридцать лет назад сын хозяйки — Дмитрий Бокарев. Был он на снимке одних лет с председателем.
— Орёл, чистый орёл, — говорила между тем соседка Елизавета Филатовна, — смелый был, рисковый. Ещё в мальчишках с отцом на медведя ходил. Я, бывало, говорю ему: «Митенька, малой ты ещё в лес-то ходить». А он на меня этак-то посмотрит, отвернётся: не встревай, мол, баба, не в своё дело.
Антонина Васильевна не голосила, не причитала, не плакала, сидела, сложив на коленях натруженные руки, молча слушала соседку.
А та продолжала возбуждённо:
— Потом сам белку добывал. А уж из лесу придёт, все девки его. Парень видный, бравый.
Председатель обвёл избу задумчивым взглядом человека, которому что-то открылось. Что именно открылось, он не мог сказать, но что-то было особенное в этом молодом, юном лице бравого старшины, пропавшего без вести в войну, почти тридцать лет назад, в скорбном молчании его матери, только теперь узнавшей, что нашлась его безвестная могила.
— Вам, может, надо чего? — спросил он. — Может, крышу покрыть?
Из-за его спины Елизавета Филатовна сделала знак Антонине Васильевне: проси, мол, пользуйся случаем.
— Постоит ещё крыша, — тихо ответила Антонина Васильевна.
Соседка с досадой передёрнула плечами: не воспользовалась, старая… Заискивающе улыбаясь, сказала:
— Ограду бы надо поправить.
Председатель вопросительно посмотрел на Бокареву.
— Ничего не надо, всё есть, — по-прежнему тихо ответила Антонина Васильевна.
Соседка сменила разговор:
— Карточку небось с могилки пришлют.
— Всё, что положено, сделают, — опять входя в свою должностную роль, объявил председатель официально.
— Как же разыскали его могилку-то? — спросила Елизавета Филатовна.
— Нашлись добрые люди, разыскали, — сказала Антонина Васильевна.
23
Они далеко углубились в пшеницу, когда услышали рёв самолётов — немцы бомбили пустую МТС.
Самодельные носилки с Вакулиным были тяжелы. В Корюков они пришли уже затемно.
В крайнем доме горел свет. Бокарев сильно и требовательно постучал в дверь. Её открыл сухощавый мужчина лет сорока, с встревоженным и угрюмым лицом.
Они внесли Вакулина, положили на диван.
Хозяин молча смотрел на них.
— Госпиталь далеко? — спросил Бокарев.
— В школе был, — ответил хозяин, — сейчас не знаю.
— Почему не знаете?
— Наши сегодня ушли.
— Так, — пробормотал Бокарев, — ладно, разыщем: может, остался кто. А раненый пусть у вас пока полежит. Скоро вернёмся, заберём. Как ваша фамилия?
— Михеев.
— Посмотрите за раненым, накормите, подушку дайте, — приказал Бокарев и наклонился к Вакулину: — Ваня, ты как?
— Ничего, — слабо улыбнулся Вакулин, — я идти могу.
Он сделал попытку подняться.
— Лежи! — приказал Бокарев. — Без меня никуда!
Он подозрительно осмотрел комнату, спросил хозяина:
— Кто ещё в доме?
— Семья… Жена, дети.
— Сам почему не в армии?
— Освобождён по болезни.
Бокарев опять подозрительно осмотрелся вокруг, открыл дверь в соседнюю комнату — там на кроватях спали дети.
Бокарев положил рядом с Вакулиным трофейный автомат, выразительно посмотрел на хозяина, спросил:
— Как пройти к госпиталю?
— А вот проулком на соседнюю улицу, там и школа.
Бокарев и Краюшкин свернули в переулок и вышли на длинную, видно главную, улицу. В середине её высилось двухэтажное кирпичное здание школы.
Здание было пусто, окна открыты, ветер шевелил синие полосы оборванной маскировки, на полу валялась бумага, обрывки бинтов, стоял запах йода, карболки — медсанбат ушёл.
— Не миновать мне штрафной роты, — мрачно проговорил Бокарев.
— В чём твоя вина? — возразил Краюшкин.
— Потерял людей, значит, виноват, — сказал Бокарев. — Ладно! Где-нибудь переночуем, утром мобилизуем подводу, заберём Вакулина и будем догонять своих.
Тусклый свет коптилки освещал стол, за которым сидели Бокарев, Краюшкин, хозяйка дома — Агапова, средних лет женщина, и её дочь — девочка лет двенадцати. Бокарев дремал, положив голову на сложенные на столе руки.
Колыхалось неровное пламя, вырывало из темноты лица сидящих за столом, а иногда и кусок стены, где висела фотография человека в кавалерийской форме рядом с конём, которого он держал за повод.
Девочка делала уроки.
— Школы нет, — вздохнула Агапова, — а заниматься нужно.
— Это уж обязательно, — поддакнул Краюшкин, — образование — оно требует системы.
— Не встречался ли вам Агапов Сергей Владимирович? Давно ничего нет от него.
— Был у нас один Агапов, — сказал Краюшкин и посмотрел на девочку, — точь-в-точь один портрет.
— Он конник.
Бокарев оторвал голову от стола:
— Конник — это другой род войск. Подвижные части.
— Как в песне-то поётся, — подхватил Краюшкин, — «нынче здесь, а завтра там». По себе знаю: получать письма — это мы любим, а отвечать — недосуг. Да и о чём писать? Война кругом — одно расстройство. Кончится — тогда наговоримся.
— Как для кого она кончится, — вздохнула Агапова.
— Дело известное, — согласился Краюшкин, — у кого грудь в крестах, у кого голова в кустах.
Краюшкин через плечо девочки заглянул в учебник: там были нарисованы хрестоматийные дома, сады, реки, лошади, коровы. Потрогал карандаш, понюхал промокашку.
— У моих ребят точно такой учебник был и карандаш, и промокашка вот точно так же пахла — чернилами. Есть у тебя ещё такая?
— Есть, новая.
— Новую ты себе оставь, а мне эту отдай, — попросил Краюшкин.
— Берите.
Краюшкин понюхал промокашку, свернул, положил в карман вместе с фотографией, где были сняты впятером: он, Бокарев, Вакулин, Лыков и Огородников.
— Зачем она тебе? — спросил Бокарев.
— На память, ребятишками пахнет, — улыбнулся Краюшкин.
Вакулин лежал на диване в доме Михеева. Он старался лежать неподвижно — тогда казалось, что не так болит: болело только при движении, а так он ощущал равномерные толчки и думал, что внутри у него, наверно, нарывает.
Он думал и о том, что ему не следовало переползать на новое место. Когда он менял точку стрельбы, в него и попала нуля, и пуля эта, наверно, в животе, а может, и прошла навылет. Он больше склонялся к тому, что пуля в животе: он чувствовал там что-то острое и колющее, особенно при движении.
Он не засыпал, дожидаясь Бокарева и Краюшкина. Если медсанбат ушёл, они найдут врача: старшина молодец, он и врача достанет и сделает всё, что требуется.
Вспомнилась ему Нюра — первая в его жизни девчонка; вот так встретилась, и странно всё получилось. Потом вспомнил Рязань, Рюмину рощу, куда ходили они гулять летом, городской сад, и Оку, и Солотчу, куда ездили в воскресенье на машинах, и гараж в бывшей церкви возле старого базара. И опять вспоминал Нюру, её горячие худые руки…
Он проснулся от чьего-то прикосновения. Перед ним в белье стоял хозяин.
— Немцы, слышишь, солдат?
Вакулин отчётливо услышал грохот танков. Сквозь прорези ставен уже пробивался первый утренний свет.
Дверь в спальню была открыта, и Вакулин увидал на кровати две детские головки: дети со страхом смотрели на него.
— Уходить надо, солдат, — тихо, но спокойно, твёрдо и рассудительно сказал Михеев, — немцы тебя убьют: зачем ты им такой, раненный?! А мне и детишкам — расстрел за укрывательство. Ни тебе это не надо, ни мне. Я тебя на зады выведу, балкой уйдёшь, там карьеры старые, а потом лес. Трудно тебе идти, а всё-таки — шанс, спасёшься!
Вакулин приподнялся.
Кольнула острая боль, бинты нестерпимо жали; хотелось их сорвать — срывать нельзя.
Михеев помог ему подняться, набросил автомат на плечо, сунул в руку палку, вывел в сад; поддерживая, подвёл к калитке. Вакулин ковылял, опираясь на палку и на плечо Михеева. Он чувствовал всё ту же острую, колющую боль, но превозмогал её, возбуждённый грохотом танков на соседней улице.
Михеев осторожно приоткрыл калитку, выглянул на улицу, показал:
— Чуть по улице пройдёшь, сворачивай налево, выходи на зады, а там балкой до леса.
Вакулин заковылял по улице.
Михеев прикрыл калитку и смотрел сквозь щёлку.
Он увидел в конце улицы немецкие бронеавтомобили. Они шли быстро, ревели моторами.
Вакулин успел только оглянуться, прижаться к забору, не успел даже поднять автомата — огонь с бронетранспортёра скосил его.
Так он и остался лежать у забора.
Осторожно ступая, нагнувшись, пролезая под яблонями, Михеев пошёл к дому.
Бокарев отодвинул занавеску и увидел немецкие танки. Краюшкин поспешно надевал шинель. Агапова в халате стояла в дверях, прислушиваясь к лязгу и грохоту на дороге.
— Может быть, вам на чердаке спрятаться, — сказала она, — у нас есть ещё подпол, под кухней, он сухой.
— Куда зады выходят? — вместо ответа спросил Бокарев.
— На соседнюю улицу.
Бокарев выбежал во двор, заглянул в щель забора, увидел бронетранспортёры, услышал автоматную очередь. Краюшкин вопросительно смотрел на него.
Быстрым взглядом Бокарев обвёл двор.
Ворота сарая были открыты, внутри под крышей виднелся сеновал.
Они взобрались туда и зарылись в сено…
24
Меня вызвали в контору.
Перед Вороновым лежала пачка писем. Он кивнул на них:
— Тебе.
Я протянул руку:
— Спасибо.
— Секретность переписки гарантируется Конституцией, — сказал Воронов. — И я не касаюсь твоей корреспонденции. Но на всех конвертах штамп — военкомат, вот, пожалуйста: Рязанский, Ленинградский, Красноярский, Псковский, Саратовский. Ты что, продолжаешь?
— Продолжаю.
— Ну продолжай, продолжай…
— Он это делает в нерабочее время, — заметил инженер Виктор Борисович, — его личное дело.
— Нет, — ответил Воронов, — нерабочее время — это не только личное дело. Вчера Маврин в нерабочее время учинил в деревне скандал, а спрашивают с меня: завалил политико-воспитательную работу, снял с себя ответственность за моральное состояние коллектива. Вот вы, Виктор Борисович, например, считаете возможным в нерабочее время выпивать с молодёжью, а я считаю, что неправильно делаете — забываете о престиже руководства.
— Мы очень уважаем Виктора Борисовича… — объявила Люда.
— Ты хоть помолчи, — оборвал её Воронов, — все стали умные, не участок, а симпозиум. Здесь не только наша работа, здесь и наш дом. Это на шоколадной фабрике человек отработал свои восемь часов, потом уехал домой и выкаблучивает там что хочет. Здесь мы все на виду.
— Я ничего предосудительного не делаю, — заметил я.
— А я разве тебя в чём-нибудь обвиняю? — возразил Воронов. — Занимайся чем хочешь, твоё дело. Но чтобы не в ущерб производству.
— Какой может быть ущерб производству? — удивился я.
— Какой, я не знаю, а вот чтобы не было ущерба. Работу свою ты должен выполнять, и точка.
— Всё выполняю, и точка, — ответил я.
Что же было в письмах?
Из Ленинграда: никаких сведений об Огородникове или о его родных не имеется.
Из Пскова: Краюшкин пропал без вести в 1942 году. В Пскове проживает его сын — Краюшкин Валерий Петрович, адрес такой-то.
Из Пугачевска: по сведениям военкомата, родные Лыкова в Пугачёвском районе не проживают.
Из Рязани: Вакулин пропал без вести в 1942-м. В Рязани проживают его отец, мать и сестра.
Из Красноярского края: старшина Бокарев числится пропавшим без вести с 1942 года. В селе Бокари проживает его мать, гражданка Бокарева Антонина Васильевна.
Живого свидетеля не будет.
25
У нас в классе учился парень, Кулешов Вовка, сын известного профессора. У них в квартире всегда попахивало не то больницей, не то аптекой, хотя Вовкин отец дома больных не принимал, был к тому же психиатр, а в психиатрии лекарства не применяются. Впрочем, может быть, и применяются. На маминых таблетках от бессонницы написано, что они положительно действуют на психику.
Пахло медициной и в квартире Краюшкиных. Квартира отвечала бы самым высоким современным московским кондициям, если бы не тома «Всемирной литературы», которую выпускают, как мне кажется, для украшения жилищ.
Эти ровные ряды одинаковых толстых томов! Это же не энциклопедия, не специальные словари или справочники. Под одинаковыми обложками Гомер и Чехов, Теккерей и Есенин, Пушкин и Хемингуэй. И вообще не может быть стандартной библиотеки. Библиотеку человек должен создавать по своему вкусу.
Валерия Петровича Краюшкина дома не было. Меня встретила его дочь — Зоя, высокая девушка в очках, по виду заядлая интеллектуалка. И конечно, чересчур модерновая. Как все такие интеллектуалки в очках, модерновостью они прикрывают недостатки своей внешности. У неё были длинные худые ноги, и мини-юбка ей совсем не шла.
Я посмотрел на неё, прикинул и сказал:
— Я по поводу вашего дедушки.
— А… — протянула Зоя, — папе звонили откуда-то, из военкомата, кажется. Его нет дома. Хотите — подождите. Он скоро придёт.
Мы прошли в столовую.
Зоя бесцеремонно разглядывала меня.
— А зачем вам нужен мой дед?
— Выясняем: его могила или не его.
— А какая разница? — насмешливо спросила Зоя. — Дедушке это теперь безразлично.
— А вам?
— Мне? — Она пожала плечами. — Мне, например, всё равно, где меня похоронят. Пусть лучше сожгут!.. Могилы! Что в них толку? Зарастут травой, и всё.
— Зарастут, — согласился я, — если за ними не ухаживать.
— А вы знаете, что велел сделать Энгельс?
— Что?
— Он велел после своей смерти сжечь себя, а прах развеять в море.
— Где вы учитесь? — спросил я.
— На медицинском.
— А… — протянул я.
Потом сказал:
— Это личное дело Энгельса. Маркс, например, такого распоряжения не давал.
Зое нечего было на это возразить.
— А как звали вашего деда? — спросил я.
— Деда?.. Папу зовут Валерий Петрович, значит, его звали Пётр.
— А отчество?
Зоя сморщила лицо и развела руками — она не знала.
— Запинаетесь, — констатировал я. — «Уважение к минувшему — вот черта, отличающая образованность от дикости». Пушкин.
Она помолчала, потом спросила:
— А вы где учитесь?
— На филологическом, — ответил я.
Пришёл Валерий Петрович Краюшкин, и мы перешли в кабинет. Он был обставлен тяжёлой гарнитурной мебелью, но в книжных шкафах было несколько оживлённее — по-видимому, медицинские книги выпускаются не так стандартно, как «Библиотека всемирной литературы».
Валерий Петрович был среднего роста, плотный мужчина, с белыми, чистыми руками врача.
Кроме большого письменного полированного стола, в углу стоял круглый журнальный столик. Вокруг него в креслах мы и расселись.
Я протянул Валерию Петровичу фотографию.
Он посмотрел на неё, потом поднял глаза на меня:
— Да, это мой отец.
— Дай мне, папа, — попросила Зоя.
Она рассмотрела фотографию:
— Кто же мой дедушка?
Валерий Петрович показал ей Краюшкина.
— Ему здесь столько же лет, сколько тебе сейчас, — заметила Зоя.
— Да, по-видимому, — подтвердил Валерий Петрович, расхаживая по комнате.
— Но выглядит он старше, — продолжала Зоя.
Валерий Петрович ничего ей не ответил, остановился против меня:
— Значит, при нём не было никаких документов? Как же вы узнали?
— Узнали, — коротко ответил я. Не буду же я повторять историю розысков: теперь это уже неинтересно.
— Да, да, конечно, — сказал Валерий Петрович, — военные архивы, однополчане, понимаю, понимаю…
— Дело несложное, — согласился я.
Зоя внимательно посмотрела на меня. Уловила в моём голосе иронию. Меня её взгляд не смутил. Ведь она не придаёт всему этому никакого значения.
— Мы тоже узнавали, — сказал Валерий Петрович, — но нам ответили: пропал без вести.
Теперь Зоя смотрела на него. Ей не понравилось то, что он оправдывается передо мной. А может быть, посчитала его оправдания неубедительными. Действительно, ему не следовало оправдываться. Это звучало неуклюже.
Я спросил:
— Когда было последнее письмо от вашего отца?
— Осенью сорок второго года, — ответил Валерий Петрович. — Вообще отец писал редко, особенно не расписывался, он был простой шофёр.
В его голосе звучала привычная нотка гордости за то, что его отец простой шофёр, а вот он, его сын, — врач, и, по-видимому, крупный врач.
— Это точно? — переспросил я. — Последнее письмо от вашего отца было осенью сорок второго года? Больше писем не было?
— Именно так, — подтвердил Валерий Петрович, — осенью сорок второго года. Больше писем не было.
— Оно есть у вас?
— К сожалению, нет, — ответил Валерий Петрович, — затерялось со всеми этими переездами. Фотографии отца сохранились.
Он вытянул нижний ящик письменного стола, вынул альбом с фотографиями, осторожно перелистал тяжёлые страницы со вставленными в них фотокарточками, наконец, нашёл то, что искал, и протянул мне.
На старом довоенном фото были изображены молодой Краюшкин и его жена, простая, миловидная и смышлёная женщина.
Пока я рассматривал фото, Валерий Петрович говорил:
— Собирался я его увеличить, повесить. Но жена говорит, что сейчас фотографии на стены не вешают, только картины. — Он обвёл рукой стены: там действительно висели какие-то картинки. — Говорит, неприлично выставлять на обозрение своих родственников. Может быть, это так, может быть, не так — не знаю.
Зоя сидела с нахмуренным лицом.
— Скажите, — спросил я, — ваш отец курил?
— Курил. А что?
— Да так…
Значит, кисет мог быть его.
— Есть какие-то неясности? — спросил Валерий Петрович.
— Видите ли, — ответил я, — один наш солдат разгромил немецкий штаб. И мы не знаем, кто это сделал: ваш отец или кто-нибудь другой.
Валерий Петрович развёл руками, улыбнулся:
— Он был тихий, скромный человек. Штаб разгромить — значит, очень уж рассердили его немцы… Он был добрый, любил детей. Покойная моя мама рассказывала: когда отец уходил на войну, он взял на память о нас, о сыновьях — у меня ещё есть старший брат, — так вот отец взял на память нашу игрушку.
Я чуть не встал даже, но удержался.
— Какую игрушку?
— Что-то из детского лото. Знаете, есть такое детское лото: большая карта с картинками и маленькие картонки. На них обычно изображаются звери, птицы. Вот одну такую он взял.
— Вы не помните, какую именно?
— Не помню и не могу помнить: мне тогда было двенадцать лет.
Всё или почти всё было для меня ясно.
Я посмотрел на часы, встал:
— Извините, мне пора.
— Оставайтесь у нас обедать, — предложил Валерий Петрович.
— Спасибо, надо ехать, в семь часов поезд.
— Ну что ж, — Валерий Петрович протянул мне руку, — рад был с вами познакомиться.
Потом он спохватился и, смущаясь, спросил:
— Может быть, нужны деньги на памятник?
— Нет, всё уже сделано. До свидания.
Я повернулся к Зое, кивнул и ей:
— До свидания!
Она встала:
— Я вас провожу.
Облокотившись о перила, мы стояли с ней на деревянном пешеходном мосту, перекинутом через железнодорожные пути, и смотрели на движущиеся под нами поезда.
— У папы масса работы, — сказала Зоя, — он такой затурканный. Потом, мама — для неё дедушка чужой человек.
Что я мог ей ответить?
— Вы думаете, что неизвестный солдат — мой дед?
— Надо ещё кое-что выяснить.
— Я могу чем-нибудь помочь?
— Нет, ничем.
— Когда всё выяснится, вы нам напишете?
— Напишу.
Я посмотрел на большие перронные часы — сейчас подойдёт поезд. Я попрощался с Зоей и побежал вниз по лестнице. На перроне я оглянулся. Зоя стояла на мосту и смотрела на меня.
26
Будь здесь другое расписание поездов, моя поездка к Краюшкиным заняла бы одно воскресенье. Но прямого поезда Корюков — Псков нет. Некоторые поезда вообще в Корюкове не останавливаются.
Я вернулся только в понедельник.
И всё равно Воронов ничего бы не узнал. Мы работали на другом конце трассы, никто из ребят меня бы не продал, тем более механик Сидоров. Как бывший фронтовик, он отнёсся к моей поездке сочувственно.
Но в понедельник женская бригада работала на щебне; испортился механизм, долго не присылали слесаря. Мария Лаврентьевна пожаловалась Воронову. Воронов начал выяснять, почему нет слесаря; пошла раскручиваться верёвочка, и на конце её оказался я, моё отсутствие, мой прогул.
Узнав, что какой-то слесаришка прогулял, Мария Лаврентьевна учинила такое, чего ещё не учиняла, выдала и Сидорову, и Воронову, и инженеру Виктору Борисовичу. При всём моём уважении к трудящимся женщинам не могу не отметить, что они иногда бывают поразительно скандальны на работе.
Результатом была выволочка, которую устроил мне Воронов. Публично, в столовой, за ужином, чтобы мой прогул послужил для всех уроком. Провёл на моём примере широкое воспитательное мероприятие.
Некоторые ещё ужинали, другие играли в домино, в шашки и шахматы. Мария Лаврентьевна гладила бельё.
Мы сидели за столом в обычном составе: Юра, Андрей, Люда и я. Маврин был в очередном галантном походе. За соседним столом сидели Воронов и инженер Виктор Борисович.
Я знал, что Воронов устроит мне выволочку, ждал. Но Воронов тянул, нагонял на меня страху.
Наконец он подозвал меня. Я подошёл. В столовой стало тихо.
— Исчезаешь, начал Воронов, — а работать кто будет?
Я молчал.
— Два часа бригада простояла. За чей счёт отнести?
Я мог бы ответить, что бригада простояла вовсе не потому, что я уехал. Если бы я был на участке, она всё равно бы простояла, пока я приехал бы с другого конца трассы. Чтобы механизмы не ломались, надо делать профилактический ремонт своевременно, а не дожидаться, пока механизм выйдет из строя. И надо держать дежурных слесарей на основных пунктах трассы об этом уже говорилось на производственных совещаниях.
Я мог бы ему это сказать. Но не сказал: прогулял, а теперь, видите ли, защищаю интересы производства. Получилось бы спекулятивно.
— Бегаешь! — продолжал Воронов. — А перед получкой ко мне прибежишь: выведи мне, товарищ Воронов, зарплату. Нет, извините, я за тебя идти под суд но намерен. Человек должен выполнять свои обязанности. А личные дела в нерабочее время.
Тут уж я был вынужден ответить:
— Это не совсем личное дело.
— Да, узнавал насчёт солдата, знаю. Но я тебя предупреждал: не в ущерб производству. Теперь понял, почему я тебя предупреждал?
— Понял, ответил я.
— Я ведь знаю, с чего начинается и чем кончается. Это для тебя первая могила, а на моём пути их встречалось знаешь сколько?.. Сегодня ты поехал насчёт этого солдата, завтра вон Юра насчёт другого, потом и Андрей воодушевится, а там и Люда не захочет отставать… А кто дорогу будет строить?
Так он выговаривал мне и выговаривал.
Все молча слушали.
Мария Лаврентьевна гладила бельё и тоже слушала. Слушали и те, кто играл в шашки и шахматы. Те, кто играл в домино, не стучали костяшками. И никто не вступился за меня, не защищал: считали, что Воронов прав, а я неправ. В их молчании была даже враждебность: явился мальчишка, сопляк, ничего не умеет делать, а высовывается, то уезжает, то приезжает, больше всех ему надо.
— У тебя уже была одна самоволка, — продолжал Воронов безжалостно, — за носочками, за шарфиком в Москву отправился; вернулся — простили: работай, оправдай доверие. Вон люди по пятнадцать лет у нас работают, а спроси, хоть раз прогуляли, убегали за носочками?
Воронов замолчал, приглашая меня спросить у присутствующих, поступали ли они так, как поступил я.
Я, естественно, не спросил.
— Мы своё дело сделали: могилу перенесли, документы сдали, обелиск поставили. Невидный обелиск, согласен, но от души, от сердца поставили. Чего же ты теперь хочешь? Хочешь доказать, что мы не так всё сделали? Мы не сделали, а ты вот сделаешь? Это ты хочешь доказать?
Это был удар ниже пояса, такое могло вообразиться только самому инквизиторскому уму.
— Я ничего не хочу доказать, — возразил я, — просто хочу узнать имя солдата.
— А для этого, дорогой мой, — проговорил Воронов торжествующе, будто поймал меня на самом главном, — а для этого есть соответствующие организации. Ты что же, им не доверяешь? Думаешь, они не будут заниматься? Думаешь, они бросят? Только ты один такой сознательный? Не беспокойся, есть кому подумать, есть кому позаботиться.
Инженер Виктор Борисович сидел за одним столом с Вороновым, опираясь на палку, с поникшей головой. Было непонятно, слушает он Воронова или не слушает.
Оказалось, слушает.
Он поднял голову.
— А кто должен думать о наших могилах? Разве не наши дети?
Воронов от неожиданности даже поперхнулся, потом развёл руками:
— Ну, знаете… Мы не можем…
— Нет, уж извините, — перебил его Виктор Борисович, — уж позвольте мне сказать. Вот вы говорите: дорогу надо строить. Да, надо. Только если дети перестанут о нас думать, тогда и дороги не нужны. По этим дорогам люди должны ездить. Люди!
Воронов мрачно помолчал, потом ответил:
— Да, люди, А чтобы стать людьми, надо чему-то научиться в жизни, научиться работать, проникнуться сознательным отношением. Человеком стать!
— Вот именно: человеком! — подхватил Виктор Борисович. — Именно человеком! А то мы всё говорим: «Человек с большой буквы», только эту большую букву понимаем как прописную… — Виктор Борисович начертил пальцем на столе большую букву «Ч». — Нет, это не прописная буква. Это то, что зарождается в таком вот Серёжке. И сохранить такое чувство в мальчишке — ценнее всего. Вы уж извините меня! Вот таким бы хотелось видеть настоящего руководителя.
С этими словами он встал и вышел из шатра. Даже шляпу забыл на столе.
Наступило тягостное молчание.
Только было слышно, как Мария Лаврентьевна брызжет воду на бельё.
Ситуация получилась дай бог!
Мало того, что я прогулял день. Мало того, что по моей якобы вине два часа простояла бригада. По моей вине теперь в отряде возник конфликт. И где? Внутри руководства! На глазах у всего коллектива инженер обвинил начальника участка в неумении руководить людьми. Воронов этого не простит. Может, инженеру и простит — как-никак его заместитель всё-таки. Но мне не простит никогда.
Обращаясь к шляпе Виктора Борисовича, Воронов сказал:
— Вот к чему приводят совместные выпивки с молодёжью.
Этим он как бы объяснил мотивы поведения инженера.
Мне стало ясно, что с инженером он помирится, а мне на участке не работать.
На практике, на автобазе, у меня тоже получилось нечто вроде конфликта с коллективом, потом всё сгладилось: я был там человек временный, к тому же школьник, практикант.
Здесь я не школьник, не практикант, здесь я рабочий и должен быть таким, как все рабочие. А я делал что-то не так, хотя, в сущности, ничего плохого не делал. Меня заинтересовала судьба солдата, захотелось узнать, кто он, разгадать эту тайну. Производство — не место для разгадывания тайн. Но ведь это не простая тайна. Это неизвестный солдат! Даже Мария Лаврентьевна плакала, когда мы переносили его останки, когда вкапывали колышки и набивали штакетник. А теперь она устроила мне этот камуфлет, спокойно гладит бельё и с видимым удовольствием слушает, как Воронов драит меня.
Я посмотрел на этих людей, расположения которых мне не удалось добиться. Я не нашёл дороги к их сердцу оказался здесь чужим и ненужным. Очень жаль. Мне эти люди были чем-то близки, а я вот им — нет. Ну что ж, ничего не поделаешь.
— Дошло наконец до тебя? — спросил Воронов.
— Дошло.
— Намерен ты работать, как положено сознательному, передовому рабочему?
— Намерен, — ответил я. — И всё же я разыщу этого солдата.
Мы вернулись в вагончик: я, Юра и Андрей.
Мы всегда утешали друг друга при всякого рода неприятностях. При столкновении с начальством утешение заключалось в том, чтобы не придавать этим столкновениям никакого значения.
— Плюнь! — сказал Андрей. — Близко к сердцу надо принимать только неправильно выведенную зарплату. А на выговора, внушения, выволочки не следует обращать внимания. — Он улёгся на койку, взял в руки Ключевского и погрузился в русскую историю.
Однако Юра утешил меня совсем по-другому:
— Плюнь, конечно. Но если без дураков, то Воронов прав. Работать надо, вкалывать! Человек существует, пока работает, действует.
— Свежие мысли, — заметил Андрей, не отрываясь от книги.
— Свежие мысли высказывают философы, и то не слишком часто, — возразил Юра, — я говорю то, что думаю. У меня в войну погибли дед, и дядя, и ещё дядя. Что же мне теперь делать? Бегать по свету, искать их могилы?
— Не мешало бы, — заметил я.
— Юра, не заводись, — сказал Андрей, — Серёже и так уже попало.
— Я ничего особенного не говорю, — усмехнулся Юра, — просто высказываюсь по поводу происшедшего. Я Серёге сочувствую, готов его защищать, но между собой мы можем говорить откровенно. Не надо обижаться на Воронова: правда на его стороне.
На это я ответил:
— Воронова я понимаю до некоторой степени. Он руководитель, администратор, должен держать участок в руках, хотя в данном случае он и неправ. Меня удивляет другое: почему все против меня? Только Виктор Борисович заступился. Что я плохого сделал?
— Могу тебе объяснить, если хочешь, — с готовностью ответил Юра.
— Очень хочу.
— Пожалуйста, только не обижайся. Всем жалко солдата. Однако никто его не ищет, каждый занят своим делом, работой, жизнью. А вот ты ищешь, ездишь, хлопочешь. Выходит, ты добрый, гуманный, человечный. А мы — варвары! Нет, извини, друг, мы не варвары! Мы — работники! Вот мы кто — работники! А тот, кто не умеет работать и не хочет работать, вот на таких штуках и высовывается. Работу показать не можем, так хоть могилками возьмём.
Я впервые в жизни стал заикаться…
— А-а, т-ты, пп-п-подлец!
Юра встал, подошёл ко мне:
— Что ты сказал? Повтори!
Я тоже встал.
Мы стояли друг против друга.
Андрей отстранил книгу и с интересом смотрел на нас.
— Повторить? — переспросил я.
— Вот именно, повтори, — угрожающе попросил Юра.
Юра кое-что знал обо мне, но не всё. Например, что мой лучший друг Костя — боксёр. И кое-чему меня научил.
Теперь Юра узнал это.
Андрей деловито спросил:
— Какой разряд имеем?
Я опустился на койку, руки у меня дрожали. Впервые в жизни я по-настоящему ударил человека.
27
— Слыхали, дом продаёте? — спросил покупатель.
Антонина Васильевна улыбнулась, подняла палец к уху, показала, что плохо слышит.
Соседка, Елизавета Филатовна, громко объяснила:
— Насчёт дома спрашивают — как, продаёшь?
— Продаю, продаю, — кивнула головой Антонина Васильевна.
— Переселяетесь?
— Уезжаю.
Покупатель оценивающим взглядом осмотрел избу.
— Далеко?
— В самую Россию, город Корюков, слыхали?
— Нет, однако, не слыхал.
Покупатель обошёл дом, заглянул в спальню, потрогал стены:
— Дом-то кому принадлежит?
Антонина Васильевна недоуменно посмотрела на него:
— Кому… Мой он, дом-то.
— Они спрашивают, на кого дом записан, — объяснила соседка, — беспокоятся: купят, а потом наследники или ещё кто объявится.
— Нету у меня наследников, — ответила Антонина Васильевна, — я в войну и мужа и сына потеряла. Одинокая я. Вот к сыну еду. Пропал безвестно в войну, а теперь нашлась его могилка. К ней и еду.
— Далеко ехать-то, — заметил покупатель.
— Далеко, — согласилась Антонина Васильевна, — я-то ведь дальше околицы не ездила. И не ехать нельзя. Сколько лет ждала: не мог он безвестно пропасть. Теперь хоть поживу возле его могилки.
— Поживи, Васильевна, да возвращайся, — сочувственно сказала соседка, — как её начинать, жизнь, на новом месте?
Покупатель кинул на неё недовольный взгляд:
— Это уж, как говорится, хозяйское дело: где жизнь начинать, где её, как говорится, кончать.
— Сколько мне жить-то осталось, — вздохнула Антонина Васильевна, — вот и поживу возле сыночка своего дорогого.
Соседка растроганно смотрела на неё.
— Поветшала изба-то, — сказал покупатель, оглядывая стены, — не содержалась. Дом-то, он мужской руки требует.
— Это верно, — согласилась Антонина Васильевна, — не было мужчины в доме, чего не было, того не было.
— Ему бы ремонтик, тогда и цену подходящую можно бы назвать, — сказал покупатель.
— На ремонт деньги нужны, — возразила Антонина Васильевна, — а где их взять?
— Вам, как матери героя, колхоз должен помочь, сельсовет, — наставительно проговорил покупатель.
— Ей уж предлагали, — вмешалась соседка, — отказалась.
— Зря отказалась, — заметил покупатель.
— Нет уж, — возразила Антонина Васильевна, — какой есть, такой покупайте. Я за дом деньги беру, не за сына. Сыну моему цепы нет.
28
Сеновал был низкий, только в самой середине его, под коньком пологой крыши, можно было стоять на четвереньках. Задний торец был забит косо срезанными дощечками. Всё добротное, крепкое, нигде ни щели; сено свежее, недавно убранное, хорошо высушенное, пахнущее осенью и сухим тополиным листом.
Через неприкрытые ворота были видны двор и кусок улицы. По ней проносились легковые машины, останавливались у домов, из чего Бокарев заключил, что на улице разместится штаб. Тогда жителей повыгоняют, а дома и строения прочешут.
Предположения его оправдались.
Появились квартирьеры, и вскоре из дома вышла хозяйка с дочкой — несли узел и корзину.
— Давай, матка, шнель! — торопил их квартирьер.
По улице шли женщины, старики, дети, тащили вещи на себе, везли на тележках, на колясках. Жителей выселяли.
Квартирьеры вошли во двор, осмотрели, открыли сарай, дали автоматную очередь и ушли, оставив ворота открытыми.
— Будто ногу задело, — прошептал Краюшкин.
— Ну и неловок ты, отец, — пробормотал Бокарев.
— Немец ловок, — морщась, ответил Краюшкин.
Бокарев стащил с Краюшкина сапог, осмотрел рану:
— Кость цела.
— Капельное дело, — согласился Краюшкин.
Пакет они израсходовали на Вакулина. От кальсон Краюшкина Бокарев оторвал кусок, перевязал рану, сделал жгут, перетянул повыше колена. Тряпка набухла кровью.
— Лежи, не двигайся, ночью уйдём.
Бокарев подполз к краю сеновала, чуть разгрёб сено, вгляделся в улицу.
Легковые машины останавливались у домов; денщики таскали чемоданы, готовили жильё для офицеров, связисты тянули шнур — в школе разместился штаб.
Во двор въехал «оппель-капитан»; в дом прошёл офицер; следом за ним шофёр потащил чемоданы.
Потом шофёр вернулся, поставил машину ближе к сараю, передом на выезд, и опять ушёл в дом.
— Машину угнать… — прошептал Бокарев.
— Можно бы, — согласился Краюшкин.
— Ночью посмотрим, — сказал Бокарев.
— Стукнешь дверцей — они и услышат: днём посмотри, как обедать уйдут.
Бокарев не любил советов, но совет был правильный.
День тянулся томительно долго, но Бокарев не уходил со своего поста, высматривал улицу зорким глазом. Офицер ушёл в штаб. Шофёр, пожилой, сухопарый немец с мрачным лицом, то выходил во двор, то возвращался в дом; вынес матрац, перину, повесил их на верёвки — приводил в порядок жильё. Аккуратно устраиваются.
Наконец денщик вышел из дома с судками, отправился в кухню за обедом.
Бокарев спустился с сеновала, заглянул в машину — в щитке торчал ключ зажигания.
Потом он подошёл к забору, нашёл щель между досками, но через неё ничего не было видно; он пошевелил доску — она не тронулась с места.
Он подошёл к калитке, постоял, прислушался, тихонько открыл её, стал сбоку, посмотрел на улицу. В конце её уже был шлагбаум, возле него стоял часовой.
Он зашёл с другой стороны калитки — на другом конце улицы тоже шлагбаум. У школы и у домов стояли легковые машины.
Бокарев прикрыл калитку, вернулся на сеновал.
— Не получится с машиной: шлагбаумы по обе стороны. — Он кивнул на ногу Краюшкина. — Дойдёшь? Нам только до леса добраться.
— Не знаю, однако, — неуверенно ответил Краюшкин. — Может, тебе лучше одному уйти?
— В плен захотелось?!
— Зря говоришь, — возразил Краюшкин. — С этой ногой я буду тебе в тягость. Пережду. Долго ли они здесь будут?
— Не могу я тебя оставить, отвечаю за тебя! И так всех людей растерял.
— Ты молодой, здоровый, — сказал Краюшкин, — тебе есть надо, а у нас полбуханки, надолго ли хватит?
Бокарев швырнул ему хлеб:
— На, жри!
— Непонятливый ты, я не о себе, я о тебе.
— За меня не думай, — оборвал его Бокарев. — Я за тебя обязан думать. Вместе уйдём.
— Вместе так вместе, — согласился Краюшкин, но, как понял Бокарев, для формы согласился.
Краюшкин кивнул на улицу.
— Лошадей не видать?
— Зачем тебе лошади?
— За сеном сюда полезут.
— Нет там лошадей. Танковая часть.
— Тогда порядок, — удовлетворённо сказал Краюшкин.
Вернулся шофёр с судками, потом явился и офицер; пробыл дома с час, пообедал и снова ушёл в штаб.
Шофёр вышел во двор с помойным ведром, открыл крышку мусорного ящика, опорожнил ведро, потом с двумя чистыми вёдрами отправился на улицу к колонке. Аккуратный, видно, немец, хозяйственный. Отнёс чистую воду в дом, опять вернулся, ополоснул помойное ведро и тоже отнёс его в дом.
А день тянулся и тянулся, не было, казалось, ему конца.
Они съели по кусочку хлеба.
— Ночью воду достанем, — сказал Бокарев.
— Ночью лежать надо и не двигаться, — возразил Краюшкин.
— Не учи! — коротко ответил Бокарев.
Ночь выдалась светлая. Полная луна освещала спящие дома, машины у домов, часовых, расхаживающих у штаба и у шлагбаумов.
Бокарев перелез через забор на соседнюю улицу. Она не была огорожена шлагбаумами, но у домов тоже стояли машины, легковые и грузовые, немцы и здесь разместились.
Прижавшись к забору, Бокарев внимательно осмотрел улицу. По его расчётам, именно на ней они оставили Вакулина.
В глубине её мелькнула фигура часового, в другом конце тоже. Улица охранялась, но шлагбаума не было; упирается, наверно, в пустыри, не проедешь, не проскочишь — окраина. Если переползти вон до того проулка, то можно уйти в поле, а там и в лес. И Вакулин на этой улице, только в каком конце? Пришли они с запада, значит, там, но вроде не похоже. Ладно, днём разберёмся.
Он ухватился за верх забора, подтянулся, заглянул в соседний двор, увидел бочку с водой между яблонь, перелез через забор, подполз к бочке, отвёл ладонью листья, наклонился, напился. Вода была хорошая, хоть и чуть застоявшаяся, припахивала бочкой и прелым листом. На заднем крыльце стояли грязные солдатские сапоги, лежала сумка. Бокарев открыл её, увидел свёрток с красным крестом — индивидуальный пакет.
На садовом, сколоченном из досок столе валялись пустые консервные банки. Бокарев понюхал одну — она пахла колбасой. Вернулся к бочке, зачерпнул воды, отпил — ничего, сойдёт.
Он услышал шорох в доме и присел у бочки.
Из дома вышел солдат в нательном темноватом бельё, помочился с крыльца и вернулся в дом.
Опять всё стихло.
С пакетом в кармане и банкой воды в руке Бокарев подошёл к забору, провёл ладонью по его верху — верх был узкий, а опорные столбы заострены. Он нашёл место между столбом и досками, втиснул туда банку и, не спуская с неё глаз, подтянулся кверху, позабыв о часовом, думая только о том, чтобы удержалась банка.
Всё сошло благополучно. Он лёг животом на забор, достал банку, осторожно притянул к себе, спустился на землю, прокрался к своему забору, перебрался через него и вернулся на сеновал.
— На, пей!
Краюшкин жадно припал к банке.
Перевязывая ногу Краюшкину, Бокарев удовлетворённо сказал.
— Затянет в два дня.
— Рисковый ты парень, — заметил Краюшкин, — хватятся, пакет будут искать.
— Не беспокойся, — уверенно ответил Бокарев. — Думаешь, немец дурак? Сам доложит, что потерял пакет? Сопрёт где-нибудь. А будут искать — есть чем отстреливаться. — Он кивнул на автоматы. — А дойдёт до крайности — выйдем на улицу и закидаем их гранатами.
Краюшкин молчал.
— Чего молчишь? — спросил Бокарев.
— Зачем говорить — услышат.
— Боишься?
— Чего бояться, — ответил Краюшкин. — Верти не верти, а придётся померти.
— Всё прибаутничаешь, — сказал Бокарев, — а нужно задачу решать: как уйти отсюда.
29
На работу я ещё ездил, но в вагончике больше не жил. Ночевал у дедушки.
Я не боялся Юры. Думаю, наоборот: он меня боялся. Но я не могу жить в одном вагончике с человеком, с которым не разговариваю.
Это вообще тягостно — жить с человеком, с которым не разговариваешь. Есть семьи, где люди по году не разговаривают. Живут вместе, едят за одним столом, вместе смотрят телевизор, а вот — представьте себе — не разговаривают. Объясняются через третьих лиц или посредством записок.
У нас дома этого никогда не было. Поспорили, поконфликтовали, даже поссорились, но не разговаривать? Глупо. Тогда надо разъезжаться.
Я так и сделал. Кое-какое моё барахлишко ещё было в вагончике, а я опять каждый день ездил в город и из города — жил у дедушки. Тем более, что после устроенной Вороновым публичной выволочки, после того как я обнаружил общую к себе враждебность, мне стало что-то неуютно на участке.
Придётся, видно, сматывать удочки.
О том, что Юра схлопотал от меня, никто не знал. Я никому не рассказывал, Юра — тем более. Андрей тоже помалкивал: о таких вещах здесь трёпа не бывает, ребята выдержанные. Даже Маврин ничего не знал.
Одна только Люда о чём-то догадывалась, вопросительно смотрела на меня, ждала, что я ей расскажу. Но я делал вид, что не замечаю её взглядов. Если так интересуется, пусть узнает у своего Юрочки.
В конце концов она не выдержала и спросила сама.
Она приехала к нам в мастерскую оформлять наряды. Все ремонтники были на трассе, даже сварщик со своим аппаратом уехал. Только я один колбасился вокруг переднего моста к самосвалу.
Люда уселась на табурет, прикрыв его, по моему совету, газетой, некоторое время смотрела, как я работаю, потом спросила:
— Серёжа, из-за чего вы подрались с Юрой?
Берёт на пушку, на понт берёт. Делает вид, что знает, а на самом деле ничего не знает, только догадывается. И если я поймаюсь, то окажусь источником информации, то есть сплетником.
— Когда это было? — спросил я.
— Серёжа, не притворяйся, я знаю.
— А знаешь, зачем спрашиваешь?
— Хочу услышать об этом от тебя.
— А от кого ещё слыхала?
— Слыхала, — объявила она таким тоном, будто действительно слыхала, но не может сказать, от кого.
Люда, в общем, ничего девка. Артельная, «нашего табора», как здесь говорят, добрая, широкая: когда у неё что есть, ничего не жалеет, всем поделится. Только редко у неё что бывает… Но она поверхностна, легкомысленна и лжива. Лжива не для какой-то выгоды, а просто так, по натуре, безо всякой цели, не себе на пользу, а себе во вред. Такая эксцентричная, экзальтированная особа, фантазёрка.
И сейчас она, по своему обыкновению, нахально врала, будто кто-то что ей говорил. Никто ей ничего не говорил.
— Ничего ты не слыхала и не могла слыхать. Никакой драки не было и быть не могло.
— А почему вы не разговариваете?
— Опять: из чего ты заключила?
— Вижу. И ты перестал с нами обедать.
— Живу в городе и обедаю в городе.
Когда-то я был лопухом. Меня разыгрывали, и я попадал в глупое положение. Но сейчас нет, извините, я научился взвешивать свои слова. Ничего она у меня не выпытает, пусть не старается.
Она сидела в нашем тесном сарайчике, среди разобранных машин и агрегатов, среди железок и тряпок, на грязном табурете, который, если бы не я, даже не покрыла бы газетой, и её мини-юбка, и мини-плащ, и модные туфли казались здесь жалкими. Я заметил на её шикарном плаще пятна, каблуки были стоптаны, петли у чулок спущены. Всё это, повторяю, выглядело жалким. И сама она выглядела жалкой, несчастная девчонка без семьи, без дома, перекати-поле.
— Чего домой не едешь? — спросил я, продолжая возиться с мостом.
Она не ожидала такого вопроса — он застал её врасплох. И молчала.
— У тебя кто родители?
Она хмуро и нехотя ответила:
— Мой отец полковник милиции.
Штука! А я-то думал, что у неё отец слесарь, а мать медсестра. А её отец — полковник. Да ещё милиции. Наверно, от него и забилась к нам на участок, чтобы он не мог разыскать её. Впрочем, возможно, и не прячется.
— Братья-сёстры есть?
— Нет.
Единственная дочь. И сбежала.
— В чём вы не поладили?
Всё так же нехотя она ответила:
— Про это долго рассказывать.
— И не хочется домой?
— Хочется… Иногда.
— Почему не едешь?
Она молчала.
— Юрку боишься?
Она презрительно передёрнула плечиками:
— Юрка! Захочу, поедет за мной на край света.
— Отца боишься? Он у тебя злой?
— Нет, ничего.
— Стыдно возвращаться?
— Угу. — Она посмотрела наконец мне в глаза затравленным и несчастным взглядом.
— Ну и глупо!
Люда ушла.
Советуя ей уехать домой, я действовал против интересов Юры. И если Юра узнает, то решит, что я делал это нарочно, ему в отместку. Андрей и Маврин расценят как нетоварищеский поступок. Но мне наплевать, что подумает Юра, что скажут ребята. Мне ужасно жаль Люду: такая она неприкаянная и при всей своей вызывающей внешности беззащитная.
Вернулся с трассы механик Сидоров, помог мне закончить мост. Он переходил от одного дела к другому без перекура — свидетельство наивысшей работоспособности. Другие подгадывали окончание дела к концу смены, в крайнем случае к обеденному перерыву, а потом уже брались за новое. «Но уж это завтра» или: «Это после обеда»… Если задание было очень срочным, сначала перекуривали — «перекурим это дело» — и тогда только приступали. Сидоров никогда ничего не откладывал ни на завтра, ни на после обеда, ни на после перекура. Начинал новую работу так, будто продолжал старую.
Собственно говоря, историю с неизвестным солдатом затеял именно Сидоров. Он остановил Андрея, не дал срезать холмик, потребовал у Воронова разыскать хозяина могилы, но удовлетворился тем, что могилу перенесли. Для него этот солдат существовал как безымянный. Могила была символом, памятью, данью признательности, долгом, который живые отдают безвременно погибшим. И он считал это достаточным. Он не упрекал меня за то, что я ездил к Краюшкиным, не отговаривал, когда я намекнул, что придётся слетать в Бокари, — он не отговаривал меня, но и не уговаривал. Могила перенесена, сохранена — остальному он не придавал значения. Он не придавал особенного значения и тому, что я вообще уйду с участка: уйду я — придёт другой. Он мне помогал, показывал, учил — будет учить другого.
Может быть, в этом и была своя мудрость. Что изменилось в жизни Краюшкиных, оттого что нашлась могила их отца и деда? Что изменилось в них самих? Ровным счётом ничего. Прибавилось душевное неудобство за то, что они сами не разыскали могилы. А потом оно прошло — утешили себя тем, что такой розыск им не под силу, и он действительно им не под силу. И если мы напишем здесь: «Краюшкин П.И.», то сын, может быть, приедет один раз и больше ездить не будет. Могила останется сама по себе, будут за ней присматривать пионеры и школьники: для них фамилия «Краюшкин» ничего не говорит. Если бы было написано: «Неизвестный солдат», то это было бы романтичнее. Давало бы пищу воображению и фантазии, утешило бы других матерей — возможно, здесь их сын.
Для чего же и для кого я ищу? Для кого и для чего стараюсь? Зачем влез в дело, которое ничего, кроме неприятностей, мне не доставляет? Сколько раз я уже зарекался не ввязываться ни в какие истории, не «высовываться». Нет! Я опять «высовываюсь». Зачем? Что мною руководит, кроме простого детективного интереса? Ведь я уже не мальчик.
Конечно, не мальчик. И все доказательства, которые сейчас привожу, правильны и логичны. И всё же я не брошу этого дела, доведу его до конца.
Почему?
Может быть, меня раздражает бурная деятельность молодого Агапова? Он на всех углах твердит, что неизвестный солдат — это старшина Бокарев, собирает материалы о его жизни и подвиге — словом, шумит, шумит, шумит… А ведь неизвестный солдат вовсе не Бокарев. Девяносто из ста за то, что это Краюшкин. Хочется осадить очкарика, поставить его на своё место!
Но не это главное. Слишком много сил и времени потрачено, слишком много усилий сделано, осталась самая малость, всё уже почти ясно — жаль бросать. И стыдно перед дедушкой. Он говорил об этом только тогда, когда я сам заговаривал. Однако я чувствовал его интерес не только к солдату, но и к самому тому факту, что я этим занимаюсь. Он это одобрял и был бы разочарован, если бы я бросил. Хотя и с огорчением, он примирился с тем, что я уйду с участка. Но если я брошу дело неизвестного солдата, он мне не простит.
— С начальством поругался — дело обычное, с товарищем подрался — тоже исправимо, — сказал дедушка, — но если сердце не лежит — значит, не судьба.
— Я там больше работать не могу, — твёрдо объявил я.
— Не можешь — значит, не можешь. Найдёшь другое место. А что касается солдата, то игрушечная картонка — серьёзное доказательство в пользу Краюшкина. И кисет как будто говорит за него. А свидетели склоняются больше к старшине. Так что окончательных данных нет. Но есть ещё одно… — Дедушка посмотрел на меня, потом значительно произнёс: — У Бокарева мать живая.
Смысл этой фразы дошёл до меня гораздо позже. А тогда я сказал:
— Краюшкин! Не вызывает сомнений. Но чтобы убедиться окончательно, надо ехать в Бокари.
— Конец не малый, — заметил дедушка.
— Поездом до Москвы, самолётом до Красноярска, а там, наверно, тоже самолётом до Бокарей.
— И обратно, — напомнил дедушка.
— Я там не собираюсь оставаться.
— И во что это должно обойтись?
Я назвал цифру. Что-то около двухсот рублей.
— Где ты собираешься их взять?
— Пятьдесят рублей получу в расчёт, остальные достану в Москве.
— В банке?
— У меня есть одна вещица…
— Остальные деньги я тебе дам, — сказал дедушка.
30
Воронов был один, когда я явился к нему в вагончик. Молча прочитал моё заявление.
— Обиделся?
— Возможно.
Он завёл свою обычную волынку:
— Сегодня ты обиделся, завтра — другой, послезавтра — третий. А с кем я буду работать? С кем дорогу строить?
— А вы никого не обижайте.
— А когда меня обижают?! Мне что, тоже увольняться? Ты парень грамотный, ты посчитай. Вас сто человек, а я один. Сколько раз я могу обидеть каждого? Один раз в сто дней. А вы меня? Ежедневно.
У этого человека поразительная логика, оспаривать её мне не под силу: у меня совсем другой склад мышления, мы с ним разговариваем на разных языках.
— Дело не в обиде, — сказал я, — меня не устраивает моя работа.
— Сдашь экзамены — перейдёшь на машину.
— Нет условий. Мне нужны две свободные недели.
— Прекрасно, — сказал вдруг Воронов, — возьми отпуск за свой счёт.
При всех своих недостатках он хороший работник. Обижен на меня, злится, терпеть не может. Но нужны рабочие руки, и интересы производства он ставит выше личных антипатий.
Я молчал.
— Я иду на все уступки, а ты не хочешь, — сказал Воронов. — Не хочешь?
— Не хочу.
— Ах, не хочешь? Тогда я тебе скажу, почему ты увольняешься.
Интересно, что он ещё такое придумал?
— В Сибирь едешь, в Бокари?!
Знает он об этом или догадался?
— Почему вы так думаете? — спросил я.
— Знаю. Мне положено всё знать.
Я перебирал в уме всех, кто мог ему это сказать. Механик Сидоров — вот кто. Он единственный, кому я дал понять, куда еду. Впрочем, наша трасса похожа на африканскую саванну, известия здесь моментально передаются по какому-то беспроволочному телеграфу. Только в первые дни мне казалось, что здесь никто ничего друг про друга не знает. На самом же деле здесь знают всё: и то, что надо, и чего не надо.
— Хотя бы и в Бокари, — ответил я.
— Внесли ясность, — сказал Воронов удовлетворённо. — Но ведь установлено: неизвестный солдат — старшина Бокарев. Признаю: установлено при твоём участии, я бы даже сказал — решающем участии.
— Я хочу это проверить.
— Неправда. Вопреки всем, вопреки самому себе, ты теперь хочешь доказать, что это другой. Как его, этот пожилой…
— Краюшкин, — подсказал я.
— Вот именно, Краюшкин.
В общем, он в курсе дела. Неудивительно. Ребята в вагончике, и механик Сидоров, и Виктор Борисович, и Люда — все в курсе дела. Почему бы и ему не быть в курсе дела?
— Рассуждаем дальше, — продолжал Воронов, — согласимся, что это Краюшкин. Признаем, что ты тогда положил нас на лопатки и теперь опять кладёшь. Зачем же тебе ехать в Бокари?
— Я вам сказал: окончательно проверить, окончательно во всём убедиться.
— Кодекс законов о труде тебе известен?
— В общих чертах.
— А конкретно?
— Конкретно нет.
— Так вот. Администрация должна предупредить работника об увольнении за две недели или выплатить ему выходное пособие. Работник должен подать заявление об увольнении также за две недели. Рабочее место не может пустовать.
— Отпустите меня, — попросил я.
Мой жалобный голос поколебал его. Но он быстро с этим справился:
— Отпустить тебя я не могу, закон не позволяет. Но если ты хочешь получить семь, ну десять дней отпуска за свой счёт для подготовки к экзаменам, изволь, я тебе их дам.
По-видимому, он ищет лазейку. Хочет, чтобы всё было по закону. А через десять дней он меня уволит.
Я забрал своё заявление и написал новое.
Когда я выходил от Воронова, к конторе подошёл Виктор Борисович.
— Едешь? — спросил он.
— Еду.
Он вынул из кармана сто рублей:
— Возьми.
Я обалдел:
— Вы что, Виктор Борисович?! Во-первых, у меня есть деньги, во-вторых…
Он сунул мне деньги в карман:
— Будут — отдашь.
И, не дожидаясь ответа, поднялся в контору.
Я пошёл в вагончик и забрал свои вещички. Вагончик был пуст, койки заправлены; под ними виднелись сундучки и чемоданы; в углу висели телогрейки и дождевики. На столе в гранёном стаканчике поник букетик полевых цветов. Честно говоря, мне стало немного жаль расставаться с этим непритязательным, походным, мужским уютом.
В вагончик вбежал Андрей:
— А, ты ещё здесь? Думал, не застану…
Он снял со стены свой шикарный дождевик в целлофане:
— Вот, возьми; там, знаешь, дожди.
Я не был уверен, что мне понадобится плащ, но жест Андрея тронул меня. Я не мог ему отказать и взял его шикарный плащ.
Потом Андрей достал томик Вальтера Скотта:
— Почитаешь в дороге, рекомендую.
Я отговорился тем, что прочитал всего Вальтера Скотта.
Я шёл но дороге со своим узелком.
Женщины укладывали бордюрные камни. При моём появлении они перестали работать и, опершись кто на лом, кто на лопату, уставились на меня, как родные тёти на племянника-сиротку. И Мария Лаврентьевна тоже смотрела на меня, как родная тётя на племянника-сиротку.
Потом она сказала:
— Счастливо тебе доехать, Серёжа!
И выражение её грубого, обветренного лица было точно такое, какое было, когда мы хоронили неизвестного солдата.
— Спасибо, тётя Маша!
Я повернулся и быстро пошёл дальше.
Проходя мимо катка, я увидел Маврина. На этот раз у него был здоровенный синяк под глазом.
— Алло, Серёга! — Маврин сошёл с катка. — Слухай, — сказал он, — в Сибирь едешь?
«Слухай» он говорил, когда изображал из себя моряка-черноморца.
— Еду.
Он порылся в карманах комбинезона, вытащил пачку денег, одни двадцатипятирублёвки:
— Вот, ребята собрали.
— Да у меня есть! — закричал я.
— Брезгуешь нами? — спросил Маврин таким тоном и с таким выражением на лице, какие были у него, наверно, когда он затевал в окрестных деревнях свои драки.
— Ну, спасибо! — Я взял деньги.
— Только смотри не пропей! — крикнул мне вдогонку Маврин.
Навстречу мне ехал самосвал. За рулём сидел Юра. Увидев меня, он притормозил. Но я прошёл мимо — с Юрой я не разговаривал.
— Серёжа!
Я не оглянулся.
Потом я услышал за спиной прерывистое, то спадающее, то нарастающее, гудение мотора, которое он издаёт, когда машина разворачивается на узкой дороге.
Гудение мотора приближалось. Наконец Юра поравнялся со мной.
— Садись, подвезу.
— Дойдём, — ответил я, не сбавляя шага.
— Будь человеком! — сказал Юра. Он медленно ехал рядом со мной.
Я ему ничего не ответил.
— Ты хочешь, чтобы я извинился? Пожалуйста, я извиняюсь.
Чёрт с ним! Что бы там ни было, мы жили с ним в одном вагончике, и он давал мне руль.
Я сел в кабину.
31
До Красноярска я долетел на «ИЛ—18», от Красноярска до Бокарей — на «ИЛ—14».
Порядки на «ИЛ—14» приблизительно как на междугороднем автобусе, даже, наверно, можно остановиться по требованию. Задраили люки, убрали лестницу, вырулили на дорожку, потом лестницу подвезли снова, открыли дверь: какой-то пассажир с женой и ребёнком бежал к самолёту. Здесь это обычное явление.
На «ИЛ—18» народ был солидный: командированные из Москвы работники министерств, международные делегации; нас кормили обедом, раздавали конфеты «Взлётные» и «Театральные». На «ИЛ—14» ничего не давали, обедом не кормили, места были не нумерованы, и казалось, что половина пассажиров едет без билетов — «зайцами».
Летели бородатые геологи-изыскатели в джинсах и спортивных куртках, с рюкзаками, в кедах, женщины в брюках, загорелые отпускники с юга, колхозники. Два механика втащили даже ящик с мотором, хотя проводница их не пускала. Рядом со мной здоровенный парень в ковбойке держал на коленях большой горшок с цветком — подарок юга, как я заключил по его загорелому лицу.
В весёлости, приподнятости этих людей, которых я определил для себя как людей нового Севера, я ощутил ту музу дальних странствий, тот дым костров, о котором мечтал и которого так и не нашёл на своём дорожном участке. Жизнь этих людей — в полётах и перелётах, они пересекают страну из конца в конец на самолётах, машинах, поездах, а то и пешком, с рюкзаками за спиной. Эта жизнь, отрешённая от того, что мы называем рутиной, повседневностью, казалась мне прекрасной, совсем непохожей на жизнь москвичей, хотя те тоже регулярно ездят на курорты или в служебные командировки. Те просто передвигаются в пространстве, а эти покоряют пространство.
Самолёт летел совсем низко. Через окно всё было отчётливо видно. Енисей, речной порт с портовыми кранами, баржами и маленькими речными трамваями, потом новые многоэтажные здания Красноярска — всё это знакомое; я видел на каких-то картинках, в кинохронике. Но то, что началось потом, я ещё никогда не видел и, наверно, никогда не увижу. Мы летели над Ангарой.
Не над той Ангарой, которая тоже была известна мне по кинохронике, а над коренной Ангарой в её нижнем течении, где она называется Верхней Тунгуской. Бесконечная тайга — горы, покрытые бескрайним лесом и прорезанные голубой лентой могучей реки.
Мотор ревел подо мной. Сердце щемило от чувства простора, бескрайности, первозданности, великолепного однообразия, от которого нельзя было оторвать глаз.
Осторожно наклонив цветок и перегнувшись через кресло, мой сосед тоже заглянул в окно:
— Зрелище! — И не без гордости добавил: — Тайга!
Против этой констатации я ничего не мог возразить. И у меня не было охоты разговаривать. Я предпочитал смотреть в окно. Но мой сосед сидел не у окна, и у него была охота разговаривать.
— Вы в гости к родным? — спросил он, дав понять, что сразу обнаружил во мне не сибиряка и, уж во всяком случае, не ангарца.
— По делу, в Бокари, — ответил я. И из вежливости спросил: — А вы?
— А я сам из Бокарей, — ответил сосед.
— Вы не знаете таких Бокаревых?
— Я сам Бокарев.
— Да? — Я с интересом посмотрел на него.
Он объяснил:
— У нас почти все Бокаревы, оттого и село Бокари. А может быть, и наоборот: оттого Бокаревы, что село Бокари. Какие Бокаревы вам нужны?
— Бокарева Антонина Васильевна.
— Антонина… — Он задумался. — Тоня… У нас Тонечек полно. Кто она, где работает?
— Ей семьдесят лет, — ответил я.
— А… — протянул сосед. — Знаю, о ком идёт речь, догадываюсь. Только вряд ли вы её застанете. Собиралась уехать из Бокарей. Сын её нашёлся.
— Нашёлся?!
Если он нашёлся, то мне и ехать нечего. Впрочем…
— А какой сын нашёлся? — спросил я.
— Пропал в войну без вести и вот через двадцать семь лет нашёлся. Она и уезжает к нему. А может быть, уже и уехала.
— А… — протянул я и отвернулся к окну.
Конечно, у неё могли быть и другие сыновья, пропавшие без вести. И всё же предчувствие чего-то тревожного овладело мной.
32
В доме Бокаревой были открыты сундуки, оголены стены. Антонина Васильевна укладывала вещи.
Она плохо слышала. Когда я спросил её, она ли Бокарева, — она показала на ухо, и, хотя я громко повторил свой вопрос, она меня опять не расслышала или услышала что-то другое. И не знаю, за кого она меня приняла. Вероятно, за одного из этих парней-изыскателей. Они, по-видимому, часто заходят к местным жителям, живут у них, останавливаются на ночлег. Во всяком случае, она не спросила меня, кто я такой, откуда. Показала на вещи и сказала:
— Вот дом продала. На новом месте без денег дома не купишь. Хоть самого плохенького, а не купишь.
— Куда же вы едете? — спросил я, проникаясь всё большей тревогой.
— Далеко, милый, в самую Россию. Город Корюков, не слыхали?
Я ошеломлённо смотрел на неё.
— К сыну на могилку еду, — продолжала старуха, — нашлись добрые люди, схоронили его, Митю моего, спасибо им, и матерям и отцам их спасибо, вырастили детей благородных… — Она низко, до самой земли, поклонилась неведомым людям, разыскавшим могилу её сына. — Надо бы, конечно, всё там устроить, — продолжала Антонина Васильевна, — да ведь некому устраивать-то, одна я, никого нет у меня. Да и когда устраиваться-то? Стара я, не знаю, доеду ли… А может, и доеду. Хоть одним глазком взгляну на его могилку. А умру — похоронят неподалёку. Сколько мне жить-то осталось?
Я был не в силах смотреть на неё, отвернулся и тупо уставился на стены. Они были пусты, голы. Только возле божницы висела знакомая мне фотография пяти солдат, хорошо сохранившаяся за стеклом.
Значит, у старшины Бокарева этой фотографии не было. Конечно, у него могли быть две таких фотографии. Но вряд ли: зачем бы он таскал с собой групповую фотографию? Ведь это не фотография любимой женщины, или матери, или ребёнка. Была фотография, он её и отослал домой.
Она перехватила мой взгляд, подошла к фотографии, показала на Бокарева:
— Вот Митя мой, а это его товарищи.
— А когда он вам её прислал, эту фотографию?
— Не он, милый, прислал. Невеста его прислала, Клавдия.
— Как? Клавдия?
— Клавдия, милый, Клавдия… Хорошая женщина, самостоятельная… Да вот не пришлось им.
Клавдия… Значит, на кисете могла быть первая буква её имени. Дело опять запутывалось.
— Будь Митя жив, ладно бы жили, — продолжала Антонина Васильевна. — Митя мой тоже мужчина самостоятельный, охотник, не пил, не курил.
— Не курил? — переспросил я.
— Не курил, милый. У нас в доме табашников не было. И муж мой покойный не курил, и вся родовая наша — никто, одним словом.
Она охотно отвечала. Ей хотелось поговорить: одинокая старуха, она была рада, что нашла внимательного слушателя. Мои вопросы её не настораживали, и я их ей задавал. Но сердце у меня разрывалось от сочувствия и жалости к этой женщине, от того разочарования, которое постигнет её, от всего того, что я должен ей сказать. Но я не мог ей сказать, я искал доводы в пользу Бокаревой. Искал доказательства того, что именно он — неизвестный солдат.
— Раньше не курил, а в войну мог и закурить.
— Нет, — решительно ответила она, — не закурил он на службе: он ведь сверх срока служил, оттого и на войну сразу попал. И ребята наши, что с ним служили, которые вернулись, тоже говорили: какой табак получал — товарищам отдавал, которые курящие.
Кисет не его, кисет Краюшкина. Отпадал единственный довод в пользу Бокарева.
— Вы не помните, когда Клавдия прислала вам фотографию?
Она задумалась.
— Может, в войну прислала, а может, и после войны: нет, однако, в войну ещё. Прислала мне письмо, спрашивала: где, мол, Митя, что с ним, пишет ли? А я к тому времени уже извещение получила. Я ей ответ дала: пропал, мол, без вести наш Митя. Мне-то сообщили — мать, а ей кто же сообщит? Не записаны они были. После этого и прислала она мне карточку. У меня и адрес её есть. Деревня Фёдоровка, Корюковского района. Не сам, значит, Корюков, а в районе. Иванцова Клавдия Григорьевна.
— Вы с ней переписываетесь?
— Нет, милый, не пишу я ей, и она мне не пишет. Женщина была молодая, красивая, в годах, надо и ей устраивать свою жизнь; может, замуж вышла, дети пошли. Не сидеть же ей в бобылках.
Мы помолчали. Что я мог ей сказать? Ничего не мог сказать. Я не мог сказать ей правду. Не мог, не мог, не мог. Пусть говорят те, кто ввёл её в заблуждение.
— А кто вам сообщил насчёт сына? — спросил я.
— Сообщил кто? Из газеты, человек такой — Агапов сообщил, в сельсовет, а уж председатель — мне.
— И когда вы собираетесь ехать в Корюков?
— Вот деньги получу за дом. Хоть небольшие деньги: у нас тут дома дёшевы; в России, говорят, дорогие. Корову продала, тёлку. Насобираю чего-нибудь. Только задача: где остановиться, где жить, пока квартиру не раздобуду. Думала Клавдии написать, у неё пока остановиться, один район-то, а потом раздумала: у ней, может, муж, семья, зачем ей старое ворошить? Может, муж и не знает ничего про Митю. Дело женское, деликатное, зачем же я буду ей жизнь-то портить. Теперь уж Митя мой никому не нужен. Только одной матери и нужен.
33
С утра они слышали движение машин по улице, грохот танков, шли войска, но какие именно — не видели: шофёр не уходил со двора, чего-то мастерил на скамейке. А когда уходил в дом или с судками за обедом, они всё равно ничего, кроме двора, видеть не могли.
Бокарев подполз к торцу сеновала, забитому вертикально стоящими, косо срезанными дощечками, осторожно попытался оторвать одну — она заскрипела на гвоздях. Он перестал тянуть, прислушался — немец легко постукивал, будто молотком по бородку. Бокарев опять потянул дощечку — она снова заскрипела. Он опять перестал тянуть, прислушался. Удары во дворе прекратились. Потом блеснула и расширилась полоска света, ворота открылись — в них стоял немец.
Бокарев притаился, сжимая в кармане гранату.
Немец развёл обе половины ворот и так держал их некоторое время, чтобы не захлопнулись, стоял, всматривался в глубь сарая. Потом нагнулся, поднял чурбачок, осмотрел его, придерживая одной рукой медленно наезжавшую створку, другая уже закрылась.
Удовлетворённый осмотром, немец вернулся на скамейку. Створка, которую он придерживал, осталась в том же положении, не захлопнулась и не открылась шире, в сарай теперь падал косой луч света.
Немец поставил чурбачок на скамейку, на чурбачок положил лист жести и стал рубить его зубилом, размеренно и точно ударяя по нему молотком. И Бокарев подивился аккуратности немца: подложил чурбак, чтобы зубилом не испортить скамейку. Хотя, если прикажут, сожжёт дом со всеми сараями и скамейками, а если надо, то и с теми, кто в доме.
Прислушиваясь к ударам молотка по зубилу, к металлическому дребезжанию жести, Бокарев сильно дёрнул дощечку — верхний конец её вместе с гвоздём оторвался от стропила.
Он снова притаился, но немец не оглянулся.
Нижний гвоздь Бокарев не стал выдирать: дощечка вращалась на нём, как на оси; можно было поворачивать её, смотреть через щель, потом обратным поворотом ставить дощечку на место и закрывать щель.
Теперь Бокарев видел слева главную штабную улицу, огороженную шлагбаумами, справа — боковую улицу, на которую он выходил ночью и где, по его расчётам, должен быть дом, в котором они оставили Вакулина. Видел он и переулок, соединяющий эти улицы, видел поля и темнеющий вдали лес.
Штаб помещался в школе. По машинам — «оппель-адмиралу», «хорьху», большим «мерседесам», — по охране Бокарев определил, что штаб крупный, машины генеральские, штабные учреждения были в домах: туда тянулись кабели телефонной связи, входили и выходили офицеры с папками, портфелями, бумагами. Наверно, штаб танковой бригады, а то и корпуса.
Днём через город прошла колонна моторизованной пехоты, прошло звено танков, проезжали отдельные транспортные машины, но не по центральной штабной улице, а но боковой. Доезжали до шлагбаума, сворачивали в переулок и уже за вторым шлагбаумом возвращались на шоссейку. Через шлагбаум пропускали только легковые машины.
По штабной улице не выберешься. Выбираться надо по боковой; она и ночью показалась ему подходящей окраина, за ней поля, овраги, лес. И переулок прямо против их сарая. Перелез через забор, переполз улицу — и там.
Чем больше всматривался Бокарев в улицу, тем сильнее укреплялось в нём решение уходить сегодня же ночью — второй день без хлеба; завтра Краюшкин совсем ослабеет; он сам испытывал тошнотные приступы голода: его молодой, сильный организм требовал пищи. Всё больше прибывает войск: немцы, видно, ведут широкое наступление в юго-восточном направлении, прорвали нашу оборону. Только бы дойти до леса, оттуда можно пробраться к Клавдии, спрятаться у тамошних, а потом добраться до своих; придётся ему отчитаться за людей, за убитых, за машины. Ладно, всё это потом. Главное выскочить в лес, а там будет видно.
Прижимая кнопку, чтобы не слишком щёлкнула, Бокарев открыл планшет. Карта лежала в планшете так, как он её свернул ещё в МТС, — тем квадратом, где был город Корюков. В западном направлении — Фёдоровка, на север, чуть повыше, — МТС. После боя уходили они ещё севернее и, видно, зашли в город с северо-востока, потому что он никак не мог сориентироваться, где дом Михеева; считал, что с запада, а он, значит, в другом конце улицы.
Да, не по дороге.
Но уйти без Вакулина он не мог. Может, убили его немцы или умер у хозяина рана серьёзная. Может быть, в плен забрали, он должен всё знать о нём, не имеет права так бросить и уйти.
Только как поступить с Краюшкиным: вдвоём им идти до Михеева, а потом дальше или одному сходить к Михееву, потом вернуться, взять Краюшкина и уйти переулком.
Он остановился на втором решении Не пройдёт раненый всю улицу. А тут юркнул в проулок, пока охрана не видит, и ползком, а там потихоньку и дойдут до Фёдоровки.
Но Краюшкину он не сказал, что принял именно такое решение. Объявил само решение — уходить, а как уходить, скажет потом.
— Сегодня ночью будем уходить. Как нога?
— Нога, она и есть нога.
— Добежишь до леса?
— Добежать не добегу.
— А дойти?
— Может, и дойду.
— К вечеру приготовься, возьмём по автомату и все гранаты.
Краюшкин промолчал. Бокарев про себя отметил враждебность этого молчания — не хочет уходить, боится; может, ждёт, что Бокарев один уйдёт, а сам сдастся в плен. Тем более, тут штаб, с ходу не расстреляют. Немцы кидают листовки, признают, что в сорок первом действительно были трудности с пленными ввиду их большого количества, а теперь всё наладили: сдавайтесь, паёк пленным выдаём. Может, он, дурак, и поверил.
Но в мысли и замыслы Краюшкина Бокарев проникнуть не мог. Перед ним был подчинённый ему солдат Красной Армии, и судить о нём он мог только по его поступкам: не подчинится Краюшкин — тогда он и будет решать его судьбу.
Шофёр во дворе закончил работу, сложил всё аккуратно в багажник, чурбачок отнёс обратно в сарай, взял в доме судки и ушёл за обедом.
Бокарев тут же спустился во двор и вошёл в дом. В кухне стояли вёдра с водой, но еды никакой не было, и хорошо, что не было — не удержался б, взял бы, а брать здесь нельзя: заметит пропажу аккуратный немец, поднимет тревогу, весь двор переворошит.
Бокарев снял с полки хозяйскую кастрюлю, наполнил её водой из обоих вёдер, чтобы не было заметно, и вернулся на сеновал.
— Это уж бы ни к чему, — проговорил Краюшкин недовольно.
— Прикажешь на водопровод сходить? — насмешливо спросил Бокарев.
— Лежать надо, терпеть.
— И долго?
— Пока штаб не уйдёт.
— Штаб уйдёт, комендатура останется, полицаи.
— Лишь бы жители вернулись, а там уйдём. Переждать надо. Штаб танковой бригады не будут держать в тылу, поскольку наступление.
— Стратег! — насмешливо сказал Бокарев. — Не хуже Лыкова.
— Немец с судками ходит, — продолжал Краюшкин, — значит, не развёртывают офицерскую столовую, не собираются долго задерживаться.
Замечание Краюшкина насчёт судков было правильно, но старик чем-то раздражал его. Не докучает, не стонет, не жалуется, хотя и подставил ногу под пулю; держит его здесь — ладно, дело солдатское, бывает. Раздражало другое: они как бы поменялись ролями. Краюшкин, всегда словоохотливый, болтун, шутник, прибауточник, стал немногословен, осторожен, замкнулся, всё обдумывал и взвешивал, а он, Бокарев, всегда скупой на слова, такой выдержанный и расчётливый, много и неосторожно разговаривал, не мог усидеть на месте, не мог ждать, терпеть.
Ночь опять выдалась светлая, иногда набегали тучи, тогда серело всё вокруг, потом снова светлело.
Бокарев переполз через забор. Улица была пустынна, одинокие машины стояли у домов, патрулей не было видно совсем. Вместо того чтобы перебежать улицу и переулком, а потом околицей пройти к дому Михеева, Бокарев пошёл прямо по улице, прижимаясь к заборам, пригибаясь у палисадников, иногда заглядывая в освещённые окна. Безнаказанная дерзость придавала ему ещё большую смелость, уверенность, что всё сойдёт благополучно.
Наконец он добрался до дома Михеева. Точно, этот самый дом, в это окно они стучали, через эту калитку входили.
Он осторожно обошёл двор, пытаясь определить, есть тут немцы или нет. Как будто нет. Не любят немцы селиться в крайних домах, больше к середине жмутся.
Он тихонько постучал пальцем в окно. Прислушался. Никто не отозвался. Он постучал ещё раз. Потом перешёл к другому окну и там постучал. Зашёл с другой стороны, постучал. Дом точно вымер.
Но дом не вымер, в нём была жизнь, были люди, только не хотели отзываться, осторожность его стука их и пугала. Постучи он в дверь требовательно, по-начальнически — сразу бы открыли, подумали бы, что немцы, побоялись бы не открыть. А так понимают, что стучит свой и с ним попадёшь в неприятность. Дом-то крайний: партизаны могут из леса подойти или солдат захочет укрыться, — крайняя изба, она всё на себя принимает.
Он присел под широким, развесистым дубом, единственным в этом саду, где были только фруктовые деревья; ждал, прислушиваясь к дому. В доме было тихо.
Он услышал шум машин и увидел дальний молочный отблеск фар. Подполз к палисаднику и сквозь щели штакетника посмотрел на улицу.
По ней двигались грузовые, крытые брезентом машины с притушенным под козырьком светом, останавливаясь у домов, они его гасили. Он насчитал десять машин; последняя остановилась недалеко от сада, где он лежал.
Из машины выходили шофёры, вынимали из кабин вещмешки, чемоданчики, входили в дома.
Совсем рядом слышалась немецкая речь.
И в соседний дом прошли два шофёра, громко, требовательно постучали в дверь — дверь открылась, они вошли туда, положили вещи, один остался, другой вернулся к машине, ещё чего-то взял, понёс в дом.
В дом Михеева никто не входил; там, конечно, не спали, разбуженные и его осторожным стуком, и шумом подъехавших машин, и стуком шофёров в дверь соседнего дома.
Бокарев встал, поднялся на крыльцо, требовательно постучал.
Дверь, как и в прошлый раз, открыл хозяин, Михеев, с лампой в руке, увидел Бокарева, сразу узнал, отшатнулся, застыл в страхе.
Бокарев прикрыл за собой дверь.
— Иван где?
— Иван… Солдат ваш? Ушёл, ушёл солдат…
— Ты мне правду говори, не бойся!
— Правду и говорю. Как в то утро немцы пришли, так он и ушёл: к своим, говорит, буду пробираться.
— Туши свет!
Михеев задул лампу.
— Дверь тихонько за мной закрывай!
Бокарев приоткрыл дверь, выглянул: в саду было тихо, только виднелись на улице силуэты высоких фургонов.
Он услышал, как тихо звякнул за ним замок, но обратных шагов в коридоре не услышал — стоит хозяин за дверью, прислушивается.
Бокарев снова подполз к забору, сквозь штакетник посмотрел на улицу.
Машины стояли вытянутой в один ряд колонной; вдоль неё расхаживали два автоматчика. Охрана. Значит, груз серьёзный — может быть, мины или авиабомбы. Здорово наступают — поставили машины с боеприпасами прямо на улице, недалеко от штаба, не боятся нашей авиации.
Не добраться ему до сеновала, не перебежать улицу на глазах у часовых.
Он может уйти в лес. Но Краюшкин? С Вакулиным ясно: ушёл, может, погиб, может, отлёживается, только нет его здесь. Значит, имеет он, Бокарев, право уходить без него. Но Краюшкин — пробираться к нему? Убьют его, а потом прочешут всю улицу, весь город и Краюшкина накроют.
Может, действительно Краюшкин переждёт, пока уйдёт отсюда штаб. А он, Бокарев, махнёт в лес. Можно и машину угнать. Это «шкоды», он их знает. Вскочить в кабину, дать задний ход, метнуть гранату в переднюю машину — пойдут взрываться снаряды; под эти взрывы он развернётся и уйдёт.
Строя эти планы, Бокарев понимал, что не уйдёт без Краюшкина. Из всей его команды остался один солдат — и того он бросит? Всех растерял, теперь и этого оставит на смерть или плен? Надо возвращаться на сеновал и уходить вместе.
Бокарев пополз в глубь сада, перелез через задний забор и очутился в поле.
Вдали, освещённый луной, темнел лес. Бокареву казалось, что он слышит его шорохи. Лес манил его. Совсем близко и жизнь, и спасение, и Клавдия, но он отогнал от себя эти мысли и стал пробираться вдоль заборов, стараясь ступать осторожнее — тут были то кусты, то мусорная свалка.
Переулок совсем короткий. Бокарев прижался к забору, вслушиваясь в шаги часовых на улице. Один автоматчик прошёл, почти тотчас прошёл встречный — так было и по расчётам Бокарева. Он быстро пересёк переулок, стал за машиной и поглядел на улицу.
Часовые были в конце колонны, к нему спиной, но перебежать улицу он не успеет. Пусть опять пройдут.
Он ждал, хотя и понимал, что план его невыполним: они услышат, как он пройдёт по улице, как будет перелезать через забор, только подставит себя под пулю, наведёт на след Краюшкина. Надо уходить в лес; утром колонна уйдёт, улица будет свободна, он придёт ночью и заберёт Краюшкина.
И всё же он не уходил, ждал: вдруг представится случай? Он рассчитывал на смену караула: уж один-то из них обязательно уйдёт будить новых часовых, а может, и оба уйдут.
Было уже поздно метнуться в переулок, когда открылась дверь дома и на крыльцо вышел немец в форме, с автоматом, чуть поёжился, передёрнул плечами, посмотрел на Бокарева, различая только его фигуру рядом с машиной и, видно, не понимая и не соображая, что это за человек.
Так они стояли некоторое время и смотрели друг на друга. Часовые уже подходили, Бокарев спиной слышал их приближение. Он мог застрелить немца на крыльце, броситься в переулок, но те двое тогда достанут его пулями.
И он стоял и ждал, когда они подойдут, и смотрел на немца на крыльце, и немец смотрел на него, вдруг сообразив, что перед ним русский, оцепенев от неожиданности и тоже дожидаясь, когда подойдут те двое, понимая, что одного его движения будет достаточно, чтобы русский его пристрелил, прежде чем он сам снимет автомат: у русского автомат в руках.
Бокарев выстрелил в ту минуту, когда оба часовые показались из-за машины, сначала в немца на крыльце, потом по часовым и бросился в переулок, но упал: раненый немец дал по нему очередь. И, уже лёжа на земле и слыша вокруг себя свист пуль, он повернулся, вытащил гранату, размахнулся и кинул её в машину.
Взрыв, потрясший небо, — было последнее, что услышал Бокарев.
34
Перед тем как я отправился в деревню Фёдоровку, дедушка меня предупредил:
— Клавдия Григорьевна Иванцова — женщина у нас тут до некоторой степени знаменитая. Прославилась она на свёкле — наш район свёклой занимался, — чуть-чуть Героя не получила, только не поладила где-то с кем-то, крутая, своенравная. Ты с ней подипломатичнее, поделикатнее.
Он говорил об Иванцовой с тем же почтением, в тех же превосходных степенях, как о всех своих знакомых. Я уже привык к этому.
Меня встретила представительная женщина лет под шестьдесят. В её чёрных волосах пробивалась седина, но она была осаниста и красива. Отпечаток крестьянского труда одновременно и старил и молодил её лицо, на котором было выражение спокойной и уверенной властности обычное у колхозных руководительниц, призванных командовать подчас грубыми мужиками и вздорными бабами. И было ещё на этом лице выражение умной сдержанности, позволявшей этим простым женщинам, не роняя своего достоинства, общаться с людьми самых высоких уровней.
Улыбка, добрая и очень молодая, чисто женская даже озорная, промелькнула на её лице при виде фотографии пяти солдат. И она прикрыла рот краем большого платка, облегавшего её плечи, тем подкупающим движением крестьянки, когда она и стесняется, и не может скрыть своих чувств.
— Были у нас эти солдаты, — сказала она, — пробыли сутки и ушли. Тут недалеко их ремонтная часть стояла. Они вернулись туда, а части ихней уже нет — ушла, немцы прорвались. Приняли они бой, поубивали немцев, три мотоцикла подожгли, ну и наших двоих немцы убили. Похоронили их ребята, оставили две могилы и ушли. — Она показала на Лыкова и Огородникова. — Вот этих двоих немцы убили, эти двое здесь захоронены, их могилы. Мы тогда же ночью подобрались; они чуть-чуть землёй были присыпаны — торопились наши солдаты уйти, — мы их перехоронили, а после немцев сделали всё, что положено; бережём могилы. Только ни имён их, ни фамилий не знаем. Знаем мы только двоих. — Она показала на Бокарева и Вакулина. — Бокарев Дмитрий Васильевич и Вакулин Иван Степанович: этих двоих мы знали, были к тому основания, — добавила она, опять улыбнувшись, — и такая точно фотокарточка у меня есть.
Я был поражён. Если, кроме карточки, посланной в Бокари, у Клавдии Григорьевны есть ещё одна, то, по-видимому, у старшины их было много, и не исключено, что одна из них была в его могиле. Это опять меняло дело.
От Клавдии Григорьевны не ускользнуло моё удивление. Но она истолковала его по-своему.
— Подарил мне эту карточку старшина. Я тогда молодая была, ухаживал он за мной, вот и подарил. Ну, а потом, после войны, списалась я с его матерью. Так в войну водилось: оставлял солдат не только номер своей полевой почты, а и адрес дома своего, родных своих, на случай, если убудет из части — в госпиталь или ещё куда, — старались люди побольше зарубок делать. Списалась я с его матерью, узнала, что погиб, поехала в город, сняла с этой фотографии ещё две, одну для себя, другую для Анны Петровны, соседки моей, так её теперь величают, а тогда была просто Нюрка. Эти копии оставили мы у себя, а саму фотографию отправили матери в Бокари — мать всё-таки. И написали всё, как было. Может, интересно ей знать, с кем её сын виделся в свой предсмертный час. Не знаю, жива ли она сейчас, давно это было.
— А у него у самого оставалась такая карточка? — спросил я.
— Так ведь мне он её отдал.
— А может, кроме этой, у него ещё были?
Она пожала полными плечами.
— Фотография у них групповая, каждому по карточке досталось.
— Ещё один вопрос, если позволите. Вы ему кисета не дарили?
— Нет, некурящий он был. Остальные его товарищи курили, а он нет. Парень был бравый, видный, хоть куда, а вот не курил, говорил: нет, мол, у меня такой привычки — курить. Не дарила я ему кисета…
Она вышла со мной из дома:
— Доведу вас до могилок. По дороге к Анне Петровне зайдём.
Анна Петровна оказалась сухощавой, стройной женщиной лет, может, сорока пяти, не больше. И странно было, что здоровенный белобрысый мальчишка лет восьми, уже школьник, называет её бабушкой.
— Она у нас ранняя бабушка, — улыбнулась Клавдия Григорьевна, — самая молодая солдатка осталась, теперь самая молодая бабушка. Иван где?
— В правление ушёл, — ответила Анна Петровна, снимая передник и вытирая руки.
— Жаль, хотела, чтобы посмотрели вы его. У неё сынок большой, двадцать седьмой год пошёл, военного времени сынок…
Обе женщины засмеялись.
— Вот могилками нашими интересуются, — пояснила Клавдия Григорьевна, — ещё одного нашли… Нет, не Ивана. Или Бокарева, или этого, помнишь, старого-то солдата. Но ничего, розыск пошёл — всех найдут… — Она потрепала мальчишку по голове. — Найдут дедушкину могилку.
— У меня дедушка живой, — возразил мальчик.
— То один дедушка, а это другой, — ответила Клавдия Григорьевна.
Анна Петровна присоединилась к нам, и мы пошли к могилам.
— Это он прадеда за дедушку принимает, — объяснила Клавдия Григорьевна про мальчика. — Вакулина отец приезжал, хотели Ивана, сына её, — она кивнула на Анну Петровну, — взять на воспитание в Рязань, усыновить, чтобы фамилию его нёс, потому Иван, сын её, ну копия отец, — жалко, вы не посмотрели. Уговаривали её: ты молодая, будешь свою жизнь устраивать, а внука нам отдай, мы его в городе воспитаем, одна у нас память осталась. Она не отдала, сама парня подняла. Гостить к старикам посылала, гостил он у них, и сами сюда старики приезжают. Ну и я была тогда вроде власть, когда закон-то был, безотцовский, сумела сделать, чтобы записали Ване отца — Вакулина Ивана, погибшего на фронте, и его старики родители подтвердили, и других свидетелей через суд собрала, — обошли мы тогда закон этот несправедливый. Вот у неё сын Вакулин и внуки Вакулины.
Когда мы ещё шли по улице, она показала на деревянный колодец с длинным журавлём:
— Этот колодец солдаты нам и починили, измарались, испачкались тогда. Помнишь, Анна, каким твой Ваня из колодца вылез?
— Чистый негр, — сказала Анна Петровна.
— Теперь у нас ещё два колодца есть, — продолжала Клавдия Григорьевна, — только и этот не сносим, вода в нём замечательно хорошая.
Мы пришли на сельское кладбище. Среди покосившихся деревянных и железных крестов стояли рядом две могилы, два холмика, поросшие травой, увенчанные двумя звёздочками, обнесёнными одним заборчиком.
— Можете написать, — сказал я, — Огородников Сергей Сергеевич и Лыков Василий Афанасьевич. У нас есть официальная бумага, кто именно обозначен на этой фотографии.
— Напишем, — пообещала Клавдия.
Некоторое время мы стояли молча.
— Может быть, найдём их родных, — сказал я, — мы им сообщим. Возможно, кто-нибудь приедет сюда.
— Пусть приезжают, — сказала Клавдия Григорьевна, — примем.
Анна Петровна посмотрела на меня большими чёрными глазами:
— Если что насчёт остальных узнаете, уж сообщите нам.
— Обязательно, — пообещал я, решив в эту минуту во что бы то ни стало разыскать остальные могилы.
Потом я попрощался с ними и той же полевой тропинкой, какой пришёл сюда, пошёл обратно в город.
Пройдя немного, я оглянулся.
Две женщины, одна покоренастее, поосанистее, другая худая, стройная, обе в платках, медленно поднимались по косогору к деревне.
Россия ты моя, Россия…
35
…Взрыв машины потряс сарай, осветил его полыхающим пламенем. Но Краюшкин успел услышать перед взрывом короткие автоматные очереди и понял — Бокарев.
Он подполз к щели, отодвинул дощечку, увидел горящую машину и тела убитых, — наверно, среди них было и тело Бокарева, а может, успел уйти, только вряд ли.
Из домов выскакивали немцы, кидались к машинам, угоняли, чтобы уберечь от осколков, от детонации; другие тушили пожар, третьи подбирали раненых и убитых. Улицу оцепили, на других улицах выстраивались команды, подняли гарнизон по тревоге, привели в боевую готовность. И в его, Краюшкина, доме тоже поднялись: офицер побежал в штаб, а шофёр выгнал машину со двора на штабную улицу и держал её на газу.
Суматоха продолжалась всю ночь. Только к утру немного утихомирились. Пожар потушили, машины вывели за город, усилили наряды, посты и караулы, заперли все входы и выходы в город и из города, оцепили вкруговую, прочесали, обыскали все дома. Но штабную улицу просмотрели так, для формы, забежали во двор, заглянули в сарай; немец-шофёр им что-то сказал, видно, успокоил, они и ушли.
К вечеру все угомонилось. Осталась усиленная охрана, посты, караулы, патрули; с улиц убрали штабные машины, а грузовые вывели за город.
Теперь Краюшкин в полной мере оценил кастрюлю с водой, принесённую Бокаревым. Хотя по этой кастрюле и могли его накрыть, но, видно, в суматохе не заметили её пропажи, не искали, и она стояла на сеновале рядом с Краюшкиным, и он изредка пил, чтобы поддержать силы; еды у него не было никакой уже второй день, да и до этого была полбуханка хлеба на двоих. Но он терпел, видел — транспорты идут вперёд, значит, немцы продвигаются и штаб здесь долго не задержится.
Ожидания его сбылись на следующее утро, пятое утро с того дня, как он с Бокаревым спрятался на сеновале. Штаб поднялся рано, снялся быстро: видно, всё было расписано у немцев накануне. Но на смену уезжающим машинам появились другие, и к полудню улицу занял новый штаб, ещё крупнее первого: больше было здесь «хорьхов», «оппелей-адмиралов» и «мерседесов».
Опять по улице сновали денщики и ординарцы, перетаскивали в дома офицерские чемоданы, связисты тянули связь. Кто обосновался в его доме, Краюшкин не видел: никто во двор не выходил. Опять денщики носили судки с обедами, и в штаб входили офицеры с папками, с портфелями, с бумагами; штаб работал, будто он был здесь и раньше, а уйдёт этот штаб — придёт другой, и, когда этому будет конец, неизвестно.
К вечеру Краюшкин услышал необычный и непривычный шум, окрики и команды. Он подполз к щели.
По улице вели колонну русских пленных.
Они шли по четыре в ряд, заросшие, измождённые, хмурые; некоторые опирались на плечи товарищей. Впереди, с боков и сзади шагали немецкие автоматчики.
Из штаба вышел генерал, вышли офицеры, и солдаты, и денщики, здоровые, упитанные, розовощёкие, — все вышли посмотреть на пленных.
Был тот короткий предвечерний час, когда дневная работа в штабе кончилась, а вечерняя ещё не началась. Можно побыть немного на тёплой улице, окрашенной лучами заходящего солнца.
И есть повод — зрелище прогоняемых по улице пленных.
Краюшкин натянул на себя шинель, разложил по карманам гранаты, допил воду из кастрюли, спрятал под полой автомат.
Потом спустился во двор, открыл калитку и пошёл по штабной улице.
Колонна двигалась далеко впереди него, она была уже возле шлагбаума, а он, Краюшкин, шёл посередине улицы — обросший, худой, помятый, похожий на пленных, которых гонят впереди.
И немцы приняли его за пленного, отставшего от колонны. Их обмануло то, как спокойно, уверенно, на глазах у всех шёл он по улице.
— Алло, рус! — окликнули его.
Но Краюшкин не ответил, не оглянулся, шёл как оглушённый.
Генерал что-то сказал рядом стоящему офицеру. Тот направился к Краюшкину.
Но не дошёл.
Первую гранату Краюшкин метнул налево — в генерала, вторую направо — в немцев, стоящих у машин.
Упал генерал, упали офицеры и солдаты, другие бросились за угол дома, за машины.
Краюшкин шёл посередине улицы и бросал гранаты… Направо! Налево! Одна! Другая! Третья!.. Шёл, освещённый багрянцем заката, и бросал по сторонам гранаты, неуязвимый для пуль, точно заговорённый символ несгибаемой и непокорённой страны…
И наконец упал…
И тогда немцы побежали к нему.
Он приподнялся и дал по ним последнюю очередь из автомата и приник к земле, убитый, не видя уже никого — ни пленных, бегущих в лес; ни немцев, стреляющих по нему, по мёртвому; ни солнца — оно склонилось совсем низко, почти к самому горизонту; ни дубов — их длинные тени пересекли улицу, где нашёл свою смерть Краюшкин.
36
Мне просто повезло на экзаменах. Всё время не везло, а на этот раз повезло. Я даже не собирался их сдавать. Но приехала комиссия. Накануне я просмотрел правила движения, перелистал учебник, тетради и решил: пойду. Провалюсь — наплевать! Не провалюсь — уеду в Москву с профессиональными правами.
Мне повезло. Я расположил к себе экзаменатора. Хотя это и был довольно мрачный старший лейтенант, высокий и тощий. На вопрос о том, что такое обгон, я ответил точно, по правилам: «Обгоном называется манёвр, связанный с выездом из занимаемого ряда». И показал на фигурках, какие именно движения машин называются обгоном.
Но покорил я его сердце на езде. Село нас в «Волгу» четыре гаврика. Один впереди, рядом с экзаменатором, трое сзади. По тому, как повёл машину первый, было ясно, что дело его — хана: рванул с места, заглушил мотор, делая левый поворот, заехал на левую сторону. Инспектор тотчас высадил его из-за руля. Парень спокойно вылез — оказывается, он сдаёт езду уже четвёртый раз и будет сдавать двадцать четвёртый, лопух: вылез из машины, не поставив её на скорость, не затянув ручного тормоза. Вылез и спокойно отправился домой.
Инспектор указал мне на его место. Я пересел, и первое, что сделал, — затянул ручной тормоз. Этот мой профессиональный жест подкупил инспектора: почувствовал опытного водителя. Велел мне развернуться на перекрёстке — я развернулся. Велел остановиться — я остановился у тротуара. Подписал мой листок; через час я получил права.
Так всё просто, быстро и хорошо на этот раз произошло.
Теперь я мог работать и на участке. Если, конечно, Воронов даст мне машину. Но даст ли он мне её? В отряде я ещё не показывался, ничего не решил, жил у дедушки: ведь у меня отпуск за свой счёт.
С дедушкой наши разговоры вертелись вокруг старухи Бокаревой. Он был этим очень озабочен.
— Могила не её сына, а Краюшкина, — говорил дедушка, — а ты ей ничего не сказал. Дом продаст, прикатит сюда, а это всё не её — езжай обратно! А куда обратно? Убьём старуху.
— Не мог я ей сказать, не мог! — закричал я. — Если бы ты видел её глаза, видел бы эту несчастную женщину, она живёт одним, этой могилой, этой поездкой, — ты бы тоже не смог ей сказать! Почему обязательно я? Пусть говорят те, кто писал ей, пусть снова напишут.
— Агапов? Ведь он запрашивал, высказал предположение.
— Вот и пусть напишет правду.
— А может, и не стоит писать правду? — сказал вдруг дедушка.
— Это невозможно, — ответил я, — кто позволит говорить неправду?
— Так ведь правду пока знаешь ты один.
— Я неправды говорить не буду.
— Неизвестно ещё, где она, настоящая правда, — сказал дедушка.
— Ага, — с горечью сказал я, — все решили, что это Бокарев, только я один сомневался. И теперь, когда я доказал, что был прав, я должен от всего отказаться. Выходит, я зря искал, зря всё делал…
— Почему же зря? — спросил дедушка. Нашёл матери сына — разве этого мало?
Я не знал, как поступить. Я не мог скрывать правду, но мне было жалко старуху Бокареву, и Клавдию Иванцову, и Анну Петровну. Эти люди ждут до сих пор, ждут и надеются. А дети Краюшкина не ждут и не надеются. Но пусть они плохие дети — при чём же сам Краюшкин? Ведь его могила, он разгромил штаб, — разве не обязаны мы ему воздать должное?
Так я и не мог ничего решить, ничего не предпринимал. Пусть решают сами, пусть сами предпринимают что надо. Кого я имел в виду — не знаю. Совет ветеранов? Штаб следопытов? Горсовет? Не знаю. Стоит при дороге могила неизвестного солдата, ничего на ней не написано; я один знаю, чья могила, ну ещё и дедушка с моих слов. И каждый может думать что хочет: Бокарева — что здесь её сын, Краюшкины — что здесь их отец. Ведь в могиле Неизвестного солдата в Москве тоже неизвестно кто.
Так ничего и не решив, я отправился на участок. С участком я тоже ничего не решил. Покажу Воронову свои права, увижу, что он мне предложит, и тогда решу.
Самое неожиданное, что ожидало меня в отряде, — это Зоя Краюшкина. Она сидела возле вагончика.
— Ты откуда взялась? — удивился я.
— Приехала.
— Вижу, что приехала. Зачем?
— На могилу, к дедушке.
Честное слово, никогда не знаешь, что можно ожидать от таких вот чересчур интеллектуальных девиц. То им всё до лампочки — традиции, обычаи, всякие мероприятия, то они несутся сломя голову неизвестно куда и зачем: примчалась к могиле дедушки, о котором ничего не знала и знать не хотела. Сидит тут, среди этих вагончиков, в своих очках, короткой клетчатой юбке, гольфах, этакая туристка. Дедушка ей понадобился!
Двери вагончика были открыты; я видел в глубине его Воронова и инженера Виктора Борисовича. Они чего-то рассматривали, какой-то чертёж, что-то обсуждали, а Люда с любопытством косилась на Зою. Шла обычная работа участка, дорога строилась, и моё возвращение не произвело здесь ни впечатления, ни сенсации. Вернулся, и ладно. У них свои заботы. Они и забыли, наверно, о том, куда и зачем я ездил.
— Понимаешь, какое дело, — сказал я Зое, не зная, как ей всё объяснить, и в то же время чувствуя, что именно вот эта девчонка должна всё понять, я был в Красноярском крас, у матери старшины Бокарева. Одинокая старуха, совсем одна, тридцать лет ждала известий о сыне, ждала, что найдут его могилу…
Чёрт возьми! В вагончике, наверно, слышно всё, что я говорю. Впрочем, Воронов и Виктор Борисович углубились в чертёж.
Всё же я сказал Зое:
— Отойдём в сторонку.
Но она не двигалась с места. Сидела на камне, смотрела на меня и не думала подниматься.
— Понимаешь, продолжал я, ей написали. Написали неправильно, поспешно, и она решила, что неизвестный солдат это её сын, Бокарев.
— Но это не её сын, — возразила Зоя, это мой дедушка.
— Да, это твой дедушка, — подтвердил я, — но она так уверена, что это её сын, так этого ждала.
Теперь я с надеждой смотрел на Зою. В сущности, она единственный человек, который может всё решить. Я не знаю, как это сформулировать, но теперь был как раз тот случай, та ситуация, когда вот такая девчонка в короткой клетчатой юбке могла стать человеком. Она стала человеком, приехав из-за дедушки, которого не знала. Теперь она может показать себя большим человеком.
— И вот, заключил я, — она решила приехать сюда.
Зоя помолчала, потом спросила:
— Зачем?
— Хочет дожить жизнь возле его могилы, хочет умереть здесь, хочет, чтобы похоронили рядом. — Я смотрел Зое прямо в глаза. — Ведь, в сущности, эта могила ей нужнее всех.
Зоя ничего не ответила, сидела задумавшись.
Подошёл Андрей, увидел меня, удивился обрадованно:
— Здоров! Приехал? Ну как?
— Порядок, вот твой плащ.
— Пригодился?
— Пропал бы без него.
Подошли бригадир Мария Лаврентьевна, и ещё бригадир, и механик Сидоров. Участок снимается, идёт на новое место, и они должны получить последние распоряжения о передислокации.
Из вагончика вышли Воронов и Виктор Борисович.
Увидев меня, Воронов сказал:
— А, явился… Ну как дела?
— В порядке, — ответил я.
Он кивнул на Зою:
— Тебя дожидается. Распутал ты это дело?
Я смотрел на Зою и медленно сказал:
— По всем данным, неизвестный солдат — это старшина Бокарев. Скоро сюда приедет его мать.
И я смотрел на Зою. Ждал, что скажет она — возразит или не возразит.
И Воронов тоже смотрел на Зою. И Виктор Борисович, и Мария Лаврентьевна — все смотрели на Зою: жалели, что ли, её, что зря приехала? А может быть, как и я, ждали её ответа.
Но она ничего не ответила.
И тогда Воронов объявил:
— Это было ясно с самого начала. А ты никому жизни не давал, всех тут перекрутил по-своему, перебаламутил, столько рабочего времени потерял.
Я хотел ему возразить. Но он вдруг положил руку мне на плечо. Провалиться мне на этом месте! Он положил руку мне на плечо, и у него были влажные глаза.
Через три дня мы снялись. Свернули шатёр-столовую, убрали Доску почёта, сложили на машины инструмент, бочки, запчасти, погрузили на трейлеры дорожные машины, прицепили вагончики к самосвалам.
Отряд длинной походной колонной выстроился вдоль дороги.
На головной машине ехал Воронов, за ним Виктор Борисович, потом Юра с Людой в кабине, потом наши женщины в кузовах, потом Андрей, Маврин и другие механизаторы на трейлерах. Я ехал за рулём предпоследнего самосвала, вёз инструмент. Замыкал колонну механик Сидоров — на случай, если с какой-нибудь машиной что случится.
Ехали мы медленно из-за трейлеров, но Воронов запретил их обгонять.
Могилу неизвестного солдата я увидел издалека, увидел фигурки людей возле неё, а когда подъехал ближе, разглядел, что это Зоя и старуха Бокарева.
Антонина Васильевна опустилась на колени и поцеловала землю, на которой, в этом месте, в другом ли, похоронен её сын.
Потом Зоя подняла её.
И когда первая машина поравнялась с ними, она дала длинный-длинный гудок. И вторая машина дала гудок. И третья… И когда я поравнялся с могилой, я тоже дал гудок.
И так, подавая гудки, наша колонна проследовала мимо солдатской могилы, мимо солдатской матери и солдатской внучки.
1969—1970
|