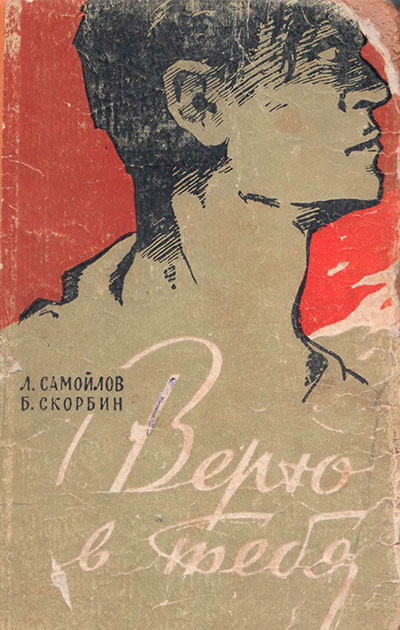Я хотел бы, чтобы все знали, что не было безымянных героев, что были люди, которые имели своё имя, свой облик, свои чаяния и надежды, и поэтому муки самого незаметного из них были не меньше, чем муки того, чьё имя войдёт в историю. Пусть же павшие в бою будут всегда близки вам как друзья, как родные, как вы сами!
Юлиус Фучик
ВМЕСТО ВСТУПЛЕНИЯ
Дай твою руку, молодой товарищ! По страницам нашей повести, как по незнакомым дорогам, мы поведём тебя и твоих сверстников в недавнее прошлое — в небольшой тихий городок Калужской области — Людиново. Если ты калужанин, то наверняка хоть немного знаешь об этом городе, знаешь его историю, его людей. Если же ты житель Урала или Сибири, Донбасса или Дальнего Востока, может быть, ты никогда и не слыхал о Люцинове. Мало ли таких городов и посёлков на русских просторах, во всех краях нашей Родины!..
Разверни географическую карту. К югу от Москвы, в ста восьмидесяти восьми километрах юго-западнее Калуги, у большого озера Ломпадь стоит город Людиново.
Окна многих домов глядятся прямо в озеро, словно наблюдают за игрой красок и прислушиваются к его неторопливому, размеренном дыханию. Рядом шумит завод. С улицы доносятся гудки автомобилей. А вокруг — Брянский лес. Со всех сторон он вплотную подступает к городу, и кажется, будто дома, улицы, заводы, парки и озёра — всё это отвоёвано у леса
Люди пришли сюда давным-давно, ещё в семнадцатом веке. Знаменитый уральский купец и промышленник Демидов вызнал, что земля калужская, богатая лесом, таит уголь и железо — значит, есть где разгуляться вовсю. И стал сгонять сюда крепостных крестьян, битых и голодных, отправлять по этапу пойманных беглых каторжников да приставлять к ним мастеровых, искавших, где бы заработать кусок хлеба, щепотку соли да кружку кипятку.
Прошагав много сотен вёрст, добирались сюда уральские жигали, шли тульские кузнецы, самородки-доменщики, плотинные умельцы и просто копатели. Они селились в этих местах, рыли землянки, складывали курные избы, из которых выходили на работу ещё затемно и затемно возвращались в них. Измученные, обессиленные, валились на земляной пол, на солому, на тряпьё — -куда угодно, лишь бы поспать часок-другой. Люди новые, они сами же окрестили своё новое пристанище — Людиново. Может быть, их прельстило звучное, красивое название
Тринадцать долгих многотрудных лет бились с суровой природой демидовские рабы. И, наверное, однажды сами удивились делам рук своих. В 1745 году задышала, загудела первая домна, и из её огненного чрева полился, ослепляя и обжигая, долгожданный чугун.
Переверни ещё несколько страниц истории, дорогой товарищ. Может быть, тебе будет интересно узнать, что русская металлургия многим обязана Людиновскому заводу. Он первый дал для «чугунки» рельсы, и они лёг ли на равнинном и заболоченном пространстве Николаевской (ныне Октябрьской) дороги.
И ещё, говоря о многом, что потом производил Людиновский завод, нужно добавлять слова «первый» или «впервые». Первый в России двигатель для военного корвета «Воин». Первые паровые машины для Санкт-Петербургского арсенала и Тульского оружейного завода. А затем и пароходы, впервые пофевожившие воды Днепра и Десны. И, наконец, в 1870 году в цехах завода талантливые мастера создают свой первый паровоз. Людиновские паровозы не уступали заморским ни качеством, ни красотой. На московской политехнической выставке в 1872 году Людиновскому заводу присудили большую золотую медаль и аттестат первой степени.
Неторопливо и будто бы обычным шагом шли годы и на своём пути оставляли всё новые и новые приметы грядущей индустриальной эпохи. Вскоре Людиновский завод начал строить локомобили. А совсем рядом уже вырастал Сукремльский завод чугунного литья. Можно предположить, что местные жители пытались сделать свой посёлок «со Кремлём» — отсюда, видимо, и пошло название Сукремль.
К началу двадцатого века оба завода работали на полный ход. Локомобили людиновской марки высоко ценились далее наМировыхрынках, и нередко приезжавшие сюда, в Людиново, иностранные специалисты, представители крупнейших капиталистических фирм, удивлённо пожимали плечами: что это за народ — русские? Полуголодные, неграмотные, в отрепьях, а делают такие чудо-машины. И невольно снимали шляпы перед русскими умельцами.
Заводской люд трудился, как говорится, от зари и до зари. Терпеливый и неприхотливый, привыкший к самым, казалось бы, нечеловеческим условиям жизни, он время от времени бунтовал, и тогда урядники пороли рабочих плетьми, зачинщиков заковывали в кандалы, бросали в тюрьмы, ссылали па каторгу. Но уже становился па иогп и распрямлял плечи рабочий класс, и его первые вожаки, идя на виселицу или на каторгу, наказывали друзьям не склонять головы.
И они не склонялись, не с давались. Вместе с заводами росли и ряды революционеров.
Нынешние дин наши неразрывно связаны прошлым. В случайно сохранившихся книгах, в пожелтевших и полустёртых шгшеях, письмах, дневниках ты пишешь, товарищ, волнующие строки о труде и борьбе наших дедов и отцов, увидишь следы изумительных событий, услышишь отзвуки отгремевших бурь. Не пожалей времени, вглядись, вчитайся в страницы истории, и пусть твоё сердце забьётся сильнее, пусть взор твой станет острее, пусть новая, неуёмная энергия наполнит всё твоё существо. Ведь ты — наследник и продолжатель всех славных дел, свершённых нашим народом.
В глубине Людиновского городского парка стоит небольшой памятник старому большевику Игнату Ивановичу Фокину. Этот скромный, ласковый и внимательный к людям человек с чуть прищуренными глазами, прикрытыми стёклами очков в металлической оправе, прожил короткую, но яркую, полную горения жизнь революционного борца. В 1906 году он поступил на Людиновский завод. Незаметный, тихий ученик чертёжника стал руководителем подпольной социал-демократической организации, и к нему тянулись, вокруг него сплачивались все, кто шёл в революцию, кто готовил приход её день за днём, год за годом.
Игнат Фокин был умелым конспиратором и страстным пропагандистом ленинских идей. Он вёл жизнь профессионального революционера и не страшился опасностей, подстерегавших его на каждом шагу Шпики царской охранки всё же выследили вожака людиновских рабочих и бросили его в тюрьму. Но и в тёмной, сырой камере Фокин оставался бойцом. Он связывался с товарищами, работавшими на воле, подбадривал, вдохновлял их и призывал хранить верность великому делу борьбы за освобождение рабочего класса. О себе самом он писал коротко, без колебаний:
«Вне пролетарской борьбы нет для меня жизни. Я — детище её».
Таким он и остался в памяти народной.
Незабываемый тысяча девятьсот девятнадцатый год!.. Ты знаешь о нём по книгам и кинофильмам. Такие, как Фокин, были современниками и бойцами тех лет, разведчиками грядущего, пролагателями путей в наше сегодня.
«Председатель Советской власти» почти ежедневно выступал на митингах и рабочих собраниях. Его чистый, звонкий голос часто прерывался болезненным кашлем. В эти минуты Фокин бледнел, покрывался липким холодным потом и становился похожим на старика, хотя был ещё очень молод. Но через секунду-другую он справлялся с кашлем, и опять его голос звучал громко и доносился до самых дальних рядов.
Игнат Иванович Фокин, больной, искалеченный царскими тюрьмами, умер 13 апреля 1919 года.
Сказать, что Великая Отечественная война прошумела и над Людиновом, — значит почти ничего не сказать.
Пег, война здесь не прошумела, а обрушилась на городок всей своей неизмеримой тяжестью, искромсала его железными ливнями, опалила пламенем пожаров, залила слезами и кровью, надолго придавила кованым сапогом немецко-фашистской оккупации. Но маленький советский город не сдавался. Он жил, он дышал воздухом своей земли, он боролся.
Чем дальше уходят в прошлое военные годы, тем ярче проступают и становятся зримее детали, факты, приметы, составлявшие героику того времени.
Для того чтобы рассказать тебе, друг наш, о военных годах города Людиново, мы и приехали с тобой сюда.
Конечно, Людиново ничем особым не поразит твоё воображение. Небольшие двух- и трёхэтажные дома, не очень людные улицы, открытая всем ветрам площадь имени Фокина. Магазины, ларьки, киоски. Но вон там, совсем недалеко, вырастают кварталы новых домов. Уже виднеется здание Дома спорта — его строят своими силами комсомольцы и заранее уважительно называют Дворцом. А вот и Людиновское озеро, о котором мы говорили тебе вначале. Гляди, сколько рыбаков, специалистов подлёдного лова, уютно устроилось у прорубей. Сколько лыжников, хоккеистов и болельщиков. Сколько ребятишек на салазках. Ведь сегодня воскресенье, день отдыха, и каждый от мала до велика отдаётся любимому делу.
О новом надо судить не только по внешним приметам. Новое — в людях, в их труде, в их успехах.
Хотя Людиново — городок небольшой (в нём около 30 тысяч населения), но у тебя, наверное, не хватит времени посетить все его предприятия,- учебные заведения, клубы и библиотеки. Поэтому мы коротко расскажем тебе, чем богат и славен город сегодня.
В цехах Людиновского тепловозостроительного завода несколько тысяч рабочих, инженеров и техников строят мощные маневровые тепловозы. Сукремльский чугунолитейный завод выпускает различные трубы, фасонное и арматурное литьё для отечественных новостроек и на заграничный рынок. На промышленном комбинате делают мебель, строительные материалы и шлакоблоки. Работают швейная фабрика, хлебозавод, пищевой комбинат, строительно-монтажное управление. В городе есть машиностроительный техникум, ремесленное училище для будущих тепловозников, два строительных училища, три средние школы.
Во Дворце культуры выступает коллектив самодеятельного народного театра; есть клуб чугунолитейного завода, кинотеатр, спортивные команды, несколько библиотек и читальных залов
На предприятиях много бригад коммунистического труда.
Думаем, что этой краткой справкой можно ограничиться. Теперь ты представляешь, что Людиново — не «заштатный», провинциальный городишко, а промышленный город, богатый прошлым, настоящим и, главное, будущим.
Метёт позёмка. Снег скрипит под ногами. Ты не устал, товарищ? Давай пройдёмся по некоторым улицам и посмотрим таблички с названиями. По этим улицам — Комсомольской, имени Луначарского, Крупской, Войкова - мы ещё будем водить тебя на страницах нашей повести. А сейчас запоминай новые названия. Улица Шумавцова. Улица сестёр Хотеевых. Улица Апатьева. Улица Лясоцкого Это людиновские комсомольцы-подпольщики, павшие смертью храбрых в дни гитлеровской оккупации. Их имена высечены и на памятнике, что стоит в центре парка неподалёку от памятника Фокину. Таки стоят они рядом, застыв в бронзе и граните: профессиональный революционер, боец Октября коммунист Игнат Фокин и комсомолец сороковых годов Герой Советского Союза Алексей Шумавцов.
Заснеженный парк. С высокого гранитного пьедестала глядит Алексей Шумавцов. Он стоит с непокрытой головой в летней вышитой украинским узором рубашке. Правая рука чуть выдвинута вперёд, левая сжимает древко знамени. На постаменте — бронзовый барельеф: помощники героя выполняют боевое задание. На боковых плоскостях видны тексты Указов Президиума Верховного Совета СССР о присвоении А. С. Шумавцову звания Героя Советского Союза — посмертно — но награждении орденами других участников подполья — погибших и живых.
Блестящие кристаллики снежинок покрывают голову, плечи, грудь Алёши; ветер, захлестнувший Знамя, кружит и бьёт в лицо. А он, гордый, непокорённый, смело глядит вдаль, и кажется, что сейчас, через мгновенье, шагнёте
пьедестала и пойдёт вперёд, в нашу сегодняшную жизнь. «Добрый день, Алёша! Становись рядом. Поднимай Знамя!»
Камень и бронза молчат. Молчит и задумавшийся невдалеке Игнат Фокин.
Тишина. Но тишина кричит, и в уши бьёт спрессованный воздух взрывных волн, гремят артиллерийские залпы, неумолчно тарахтят автоматы, содрогается, как при землетрясении, почва под ногами. Тишина кричит, н мы слышим родные голоса тех, кто ушёл в бессмертие и сейчас стоит в почётном карауле на родной земле, окроплённой горячей кровью.
Возле памятника Шумавцову медленно, чуть наклонив голову, прохаживается невысокий молодой мужчина в тёмном пальто и тёплой шапке-ушанке. Он изредка останавливается, взглядывает на памятник, перечитывает слова Указа, фамилии награждённых, словно хочет запомнить их навсегда, затем снова начинает ходить, ходить
Мы знаем этого человека. Мы встречались с ним и вместе бережно перебирали документы недавнего прошлого. Мы слушали его рассказы и зримо представляли себе многое из того, что потом легло на страницы повести.
Этот молодой человек- — следователь Владимир Иванович. По поручению Комитета Государственной безопасности он в составе оперативно-следственной группы, говоря официально, «вёл дело», допрашивал изменника и палача, беседовал со свидетелями. Чекист-коммунист разыскивал н собирал, как драгоценные крупицы, факты героической борьбы людиновских партизан и подпольщиков.
Своим трудом он и его товарищи помогли советскому народу раскрыть ещё одну яркую страницу из летописи Великой Отечественной войны, а правосудию — наказать предавшего Родину преступника, русского по рождению, фашистского прихвостня по убеждению, садиста и палача по призванию.
Заметив нас, Владимир Иванович шагнул навстречу, протянул руку и чуть заметно улыбнулся, отчего его полное круглое лицо приобрело мягкое, мечтательное выражение.
— Здравствуйте, Владимир Иванович.
— Здравствуйте, товарищи.
— Мы не ожидали встретить вас здесь.
— Отчего же? — Он погасил улыбку, и что-то строгое и бесконечно грустное промелькнуло в его глазах. — Я не мог не приехать. Я должен был посмотреть на Алёшу. Понимаете, — продолжал он, — когда открывали памятник, я не успел приехать. Дела всякие задержали. И очень жалею. Хотелось встретиться с приехавшей из Минска Зинаидой Хотеевой, повидаться с другими партизанами. Да вот не вышло.
— Значит, навёрстываете упущенное?
— Разве наверстаешь?.. Впрочем, мы своё дело сделали. Теперь очередь за вами. Пишите!
Он повернулся лицом к памятнику, и до нас донёсся его негромкий, будто приглушённый голос:
— Только напишите так, чтобы Не знаю, как, я не литератор, сами знаете. Но пусть в вашей книге будет настоящая правда
Дай же твою руку, молодой товарищ. Начинаем путешествие в недалёкое прошлое.
Глава первая
СНОВА ДОМА
I
Чудесны июньские зори: тёплые, нежные, мягкие. Ночь ещё не успела растянуть над землёй свой чёрный, расцвеченный звёздами полог, а с востока уже идёт, приближается серый рассвет, из-за леса медленно и величаво выкатывается золотисто-оранжевый шар, и первые солнечные лучи осторожно ласкают землю.
Босые ноги чуть холодит густая росистая трава. Деревья, стряхивая дремоту, тихо шелестят листвой, а по ветвям скачут, начиная хлопотливый день, повеселевшие птицы. Вот уже в полную силу пылает заря. Над озером рассеиваются тонкие, воздушные струйки испарений. Первые купальщики торопливо раздеваются и бросаются в воду, не успевшую остыть за короткую ночь. По улицам, вспугивая тишину, прогромыхивают редкие грузовики; хозяйки спешат ка базар. Занимается новый день.
Бывает, что тучи заволокут небо, закроют солнце, прошумит вместе с ветром летний ливень. Воздух посвежеет, станет прозрачным и влажным. Но это ненадолго. Тучи быстро рассеиваются, лужи высыхают, и опять солнце согревает и ласкает землю, на которой так хорошо жить и мечтать о будущем.
Да и как не мечтать, если тебе семнадцать или восемнадцать! - Как не любить эти домики, эти улицы, эти тропинки, ведущие в лес, если здесь прошло твоё беспечное детство и теперь юность, румяная, как эти зори, набирается сил и уже зовёт тебя далеко-далеко
«Товарищи, подружки, — иногда, очень редко, откровенничала Шура Хотеева. — Мы, наверное, самые счастливые Неужели мы когда-нибудь тоже станем пожилыми и солидными? Нет, мы всегда останемся молодыми».
Смущённая своими же словами, она закрывала лицо ладонями и отворачивалась.
Всё ребята считали Шуру романтической натурой. Она увлекалась поэзией и восторженно читала про себя стихи, незаметно шевеля губами, и вслух, откидывая красивую стриженую голову. Она могла подолгу недвижно сидеть дома у окна, в опустевшем классе или на опушке леса и наблюдать за плавным движением Лёгкого пушистого облачка, слушать дыхание трав, шорох деревьев и думать, думать, думать
Шура не любила споров, громких разговоров, брезгливо морщилась, услыхав грубое слово, и часто уединялась.. Правда, это не мешало ей быть общительной и «приклеиваться» к хохочущей компании подружек и ребят, затевавших прогулки в лес, гонки на велосипедах или лодочные состязания на озере. Молодость втягивала в шумное веселье даже таких тихих, застенчивых мечтателей и романтиков, как Шура Хотеева.
Уединяться ей не позволял и Лёша Шумавцов. Он тоже был романтиком, но, как выражалась Шура, в нём сидели бесенята и не давали ему покоя. Помечтать — это он любил. Поговорить о будущем, почитать интересную книжку, послушать хорошее стихотворение — пожалуйста, сколько угодно. Но это не означало,
что нужно обязательно сидеть на месте, впадать в меланхолическую задумчивость или вздыхать на луну. «Бесенята» непрерывно тормошили Лёшу. Его натура требовала простора, движения, размаха. Мечтать — так мечтать, и чтобы пыль клубилась, и ветер в лицо, и ливни хлестали тебя, и буря валила деревья, и гром раскалывал небосвод.
— Шурочка, — восторженно говорил Лёша. — Почему у тебя на лице всегда грусть?
— Не знаю, — отвечала Шура. — Ты, Лёша, весь какой-то громкий, бурный, а я
— Тихая? Или тихоня?
— Может быть Но я не хочу, чтобы и ты был тихим. Будь самим собой. И я тоже.
Разные характеры не мешали им дружить и даже скреплять свою дружбу юношеской влюблённостью Эту влюблённость, придававшую их отношениям ещё не осознанную самими неизъяснимую прелесть и целомудренность, они тщательно скрывали от всех и в первую очередь от самих себя. Но от внимательных глаз сестео Тони и Зины, от наблюдательного Толи Апатьева, ог сосредоточенного Коли Евтеева и даже от непоседливого Шурика Лясоцкого ничего скрыть было нельзя. И сёстры, и друзья всё видели и почти никогда об этом не заговаривали. Потому что понимали: в таком деликатном деле неудачно сказанное слово, откровенный намёк или случайная усмешка может больно ранить и даже оскорбить. Шура сразу же замкнётся, глаза её сузятся и потемнеют, и она или скажет что-нибудь гневное, непривычно резкое, или заплачет, как маленькая обиженная девочка. Алёша — тот может выкинуть такое, что зубоскалу или непрошенному советчику не поздоровится.
Шура и Алёша дружили давно, хотя встречались редко. Шура училась в Людинове, а Алёша посещал школу в посёлке Ивот Дятьковского района, где с детских лет жил и воспитывался в семье своего дяди Якова Алексеевича Терехова. Посёлок Ивот не так уж далеко, не больше 35 километров, но зимой и осенью Алёша, конечно, не мог часто бывать в родном городе. Школа, комсомольские поручения и книги — а их он читал запоем — забирали всё время. Но зато, когда наступала пора школьных каникул, Алёша сразу же отправлялся домой.
Собственно, у него было два дома, и оба родные. В Людинове мать, отец, ставший брат, бабушка. Мать — внимательная, заботливая, беспокойная, отец — строгий, всегда занятый, но прямой и справедливый. А бабушка — о ней и говорить нечего. Она любила Алёшу так, как только умеют любить бабушки, для которых на закате их жизни внук становится самым близким и дорогим существом.
А в посёлке Ивот тоже был родной дом. Так уж сложилось, что начальник цеха локомобильного завода Семён Фёдорович Шумавцов обзавёлся большой семьёй и ему нелегко было прокормить и воспитать всех детей. А Яков Алексеевич Терехов и его жена Наталья Михайловна были бездетными, и им для полноты семейного согласия и счастья не хватало весёлого гомона и детских забав.
На семейном совете родственники решили отдать Алёшу Тереховым. Пусть живёт и воспитывается у дяди, пусть учится в Ивоте, а к родителям приезжает «на побывку».
Яков Алексеевич, человек мягкого характера и доброй души, привязался к Алёше, как к родному сыну. Рабочий, коммунист, в молодости слушавший и хорошо запомнивший речи и советы большевика Игната Фокина, Терехов понимал, что из парня надо вырастить не белоручку, не маменькиного сыночка, а трудолюбивого, честного человека. И Яков Алексеевич приучал Алёшу к самостоятельности, труду, прилежанию и упорству. Не раз, бывало, усядутся они оба на крылечке возле дома и дядя Яша заведёт разговор о жизни.
— Вот ты мастеришь, Лешенька, в приёмнике копаешься, и у меня душа радуется. Правильно делаешь. У рабочего человека должны быть руки золотые: к чему ни притронется — всё оживает. Труд — он главное в жизни.
— Дядя Яша, а что ещё главное?
Этот вопрос ставил Терехова в тупик. Ах, как сокрушался он, что не хватало у него слов и знаний, чтобы объяснить сыну — да, он называл Лёшу сыном, сынком — всё, всё для понимания смысла существования и большой цели в жизни советского человека. Рабочий стекольного завода, он не мог похвастаться образованием
или педагогическим опытом. Выручали «партийная душа», большой жизненный опыт.
— Что ещё главное?.. Видишь ли, сынок, главное это ну, как бы тебе объяснить — Яков Алексеевич покашливал и поглаживал голову Алёши ладонью большой натруженной руки. — Всё главное, если делается, как надо, и идёт на пользу людям.
— А как надо? — не унимался Алёша.
— Надо, чтобы человек думал не только о себе, а и о других думал.
— О соседях, о знакомых?
— Не только о них. О всех. Людиново или Ивот, к примеру, — это только махонькие кусочки. О всей земле советской думать надо. И уметь по этой земле идти не случайной тропкой, а прямой и большой дорогой.
Лицо Лёши выражало столько внимания и готовности всё понять и немедля же пуститься в путь по этой большой дороге, о которой говорит дядя, что Яков Алексеевич невольно любовался парнем. И так как ничего больше сказать не мог («эх, образование бы мне!»), он прибегал к спасительной концовке:
— Вырастешь — большевиком, коммунистом станешь, с Лениным посоветуешься, тогда всё тебе ясно будет.
И часто на помощь звал жену Наталью Михайловну. В молодости она была комсомолкой, даже окончила совпартшколу и в семье Тереховых считалась «политиком».
— Ты, Лёшенька, с тётей Наташей посоветуйся, она у нас голова и может тебе всякие лекции прочитать.
Наталья Михайловна горячо любила Лёшу, мыла, кормила, обшивала его и ревниво следила, чтобы, не дай бог, кто-нибудь не посягнул на её любовь и на её права. Она тоже хотела воспитать Лёшу «настоящим человеком» и поддерживала в нём всё хорошее: прямоту, честность, умение добиваться задуманного, прилежность в ученье и пристрастие к книгам. Конечно, никаких лекций она ему не читала, но часто говорила: «Вот это плохо, а это хорошо Так и дальше поступай.. А так делать не след Помни, у тебя отец коммунист и дядя коммунист, значит, и ты должен выйти в коммунисты»
— Я буду коммунистом! — уверял Алёша, и тётя Наташа, ласково улыбаясь, хвалила:
— Молодец. Я верю в тебя, родной Погляди, я тебе новую книжку достала. Уроки сделаешь — почитай, «Как закалялась сталь» называется.
Эту книгу Алёша читал уже дважды — от строки до строки — и завидовал Павке Корчагину. Вот это парень, сталь настоящая. Поработал и повоевал за десятерых.
Алёша верил каждому слову, каждому поступку Корчагина и даже представлял себя на его месте. Вот и он становится вожаком комсомольцев, мчится с буденновцами на коне в кавалерийскую атаку, рубает беляков, защищает Советскую власть. Ох, какие ребята были! Таким, только таким нужно стать, чтобы не было мучительно больно за прожитую жизнь. Только один раз Павка проявил слабость. Страницы с раздумьями Корчагина о самоубийстве Алёша перечитывал несколько раз и от волненья покачивал головой — чуть было не дезертировал Павка из жизни. Но зато потом, когда болезнь свалила его в постель, сколько выдержки, мужества проявил этот бывший будённовец. Настоящий боец!
Читал Алёша и другие книги: о Чкалове, о челюскинцах и даже о Камо — о том большевике, который был поистине железным и стойко перенёс все пытки, удивляя видавших виды палачей из царской охранки. Бережно хранил у себя томик «Овода», переживал за Артура и немало упрёков адресовал Монтанелли. Алёшу увлекали книги о людях сильной воли и необыкновенной судьбы. По ним он как бы сверял и собственный характер и собственную волю. А когда Наталья Михайловна однажды спросила, кем бы он хотел стать, когда вырастет, Алёша твёрдо, без колебаний ответил:
— Лётчиком!
— Лётчиком? — удивилась тётя Наташа. — Ишь, соколик, уже крылышки распрямляешь. Значит, в небо взлететь хочешь. Это хорошо. Только трудно и опасно.
— Значит, по мне, — заявил Алёша, гордо выпячивая грудь. И уже видел себя в кабине самолёта, что стрелой пронзает облака, выносится в голубой воздушный океан и серебристой точкой мелькает в глазах изумлённых ребят.
Все соседи, ребята и учителя привыкли к тому, что Алёша — Тереховский. Они и не называли его Шумавцовым. Терехов. Алексей Терехов — так он и значился в классном журнале. На эту фамилию откликался. И ничуть не удивился, когда получил в райкоме комсомола членский билет на имя Терехова. О формальностях тогда никто не подумал, а по существу, по жизни он и был Тереховым — сыном Якова Алексеевича и Натальи Михайловны. Родной, не родной ли — это никого не интересовало Важно, что школьник Алексей Шумавцов-Терехов стал членом комсомольской организации посёлка Ивот. Такой не мог оставаться в стороне от комсомола.
В Ивоте Алёша дружил с Женей Туликовым. Жили они по соседству и находили время поверять друг другу свои мальчишеские тайны и мечты. Женя был спокойнее, рассудительнее Алёши и в заоблачные выси не стремился. Он решил стать учителем. * Но друга ни от чего не отговаривал.
— Закончишь, Лёшка, школу, тогда и определишься. В лётчики? Ну что ж, валяй в лётчики. А когда над твоей буйной головой засияет слава, не забудь меня.
— А что такое слава? И на кой она мне?
— Слава — это известность, почёт, все тебя уважают, смотрят на твои портреты и гордятся тобой.
— Может, это не такое плохое дело — слава? — Алёша быстро всё обращал в шутку. — Нет, я не забуду вас, сельский учитель Евгений Николаевич Туляков. Я вас допущу пожать мне руку и посидеть рядком. Недолго, конечно. Мне надо спешить на заседание в Кремль.
— До Кремля тебе, Лёшка, далеко, — охлаждал его пыл Женя. — Так что пока хватит с тебя нашего Сукремля. Вот поедешь ты скоро в Людиново. Взберись на Сукремльскую плотину и постой на ней, будто ты знаменитый людиновец и приехал посмотреть: а что тут мои земляки-работяги сделали? Хорошо ли они трудятся? Или советую на самой верхушке плотины стихи почитать. Тебя примут за сумасшедшего и быстро отправят в больницу. А там можешь вообразить себя даже Наполеоном.
Оба смеялись, а самим становилось грустно. Наступала пора каникул, Алёша на всё лето собирался в Людиново, а Жене так не хотелось расставаться с другом.
— Эй, Лёшка, покидаешь ты меня. Не пущу!
* Е. Н. Туляков ныне учительствует в пос. Ивот Дятьковского р-на Брянской области.
— Ну, брат, меня не удержишь Ничего. Женя, лето — оно быстро пролетит, и мы опять будем, вместе.
II
Лето 1941 года было сухое, знойное. Солнце палило, жгло, и от жары и духоты можно было спасаться только в лесу или на берегу озера. Так ребята и делали: то отправлялись в лес, забирались в самую чащобу и там, растянувшись на присыпанной хвойными иглами земле, рассказывали кто о чём. То усаживались на берегу озера и, устав от разговоров и споров, затягивали песни. Время от времени кто-нибудь предлагал сделать перерыв и выкупаться, и тогда наперегонки в воду шлёпались Алёша и Тоня. Толя и Зина. После купанья все снова усаживались на берегу — и снова рассказы, споры, песни.
Главными рассказчиками были, конечно, Тоня Хотеева и Коля Евтеев. Они, студенты, учились в Москве и обязаны были отвечать на множество сыпавшихся на них вопросов: как сейчас выглядит Красная площадь, много ли народу в метро, какие новые картины появились в Третьяковке, есть ли лодочная станция на Москве-реке, хватает ли получаемой стипендии и скоро ли товарищи студенты превратятся в образованных специалистов и начнут зарабатывать хлеб своими руками и своей головой. Тоня отвечала быстро, находчиво, а иногда с язвительным хохотком и подковыркой. Она очень гордилась тем, что училась «в самой Москве», но считала себя коренной людиновкой и пресекала своими репликами и остротами всякого, кто пытался намекнуть на то, что она теперь москвичка и, наверное, про Людиново скоро совсем забудет. Коля же отвечал или рассказывал медленно, словно обдумывал каждое слово, но и он иногда забывал о своей солидности и, сняв очки, делавшие его очень взрослым, валился на спину и заразительно смеялся.
— Ой, ребята, уморили, честное слово. Кто же не знает, что симфонический оркестр Большого театра
Коля увлекался музыкой, играл на скрипке и втайне подумывал, не перейти ли ему учиться в консерваторию. В музыкальных делах он считал себя знатоком и непререкаемым авторитетом.
Каникулы в это лето обещали быть весёлыми, интересными. Настроение у ребят было хорошее: зачёты и экзамены позади, в родных семьях привычный уют и достаток, дружба за зиму и весну не распалась — все опять вместе Почему же не погулять, не пошалить? На го и каникулы!..
Солнечным утром — ранним, но уже жарким — друзья собрались на берегу озера, решив устроить здесь сбор перед завтрашним ночным походом в лес. Первым пришёл Толя Апатьев со своей гитарой, вскоре рядом уселись Зина, Тоня и Шура Хотеевы, прибежал, запыхавшись, Шурик Лясоцкнй, за ним поспевал, придерживая очки, Коля Евтеев. Под мышкой он держал мандолину. Через несколько минут, пока ребята перебрасывались шуточками и подговаривали друг друга нырнуть и попробовать воду, подошли Алёша Шумавцов (в Людинове он из Терехова превращался в Шумавцова), Петя Суровцев, «первый парень на деревне», смельчак и забияка, и Митя Иванов, студент Брянского лесотехнического института. Он тоже был свой, людиновский.
— Ребята! — громко, как на митинге, объявила Тоня и, требуя тишины, подняла руку. — Сообщаю вам, что мир искусства обогатился новым талантливым произведением.
— Что такое талант?.. Я маленький и не знаю. — Шурик Лясоцкий скорчил умилительную мордочку.
— Молчи, кнопка, — оборвала его Зина. — Когда говорят старшие, малыши обязаны молчать и делать умный вид.
— Виноват, исправлюсь, — неестественно тонким голосом пискнул Шурик. Он сделал вид, что испуган, и быстро спрятался за спину Алёши Шумавцова.
— Ребята, — повторила Тоня и поднялась на ноги. Она оказалась в середине круга полулежавших или сидевших «по-турецки» друзей и повелительно потребовала:
— Тишина и внимание! Нарушителей собственной рукой столкну в воду, пусть там мокнут. — И, когда смешки и хохоток затихли, продолжала: — Толя и Коля, наши музыканты и поэты, выполнили задание и сочинили песню, которая называется «Людиновская молодёжная». — Тоня сделала небольшую паузу и объявила: — Сейчас по просьбе уважаемой публики Апатьев и Евтеев исполнят свою песню.
— Просим Оркестр, туш!.. Публика ждёт!.. — послышались весёлые голоса.
Слово попросил Алёша, и Тоня, кивнув головой, разрешила.
— Мне бы хотелось знать, — серьёзно спросил Алёша, — кто сочинил музыку, а кто — текст.
— Вопрос законный, — одобрила Тоня. — Авторы, отвечайте.
Толя молча перебирал струны гитары, а Коля, оглянувшись на него, ответил:
— И слова общие, и музыка Мелодия, так сказать — И вдруг вспыхнул: - Вы хотите слушать
пли нет?
— Хотим Давайте..
Толя сыграл на гитаре вступление, дрогнули, загудели басовые струны, нежно зазвенела в Колиных руках
мандолина, и в два голоса ребята под собственный аккомпанемент негромко запели:
Края мои хорошие, земля моя в цвету!..
Всем сердцем вас я вынянчил и к вам принёс мечту.
Чтоб над родным Людиновом, над очагом родным
Всегда заря светила нам и вился мирный дым.
Чтоб мы, сойдясь в содружестве под солнечным шатром.
Знавали счастье юности, любили отчий дом.
Каникулы, каникулы, весёлая пора!
Звените, песни звонкие, с утра и до утра!
— А ну, — дирижерски взмахнула рукой Тоня, и все хором подхватили припев:
Каникулы, каникулы, весёлая пора!
Звените, песни звонкие, с утра и до утра!
Теперь ребята не смеялись, не улыбались, а с уважением поглядывали на авторов. Песня смолкла. Молчали и слушатели. Взглянув на ребят, Шура удивилась: их весёлые смешливые лица стали серьёзными и, вместе с тем, словно озарились внутренним светом, какой вспыхивает только в минуты душевного, волнения.
После короткой паузы Толя и Коля, уже изрядно вспотев, продолжали:
Мы нынче стали взрослыми, плечистыми и рослыми,
И детство босоногое осталось позади.
Идём лесами шумными, идём лугами росными,
И сердце комсомольское стучит у нас в груди.
Нас ждут и труд и подвиги во славу нашей Родины.
Хотя мы не Корчагины, но мы его друзья.
Немало нами хожено, а будет больше пройдено,
Но не забыть людиновцам родимые края.
И все подхватили уже знакомый припев.
Каникулы, каникулы,Весёлая пора!
Звените, песни звонкие, с утра и до утра!
Толя взял последний, заключительный аккорд и поднял над собой гитару.
— Всё! — сказал он хриплым от волнения голосом.
— Всё! — Коля отложил мандолину и стал протирать носовым платком запылённые стёкла очков.
— Ну, как? - спросила Тоня, первой нарушая молчание.
-- Хорошо! — мечтательно вздохнула Шура.
— Просто здорово! — поддержал её Алёша.
— Да, ребята — молодцы. — Зина поочерёдно похлопала авторов по плечу, поерошила причёску Коли Автеева. — Быть вам знаменитыми, как Ильф и Петров.
— Раз Зина вспомнила про Ильфа и Петрова, значит, музыкальный час окончен и можно переходить к смеху, — заключил Лясоцкий. — Однако давайте разберёмся. У меня имеются замечания.
— Ну, конечно, — сказал Толя и легонько ткнул Шурика кулаком в бок. — Что касается шумных лесов — это по твоей части, ты, кажется, лес насквозь изучил, все деревца наперечёт знаешь. А в остальном извини-подвинься. Плечистым и рослым тебя, понятно, не назовёшь.
— Прошу не переходить на личности, — притворно обиделся Шурик.
— Не знаю, может быть, поэты и композиторы найдут в этой песне всякие изъяны. — Алёша обнял Толю н прижал его к себе. — А мне нравится. От души.
— И мне, — поддакнула Тоня.
— И мне, — категорически заявила Зина.
Уж если понравилось Тоне, какие могут быть разговоры. Зина очень любила свою сестру, даже, можно сказать, была влюблена в неё. Энергичная, решительная, порывистая, вечно в движении, душа нараспашку н, вместе с тем, мягкая, умеющая доверительно пошептаться о самом сокровенном, Тоня была для Зины идеалом, кумиром. С детских лет Зина завидовала сестре
той хорошей завистью, которая рождается не от корысти, а от самых добрых чувств и желания подражать. Их мать Татьяна Дмитриевна зачастую говорила:
— Откуда в тебе этот огонь, Тоня? Вертишься и носишься, как угорелая.
— Я не угорелая, мама, - со смехом отвечала Тоня, — а людиновский казак в юбке. Зачем ты меня родила девчонкой?
— Да, из тебя вышел бы заправский парень, — с улыбкой качала головой мать.
Всё у Тони буквально горело в руках. Училась она отлично. Общественные поручения выполняла быстро, с удовольствием, ни от чего не отказывалась. Успевала буквально везде: заседала в учкоме и комитете комсомола, сражалась на волейбольной площадке, вечером танцевала в клубе. А ночью, перед сном, прижав к себе Шуру и Зину и отослав спать Тамару, самую младшую сестрёнку, ещё полчаса, час рассказывала о том, что видела за день, что сделала и как ей хочется на быстром коньке-горбунке слетать в Москву и посидеть в Большом театре, послушать оперу или посмотреть балет.
— Песня вроде бы и ничего, — вдруг проговорил Иванов. Он сидел на земле, обхватив руками колени, и жевал какую-то травинку. — Только пафосу много Громких слов
— Не надо так плохо относиться к слову пафос, — возразила Шура. — Пафос — это всегда страсть, всегда идея.
— Вот именно — страсть! — горячо повторил Алёша. — Значит, тем более эти слова и должны быть громкими.
— Тоже мне критик, — зло бросил Петя Суровцев. Он недолюбливал Иванова.
Иванов равнодушно пожал плечами.
— Я только высказал своё мнение.
— А мы — своё! — отрезал Алёша.
— Ребята, не надо, — просительно протянула Шура, боясь, как бы не вспыхнула ссора. А Толя Апатьев, проявляя авторскую скромность, добавил:
— Я и сам думаю, что кое-что надо исправить. Хотя бы насчёт песен от зари и до зари. Многовато.
— Ничего исправлять не надо. Тоня резко тряхну-
ла головой и метнула иронический взгляд на Иванова. — Каждый понимает стихи сообразно своим умственным способностям.
— Ну, ладно, песня вся. песня вся. песня кончила-ся, — почти пропел Коля Евтеев. — Переходим к следующему пункту повестки дня. Какой сегодня день и какое число?
— С утра была суббота, — тоже нараспев ответил Шурик. — А в календаре двадцать первое июня одна тысяча девятьсот сорок первого года.
— Ясно. Завтра в лес, с ночёвкой, идём?
— Идём! Обязательно! — послышались возгласы.
Алёша встал, мимоходом дёрнув Шурика за ухо. Тот
по своему обыкновению пискнул и заохал:
— Товарищи! На меня совершено нападение
— Тихо! — приказал Алёша. — Вношу предложение: всем собраться завтра на этом месте в три часа дня. Захватить походные мешки, одеяла, кружки И насчёт-по-кушать. Компас, топорик, спички я принесу. И гармошку.
— В три поздновато, — возразила Зина. — Соберёмся в двенадцать. И не здесь, а на площади. Оттуда и двинемся. На опоздание даётся не больше пятнадцати минут. Отставшие могут считать себя дезертирами.
— Как на войне, — усмехнулся Иванов. — Я лично в лесной поход не собираюсь.
— Дело добровольное, — заявил Алёша. Желаешь — давай, не желаешь — сиди дома.
— Сиди и посапывай, — не удержался Толя Апатьев.
Разговор прервался, так как подошли учителя местной школы Бутурлин и Двоепко.
Преподавателя рисования и черчения Бутурлина, добряка, снисходительного к безобидным мальчишеским проказам, ребята любили, хотя уроки рисования посещали больше для отдыха и развлечения. А математика и физика Двоенко немного побаивались. Этот невысокий человек с опущенным носом и острым сверлящим взглядом из-под больших роговых очков, слегка кособокий, со склонённой на левое плечо головой, всегда казался недовольным, злым. Со школьниками разговаривал сухо, официально, а когда покрикивал на провинившихся, голос его становился резким, пронзительным. Кроме того, от Двоенко всегда слишком сильно разило одеколоном. Можно было подумать, что он только тем и занят, что выливает на себя, на свои жидкие волосы, на помятый пиджак, на руки с длинными цепкими пальцами флакон за флаконом пахучей жидкости. Людиновские старожилы знали, конечно, чем вызвано такое пристрастие Двоенко к одеколону. Учитель был неравнодушен к спиртному, часто «пробавлялся» даже в рабочее время и, чтобы забить запах водки, усиленно поливал себя одеколоном. Витя Апатьев, двоюродный брат Толи, слывший среди ребят шутником и балагуром, однажды выразился так:
— Наш Двоенко скоро разорится. Шутка ли, приходится тратиться и на водку, и на одеколон. Интеллигент! Брал бы пример с нашего соседа. Тот, как выпьет, корочку понюхает и какую-то травку жуёт. Меня, говорит, после этой травки никакой профессор не поймёт: пил я или только на неё, проклятую, издали глядел. Я, брат, химик! Но Двоенко-то не химик, вот и страдает, бедняга.
Сегодня, как и всегда, от Двоенко едко пахло дешёвым одеколоном, но взгляд его из-под очков не был злым.
Здравствуйте, молодёжь, приветствовал ребят Бутурлин. — Не возражаете, если мы возле вас отдохнём?
— Пожалуйста Просим
— О чём разговор?.. Или как это О чём шумите вы, народные витии?..
— Мы завтра в поход собираемся. В лес, с ночёвкой, пояснила Шура.
В поход! — Бутурлин сдвинул на затылок широкую соломенную шляпу и сощурился на солнце. — В поход! И слова у вас все какие-то военные, будто вы солдаты.
А мы и будем, наверное, солдатами, сказал Толя Анатьев.
- И ты, девочка? обращаясь к Шуре, заметил Бутурлин. — Тоже в поход?
Поход не женское дело,--заметил Двоенко.
— А в гражданскую войну, скажите пожалуйста, наши девушки и женщины участвовали в боях и походах или только ходили на экскурсии?
Всё это Топя проговорила громко, с явным вызовом.
— Взять хотя бы Анку-пулемётчицу у Чапаева, — подсказала Зина.
— Даже в стихах воспевается героизм женщин, — вставил Коля Евтеев и продекламировал, откинув в сторону правую руку:
Барабана тугой удар
Будит утренние туманы.
Это скачет Жанна д’Арк
К осаждённому Орлеану.
Шура, слегка покраснев, добавила:
— У Михаила Светлова в этом же стихотворении есть строки о том, как наши девушки, подпоясывая шинели, шли в бой, а когда требовалось, на высоких кострах горели. Высокие костры. Как красиво!
— Всё это — стихи, — равнодушно бросил Иванов, — Да и время было другое.
— Почему же другое? — вспыхнула Тоня. -В Испании недавно против чернорубашечников сражались рядом с мужчинами их сёстры, жёны и даже матери.
— Мадрид, Барселона, Гвадалахара — медленно, певуче произнёс эти звучные названия Алёша и вдруг, будто его ударило током, решительно и громко отчеканил: — Будем ходить в походы. Всё в жизни пригодится.
— - Может, вы и правы, юноша, — согласился Бутурлин и горестно вздохнул: — В мире неспокойно. Франко и Муссолини — это мелкие пешки. Гитлер — тот вон куда скакнул. Почти всю Европу заграбастал.
— К нам он не сунется, — сказал Коля. — Не посмеет.
— А если всё-таки посмеет? — спросил Иванов.
— Тогда тогда — Алёша Шумавцов вскочил на ноги, опять толкнув, на этот раз случайно, Шурика Лясоцкого. — Тогда мы ему все зубы повышибаем.
— Ну вот, уже и война, рассмеялся Бутурлин. — Будем надеяться, что Гитлер к на.м не пожалует и никому зубы вышибать не придётся. Лучше, ребята, купайтесь и загорайте, солнышко вон как припекает.
— Правильно, купаться и загорать! — скомандовал Алёша и начал стягивать с себя вышитую украинскими узорами рубашку.
Мальчики стали раздеваться и прыгать в воду. Иванов аккуратно очистил от пыли брюки и пошёл по берегу вдоль озера. Двоенко проводил его тяжёлым изучающим взглядом и, наклонившись к Бутурлину, тихо спросил:
— Кто это?
— Этот? Митяй Иванов. Здешний. Сейчас учится, кажется, в Брянске.
— Чей он?
— Сын своего отца, — неопределённо ответил Бутурлин. — Папашу его несколько лет назад осудили или расстреляли, точно не скажу. Кулаком был и Советскую власть не очень жаловал. А сынок?.. Что ж, вроде парень ничего, студент, и не без царя в голове.
III
Зина очень любила те вечера, когда Тоня оставалась дома: можно было поговорить, пошептаться, послушать рассказы о Москве и вообще о всякой всячине. А рассказывать Тоня умела интересно, увлекательно, находя яркие слова и сравнения. В такие*-минуты лицо её алело, речь становилась быстрой, стремительной, и вся она, казалось, мысленно улетала далеко-далеко.
Да, Тоня никогда не знала покоя.. Она всегда была в движении, о чём-то заботилась, чем-то занималась — таким непоседливым и беспокойным характером наградила её природа. А сёстры любовались ею. «Тоня всё может, всего добьётся».
Сегодня Тоня осталась дома, так как решила завтра в походе не спать и встретить рассвет не под одеялом, а где-нибудь на полянке или па опушке леса, откуда можно будет наблюдать восход солнца. В эти ранние часы лес, пронизанный первыми золотыми стрелами, словно дымится и еле заметные, прозрачные деревья, вырастая из серых и синих теней, начинают превращаться в обыкновенные сосны и осины и шелестеть ветвями, приветствуя новый день. Нет, такую захватывающую картину Тоня не могла пропустить и уже заранее предвкушала скорую встречу с рассветом в тишине и наедине с солнцем.
Тамару прогнали спать, хотя она упрямо твердила, что ей одиннадцать лет и она тоже хотеевская и большая. Девятилетий братишка Витя уже давно посапывал в своей кроватке. Только мать Татьяна Дмитриевна неслышно двигалась по комнатам, и изредка в её руках звякала ложка, звенели стаканы.
Сёстры сидели, тесно прижавшись плечами друг к Другу, и слушали рассказ Тони.
— Понимаете, сестрёнки, оперу «Евгений Онегин» я слушала уже два раза, но меня пригласили товарищи, студенты, и я не могла отказаться — пошла в третий. Когда я вхожу в зрительный зал, меня всегда охватывает какое-то торжественное настроение. А когда дирижёр взмахнёт палочкой и начинается увертюра, замираю и слушаю. Стараюсь представить, что выражает музыка, что хочет объяснить людям скрипка, флейта, труба Даже в ударах барабана можно уловить мысль композитора, честное слово.
Я всё время сижу, как в полусне. А очнусь только тогда, когда опускается занавес, снова вспыхивают яркие огни. По лицам людей мне всегда хочется угадать, что переживали они, глядя на сцену, слушая музыку.
Тоня задумалась. В тишине стало слышно мерное тикание будильника. За окнами хотеевского домика уже давно хозяйничал поздний вечер и звёзды, перемигиваясь, висели над спящей землёй. В раскрытое окно тянуло прохладой.
— Вы приедете в Москву, — продолжала Тоня, — н я вас обязательно поведу в театры, в музеи, в парки. Москву надо знать и любить всем, всем — Она привлекла к себе Шуру и нежно погладила её по голове. — Что, задумчивая моя, глядишь невесело? Или добрый молодец полонил сердце девичье, и теперь грусть-тоска по милому да любимому теснит грудь твою?
— Ну что ты — смутилась Шура.
— Не ври, Шурка, я этого не терплю, — переходя на обычный тон, заявила Тоня. — Вижу ведь, всё вижу. Твой добрый молодец — Алёша. Парень видный, ладный. Такого и полюбить не грех.
— Рановато ей, — осторожно заметила Зина.
— Чувства по календарю да по часам не выверяют Ну, да скажи же что-нибудь, — начала тормошить она Шуру, — поделись со старшей сестрой. А то уеду скоро в Москву, и некому будет наставлять тебя на путь истинный.
Шура доверчиво прижалась к сестре и тихо заговорила.
— Да, мы с ним друзья Настоящие друзья Мне кажется, что он
— Самый красивый? — перебила Тоня.
— Я не о том Он добрый, честный, смелый
— Откуда тебе известно, что он смелый? Может быть, в доме мышей боится, а вечером темноты пугается.
— Не говори так, Тоня, — попросила Шура. — Нет, он смелый, решительный Как-то два хулиганистых парня пристали к нам. Один из них здоровенный, пьяный. Обоим Алёша дал жару.
— Рыцарь! — удовлетворённо сказала Тоня и повторила: — Рыцарь!
— И ещё Алёша мне как-то сказал, — продолжала разоткровенничавшаяся Шура (а это случалось с ней очень редко), — он не признаёт ничего, что делается наполовину. Если, например, любить так всем сердцем Если ненавидеть — так до предела, до хруста в зубах.
В разговор вмешалась Татьяна Дмитриевна, которая продолжала заниматься своими домашними делами.
— Пора спать, дочки. Время позднее, а вы все гомоните, только и слышно: Алёша да Алёша.
— А что, разве плохой парень? — спросила Тоня.
— Пет, ничего худого о нём не скажу. Хороший, уважительный. Все ребята на него поглядывают и слушаются.
— Не только ребята, но и девчонки, — улыбнулась Таня и легонько незаметно ущипнула за локоть Шуру.
Татьяна Дмитриевна пропустила эту реплику дочери мимо ушей и продолжала:
— На что уж Прохор, Соцкий стало быть, не поймёшь, что за хлопец, всегда в стороне держится, а и тот вроде к Алёше тянется.
— А ты, мама, у нас всё видишь, всё примечаешь, — скачала Зина.
— Вижу, доченька, и примечаю, конечно. Ваш отец, покойник, бывало, говорил м,не: ты, мать, на сто вёрст кругом всё видишь, от твоего глаза, значит, ничего не укроется. А Дмитрий Тимофеевич, отец ваш, зря слов на ветер не бросал.
— Так тебе и рассказывать ничего не надо, рассудила Тоня, вставая и отходя от окна, у которого она сидела вместе с сёстрами. — Сама обо всём догадываешься.
— Что меня, моего дома, моих детей касаемо, обо
всём догадаюсь. А чужие дела не по мне. Все люди живут по-своему, и мы — по-своему Ну, дочки, спать, спать, ночь на дворе
— Слушаемся, ваше материнское величество! — Тоня потянула за собой сестёр. — Слыхали приказание? Спать!..
Вскоре в домике Хотеевых на краю Комсомольской улицы погас свет. Над Людиновом застыла — ненадолго, всего на несколько часов — июньская ночь.
IV
Ранним утром к Хотеевым забежали их двоюродные братья Толя и Витя Апатьевы. По вытянувшимся, побледневшим лицам ребят Тоня поняла, что они чем-то взволнованы.
— Понимаешь, — сказал Толя, стараясь успокоить дыхание. — Витя возился с радиоприёмником и услыхал чёрт знает что. Вроде немцы сбрасывали бомбы на наши города. Кажется, на Киев, на Севастополь
— А ты не напутал? — Зина вплотную подошла к Виктору. — Ты понимаешь, что говоришь?
— Понимаю И ничего я не напутал
— Что же это — война? — беспомощно, по-детски скривив губы, готовая расплакаться, спросила Шура.
— Не знаю, — ответил Толя, машинально расстёгивая и застёгивая пуговицы своей белой рубашки. — Может быть, и война.
Через несколько часов всё стало ясным. Война!
На площади имени Фокина уже собирался народ. Все тихо, тревожно переговаривались. На столбе радиотехник закреплял репродуктор, и самые нетерпеливые недовольные покрикивали:
— Скорее Чего копаешься?.. Ну, как, будет говорить?
Ровно в двенадцать часов дня — это было 22 июня 1941 года, — из репродуктора послышались позывные Москвы. Все замерли. В густой толпе, крепко взявшись за руки и будто скрепляя этим дружбу и комсомольскую клятву на верность Родине, стояли Алёша Шумавцов и Шура Хотеева. Рядом с ним,и с потемневшими лицами стояли Тоня и Зина, Толя и Витя
Поход в лес не состоялся.
Глава вторая
НАКАНУНЕ
Тишина словно навсегда ушла отсюда. Теперь гудело и громыхало всё. От орудийной канонады содрогались дома, раскачивались деревья. В небе стоял неумолчный гул фашистских самолётов. В ясную погоду самолёты были отчётливо видны снизу, а когда сплошная молочная пелена облаков застилала небо, гул бомбовозов и истребителей, уже невидимых, казался ещё страшнее, ещё зловещее.
Фронт стремительно приближался к Людинову. И буквально на глазах город затихал, пустел. В теплушках и на машинах уехала в глубокий тыл большая часть гражданского населения — оставаться в родном городе при немцах люди не хотели, не могли. Все — от мала до велика — знали горькую правду; город не удержать, не отстоять. Ещё день, два, от силы неделя — и по улицам зашагают чужие солдаты в зеленовато-серых шинелях, с автоматами в руках, послышится чужая, непонятная речь.
В конце сентября город казался обречённым, беззащитным, покорно ожидающим своей участи. И лишь немногим было известно, что именно в эти дни заканчивается организация подполья, что десятки коммунистов, комсомольцев, беспартийных людиновцев со дня на день, с часу на час ждут приказа оставить город, уйти в леса и начать трудную партизанскую войну.
Третьего октября спозаранку на квартиру к заведующему районным отделом здравоохранения Афанасию Ильичу Посылкину пришёл член бюро райкома комсомола Иван Ящерицын. Осеннее утро ещё только наступало — хмурое, ветреное. На крыше дома, в дверь которого легонько постучал Иван Михайлович, жалобно скрипел железный петух.
Открыл хозяин Широкоплечий, с крупными чертами, Афанасий Ильич был уже свеже выбрит и при «полной амуниции» — в своей неизменной застёгнутой на все пуговицы армейской гимнастёрке.
— Ты не ложился, что ли? — осведомился Ящерицын, пожимая широкую, шершавую ладонь Афанасия,
— Поспал немного. Знал, что гость чуть свет пожалует. А ты что взъерошенный, будто кто за холку трепал?
Лёгкая улыбка тронула хмурое с чуть приметной рябинкой лицо Посылкина. Афанасий знал, что капризные волосы Ивана Ящерицына не дают тому покоя. Сколько ни бился Ваня, его своенравный, непокорный беловолосый хохолок задорно торчал над самым лбом. «Никакая его дисциплина не берёт», — острили по этому поводу в райкоме комсомола. Однако на этот раз Иван Михайлович не отозвался на шутку, будто и не слышал её. Привичным жестом разглаживая волосы, он заговорил сразу же, войдя следом за хозяином и комнату.
— Думку я имею, Афанасий. Тревожит она меня. Сон гонит
- Будешь чай пить? — перебил хозяин. Он возился возле печки, и только сейчас Иван Михайлович увидел, как осиротела всегда шумная и нарядная квартира Афанасия Ильича.
К прерванному разговору друзья вернулись не сразу. Посылкин налил чай в стаканы, намазал маслом и густо прислолил несколько ломтей хлеба и неожиданно заговорил сам, будто знал, что беспокоит его раннего гостя.
- Ты Золотухина имеешь в виду? Не зря ли назначили командиром отряда?
Точно.
- Человек он, конечно, трудный. Но пойми, Иван, Золотухин единственный, кто лучше других знает военное дело. Этого со счёта никак не скинешь.
А ты разве здравоохранение знал, когда тебя из рабочих выдвинули? - возразил Яшеридын.
Посылкин усмехнутся.
Верно, не знал. Да, по совести, и сейчас как следует не знаю, хоть и курсы специальные окончил. Так ведь тогда другое время было, мирное. Ночей не досыпал, книги по медицине читал. Если что не так — в райком подавался, советовался, у товарищей-врачей консультацию получал. Это, Ваня, ни в какое сравнение не идёт. А командовать партизанским отрядом — дело совсем другое. Здесь надо в наикратчайший срок принимать решение, от которого зависит жизнь многих людей, успех операции. Чаще всего принимать самолично, так как в райком не побежишь, да й консультант по военным делам вряд ли под боком окажется.
Ящерицын упорствовал:
— Неуравновешенный, вспыльчивый Вспомни, Афанасий, сколько раз говорили в районе об оперуполномоченном Золотухине, о его крутом нраве.
Посылкин легонько стукнул кулаком но столу, встал п заходил по комнате. Он был взволнован и, шагая из угла в угол, старался успокоиться, прийти в себя.
— Нас с тобой никто не уполномачивал ревизовать решение райкома. Партизанский отряд создан. Командир Золотухин, комиссар Суровцев, начальник штаба Алексеев. Точка! Слушай, друг. — Афанасий Ильич подошёл к понурившемуся Ивану и обнял его за плечи. Голос Посылкина зазвучал спокойно и мягко. - В отряде у пас будет крепкое партийно-комсомольское ядро В случае чего поправим, укажем. Давай прекратим разговор на эту тему. Согласен? Скажи лучше, как дела с ударной группой. Ведь на бюро было прямо сказано: Ивану Ящерицыну возглавить ударную авангардную группу партизанского отряда. О людях думал, кандидатуры подобрал?
— Подбираю. Народ подходящий, один к одному.
Замечательным качеством обладал старый кадровый рабочий, выдвиженец Афанасий Ильич Посылкии. Умел он слушать и убеждать, умел осторожно, но твёрдо направлять разговор в нужную сторону.
— Лады!.. Ты пей, а то чай остынет.
Ящерицын начал с наслаждением похлёбывать горячий, крепко настоенный чай, а Посылкии, хмуря брови, думал о своём.
Партизанский отряд, готовившийся к уходу в леса, был вооружён из рук вон плохо. Автоматов нет, только десятка два устаревших английских винтовок, патроны — наперечёт, несколько пистолетов. В райкоме сказали, что добывать, оружие на первых парах придётся самим партизанам и тем, кто останется в городе в подполье. Ну, о партизанах речь особая. Здесь пути ясны — внезапные налёты, засады. А вот здешним придётся тяжело. Автомат, ящик с патронами — не пуговицы. Их незаметно не спрячешь, не унесёшь. Да разве только в оружии дело? Предстоит зимовка в лесу, в землянках, иногда ночёвки под открытым небом. Надо
быть готовыми ко всему. Безусловно, в отряде появятся раненые, больные, обмороженные
— Ты, Афанасий Ильич, санитарию как следует обеспечь. Завези в лес, на партизанскую базу, всё, что надо, да и на будущее прикинь, что к чему, — наставлял его секретарь райкома. — Сам понимаешь, война предстоит долгая, кровопролитная, может так получиться, райздрав, что никаких запасов не хватит. Надо, чтобы у нас в городе своя дверь была, свой человек, к которому в любое время постучаться можно. Понятно?
— Есть такая дверь, — ответил Посылкин секретарю. — Есть такой человек!
Да, у заврайздравотделом такой человек был. И предварительный разговор с ним уже состоялся. Сегодня с утра Афанасий Ильич должен был ещё раз навестить будущего подпольщика, дать последние указания, договориться о деталях. Поэтому так рано собрался нынче Посылкин, поэтому поторапливал своего молодого гостя.
Скупое осеннее солнце чуть позолотило крыши домов, когда друзья вышли на улицу. Людиново просыпалось. Одинокие женские фигуры — на протяжении всего пути мужчины почти не встречались — торопливо бежали к магазинам, чтобы успеть к их открытию. С каждым днём всё острее ощущалась нехватка продуктов.
Шли молча, занятые своими мыслями, и каждый невольно думал о том, что, быть может, сегодняшний день станет последним днём их пребывания здесь, в родном городе, где им знаком каждый переулок, каждый закуток. На стыке двух улиц повстречалась и, поздоровавшись, прошла было мимо, позвякивая вёдрами, невысокая ещё моложавая женщина, но Афанасий Ильич окликнул её:
— Евдокия Михайловна! Какими судьбами? Почему вы не уехали?
— На чём, товарищ Посылкин? Разве что на своих двоих? Так у меня Раюша слабенькая, не дойдёт. — Женщина остановилась и не спеша опустила вёдра.
— Не понимаю, товарищ Апатьева. Подводами и лошадьми персонал больницы полностью обеспечен. Я сам проверял.
Посылкин говорил медленно, с паузами, чеканя каждое слово, что обычно являлось признаком его крайнего беспокойства и огорчения. Видимо, Апатьева знала эту особенность заведующего райздравотделом. Она улыбнулась, поправила сбившиеся под платком волосы.
— Правильно, Афанасий Ильич. И подводы и лошади были. И почти все уехали. А я только собралась с Толей и Раюшей идти в больницу грузиться, слышу взрыв, за ним другой. Видать, на локомобильном взорвали. Крепко ухнуло. Добежали мы с чемоданами. Куда там, ни лошадей, ни подвод. Как ветром сдуло. Уже потом Клавдия Антоновна Азарова, медсестра наша, рассказывала. Как рвануло на заводе, лошади с места понесли. Кто был, те уехали, а я не успела. Вот так.
И столько спокойствия, выдержки было в голосе Апатьевой, что Ящерицын, молча стоявший в стороне, ободряюще улыбнулся.
— Что же делать, Евдокия Михайловна? — развёл руками Посылкин. Ведь вы последними должны были уехать. А сейчас в городе никакого транспорта не осталось. Семён Фёдорович Шумавцов эшелон с семьями рабочих к Фаянсовой повёл. В райисполкоме ни машин, ни подвод.
— А разве я что требую? — удивилась женщина. — Останусь, переживу как-нибудь. Не я одна.
— Толя с вами?
— Куда же он денется? Сынок даже рад, что мы остались. Чего, говорит, по тылам околачиваться? Все дружка своего, Лешу Шумавцова, того самого, что в Ивоте у Терехова жил, в пример ставит. Лёша, говорит, и не подумал никуда уезжать, чуток проводил своих и обратно подался. А я чем хуже? Мне и здесь дело найдётся.
Об Алексее Шумавцове Посылкин уже знал. Несколько дней назад, когда он сидел в кабинете второго секретаря райкома партии Афанасия Фёдоровича Суровцева, туда зашла Аня Егоренкова — секретарь райкома комсомола. Следом за ней в дверях появился и прошёл в кабинет стройный плечистый юноша с приветливым лицом и улыбчивыми серыми глазами. У юноши был — и на это сразу обратил внимание Посылкин — и волевой, резко очерченный рот, и совсем ещё мальчишеская ямочка над верхней губой.
— Он самый, Алёша Шумавцов, что недавно величался Тереховым. — Так Аня представила юношу, и тот спокойно, не торопясь, по-мужски крепко пожал руки Суровцева и Посылкина.
— Посиди здесь, Алёша, обожди немного, — предложил Суровцев и посмотрел на часы. — Что-то, Василий Иванович опаздывает, — укоризненно проговорил он.
Сейчас эта сцена вновь ожила в памяти Афанасия Ильича, и он мысленно повторил слова, сказанные Толей Апатьевым матери: «Мне и здесь дело найдётся». Посылкин решил сегодня же посоветовать командиру партизанского отряда Василию Золотухину потолковать с юношей и привлечь его к общему делу.
Клавдию Антоновну Азарову, старшую медицинскую сестру Людиновской городской больницы, нельзя было назвать ни счастливой, ни особенно удачливой. Одиночество — оно, как назойливый спутник, шагало за этой женщиной всю её жизнь. Клавдия Антоновна часто повторяла полюбившуюся ей фразу, вычитанную в одной из книг, что одиночество — хорошая вещь, но для этого нужно, чтобы кто-нибудь рядом говорил об этом. Увы, рядом такого человека не было, и Азарова, высокая, молчаливая, всегда аккуратно, хотя и несколько старомодно одетая, шла по дороге жизни без друга, без семьи, без близких.
Поражали глаза Клавдии Антоновны. Широко открытые, лучистые, они подкупали своей глубокой правдивостью и словно говорили, что этому человеку чужды ложь, лицемерие, фальшь. К ней как нельзя лучше подходила мудрая народная пословица о том, что глаза — зеркало души. Клавдия Антоновна была человеком неподкупным, прямым, честным. На работе в больнице её уважали и побаивались. Зато больные тянулись к ней. Их не смущали и не отталкивали ни молчаливость Азаровой, ни её чопорный вид, ни сдержанные манеры. Слишком проста и человечна была Клавдия Антоновна в обращении с людьми, и в душевном разговоре с «сестрицей» каждый больной находил сердечную отзывчивость и дружеское участие.
Всё произошло донельзя просто. Небольшая комнатка Клавдии Антоновны в доме на улице имени Крупской, всегда аккуратно н чисто прибранная — ни соринки, ни пылинки, на этот раз выглядела необычно. Распахнутый чемодан стоял на полу у стены. Возле кровати на стуле возвышалась гора выглаженного белья. Маленькая в ракушках шкатулка — в ней Клавдия Антоновна как реликвии берегла девичьи письма, сувениры, несколько колечек и брошь — сиротливо белела на столе. Всё в комнате напоминало о предстоящем отъезде хозяйки дома.
Так оно и было на самом деле. Клавдия Антоновна готовилась к эвакуации в Сызрань, куда переезжали семьи рабочих и служащих локомобильного завода и многие из людиновских жителей. Раньше Клавдия Антоновна не думала об отъезде и не представляла себе жизни в другом, незнакомом городе. И только сейчас, когда отъезд из Людинова стал неизбежным, она по-настоящему поняла, как дорог ей этот маленький, окружённый лесами городок, как дороги люди, к которым она так привыкла.
Афанасий Ильич Посылкин впервые навестил Азарову три дня назад, в самый разгар её сборов к отъезду. Хозяйка была явно смущена неожиданным визитом «начальства». Второпях она попыталась задвинуть под кровать чемодан, потянулась за скатертью, чтобы накрыть стол, но гость попросил не суетиться, присесть и внимательно выслушать, зачем он к ней пожаловал.
— - Клавдия Антоновна, списки эвакуированного медицинского персонала подписывал я. — Так начал свой разговор Афанасий Ильич. — Как сейчас помню, ваша фамилия значится в числе первых.
— Ну, это не от особого внимания ко мне. Просто моя фамилия начинается с буквы «А», — улыбнулась хозяйка.
— Возможно. Но сейчас я пришёл просить: не уезжайте из Людинова.
Пожалуй, именно в эти секунды Афанасий Ильич окончательно убедился в правильности сделанного им выбора. Не дрогнула и не испугалась Азарова, услыхав эту неожиданную просьбу. Села, не торопясь провела рукой по столу, словно смахивала невидимые крошки, и спросила, не сводя строгих, внимательных глаз с гостя:
— Так нужно, Афанасий Ильич?
— Да, Клавдия Антоновна. Очень нужно.
— Для каких дел? Воевать я не умею. Даже револьвер в руках никогда не держала.
— А он и не понадобится. Работа вам предстоит другая, потруднее и поопаснее.
— Слушаю вас, Афанасий Ильич.
— Через несколько дней мы уходим в лес. Начинаем партизанскую войну. Нужно, чтобы земля горела у фрицев под ногами. Но ведь все мы люди, Клавдия Антоновна. Есть среди нас здоровые, крепкие товарищи, для них жизнь в лесу не страшна. Но есть и послабее, и возрастом постарше. Простуда и всякие другие болезни таких враз свалить могут. Да и от увечий, от ран тоже никто не застрахован. Так что медицина партизанскому отряду очень понадобится.
— Понимаю, — кивнула головой Азарова. — Мне нужно идти вместе с вами в лес? Что же, я согласна.
— Спасибо, голубушка. — Широкая ладонь Афанасия Ильича накрыла узкую, худенькую руку Клавдии Антоновны. — Пока вам никуда уходить не надо. Живите, как и раньше жили, тихо, мирно у себя дома. Работайте в больнице. Человек вы скромный, малоприметный. Ну, а уж если понадобится что от вас, ждите гостя. Придёт к вам человек вроде болящий, передаст привет от Василия Ивановича и попросит помочь нам, партизанскому отряду, значит. А вы уж не откажите. Понятно?.
Не совсем, — пожала плечами Азарова. — Простите моё недоумение, но я так полагаю: если оставаться здесь при фашистах, значит, надо стать солдатом, воевать каждый день, каждую ночь, а не ждать, когда тебя попросят оказать услугу.
— Вот вы какая! — вскинул брови Посылкин. Его грубоватое, словно высеченное из камня лицо заулыбалось, глаза довольно блеснули. — Вот вы какая, - повторил он. - Ну, что же, солдат — так солдат. Тогда слушайте команду. Жить и работать, как раньше. Внешних перемен никаких. Присматриваться к людям. Выяснять, на кого можно положиться и привлечь к нашему общему делу. Самочинно ничего не предпринимать. И помнить, что главное — сбор и хранение разных лекарств и медикаментов, всего того, что может понадобиться раненому или больному партизану, бойцу, командиру. Задача ясна, товарищ Азарова?
И хотя на лице Афанасия Ильича ещё блуждала улыбка, Клавдия Антоновна встала со стула и ответила вполне серьёзно:
— Будет выполнено!
Видимо, она и сама была довольна, что всё так сложилось: теперь никуда уезжать не надо, можно оставаться в своей комнате, заниматься своим делом. А то, что ей доверили ещё одно дело — трудное, опасное, секретное, даже возвышало её в собственных глазах. Что ж, медицинская сестра Азарова не подведёт и доверие оправдает.
Разговор этот произошёл три дня назад, а сегодня Посылкин вновь собрался навестить Азарову. Следовало уточнить некоторые подробности, обстоятельно про инструктировать будущую подпольщицу, договориться о явках.
Распрощавшись с Ящерицыным, Афанасий Ильич отправился по знакомому адресу на улицу имени Крупской.
Глава третья
ОТЕЦ ВИКТОРИН
С небольшой фотографии, датированной 1940 годом, смотрит ещё молодой, чуть улыбающийся мужчина в тёмной толстовке, с тонкими приятными чертами лица. Гладко зачёсанные волосы открывают высокий чистый лоб. В прищуренных глазах ещё не исчезли и таятся молодые смешинки и ироническая лукавинка. Маленькая, аккуратно подстриженная бородка дополняет внешний облик Викторина Александровича Зарецкого, отца Викторина, как обычно величает его богомольная паства, посещающая церковь на улице имени Маяковского.
Размеренно и монотонно течёт жизнь отца Викторина. Церковные богослужения отнимают немного времени, а «побочных трудов», вроде крестин, венчаний и кладбищенских панихид, становится всё меньше и меньше. Редеет и чахнет и без того небольшой, замкнутый мирок постоянных церковных посетителей — стариков и старушек; реже появляются люди среднего возраста и почти совсем не видно молодёжи Людинова. Отец Викторин поимённо знает свою паству, и, чего греха таить, общение с ней не доставляет ему большой радости.
— Знаешь, Липа, — - с сестрой Олимпиадой Викторин Александрович всегда откровеннее, чем с женой и с дочерью, — меня не оставляет ощущение огромного жизненного просчёта, допущенного мною много лет назад. Правда, семья у нас была строгая и росли мы в беспрекословном повиновении отцу. Помнишь, его воля всегда была для нас законом. Но кто знает, не лучше ли было в то время ослушаться отца, не подчиниться его воле
Да, именно в силу устоявшейся семейной традиции сын священника Викторин Зарецкий унаследовал отцовскую профессию, окончил духовную семинарию, стал священнослужителем. Церковную службу нёс исправно, проповеди произносил, как положено, по всем правилам, стараясь убедить прихожан в святости и незыблемости христианского вероучения, на память цитировал евангелие, библию, а; сам будто посматривал на себя со стороны и спрашивал: веришь ли в то, чему учишь? Говоришь красно, красиво, но, кажется, душа твоя полна другим. Не так ли?
Шло время. Росла страна, вырастали люди. Многообразнее и шире становились их интересы, запросы, преображался их духовный мир. Любознательный, одарённый, Зарецкий всё острее и отчётливее понимал свою «общественную неустроенность», как он сам нередко любил говорить. Живопись, музыка, книги восполняли многое, но не все. Сломать устоявшийся быт? Для этого не хватало ни сил, ни воли. Жена Полина, любимая дочь Нипуська, неизменный, из года в год крепнувший достаток, к которому уже привыкала семья, усложняли и без того тяжёлый внутренний поединок отца Викторина с самим собой.
В домашней библиотеке Зарецкого хранились и книги в тёмно-вишнёвых переплётах — полное собрание сочинений Владимира Ильича Ленина. В различных томах многочисленные страницы были подчёркнуты красным карандашом хозяина. В их числе и такие строки: « Самый глубокий источник религиозных предрассудков — это нищета и темнота. С этим злом и должны мы бо-
роться» или « Крестьянин Рожков бесхитростно стал рассказывать голую неприкрашенную правду о поборах духовенства, о вымогательствах попов, о том, как требуют за брак, кроме денег, бутылку водки, закуски и фунт чая »
И, словно оправдываясь перед собственной совестью, перед людьми, с которыми каждодневно приходилось встречаться, Викторин Александрович накануне войны на обороте своей фотографии, подаренной сестре Липе, написал идущие из самого сердца вещие клятвенные слова: «Верным и полезным своей Родине можно быть под любой оболочкой».
В райкоме партии о священнике Зарецком знали многое. Знали его взгляды на жизнь, его прямоту и честность. Именно поэтому, направляясь на квартиру к Викторину Александровичу, Афанасий Суровцев был глубоко уверен в правильности принятого райкомом решения — воспользоваться помощью священника в дни оккупации.
До этого дня, вернее, до этого позднего вечера, Суровцеву не приходилось бывать на квартире Зарецкого. Уж слишком разные жизни и профессии были у них, чтобы вот так запросто встречаться домами. Однако, зная друг друга, они неизменно вежливо раскланивались при встречах па улицах, в кино или в доме культуры.
Дверь открыла дочь священника Нина. Круглолицая, стройная, рано превратившаяся в «барышню», она была в простеньком, ситцевом халатике и в тапочках на босую ногу. Узнав позднего гостя, Нина даже охнула от удивления, растерялась и, оставив Афанасия Фёдоровича одного в маленькой, тускло освещённой прихожей, побежала сообщить отцу, что к ним пришёл «партийный секретарь».
— Здравствуйте, Афанасий Фёдорович. Проходите, прошу вас. — Викторин Александрович шёл навстречу гостю с протянутой рукой, приветливо улыбаясь.
Комната, куда Зарецкий провёл Суровцева, выглядела уютной и светлой. Поражало обилие картин. Они висели на стенах, уже завершённые, в рамках, а на диване и возле окна стояли и лежали холсты. Можно было подумать, что здесь живёт не священник, а художник.
Афанасия Фёдоровича привлекла одна из висевших
Картин. Пейзаж, Изображённый на ней, показался eму удивительно знакомым. Так и есть. Небольшая поляна почти на опушке леса, в глубине невысокая стройная берёзка, слева пенёк, на котором он не раз сиживал, возвращаясь после грибных походов. Знакомое место. Судя по тому, как бережно и тщательно выписана на картине каждая деталь, как внимательно отделана каждая мелочь, уголок этот дорог художнику.
— Ой, как здорово у вас получилось, Викторин Александрович! Ну прямо живёт, дышит! И вот эта тоже. Афанасий Фёдорович не мог и не хотел скрыть восхищения. — Отобрали бы пять — шесть полотен и на выставку в дом культуры. Такие талантливые вещи показывать следует, вкус у людей воспитывать.
— Большое вам спасибо на добром слове. Я как-то не думал об этом. Пишу по духовной потребности, — смутился хозяин.
— Обязательно выставиться надо. Скромность — дело стоящее, но здесь она явно ни к чему, — уверенно сказал Афанасий Фёдорович и сразу же помрачнел. «Выставлять картины? Где и когда? Не сегодня-завтра в город войдёт враг. Ещё неизвестно, что станется с домом культуры, может, испохабят, сожгут».
Зарецкий уловил мгновенную перемену в настроении гостя. Помолчав секунду-другую, он предложил вместе отужинать или хотя бы выпить стакан чаю.
— Спасибо, не хочу, — отказался Суровцев. - Я ведь к вам, Викторин Александрович, по серьёзному, можно сказать, по государственному делу. Признаться, не сразу решился. Уж больно мы с вами разные.
— Верно, улыбнулся хозяин. - Вы — партийное начальство, безбожник, так сказать, а я слуга божий.
— Вот, вот. Но, думается мне, есть нечто общее и в наших характерах, и в наших привязанностях.
Афанасий Фёдорович напряжённо ждал ответа. Он превосходно понимал, что наблюдательный, умный Зарецкий, может быть, смутно, но всё же догадывается о цели его визита.
— Мне будет горько и тяжело, если я неправильно понял вашу мысль, уважаемый Афанасий Фёдорович, — медленно, после долгой паузы проговорил отец Викторин. — Иносказательно вы говорите, весьма иносказательно. Может, оттого, что ещё полностью не доверяете
мне. — Заметив протестующее движение гостя, поспешил, пояснить: — Мы действительно разные люди. Что делать, видно, такова воля божья. Но уже коли вы сами пришли ко мне, и пришли, натурное, с открытым сердцем, говорите прямо, откровенно. Я слушаю вас.
Совет священника быть правдивым и откровенным напоминал обращение к верующему, пришедшему на исповедь. Губы Суровцева дрогнули, но он удержался от реплики и даже не улыбнулся. Сан и служба в церкви наложили своеобразный отпечаток на речь хозяина дома. С этим нельзя было не считаться.
— Хорошо! Поведём разговор прямой и точный, — согласился Суровцев, сознательно противопоставляя резкие и короткие слова слегка напевной, округлой речи отца Викторина. — Вы любите Россию?
— Россия — моя Родина. Она мне дороже всего.
— Значит, я правильно сказал об общности наших привязанностей?
— Совершенно верно.
— Вы читаете газеты, слушаете радио. Вы знаете, что враг топчет сапогами русскую землю, продвигается всё ближе к Москве.
— Можно выразиться ещё точнее, — грустно покачал головой священник. — Враг возле Людинова и скоро окажется здесь.
— Да, именно поэтому я и пришёл к вам.
— О цели вашего посещения, кажется, сразу догадался.
— Тем лучше. Значит, я быстрее услышу да или нет?
— Вы торопитесь?
— Очень. Партизаны уходят из города. Вместе с ними ухожу и я.
Видимо, и это сообщение секретаря Людиновского райкома партии не явилось новостью для отца Викторина. Он понимающе кивнул головой, вздохнул.
— Я буду дни и ночи молиться о скорейшей победе над злым и коварным врагом.
— Молиться мало, отец Викторин. Мало! Ваш господь бог стал слишком плохо видеть и слышать. Стоны и плач миллионов людей не доходят до него. — -Афанасий Фёдорович раздражённо полез в карман, вынул футляр с очками, раскрыл его, по, спохватившись, с силой захлопнул и уже спокойнее договорил: - Каждый
советский человек должен помогать своей Родине, России. Вас я знаю не первый день. Вы прямой, честный и любите русскую землю. Участвуйте же и вы во всенародной борьбе.
Лицо Викторина Александровича порозовело. Молча неотрывно смотрел он на Суровцева, и только прерывистое жаркое дыхание и пересохшие губы выдавали огромное волнение священника. Прошло немало времени, пока отец Викторин вновь полностью овладел собой.
— Спасибо за доверие. И за откровенность тоже спасибо, - тихо поблагодарил он и низко, старомодно поклонился. — Но, сказать по совести, я не знаю, как и чем могу быть полезным.
— Я объясню. В ваш дом в дни оккупации потянутся многие оставшиеся здесь советские люди. Старайтесь вселять надежду в их сердца словами уверенности в конечной победе русского оружия. Помогайте им всем, чем сможете. Призовите в советчики свой житейский опыт и наблюдательность.
— Наблюдательность? — будто эхо повторил священник.
— Да. Она очень пригодится нам. — Суровцев сделал ударение на последнем слове, и Зарецкий понимающе кивнул головой. А Афанасий Фёдорович продолжал. — - Возможно, к вам причет человек от моего имени. Приютите его, окажите помощь.
— Обещаю, — прошептал Зарецкий и после короткого молчания спросил: — А если мне понадобится что передать вам? Как тогда?
Ждите гостя, дорогой Викторин Александрович, он обо всём вам расскажет. Но помните, осторожность и ещё раз осторожность.
Афанасий Фёдорович встал и протянул руку на прощание.
Пока всё! - Приветливо улыбнувшись, он внимательно оглядел отца Викторина. — Я знал, что вы именно такой человек, настоящий! — произнёс Суровцев уверенно и твёрдо. — И до скорой встречи, Викторин Александрович.
— Дай-то бог!
Зарецкий широко, размашисто перекрестился.
В прихожей пахло рассолами и грибами. Из столовой отчётливо доносилось тикание стенных часов. Казалось, что по всему дому разлита атмосфера сытости, достатка, безмятежности. Суровцев снял с вешалки шапку и вышел.
Отец Викторин запер за гостем дверь, проверил надёжность засова и ещё долго стоял, прислушиваясь к затихающим шагам. И вдруг зябко передёрнул плечами Зима, сквозные ветры продувают лес, ноги тонут в сугробах, за каждым деревом, каждым пеньком стережёт опасность. А этот невысокий рыжеватый человек, Суровцев, с винтовкой и заплечным мешком бредёт куда-то далеко-далеко
Отец Викторин потёр ладонью лоб, словно отгоняя им самим вызванные видения. Потом не спеша прошёл в столовую. Жена в ожидании мужа дремала на диване. Нина читала за столом. Перехватив её испытующий, тревожный взгляд, Викторин Александрович ободряюще и даже озорно подмигнул дочери.
— - Как у тебя дела с немецким языком, Нинуська?
— Ты же знаешь, папа, — - отлично. А почему ты спрашиваешь? — Нина явно недоумевала.
— Молодец! — Отец обогнул стол, приблизился к дочери и поцеловал её в затылок. Волосы девушки пахли хвоей и терпким запахом духов.
Глава четвёртая
«СЕГОДНЯ В СЕМЬ!..»
В памяти людиновских старожилов надолго, если не навсегда, сохранится день четвёртого октября 1941 года. В этот день партизаны покидали родной город, расставались с близкими, уходили в леса.
С самого утра с западной окраины по улицам двигались — пешком, на подводах и автомашинах — советские части прикрытия. Войска отходили в сторону Жиздры. Они были потрёпаны и предельно измотаны непрерывными боями. Уханье пушек, зловещий говорок пулемётов всё ближе, ближе. Жители, оставшиеся в Людинове, почти не выходили из домов. Лишь иногда метнётся из калитки на улицу женщина в наспех повязанном платке, с бидоном или ковшом в руках. Скорбно качая
головой, повздыхает в ожидании, пока напьётся воды солдатик с воспалённым грязным лицом, и, не спрашивая его ни о чём, вновь скроется в доме. Да и о чём спрашивать? Всё и так яснее ясного.
К одиннадцати часам утра адъютант командира партизанского отряда Пётр Суровцев, молодой и «быстроходный» парень, обошёл без малого тридцать домов и который раз, увидев нужного человека, отводил его в сторону и говорил коротко и односложно:
— Сегодня в семь!
Этого приказа партизаны ждали уже несколько дней. И всё же, когда появлялся Суровцев, у каждого, оставлявшего родной дом, больно сжималось и щемило сердце. Новая, неизведанная доселе любовь охватывала всё существо при взгляде на годами обжитые, а у многих и собственными руками построенные домики, на палисадники, улицы — Сегодня в семь!.. И вновь проверялось содержимое приготовленных мешков и рюкзаков, плотнее и крепче утрамбовывалась земля в укромном уголке в саду или в огороде, где схоронены альбомы с семейными фотографиями, документы и грамоты от Советской власти, обёрнутый тряпками, втиснутый в наспех сколоченный ящик дедовский посеребрённый самовар. Родная земля-матушка всё сбережёт до возвращения хозяев.
На Комсомольской улице Пётр Суровцев встретил своих старых друзей — Алёшу Шумавцова и Шуру Хотееву. Молодые люди шли, держась за руки, и о чём-то увлечённо и сосредоточенно говорили.
— Привет, земляки! - окликнул их никогда не унывавший Пётр. — Что же это такое происходит? Кругом война полыхает, фашисты к самому городу подобрались, а милые-разлюбезные все про любовь тары-бары. Неподходящее время, доложу вам!
— Болтун несчастный! — вспыхнула Шура и порывисто вырвала руку из широкой ладони Алексея. Откуда ты знаешь, о чём мы говорили. Может, мы
— Шура! — остановил её Алёша. Он снова взял руку девушки, и это спокойное, уверенное движение Алёши Шура восприняла как нечто само собой разумеющееся, необходимое, против чего и спорить нельзя.
— А ты, Пётр, к серьёзному делу приставлен, занимайся им, вместо того чтобы зря зубоскалить. Чего в чужие дела суёшься? Небось свои ещё не все провернул.
Алексей многозначительно посмотрел на Петра, и тот сразу понял, что этот серьёзный, рассудительный парень многое знает.
— Подумаешь, и сказать нельзя. — Суровцев примирительно хмыкнул, однако, не обнаружив с их стороны желания продолжать разговор, приветственно помахал рукой, повернулся и зашагал по Комсомольской. Адресов у него оставалось ещё немало.
— Разве так можно, Шура! — В голосе Алёши явственно слышались осуждение и укор. — Под горячую руку ты чёрт знает что наговоришь.
— - А чего он пристаёт? Какое ему дело?
— Петька — настырный парень, верно, — согласился Алёша, — но ведь он без зла, просто так спросил, а другой, зная твой характер, подковырнёт, вот как сейчас, только с умыслом. Ты и вспыхнешь, как спичка.
— Алёша! — Шура прижалась плечом к юноше, подняла голову, и в её миндалевидных глазах, часто задумчивых и грустных, сейчас было столько нежности, что Алексей мгновенно забыл все слова и молча до боли сжал руку девушки.
— - Знаешь, Алёша, мне дома раньше из-за тебя прохода не было. Особенно Тоня, как приехала на каникулы, всё доводила. Только открою дверь — и сразу вопросы:
— «С рыцарем гуляла? А почему твой рыцарь к нам не заходит? Видно, трусоват малость, боится?» Бывало, кто помянёт при мне твоё имя, уши начинают гореть, обязательно жду, что моё имя тоже назовут. Поэтому я н на Петьку сейчас набросилась
Шура виновато опустила голову.
Как радостно стало в эти минуты на сердце Алёши. Хотелось, чтобы лицо оставалось холодным, каменным, безучастным, но щёки начали гореть, губы сложились в улыбку.
Поглядев вслед Петру Суровцеву, Алёша растроганно сказал, продолжая прерванный разговор;
— Когда кончится война, мы всегда будем вместе, всегда. Отпразднуем здесь с родными и друзьями победу и сразу же махнём учиться.
— И сразу расстанемся?
Почему? вскинулся Алексей. — Я обязательно пойду в лётную школу. Знаешь, сколько их в нашей стране? Десятки. А ты со мной поедешь, в тот же город. Поступишь в педагогический или в медицинский.
Шура молчала. Ей стало грустно. Представилось, что война уже кончилась и они вот так, как сейчас, вдвоём идут по улицам и площадям Людинова. Заходят в парк, садятся на скамейку возле памятника Фокину, на ту, что слева, их любимую, и Алёша говорит: «Завтра я уезжаю. Будешь ждать? Я обязательно прилечу, покружусь над твоим домом и помашу крылом». Эти слова она уже не раз слыхала от Алёши. Но почему-то раньше не принимала их всерьёз, даже смеялась, а сейчас
У Шуры очень красивое лицо. Тонкие, выразительные черты, брови вразлёт и пышные русые волосы. Сейчас лицо девушки задумчиво, уголки крупного, мягко очерченного рта опущены вниз. Предательский комок подкатывается к горлу, незаметные слезинки пощипывают глаза. Лишь бы не разреветься
— Не будем фантазировать, — просит она, справляясь с волнением. — До победы надо ещё дожить, а для этого придётся потрудиться как следует. Вот ты назвал Толю Апатьева и Сашу Лясоцкого. По-моему, стоящие ребята, крепкие, надёжные. А ещё кто?
Вчера Алёша не удержался и намекнул Шуре только ей одной и больше никому, — что сидеть сложа руки он не будет, у него теперь есть «настоящее дело». Шура хотела расспросить друга, о каком деле идёт речь, но не решилась. В своё время Алёша сам скажет. Но по его то сияющему, то сосредоточенному виду она догадывалась: Алёша не сболтнул и ничего не выдумал.j
Шумавцова действительно волновали чувства, вызванные недавним разговором в райкоме партии, его наполняло энергией задание, полученное от Афанасия Фёдоровича Суровцева и Василия Ивановича Золотухина. Ему, семнадцатилетнему комсомольцу, старшие товарищи-коммунисты поручили стать «глазами и ушами» партизанского отряда. Осторожно, исподволь узнавать обо всём, что будет происходить в городе, о фашистской технике, наземных силах и аэродромах. Еде и как разместятся в Людинове штабы, гестапо, жандармерия, воинские части. Все сведения передавать через партизанских связных, которые будут наведываться в Людиново «с приветом от Василия Ивановича»
— Поначалу будешь действовать один. Но постепенно приглядывайся к друзьям. Проверяй их надёжность, смелость, политическую стойкость. Всё проверяй, а главное, избегай болтливых. Иной болтун не меньше врага напакостить сумеет. — Так поучал Шумавцова Афанасий Фёдорович, а потом неожиданно спросил:
— Есть у тебя кто на примете?
— Есть! — не задумываясь, пылко ответил Алексей.
— Кто?
— Шура Хотеева. Преданная, смелая, настоящая комсомолка.
Всё это Алёша выпалил одним духом и смутился. Однако секретарь райкома сразу же одобрил его выбор.
— Дело говоришь. Семью Хотеевых я знаю. Хорошая семья, вполне надёжная. Правда, Шура, кажется, тихоня. Тоня и Зина вроде как побойчее. Ну да тебе виднее, Алёша. Только не сразу, не спеши — Глаза Афанасия Фёдоровича улыбались.
Василий Иванович Золотухин, доселе молча присутствовавший при разговоре, поддержал Суровцева. Грубоватый и резкий в выражениях, Золотухин правильно подметил, что в таком деле, как разведка, девушка неоценимый помощник.
— Ты небось гуляешь с ней? Говори прямо, не стесняйся. Дело молодое.
Алексей ответил спокойно и просто:
— Я дружу с Шурой. Что из этого?
— Ты не серчай, — произнёс Золотухин. — Як тому говорю, что небось люди вас не один и не два раза вдвоём видели. На будущее это очень важно. Мало ли где влюблённые парочки гуляют. Им дорогу не закажешь. Фрицы это тоже не хуже нашего понимают. — Василий Иванович басовито хохотнул, и, хотя говорил он вполне разумные и правильные вещи, всё же Алёше было чуточку неприятно.
Конечно, всем этим он пока не поделился с Шурой, только спросил, будет ли она помогать ему, «если придётся если случай какой выпадет » Как Алёша и предполагал, девушка с радостью согласилась. На её лице юноша не увидел ни удивления, ни испуга, ни смятения. Чудесные глаза Шуры искрились ярче обычного, и что-то новое, доселе незнакомое прочёл Алексей в её взгляде.
А тем временем Пётр Суровцев — адъютант командира партизанского отряда — продолжал свой путь. Побывав ещё в нескольких домах, дошёл до мосточка, перемахнул через него, повернул вправо и оказался возле домика Вострухиных. Уже в то время Иван Михайлович Вострухин являл собой личность, может, и не столь примечательную, но весьма колоритную. В Людинове кое-кто поговаривал, что, мол, шолоховский дед Щукарь до того, как стал дедом и попал на страницы «Поднятой целины», был Иваном Вострухиным. Щуплый, занозистый, с врождённой хитрецой и смекалкой, Иван Михайлович был человеком прямым, принципиальным. Любил резать правду-матку в глаза и за глаза и не отступал от неё ни при каких обстоятельствах. В Лю-динове Иван Михайлович слыл непримиримым критиком, вмешивался в различные дела, указывал на недостатки, наводил порядок. Этого требовала его деятельная натура. На любом собрании, где бы ни присутствовал Вострухин, председательствующий или докладчик опасливо косили глаза в его сторону, ожидая в самый неподходящий момент подковыривающего вопроса с места, ядовитой записочки и уж конечно — «персонального» выступления.
— Ну, и неспокойный у тебя Ванюшка. Всё-то ему надобно, во всё он встревает, — не раз укоризненно говорили Вострухиной соседи, но Мария Кузьминична только посмеивалась. Полногрудая, румяная, она любила своего неказистого мужика, а к его «норову» давно привыкла.
Когда началась война, кадровый рабочий коммунист Вострухин молча обнял сына ученика десятого класса: тот добровольцем уходил на фронт. Насупившись, Иван Михайлович сухоньким кулаком постучал по столу и прикрикнул на зарыдавшую жену, а спустя несколько дней и сам деловито и спокойно сказал ей, чтобы готовила его вещички.
— Ухожу в партизаны. Без меня ребятам в лесу не управиться: я же тут каждую тропку знаю.
Дверь дома оказалась незапертой. Пётр легонько толкнул её и вошёл в сени. Из горницы доносился чуть надтреснутый, сердитый тенорок Ивана Михайловича.
— Ты мой характер знаешь. Сказано — и точка.
Партизаны — этo само собой, а в доме хозяйскии глаз тоже нужен. Точка!
Мария Кузьминична, видимо, возражала. Зная отчаянный, бесшабашный нрав мужа, она боялась за него.
— Говорят тебе, буду являться! Ишь, какая, муж ей уже не понадобится, — распаляясь, шумел Вострухин.
— Да как тебе только не совестно! — в свою очередь повысила голос Мария Кузьминична. — Я за тебя, дурня, боюсь, а он вон куда поворачивает.
Спор мог затянуться надолго, и Пётр решил вмешаться. Он вошёл в комнату, чинно поздоровался с умолкнувшими хозяевами и соболезнующе спросил, обращаясь к Марии Кузьминичне:
Твой-то всё шумит, тётя Маруся?
— Ой, не говори, Петя, — махнула рукой хозяйка.
Надо бы доложить Василию Ивановичу, предупредить его. А то, пожалуй, расшумится Иван Михайлович в лесу, всю нашу партизанскую конспирацию провалит.
Зачем пожаловал? - сердито оборвал Петра Вострухин.
— У меня-то дело серьёзное, — отозвался тот. — Сегодня в семь уходим в лес.
Сегодня в семь!.. И сразу же наступила тишина. Охнула и затихла тётя Маруся. Па цыпочках, словно боясь вспугнуть неожиданно пришедшую тишину, Иван Михайлович подошёл к жене, неловко по-мужски провёл ладонью по её волосам н сказал, хмурясь и пряча глаза:
— Ладно уж
Во многих домах Людинова в этот день заботливо снаряжались для трудной непривычной лесной жизни и войны отцы, мужья, братья. В хлопотах незаметно подобрался вечер.
Даже в мирные дни по вечерам, в осеннее ненастье нередко тоскливо и муторно становится на сердце. Такова осень! Злой ветер стучит в окна, возится на крышах домов, изморозью и холодными дождевыми каплями швыряется в прохожих. А нынче Нет меры, чтобы определить глубину горя людей, знающих, что завтра, а может, и сегодня в ночь в их родной город, в их родной дом войдёт враг.
Партизаны уходили в лес. В одиночку и небольшими группами оставляли они город и шли к условленному месту общего сбора. К восьми часам вечера Людиново совсем замерло. Будто ушли из него последние жители и унесли с собой дыхание жизни, свет, тепло.
Но так только казалось! За закрытыми ставнями многих домов жизнь продолжалась.
На улице имени Луначарского, в домике Шумавцова, Алёша, отправив спать бабушку, сидел за столом и что-то писал. Кто знает, может, это были первые слова клятвы или в уме юноши вызревал план будущей подпольной работы? В доме Хотеевых близко склонились друг к другу три девичьи головы. О чём-то шептались сёстры — горячо и страстно. Мерил шагами комнату парень с улицы имени Войкова — невысокий, подвижной Шурик Ляеоцкий
Нет, жизнь не умерла в маленьком советском городе, окружённом лесами, хотя к его окраинам со стороны реки Ломпадь уже подступил враг.
Глава пятая
ТОВАР-ЖИЗНЬ, ЦЕНА-ПРЕДАТЕЛЬСТВО
I
В школе, где Александр Петрович Двоенко преподавал физику и математику, к нему относились доброжелательно, снисходительно, некоторые даже жалели. Низкорослый, сутуловатый, с вздёрнутым левым плечом, Двоенко внешне походил на человека, постоянно ожидающего внезапного удара. Был он крайне молчалив, а когда приходилось разговаривать или отвечать на чей-либо вопрос, смотрел в сторону, вниз, но не в глаза собеседнику. Никто из школьного коллектива, даже старик Бутурлин — приятель Двоенко, не знал как следует своего коллегу.
— Ну что ты запойно пьёшь? Разве так можно! — не раз укорял Двоенко Бутурлин. — Ты же педагог, воспитатель, а пьёшь без передыху. И всё за чужой счёт стараешься.
— Я не пью, а злобу глушу. Понял? — угрюмо возражал Двоенко..
— Какую злобу, на кого? Чего тебе на хватает, чертище!
— На род людской. — И Александр Петрович затягивал осипшим от непрерывного пьянства голосом:
На земле весь род людской
Чтит один кумир священный.
Он царит над всей вселенной,
Тот кумир — телец златой.
Деньги! Безгранично жадным и скупым считали Двоенко учителя. Когда в школе готовили походы, коллективные вылазки, устраивали вечера, посещения кино, театра и на это требовались самые незначительные личные затраты, Александр Петрович мрачнел, неизменно высказывался против и оставался в стороне.
— Не хочу Не буду Занят Болен — Иного ответа от пего не слышали. И, наконец, махнули рукой и оставили в покое.
Так и жил Двоенко, будто отгороженный каменной стеной от остальных людей, маленькой жизнью нелюдимого, но безвредного брюзги и скупца.
Увы, этот чересчур поспешно наклеенный ярлык был весьма далёк от истины. Не безвредность и чудаковатость, не брюзжание и врождённая замкнутость, а тщательно скрываемое недовольство, злоба и даже ненависть ко всем и вся руководили поведением п поступками Двоенко. Физически и духовно неполноценный, почти всегда одурманенный алкоголем, этот человек давно превратился в честолюбца, стяжателя и садиста. Да, именно эти черты стали главными в его характере. С каким наслаждением он пинал и отшвыривал попавшуюся под ноги кошку или собаку. Не меньшее удовольствие получал, дёргая за уши встреченного в безлюдном переулке мальчика или пугая хриплым криком в темноте хилую старушку.
В советское время Двоенко негде было развернуться. Вокруг жили и работали равные люди, товарищи. Само слово «товарищ» бросало Александра Петровича в дрожь, он старательно избегал такого обращения, глушил злобу в вине и ждал, ждал перемен. А дома на досуге читал и перечитывал бредовую, истеричную книжицу Гитлера «Майн кампф» — купил с рук в один из наездов в Москву — и истрёпанный вконец дореволюционного издания томик Ницще: «Так говорил Заратустра». Каждый день, надёжно закрывшись, Двоенко передвигал на карте флажки, отмечал победоносный пугь гитлеровских полчищ, шагавших по Европе.
Проходили дни, недели, месяцы Двоенко ждал.
Утром 22 июня московское радио оповестило народ о вторжении фашистских армий на территорию Советского Союза. Это известие буквально потрясло жителей Людинова и заставило по-новому взглянуть на себя, на свою землю, на весь мир. Война!.. Что принесёт она?.. А Двоенко, спрятавши под очками хитроватые глаза, ликовал. Вот оно, началось Может быть, и он теперь из мелкого учителишки превратится в настоящего человека, господина. Немцы- культурная нация, Германия умеет ценить людей
В маленькой обтянутой чёрным коленкором записной книжке учителя математики и физики появились имена и фамилии. Возле каждой фамилии стоял вопросительный знак и сокращённая пометка «пог.», что значило — поговорить. В числе этих фамилий была и фамилия Дмитрия Иванова, о котором вот уже более двух недель Александр Петрович осторожно, исподволь собирал сведения и характеристики. Соседи Ивановых по улице Плеханова рассказывали, что «ивановская семья большая, да недружная, вроде как в разные стороны тянется». Так и было на деле. Братья Николай и Виктор и сестра Раиса служили в Советской Армии, замужняя сестра Клавдия в первые дни войны эвакуировалась в тыл. Весёлыми и озорными ребятами росли младшие в семье — Иван и Валя. Дмитрий дружил с братом Алек: сеем. Оборотистый Алексей уже в ту пору занимался тёмными делишками, скупал, продавал, обзавёлся прочным хозяйством, от которого имел немалый доход. Алексей часто говаривал брату Дмитрию:
— Я один по отцовскому следу пошёл, а остальные так ветродуи неустроенные. Тьфу!.. — и плевался раздражённо и зло.
О своих планах на жизнь Дмитрий в семье не рассказывал. Отделывался лаконичными фразами.
— Кончу лесотехнический, а там погляжу. В лесниках ходить, в глуши пропадать не намерен. Времени впереди много. — И каждый раз добавлял при этом: — Я же вроде как клеймёный, мой папаня не в ладах с Советской властью был. Понимать надо.
Обо всём этом Двоенко уже- знал, и когда в ночь ухода партизан в лес Александр Петрович навестил дом № 16 на улице Плеханова — кирпичный, одноэтажный, с четырьмя окнами, закрытыми ставнями, похожими на бойницы, — в записной книжке учителя уже имелись исчерпывающие сведения о студенте первого курса Брянского лесотехнического института Дмитрии Иванове.
Не так, совсем не так задумал поначалу Двоенко провести свой разговор с «сосунком», как мысленно окрестил Иванова. Парень оказался дошлым, вёртким, а затаённой неприязни к советским людям и советским порядкам ему незачем было одалживать у пытавшегося поучать Александра Петровича. Прощупывающий разговор постепенно становился всё откровеннее и прямее. И получилось так, что молодой хозяин, небрежно развалившийся на диване, — гость сидел на стуле — из ученика стал учителем. «Яйца курицу учат», — сердито подумал Двоенко и даже засопел от негодования.
Вёл разговор Иванов.
— О вас идёт дурная слава как об опустившемся пьянице, гражданин учитель. Не думаю, чтобы это им очень понравилось. — В разговоре оба тщательно избегали слова немцы.
— Мне кажется — попытался было возразить Александр Петрович, но Иванов перебил его:
— Вам кажется, что если после сильного возлияния вы выльете на себя флакон одеколона, никто не заметит, не учует. Ошибаетесь, все видят и все смеются.
— А какое, собственно, твоё собачье дело? — не выдержал и окрысился Двоенко. Его красные, с синеватыми прожилками глаза уставились на Иванова.
— Ну, ну, тише на поворотах, — повысил голос тот. — Я-то живу по-человечески. Комар носа не подточит. А ваше благородие несколько раз по улице волокли в стельку пьяного.
— Пусть так! — мотнул головой Двоенко. — Зато я культурная сила высшее образование имею. Людей знаю во! — И он вытянул растопыренную ладонь. Рука Александра Петровича заметно дрожала. Сильно распалясь собственным бахвальством, он продолжал, похлопывая по карману пиджака. — Здесь подробный списочек, кого куда. Вот, скажем, Мартынова, учительница наша, агитацию против них ведёт. Муж командиром воюет. Или Бутурлин, старый чёрт. Каждый раз как прослушает сводку по радио, Наполеона вспоминает. Л-на-логия. Всыпать бы ему за эту аналогию.
Двоенко готовился продолжать перечень людей, занесённых им в свой кондуит, но Иванов оборвал собеседника. На этот раз он заговорил деловито и серьёзно.
— Молодёжь забывать нельзя. У меня тоже кое-кто на примете имеется. Пока, конечно, только слушки да догадки, но проверить не мешает. Я уже давненько к некоторым присматриваюсь. Патриоты! — И столько неприязни было в голосе Иванова, что Двоенко, доселе глядевший исподлобья, вполне удовлетворённо кивнул головой и промычал что-то похожее на одобрение и похвалу.
Ворон ворону глаз не выклюет. Верная народная поговорка. Её мудрость подтверждалась и на этот раз. Молодой и старый вороны нашли общий язык. И хотя злопамятен до крайности был Александр Петрович, понял он и внутренне признал превосходство своего собеседника, острого на язык, точного в характеристиках, беспощадного в оценках. «Из молодых, да ранний, — мысленно охарактеризовал Двоенко Иванова, — далеко пой- дет, надо держаться его стороны». Теперь Александр Петрович часто поддакивал хозяину дома, ни в чём не перечил ему, иногда выдавливал улыбку на своём лице, а на прощание даже протянул и пожал руку, как бы скрепляя союз и согласие.
Рука Двоенко была холодной, скользкой, вялой и вызвала у Иванова такое ощущение, будто он дотронулся до уснувшей рыбёшки, выкинутой из озера на прибрежный песок
Прошли две недели со времени этого памятного разговора. Четырнадцать дней, триста тридцать шесть часов уже хозяйничали фашисты в Людинове. Немецкие офицеры в чёрных и зеленовато-серых мундирах надменно вышагивали по улицам города, поблёскивая лакированными козырьками фуражек с высокими тульями и до блеска начищенными сапогами. За спйнами завоевателей лежала покорённая Европа, дымились сожжённые города Польши, Бельгии, Франции и многих других стран. Причудливое сочетание западного лоска с кровожадностью людоедов делало ещё страшнее, ещё отвратительнее облик захватчиков. Ведь часто стройный офицер со свастикой на рукаве, утром похвалявшийся знакомством с Лувром, умевший легко и непринуждённо грассировать по-французски, ночью убивал женщин, детей, пытал, вешал, расстреливал.
Да, именно такими были многие из офицеров и солдат триста тридцать девятой пехотной немецкой дивизии, расположившейся в Людинове. Опьянённые военными успехами, верившие в «блицкриг» и непогрешимость фюрера, они чувствовали себя завоевателями, победителями.
На стенах домов появились первые листочки — серые, синие, зелёные — приказы коменданта майора фон Бенкендорфа. И, как правило, каждый из этих приказов заканчивался словами: «За нарушение расстрел». Расстрелы, виселицы, пытки В дни оккупации Людинова они прочно вошли в суровую, беспросветную жизнь города. Угрозой смерти фашистское командование и тайная полевая полиция — ГФП — пытались сломить волю советских людей, растоптать их национальную гордость, в зародыше уничтожить попытки к сопротивлению.
Однако для жителей Людинова страшна была не только фашистская полиция. Немцы действовали хитро — руками русских предателей. Практически основными исполнителями заданий гестапо являлись чины русской городской полиции, также подчинённой Бенкендорфу. Здесь орудовал Александр Двоенко. Пришёл его час! Вся накопленная за долгие годы злоба, удесятерённая хмелем и садизмом, ныне находила себе удовлетворение в расправах, в изощрённых пытках и казнях мирных, беззащитных советских людей.
Теперь Двоенко жил «богато», как никогда, а после попоек, озверевший, с красным опухшим лицом, кособокий и длиннорукий, он часто выбегал на улицу, потрясал пистолетом или автоматом вырванным из рук полицая, и стрелял во встречных прохожих, будь то старик, женщина, ребёнок. Двоенко было безразлично, кого и за что убивать. Лишь бы убивать, лишь бы видеть кровь, слышать стоны, видеть смерть.
Однажды вечером он неожиданно появился в доме своего бывшего коллеги по школе, учителя Бутурлина.
Старику нездоровилось. Он зябко кутался в тёмный халат, шлёпал домашними туфлями и вообще производил впечатление человека бесконечно уставшего и тяжело больного. Холодно поздоровавшись, Бутурлин не пригласил гостя в комнаты, как это делал обычно, а, наоборот, встав возле двери, преградил ему путь. Старику казалось, что если Двоенко войдёт внутрь, чистый, уютный домик будет оплёван, опоганен. Разговаривать в комнате, сидеть за одним столом, как когда-то? Нет, немецкий холуй не дождётся этого.
— Зачем пожаловал? — хмуро спросил Бутурлин и, не получив ответа, продолжал громко: — Вот, оказывается, ты каков! А я и не знал, не догадывался раньше. Жизнь человеческую в грош не ценишь, по колени в крови ходишь. Вампир проклятый! Смотри, не захлебнись.
Голос Бутурлина поднялся до крика. Он стоял выпрямившись, смотря поверх головы гостя, бледный, с горящими глазами.
Зачем пришёл? Уходи! Я тебя не звал. Не будет v нас с тобой ни дружбы, ни разговора. Уходи! Да кровь на руках почище отмой.
Ярость Бутурлина ошеломила Двоенко. Сутулясь больше обычного, высоко задрав левое плечо, Александр Петрович пятился назад, лицо его дёргалось и кривилось, словно кто-то бил его по щекам. Нащупав ногой входную дверь, Двоенко толкнул её и встал па пороге.
Получай, сволочь! - - истерически завопил он. Почти одновременно один за другим прозвучали два выстрела. Бутурлин вздрогнул, схватился за грудь и медленно, грузно опустился на пол. Левая нога его подогнулась, полы халата распахнулись. Секунду-другую он сидел, опираясь о степу, потом стал клониться набок. А Двоенко тем временем уже бежал по улице, брызжа слюной, матерясь, кому-то угрожая.
Дмитрий Иванов недовольно морщился, когда до него доходили слухи об очередных «подвигах» начальника полиции. Нет, подобные методы расправы претили ему. Иванов недоумевал, почему господин фон Бенкендорф, человек неглупый, отлично разбирающийся в ситуации, не одёрнет и не призовёт к ответу Двоенко. Ведь тот своим поведением и поступками не только мешает
немецкому командованию устанавливать «новый порядок», но подрывает авторитет и без того немногочисленной группы русских людей, исполнительных, подобострастных, безоговорочно принявших немецкую власть и работающих на неё. Сам он, Дмитрий Иванов, был именно таким человеком.
На бирже труда Иванов начал служить с первых же дней прихода немцев, открывших это забытое советскими людьми учреждение. Десятки и сотни жителей Людимова каждодневно толкались на бирже. Нужда, голод гнали их сюда. Что делать? Без заработка нет пищи, пет дров, да к тому же уклонявшихся от работы ждали норка, отправка в Германию, расстрел. И люди шли. Нередко глаза их горели ненавистью, руки сжимались в кулаки, а губы произносили смиренные, просительные слова: «Работу бы нам. Детишки голодные »
Наблюдательный Иванов умел разбираться в людях. Умел прочесть затаённую мысль в глазах, в интонации голоса, в неоконченной фразе, в скупом жесте. И так уже повелось, что изо дня в день начальник ГФП Антоний Айзенгут и военный комендант Александр фон Бенкендорф получали агентурные донесения чиновника биржи Дмитрия Иванова. В донесениях точно и предельно ясно давались характеристики людиновских жителей. Этот ненавидит, опасен, следует убрать. Тот нерешителен, труслив, может быть обработан. Третий скрытен, молчалив, по-видимому, знает многое. Выводы и оценки Иванов, как правило, подкреплял не только вольным пересказом искусно выведанного у того или иного собеседника, но и сведениями о прошлой жизни: что делал, как жил, как относился к Советской власти
Полиция и комендатура умело использовали своего осведомителя. Некоторые люди внезапно исчезали; кое-кому начальство оказывало милостивое внимание; за иными устанавливалась слежка. И никто из исчезнувших пли обласканных не знал, что к их судьбе приложил руку скромный служащий биржи труда Дмитрий Иванов.
II
Нина Зарецкая, дочь отца Викторина, давно была знакома с Ивановым. Чего греха таить, ей нравился этот стройный черноволосый студент, вежливый и неглупый. Главное Же заключалось в том, что Нина была одинока. В компаниях молодёжи она чувствовала себя чужой. Каждый раз находился присяжный остряк, который, может быть, и беззлобно, но громогласно справлялся у Нины, вознесла ли она сегодня молитву господу богу и как всё-таки она, товарищ со средним образованием, представляет себе деликатную историю пресвятой девы и Иисуса Христа?
Нина сторонилась компаний. Её редко можно было встретить в доме культуры. В кино чаще всего ходила одна или с тётей Липой. Что же касается Мити, то с ним она обычно бродила по вечернему городу, сидела в забытом, обезлюдевшем парке или они отправлялись рука об руку по лесным тропам до станции Ломпадь.
— Пойдём сегодня в кино, Митя, — не раз просила Нина. И каждый раз следовал ответ, что ему очень хочется именно сегодня побыть только с ней, вдвоём, а в кино они пойдут в другой раз, обязательно пойдут. Однако другой раз так и не наступал. Под этим же предлогом Иванов отказывался и от посещения дома Зарецких. Неудобно: как родные посмотрят, мало ли что подумают, да и поговорить, посидеть вдвоём не дадут;>. Наивная девушка верила Дмитрию. Его доводы казались ей вполне убедительными. Нина даже представить себе не могла, что отказ Дмитрия пойти вместе в кино, посетить её квартиру диктовался только одним — боязнью огласки: «Дочь священника!.. Как бы чего не вышло». Иванов старательно ограждал своё имя и свою репутацию от пересудов и толков.
Со дня оккупации молодые люди не встречались, и на биржу труда Нина пошла неохотно, по совету и настоянию отца.
Работать, доченька, надо. Время такое, ни с чем могут не посчитаться. Угонят с родных мест, пропадёшь, а мы о тебе и знать ничего не будем.
Викторин Александрович настоятельно рекомендовал дочери сказали на бирже, что она хорошо знает немецкий язык.
— Почегче работу получишь. — И как бы ненароком добавил: — Там ведь у тебя знакомый служит. Ты к нему и подойди. Поможет устроиться.
Глядя в ту минуту на спокойное, приветливое лицо огца Нина и подумать не могла, что, посылая её работать на фашистов, отец преследует заранее определённую, точно рассчитанную цель.
Отец Викторин оказался прав. Дмитрий Иванов ра душно встретил Нину на бирже, выслушал её очень винмательно, по решительно возразил против любой гряз ной работы.
— Ты с ума сошла. Теперь ведь жаловаться некуда п некому. По шестнадцати часов спину не разогнёшь. потом ихний начальник к себе затащит. Откажешься - изобьёт. Вот что, — решительно сказал он. — Сегодня вечером я поговорю с кем надо. Попробую устроить те бя переводчицей. Хозяевам нужны надёжные люди, знающие немецкий язык Ты ведь надёжная, из духовных, - Иванов улыбаясь посмотрел на девушку. В ней он бы уверен.
Хозяевам!.. Дмитрий запросто произнёс это ставшее уже привычным слово, а Нину оно резануло по сердцу. Но девушка промолчала. О сдержанности напомни, отец, когда она сегодня уходила из дома.
Иванов не обманул. Поздним вечером он, как свой человек, уже не впервые перешагнул порог кабинета «денного коменданта майора фон Бенкендорфа. «Хозяин» — плотно сбитый, выше среднего роста, с явнс обозначившимся брюшком, майор немецкого вермахта-знал несколько-языков. Отлично владел русским и в минуты «лирических приступов»--они случались довольно редко - - любил повздыхать о своих предках Бенкен торфах, служивших при царском дворе, о русской при роде и русской зиме и даже цитировал на память стихи. «Шалун уж отморозил пальчик» Всей строфы майор не помнил.
Бенкендорф явно благоволил к преуспевающем) «юноше с задатками» Дмитрию Иванову. Точнее, чинов пик преуспевал не без поддержки военного коменданта. С первых же встреч и первых разговоров они нашли об ниш язык. Почтительные позы молодого человека скромные манеры, сдержанная и вовремя поданная реплика по тому или иному вопросу и, конечно, главное неоценимые услуги осведомителя делали Иванова каж дый раз желанным посетителем Бенкендорфа. Когда однажды коменданту сообщили о том, как ИваГов оценивает действия Двоенко, Бенкендорф даже изволи бросить фразу:
— Правильно. У молодого человека хорошая голова. Политика кнута и пряника. Это всё, что нам нужно для установления нового порядка в этой стране. Одним кнутом — Бенкендорф скривил губы и покачал головой — Одним кнутом тут ничего не сделаешь.
Сам майор охотно подчёркивал свой либерализм. На его письменном столе под стеклом красовалось несколько фотографий, на которых он «одарял верноподданных русских людей». Три — четыре человека пугливо жались друг к другу и напряжённо смотрели в объектив, а на первом плане стоял он, их бог, повелитель, хозяин, военный комендант города, и что-то милостиво держал в протянутой правой руке.
— Здравствуйте, господин комендант. — Иванов расшаркался на пороге кабинета. — Разрешите, Александр Александрович.
Иванов знал, что комендант любит, когда его именуют русским именем, отчеством. Как-никак, он — потомок знаменитого русского царедворца, шефа жандармов фон Бенкендорфа, и, значит, имеет некоторое отношение к ныне завоёванной русской земле. В сравнении с ним, Бенкендорфом, и Айзенгут и другие офицеры выглядели чужеземцами. Он имеет все основания рассчитывать на расположение русских.
Бенкендорф кивнул головой:
— Да, да, проходи. Я жду тебя — Такое обращение на «вы» и на «ты» установилось между ними с первого же дня их секретного сотрудничества.
— Как ваше здоровье? Последний раз вы немного жаловались на ногу.
— Спасибо, теперь не болит. Садись, докладывай.
Обстоятельно, неторопливо Иванов сообщал новости
За неделю их накопилось немало. Наиболее важные Бенкендорф записывал в блокнот. Одна особенно заинтересовала его. Оказывается, в городе существует небольшая, но крепко сплочённая группа пятидесятников. Сегодня на биржу труда приходил Фёдор Гришин — раньше служил на заводе. Просил работу для всех «братьев и сестёр во Христе».
— Видимо, бренные тела, кроме каждодневных молитв — Иванов улыбнулся, но ответной улыбки не последовало. Комендант сидел, покусывая кончик карандаша, и о чём-то размышлял.
— Слушай, — решительно сказал он. — Разыщи и пришли завтра ко мне Гришина. С сектантами мне уже приходилось иметь дело. Некоторые из них оказались весьма полезными людьми. Ведь на них нисходит дух божий, значит, он может узнавать, повелевать. Понятно? — Теперь улыбнулся и Бенкендорф.
— Вполне, Александр Александрович. Будет исполнено.
В этот вечер всё складывалось как нельзя удачно. Два личных дела он провернул без сучка и задоринки. В папке, которую Иванов принёс для доклада военному коменданту, лежало заявление брата Алексея, просившего разрешить аренду мельницы. С приходом фашистов будто крылья выросли у этого пронырливого хапуги. Он целыми днями где-то пропадал, о чём-то хлопотал, с кем-то сговаривался. Аренда мельницы была его очередной коммерческой сделкой. Дмитрий за небольшую мзду охотно согласился помочь брату. И вот сейчас Бенкендорф, бегло прочитав заявление, росчерком пера удовлетворил просьбу.
Второе щекотливое дело — устройство переводчицей Нины Зарецкой — оказалось не более сложным. Правда, Бенкендорф, внимательно выслушав характеристику девушки, задал два — три малозначащих вопроса о её возрасте, о том, где она работала, откуда знает немецкий, не комсомолка ли. Дочь священника? О, это хорошо
Иванов понимал, что шеф спрашивает так, для формы, чтобы подчеркнуть: поступление на службу в немецкий аппарат куда труднее и ответственнее, чем простое устройство на работу.
— Ты интересуешься судьбой Зарецкой? Ты знаешь её жизнь? Откуда? — осведомился Бенкендорф. Иванов молча пожал плечами. — Понимаю. Ты неравнодушен к ней. Ну, что же, мы устроим твою девушку сюда, в комендатуру. Нам нужна переводчица. Она согласится, как ты думаешь?
— Конечно, Александр Александрович. Она будет очень рада.
Иванов ликовал, сегодня же он встретится и обо всём расскажет Нине.
Визит подходил к концу. Иванов уже хотел было
встать и откланяться, но комендант неожиданно поднялся из-за своего стола, подошёл вплотную и положил руку на папку, лежавшую на столе. Тяжёлый, пронизывающий взгляд майора заставил Иванова съёжиться и побледнеть, плечи его невольно опустились.
— Ты, Дмитрий, сидишь на прибыльном месте. Мы, немцы, тебя опекаем, кормим, просьбы твои выполняем и даже о твоей будущей государственной службе хлопочем.
У Иванова чуть отлегло от сердца.
— Спасибо, господин майор, — пролепетал он.
Но Бенкендорф даже не взглянул на струхнувшего парня.
— А в городе уже творится чёрт знает что Подожжён склад, убит полицейский, взгляни на это.. — Он вытащил из кармана и ткнул в лицо Иванову смятую листовку. «Смерть фашистам», — только и успел прочесть тот написанные красным карандашом крупные заглавные буквы. — Запомни, это тревожный сигнал! — продолжал комендант. — Я вхожу не в первый русский город и знаю, что именно так начинает любое большевистское подполье. Сегодня пожар, листовка и полицейский, завтра — взрыв, убийства немецких офицеров, партизанский налёт. Надо всё уничтожать в зародыше.
Бенкендорф засопел и пристукнул ладонью по столу. Мысль Иванова лихорадочно работала. «Кто, кто?..» Приходили на память фамилии, имена, но не было улик, доказательств. Словно издалека он слышал гневные тирады военного коменданта.
— Молодые — вот кто опасен. Они — затаившиеся хищные зверьки, готовые прыгнуть в любую минуту.
«До чего же любит майор пышные, красивые слова. Но он, наверное, прав. Не зря его, Иванова, чураются земляки, надо будет расколоть лёд, проявить великодушие, чем-нибудь помочь Девчонки Хотеевы — они не могут не нуждаться в работе. Мужчин в доме нет. Пожалуй, с Хотеевых и следует начать, там всегда собирались компании».
Иванов решил до поры до времени ни о чём не говорить своему шефу. Он внимательно выслушал инструкции Бенкендорфа и, когда тот милостиво разрешил идти, думать и действовать, прихватил папку, низко поклонился и вышел из кабинета.
Задание было получено. Сейчас не отсидишься и не отпишешься у себя за столом на бирже. Надо искать, выслеживать, входить в доверие
Шагая домой, Иванов с радостью ощутил, что и впрямь не прочь поработать по-новому. Он был уверен, что теперь-то по-настоящему пойдёт в гору.
«Это не на бирже скрипеть пером. Что ж, попробуем »
Глава шестая
КАК ЖИТЬ?
I
Под вечер в крайнее окно домика Хотеевых кто-то негромко постучал. Сёстры невольно переглянулись. Этого стука они ждали, и всё же он прозвучал тревожно, настораживающе.
Через несколько секунд стук повторился. Тоня быстро направилась к двери и откинула щеколду. Из темноты в сени проскользнул Толя Апатьев и, пропустив вперёд Тоню, вошёл за нею в комнату.
— Привет, сестрички, — искусственно бодрым голосом произнёс Толя. — Что-то вы невеселы и головушки повесили?
Шура, накрывшись большим шерстяным платком, сидела у стола и машинально чертила пальцами узоры на скатерти. Её побледневшее лицо выглядело усталым, грустным. Зина крупными, твёрдыми шагами расхаживала из угла в угол. Не останавливаясь, она ответила:
— Здравствуй. А с чего веселиться?
— Да, для веселья планета наша мало оборудована, — не меняя тона, продекламировал Толя и присел возле Шуры. — Замёрзла, Шурочка, или нездоровится?
Шура зябко передёрнула плечами.
— Холодновато И вообще
— Как на улице? — спросила Тоня.
— Темно и вроде тихо. — Толя пригладил волосы — он очень следил за своей причёской — и поглядел на зашторенные окна. — Маскировка приличная, снаружи свет не виден.
— Свет! — иронически бросила Зина и подкрутила фитиль керосиновой лампы. Красноватый язычок пламени потянулся вверх и заметался, пытаясь вырваться из закопчённого стекла. На стенах заплясали причудливые тени.
— Не надо, — попросила Шура, и Зина тут же повернула фитиль обратно. Она и сама понимала, что большой свет сейчас ни к чему.
— Где же остальные? — Тоня подошла к двери и прислушалась.
— Не беспокойся, сейчас придут, — сказал Толя. — Не всё сразу. Вот, пожалуйста. Стучат
Тоня снова открыла дверь и пропустила в комнату Шурика Лясоцкого и Витю Апатьева.
— Зачем вдвоём ходите? — набросилась на них Тоня. — Ведь Алёша сказал
- Мы столкнулись уже у дома, — пояснил Витя, — не разбегаться же в разные стороны.
— Вас кто-нибудь видел?
— Нет. Патрульные недавно протопали, — ответил Шурик, — я переждал н прямым ходом сюда. Да ну их к чёрту, разве я не могу навестить своих школьных товарищей?
— Можешь, конечно, — вздохнула Зина, — да только поосторожнее. Лучше, чтобы чужие глаза не видели. Тем более сегодня.
— У кого теперь глаза свои, а у кого чужие, не разберёшь, — подумала вслух Шура.
— Ты что! — вскинулась Тоня. — Разберёмся, и очень хорошо разберёмся. Свои будут с нами, а с чужими
— Ас чужими будем расправляться! — категорически заявил Толя и легонько стукнул кулаком по столу.
— Правильно, — поддержал его Шурик Лясоцкий. — Если гад какой объявится, пусть не ждёт пощады.
— Вот, например, Двоенко. Это же палач настоящий.
Толя согласно кивнул головой.
— Да, иначе его не назовёшь. Почти на каждой улице он кого-нибудь да пристрелил. За что?
— За что? — переспросил Витя. — А за что фашисты расстреливают и вешают?
— Так то ж фашисты, немцы, а он всё-таки русский.
— Какой он русский! — с презрением воскликнула Тоня. — В одном доме убил женщину, в другом — девочку, в третьем — целую семью. Кто бы мог подумать, что советский человек, учитель превратится в зверя.
— Хлещет водку и стреляет во всех, кто ему попадается на глаза, — сказал Толя, гневно сжав кулаки. — Я сам чудом спасся. Шёл по улице, и вдруг этот подлец навстречу. Пьяный вдрызг, автомат немецкий в руках. Идёт, качается, матерится. Увидел меня, выпучил глаза из-под очков и автоматом, помахивает. Ну, думаю, прощай, жизнь.
— Как страшно! — тихо воскликнула Шура.
— Ещё бы не страшно!.. Однако пронесло В школе мы привыкли с учителями здороваться, вот и я по привычке снял кепку и вежливо говорю:
— Здравствуйте, Александр Петрович.
— Ну, а он? — Шурику не терпелось поскорее узнать дальнейшие подробности этой встречи.
— А он покачался на кривых ногах, сплюнул и хриплым голосом ответил:
— Я тебе господин, а не Александр Петрович. Понял, щенок?
— Понял, всё понял, — ответил я, а сам еле сдержался, чтобы не вырвать у него автомат и не прикончить па месте.
— Вот так и надо поступать! — решительно заявил Лясоцкий.
— Может быть, ты и прав, — заметил Витя. Сегодня он был мало похож на себя: не шутил, не балагурил и казался грустным, задумчивым. — Кровь ?а кровь
— Ишь вы, горячие головы, усмехнулась Зина. Легко на словах, а на деле, ой, как трудно.
— В комсомоле нас всегда учили не бояться трудностей, — возразил Толя. — Я, например, готов на всё.
Он откинул голову, а в глазах его мелькнул упрямый блеск.
— Слова не мальчика, а мужа, — довольно проговорила Тоня. — Но почему опаздывают остальные мужи, этого я понять не могу. А ну, тише!
Лёгкое царапание в оконное стекло заставило всех насторожиться.
— Наверное, Коля, — заявила Зина и пошла открывать дверь. Она не ошиблась. Коля вошёл, на пороге
снял очки, тщательно протёр их носовым платком и только после этого, вглядевшись в полутьму, окутывавшую комнату, поздоровался — церемонно и театрально.
— Мир дому сему. Вас приветствует Николай Георгиевич Евтеев.
— Вечно опаздывающий студент, — съязвила Тоня.
Коля сконфуженно заморгал глазами и усмехнулся.
-- Бывший студент, — -уточнил он. — Зачёты и экзаменационные сессии откладываются надолго. Теперь надо думать о другом.
О чём? — Шура внимательно посмотрела на Колю, будто впервые увидела его. А Коля, поправив сползавшие на переносицу очки, после длинной паузы повторил вопрос:
- О чём?.. -И ответил: — Как жить. Вот о чём.
- Как жить? — как эхо, повторила Шура и -по своей давней привычке отвернулась и закрыла лицо ладонями. Все замолчали. Стало тихо-тихо, лишь из соседней комнаты доносился лёгкий скрип половиц. Татьяна Дмитриевна, как обычно, занималась своими домашними делами.
II
Как жить? Как уберечь себя п свою семью от гитлеровской солдатни, заполнившей все улицы, площади, здания. Как глядеть на фашистских офицеров, развалившихся на кроватях и диванах почти в каждом доме, как отвечать на их назойливые вопросы, как скрыть свои чувства — неприязнь, злобу, ненависть к ним, чужеземцам, с наглыми противными лицами, с жадными, шарящими, подозрительными глазами, с крикливой непонятной речью. Старики тайком рыли ямы на огородах, во дворах и прятали годами нажитое добро. Молодёжь прятала главным образом книги, портреты Ленина и свои комсомольские билеты. Находились, конечно, и такие, что ничего не прятали, так как надеялись угодить «победителям» и выслужиться перед ними. Что ж, в семье не без урода!
Многие покинули город — эвакуировались. Не всегда причиной ухода был страх перед фашистскими зверствами. Страх можно побороть, к любому полуголодному существованию приспособиться. Зато ненависть к врагу, обрушившему на родную землю столько горя и несчастий, побороть было труднее. И эта ненависть одних вела в Советскую Армию — люди приставали к проходившим воинским частям и становились бойцами, других — в партизанские отряды, третьих — на бесконечно длинные и неизвестные дороги эвакуации. И само это слово — эвакуация! — какое-то сухое, неприятное, непривычно чужое, вызывало в сердцах людей то боль и страдания, то неутолимую злобу и готовность бросить к чёрту свои чемоданы, узлы, тачки с домашним скарбом, выпрыгнуть из красно-бурой теплушки и бежать навстречу врагу — бить, душить, рвать его насмерть.
Обстоятельства сложились так, что по разным причинам из Людинова не эвакуировались многие друзья Алёши Шумавцова. Кто не успел, кто не смог, а кому пришлось после нескольких неудачных попыток, глотая непрошеные слёзы обиды и отчаяния, вернуться в свои, ставшие неуютными дома. Война перепутала всё. Выходы из города оказались закрытыми, лес от города отделили немецкие патрули, и жители попали как бы в железное кольцо, которое с каждым днём туже и туже сжимало, сдавливало горло, сердце, жизнь.
Как же жить?
Алёше Шумавцову не приходилось искать ответа на этот вопрос. После встречи с Суровцевым и Золотухиным и инструктажа, полученного в райкоме, Алёша чувствовал себя бойцом на первой линии огня, и сознание этого наполняло всё его существо огромной радостью и бьющей через край энергией. Пусть на нём нет солдатского обмундирования, нет за плечами винтовки, пусть не бежит он в атаки с криком «ура». Зато он разведчик, невидимые глаза и уши партизанского отряда, значит, тот же боец, воин, подпольщик! Он поставлен на пост и с поста не уйдёт до тех пор, пока это вражье не будет вышвырнуто из родного города. «Служу Советскому Союзу». Слова солдатской присяги Алёша знал наизусть, хотя солдатом — по призыву военкомата — ему по молодости лет быть не пришлось. Но теперь он стал солдатом по призыву партии, комсомола, по призыву своего честного сердца, и этот призыв не требовал ни медицинских комиссий, ни повесток военкомата.
Если для Алёши всё было ясно и угнетало его только то, что он, находясь на своём посту, не успел ничего значительного сделать — а сделать хотелось очень и очень много! — то для остальных ребят наступили дни тревог, сомнений и мучительных раздумий. После яркого солнечного дня пришла чёрная ночь без всякого просвета. В родных домах — немецкая солдатня. На улицах — виселицы. В райисполкоме, райкоме, в школах — всякие управы, комендатуры, госпитали. Знакомые советские люди — соседи, родственники — неузнаваемо изменились: лица их посерели, потемнели, плечи опустились, а в глазах застыло что-то мрачное, тяжкое, а иногда и приниженное.
И Тоне, и Шуре, и Зине, и их друзьям-мальчишкам тоже стало горько и больно оттого, что всё, чем они жили и о чём мечтали, всё ушло, унеслось куда-то, как ветер. Наглые морды захватчиков, сытые, самоуверенные Крики, выстрелы и боязливые, будто стыдливые взгляды родных. Как же жить? Как дышать? Как есть чёрствый невкусный хлеб, ходить, глядеть, разговаривать, спать, когда в мире происходит такое, о чём нельзя рассказать никакими словами?
— Ты знаешь, — как-то сказала Шура своей старшей сестре Тоне. — У меня такое ощущение, что жизнь кончилась. Мы ещё живём, но жизни уже нет, она убита.
Тоня несколько секунд смотрела на Шуру, а потом, сердито сдвинув брови, прикрикнула:
— Чепуха! Истерика! Душевный надрыв. Можно убить тебя, меня, многих, но нельзя убить жизнь. Нельзя!
— Разве это жизнь? — горестно вздохнула Шура. А Тоня, не слушая её, продолжала:
— Ты должна знать, что нельзя убить идею, мечту, мысль.
— Что-то раньше я не замечала за тобой склонности к философствованию, — сказала Зина.
— Никакой я не философ! — Тоня резко повернулась, и лицо её стало необычно гневным. — Сейчас бороться надо, а не философствовать.
— С кем? — непроизвольно и как-то наивно спросила Шура.
— Не задавай глупых вопросов, — оборвала Тоня. — Ясно с кем. С фашистами.
— Но как?
— Вот это уже вопрос другой. На него сразу не ответишь. Но ответить придётся, и чем скорее — тем лучше.
Желание поскорее ответить на вопросы: как жить? что делать? какую пользу приносить Родине? — владело сердцами всех молодых друзей, ещё недавно мечтавших весело, увлекательно провести летние каникулы. Стремление найти ответы на эти вопросы влекло их друг к другу, заставляло вечерами, скрываясь от посторонних глаз, обходя полицейские патрули, собираться в домике у сестёр Хотеевых. И хотя никакой оформленной подпольной группы или организации ещё не было, но она фактически уже создавалась, вызревала. Так, несмотря на непогоду и ненастье, зреет на здоровом дереве плод, питаемый по многочисленным невидимым сплетениям корней живительными соками земли.
Алёша — он уже сейчас в кругу друзей был первым среди равных. К нему часто обращались за советом, делились помыслами, планами. Не по годам развитой, волевой и сдержанный, он никогда не горячился. Он мог внимательно подолгу слушать и неторопливо убеждать. Как правило, с его доводами соглашались, даже Тоня — наиболее самостоятельная и упрямая.
Ребята почти каждый день собирались у Хотеевых и всё чаще и чаще спрашивали друг друга: «Ну что ж, так и будем сидеть сложа руки и ждать у моря погоды? » Вопрос повисал в воздухе, так как никто при всём своём желании ещё не мог на него ответить. Зина испытующе поглядывала на Тоню, Коля сконфуженно снимал очки и начинал усиленно протирать стёкла, Толя нервно приглаживал ладонями свои волосы, а Шурик Лясоцкий в запальчивости выкрикивал слова, от которых Тоня морщилась и останавливала его.
— Не ершись и не агитируй Больно скор ты на слова.
И только Алёша Шумавцов, пряча довольную улыбку и заговорщически поглядывая на Шуру (она кое-что знала и о многом догадывалась), рассудительно говорил:
— Это хорошо, ребята, что вы не хотите сидеть без дела. Очень хорошо. Только не спешите. И Москва не сразу строилась. Придёт и наш час.
Несколько дней назад ребята собрались у Хотеевых, чтобы отметить двадцать четвёртую годовщину Октября. Опоздавших не было. Все пришли поодиночке, как и условились, к девяти вечера, принаряженные, необычно серьёзные и взволнованные. Там, за зашторенными окнами проплывала ночь, по улицам Людинова шагали гитлеровские патрули, в чёрное осеннее небо взлетали сигнальные ракеты, ветер разносил далеко окрест выстрелы, крики, надсадный лай собак А здесь, в тёплой комнате, вокруг накрытого белой скатертью стола, тесно сгрудились ребята, почувствовавшие, что теперь они не просто соседи, школьные товарищи, а настоящие друзья, связанные одной целью, одной надеждой на возвращение солнца, молодости, жизни.
Хозяйками этого необычного вечера были Шура и Зина. Тоня, не любившая заниматься кухонными делами, предоставила им возможность «сервировать» стол. Каждый гость получил чашку крепко заваренного чая, ломтик хлеба, кусочек сахара и по одной конфетке — из давних запасов матери Хотеевых Татьяны Дмитриевны.
Когда все уселись за стол, поднялся Алёша Шумавцов.
— Товарищи! Друзья! - тихо и торжественно произнёс он. — Сегодня наш праздник — седьмое ноября. Никто не заставит нас забыть его. Я, конечно, не оратор, но очень рад, что мы сегодня все вместе. Рад, — пожалуй, не то слово. Я счастлив, несмотря на все беды, потому что вижу в ваших глазах именно то, что хочу видеть. Все мы комсомольцы. Давайте, ребята, поклянёмся, что, когда потребуется, ни один из нас не дрогнет н не опозорит имени комсомольца.
Лицо Алёши раскраснелось, голос звучал негромко, но твёрдо.
Все, не сговариваясь, встали и приподняли свои чашки. Что-то гордое и красивое преобразило лица ребят. Минуту-другую в комнате царило молчание, которое нарушила Тоня.
— Спасибо, Лёша. Ты сказал за всех нас. Чаем чокаться не принято. Tак не надо. За победу нашу! Вот мой тост Смерть фашистам!
Коля Евтеев, вытянув руку с чашкой, продекламировал:
Чокнемся сердцем о сердце,
Чтобы Родине жить и цвести!..
Все уселись на свои места. И тут раздался взволнованный, срывающийся голос Шуры.
— Я бы хотела Понимаете Пройти через любые испытания Только не чувствовать себя ненужной, слабой, приниженной. Не могу я так и не хочу!..
— Другие действуют, а мы? — Шурик резко повернулся на стуле. — В лесу партизаны. В городе появляются листовки. Кто-то склад поджёг. Всё кто-то и кто-то. А мы?
— А мы? — повторил вопрос Лясоцкюго Алёша и загадочно улыбнулся. И вдруг поразил всех неожиданным сообщением. — Знаете что, ребята, дайте слово молчать и сохранить всё в секрете, тогда я вам кое-что скажу.
— Лёша, как тебе не стыдно, — начала было Шура, но Алёша предостерегающе поднял руку.
— Ладно, ладно, ребята, не обижайтесь. Только чур — полный секрет. Шурик только что говорил про склад. Ну так знайте, что этот склад поджёг я!
Лясоцкий вскочил со стула и стал тискать Шумавцова.
— Правда ты? Не врёшь?
— Честное комсомольское. Может, я и не должен был пока говорить, но не удержался. Дал я им огоньку.
— Так ты — орёл! — довольным баском сказал Толя Апатьев.
— Ну, уж и орёл, — отмахнулся Алёша. — Сам чуть было не попался, как курица.
— То-то у тебя, я заметила, брови были чуть подпалены, — покачала головой Тоня. — Обжёгся?
— Расскажи, как дело-то было, — попросил нетерпеливый Шурик.
— т Хорошо. Сейчас расскажу, — согласился Алёша.
Он положил обе руки на стол, переплёл пальцы и начал рассказывать.
— Вы знаете, устроился я на локомобильный, электромонтёром. Сами понимаете, что я для них, фашистов, не работник. Однако так надо, и не спрашивайте, почему Может, монтёр я и не очень квалифицированный, однако кое-что в этом деле смыслю. А главное, получил пропуск на завод и отбил охоту у биржи труда таскать меня туда-сюда.
— А на бирже, к слову, заправляет наш старый знакомый Митька Иванов. — вставила Зина.
— Гац он ползучий, вот кто! — выкрикнул Шурик. — Был бы человеком — все карточки к чёрту сжёг бы или перепутал, а он, подлец, народ вызывает и в списки вносит.
— Я это знаю, — спокойно ответил Алёша. — О нём будет разговор особый. О нём и о таких, как он. А теперь слушайте дальше. Завод-то локомобильный, а что пока выпускает? Деревянные гробы для покойников да повозки всякие. Против гробов мы, конечно, не возражаем, пусть делают их побольше. Но фрицы, кажется, собираются восстанавливать основные цехи. Вот тут-то я и подумал, что надо бы им посигналить: ничего, мол, у вас не выйдет, всё будем ломать и сжигать.
— Мысль дельная, но неосуществимая, — рассудительно заметил Коля Евтеев.
— Почему неосуществимая? — пожал плечами Алёша. — На первый раз то, что задумал, я осуществил.
— Не тяни Рассказывай, — попросил Шурик.
— Я и рассказываю Мне часто случается проходить мимо материального склада. Немцы забили его всяким барахлом, а главное, собрали там много бочек с бензином и керосином. Понимаете сами, что приманка великолепная. Пригляделся я к охране. Фрицы с собаками-овчарками вокруг склада расхаживают, но не всегда на месте задерживаются, видно, ещё куда-то ходят. А раз так, есть возможность прошмыгнуть в склад.
— Что же ты молчал? — упрекнул Алёшу Толя. — Мы бы вместе
— Сначала я тоже о вас, ребята, подумал, одному ведь не справиться. А потом прикинул: зачем рисковать? Ведь лишнего пропуска на завод нет, а пройти надо чин чином, без всяких подозрений. Значит, нужно найти других помощников, заводских.
— И нашёл? — Шурик весь подался вперёд.
— Нашёл. И опять предупреждаю: кого назову — фамилию забудьте Договорился я с одним своим дружком, Мишей Цурилнным, знаете такого?
Ещё бы Конечно, знаем послышались голоса.
— Он парень наш, сразу всё понял и согласился. Давай, говорит, устроим немцам феерию, чтобы сам Бенкендорф от злости лопнул В общем, пошли мы с Алёшей, на проходной предъявили пропуска и попетляли но территории завода для отвода глаз. А уж потом подр
шли к складу, когда убедились, что охранники со своими собаками смылись в другой конец. Да, забыл сказать, что в помощники взяли мы с собой младшего братишку Цурилина, Шурку. Парень он шустрый, вёрткий, в случае чего подаст сигнал, что охрана возвращается.
— Целый стратегический план! — улыбнулся Толя.
— Почти Шурка выпросил у матери кувшин, вроде пойдёт керосин добывать, и, спрятав его под пальто, пролез на заводской двор через щель в заборе. Мы приказали ему вертеться неподалёку от склада и в случае опасности засвистеть или запеть что-нибудь.
— А если бы его немцы заметили и схватили? — испуганно проговорила Зина.
— Вот для этого мы и дали ему кувшин, будто пришёл он попросить у солдат немножко керосину, хоть самую малость. Риск, конечно, был велик, да без риска ничего не делается Короче, всё шло по плану. Мы с Цурилиным незаметно проскользнули в склад, к счастью, двери не запирались, и сразу в полутьме увидели то, что нас интересовало. И справа и слева — бочки с горючим. Теперь нельзя было терять ни секунды. Мы быстро вытащили из одной бочки пробку и понюхали. Бензин! «Давай, Миша» Мы обхватили бочку и свалили её на пол. Весь пол сразу залило бензином. Потом повалили вторую бочку. «Хватит, сказал мне Миша, зажигай свою машинку». А я, ребята, прихватил с собой водомерную колбочку и тут же наполнил её горючим. Иначе как же поджечь разлившуюся лужу? «Спасибо, Миша, говорю, выходи осторожно, остальное сам сделаю». Он пошёл к дверям, а я зажёг спичку и поднёс её к колбочке. Из неё сразу пыхнуло пламя, чуть было всё лицо не обжёг. Швырнул я колбочку на пол, осколки зазвенели, а огонь пополз по полу к бочкам. Ну, думаю, сейчас как рванёт, пиши пропало! Выскочили мы наружу и побежали в разные стороны.
— А Шурка Цурилин? — приглушённо спросил Лясоцкий, который слушал рассказ Шумавцова с горящими от нетерпения глазами.
— А Шурка свистнул и кинулся к своей дыре. Он поздно заметил охранника: всё за нами наблюдал. Цурилиных немец, кажется, не заметил, а меня увидел издали, что это за фигура скачет к забору. И стрельнул раз, другой. К счастью моему, промахнулся фриц, пули
над ухом жикнули. Перемахнул я через забор, поцарапался немного и рубашку разорвал. Уже темно, меня не видно, в складе огонь полыхает, немец что-то орёт, а я тем временем промчался за домами и скатился в глубокий погреб, не разобрал чей. Какая-то бабка испугалась, всплеснула руками и даже перекрестилась. Приняла меня за нечистую силу. А я шепчу ей:
— Прикройте меня, пожалуйста. Ненадолго. От немцев спасаюсь. Старушка поняла и быстро накрыла свой погреб какой-то крышкой, а сверху навалила несколько досок.
- — И долго ты там сидел?
Алёша недавно под большим секретом коротко рассказал Шуре о своей «авантюре», но в подробности не пускался. Кроме того, наказал молчать. А сейчас сам решился. Шура озабоченно поглядела на своего друга, и в её взгляде Алёша уловил тревогу и нежность. Он ответил ей таким же нежным взглядом и беспечно пояснил:
— Несколько часов, наверное. Холодно, темно, пахнет сыростью и ещё какой-то дрянью, а я сижу и наслаждаюсь симфонией.
— Да, это была настоящая симфония, — задумчиво протянула Тоня. — От пламени всё небо стало тёмнокрасным, по улицам бегают немцы, лают собаки, всё время трещат выстрелы Ничего понять не могу. А, оказывается, это ты заварил всю кашу.
— Разве плохая каша? — самодовольно спросил Алёша. — Пришлось им проглотить её без соли, но зато с бензином и керосинчиком.
— Не обжёгся? — опять поинтересовалась Шура.
— Нет, ничего, брови, правда, немного прихватило. А в общем, полный порядок.
— И не волновался, что схватят? — спросила Зина.
— Волновался, конечно. Весь день ждал, не поволокут ли меня на допрос. Но, как видите, всё сошло благополучно. Склад сгорел. Лиха беда начало.
— Вот тебе и Алёша! — с неподдельной искренностью воскликнул Витя Апагьев. — Оказывается, Шурик напрасно вздыхал, что все мы сидим без дела Поздравляю, Алёша!
Алёша смущённо улыбнулся и указательным пальцем потёр переносицу. Но, видимо, похвала друзей пришлась ему по душе, Он собрался было что-то ответить, но его
неожиданно остановил Толя. Поднявшись со стула и как можно медленнее, чтобы произвести нужное впечатление, пн заявил:
— Раз дело пошло на полную откровенность, сообщу вам свою тайну и я. Несколько дней назад я, товарищи, достал и надёжно огарятал немецкий пистолет «вальтеp» и две ручные гранаты.
Все удивлённо посмотрели на раскрасневшегося Толю, а Тоня придирчиво переспросила:
— Что значит достал?
— Очень просто. В соседнем дворе устроил себе баню какой-то фриц — не то солдат, не то фельдфебель. 11еважно. А важно то, что он оголился до пояса, несмотря на холодный ветер, снял с себя свой мундир и ремень, на котором висели кобура с пистолетом и чехол с гранатами. Через щель в заборе мне всё видно было. Вот, думаю, хорошо бы оставить немца в дураках. Оружие всегда пригодится. Как только немец, вытираясь полотенцем, пошёл в избу, я быстро махнул в соседский двор и
— Дурья голова! — резко бросила Зина. — Мог и сам попасть и соседей под расстрел подвести.
— Зря, Зинуша, ругаешься. Хозяев давно куда-то выселили, а что касается меня Только что Алёша говорил, что без риска нельзя.
— Где спрятал оружие? — строго спросил Алёша, и Толя, помявшись, ответил:
— Завернул в тряпку и зарыл в землю на огороде, там же, где и комсомольский билет.
— А запалы из гранат вынул?
— Вынул. Я кое-что тоже смыслю.
— Шум был?
— Мать говорила, что на соседнем дворе был какой-то шум, немец орал, а потом его самого два ихних полицейских увели.
— Смотри, Толька, доиграешься, — предупредил его двоюродный брат Витя.
— Игра стоит свеч, — рассудительно заметил Толя. — Так что, Шурик, — обратился он к Лясоцкому, — и я сделал почин.
— Не только ты. — Шурик с торжествующим видом вытащил из-под рубашки сложенный вчетверо небольшой листок. — Глядите и завидуйте! Листовка.
— Чья?.. Какая?.. — Тоня порывисто выхватила из рук Шурика листовку и прочитала её вслух: — «Дорогие товарищи! Советские граждане временно оккупированных городов и сёл! Немецко-фашистские захватчики, пытаясь сломить вашу волю к сопротивлению, хвастаются, будто они уже захватили столицу нашей Родины Москву. Это наглая ложь. Не видать гитлеровцам Москвы. Наша доблестная Красная Армия, наш народ скоро погонят захватчиков с родной советской земли. Час нашей победы приближается!..»
Листовка переходила из рук в руки, каждый, прикасаясь к этому маленькому мятому листку бумаги, будто прикасался к чему-то самому дорогому и близкому, что нельзя оторвать от сердца. Глаза ребят искрились, щёки раскраснелись, в движениях появилась порывистость, а Тоня на радостях прижала к себе Лясоцкого и чмокнула его в губы.
— Молодец, Шурик! Где ты нашёл листовку?
— В сквере. Вижу, бумажка как бумажка, но у меня ведь глаз пинкертоновский
— Шурка, не хвастайся, — прервал его Коля. — Всем известно, что язык твой — враг твой. А за листовку спасибо.
— Её надо переписать и разбросать, — предложила Зина.
— Правильно! — Тоня сложила листовку и сунула её под кофточку. — А пока спрячем подальше.
— Так что же выходит, ребята, — не то спросил, не то подумал вслух Алёша. — Курочка по зёрнышку Значит, каждый из нас на что-то годен.
— Именно так! — подтвердил Толя.
— А раз так, подумаем и о будущем, — « Многозначительно сказал Алёша. — Только нельзя быть кустарями-одиночками.
— Организованность нужна, — поддержал Витя.
— Верно, вот об этом и подумаем, — согласился Алёша. — Ну, а теперь давайте отметим праздник. Будем считать, что торжественная часть закончилась и пришла пора спеть «Интернационал». Петь тихо, вполголоса. Кому-то надо выйти на крыльцо и посмотреть, нет ли под окнами непрошеных гостей.
— Я пойду, — поднялась Шура, но её остановил Витя Апатьев.
— Дама — и вдруг на крыльцо? — смешливо протянул он, входя в свою обычную роль шутника и балагура. — Господа кавалеры, это наше, мужское дело.
— А раз мужское, ты и отправляйся, — приказала Тоня.
— Слушаюсь и повинуюсь!
Витя вышел в сени и тихо прикрыл за собой дверь. А в комнатке Хотеевых через минуту запели:
Вставай, проклятьем заклеймённый,
Весь мир голодных и рабов
Аккомпанировал на гитаре Коля Евтеев Он почему-то снял очки и низко склонился над грифом гитары. Тоня взглянула на него, и ей показалось, что на глазах друга блестят слёзы. Впрочем, может быть, без очков у него всегда слезятся глаза!..
III
Последним сегодня пришёл Алёша Шумавцов. Он был взволнован и возбуждён.
— Извините, ребята, чуть было на облаву не нарвался. Пришлось кружить и пережидать.
Он поочерёдно пожал руки всем своим друзьям, а Шуре улыбнулся весело и доверительно. На её бледном липе тоже промелькнула слабая застенчивая улыбка. Все сделали вид, что ничего не заметили.
Сегодня ребята собрались по предложению Зины Хотеевой. Кто-то из людиновских жителей ходил пешком в ближайшие деревни менять «тряпки» на картошку и крупу и принёс экземпляр газеты «Правда», посвящённый двадцать четвёртой годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Каким образом «Правда» попала в руки Зины, никто не знал, но прочитать газету хотелось каждому. Сёстры быстро оповестили всех «мальчишек», и вот сегодня они со всеми обычными предосторожностями сошлись у Хотеевых.
— Ты молодец, Зинуша, — сказал Алёша, усаживаясь за стол. — Это же настоящий праздник для нас Это — событие Давай сюда газету.
Зина вышла в соседнюю комнату, где на табуретке, устало сложив руки, сидела мать и, казалось, дремала, Л через минуту вернулась с газетой. Мятая, с тёмными
сальными пятнами, в нескольких местах разорванная, она сразу приковала к себе взгляды комсомольцев. Даже Тоня и Шура, которые уже видели и читали газету, с напряжённым вниманием смотрели на эти потёртые листы бумаги, дошедшие оттуда — из Москвы. Каждому хотелось подержать её в руках, вдохнуть запах шрифта и уж, конечно, быть первым из чтецов.
Если бы не Тоня, может быть, ребята и забыли, что нужно выставить наблюдателей. Ведь по улицам, как всегда, ходили немецкие патрули, шлялись русские полицейские с винтовками и плётками; каждую минуту можно ожидать облавы, обыска, проверки документов Коллективное чтение «Правды» было непозволительно рискованным делом. В случае опасности дежурный наблюдатель предупредит и ребята инсценируют молодёжную вечеринку. Для «декорации» Шура поставила на кран стола чашки, рюмки и небольшую бутылку немецкого рома, которую где-то раздобыл и заранее принёс Шура Лясоцкпй. Алёша захватил гармонь, а Коля Евтсев — мандолину. Все условились, что при появлении посторонних ребята начнут играть и петь «нейтральные» песни, вроде «Чижик-пыжик» или «Шумел камыш».
Но кто первым пойдёт на дежурство? Ни тьма, ни холодный порывистый ветер, бивший в ставни окон, никого не пугал. Тот же Шурик Лясоцкин готов был, если потребуется, простоять на ветру хоть всю ночь. Но пропустить какую-то часть доклада — это смущало каждого.
— Я пойду, сказала Тоня, понимавшая настроение ребят. — Я уже читала. Начинайте.
Она стала надевать пальто, но, услыхав скрип двери, обернулась. На пороге соседней комнаты стояла мать — Татьяна Дмитриевна. На пей было старенькое тёмное пальто, голова повязана тёплым серым платком.
— Куда ты, мама? — удивлённо спросила Тоня.
Ответив па приветствия собравшихся и сделав вид,
что не заметила газету, которую Зина успела разложить на столе, Татьяна Дмитриевна прошла к выходной двери и, потоптавшись на месте, проговорила:
— Душно что-то мне Постою на крылечке, воздухом подышу.
Сёстры понимающе переглянулись, словно спрашивая друг друга, как же быть: отпускать мать или нет?
Но старушка предупредила Возможные возражения дочерей:
— Раздевайся, Тоня. У тебя вон гостей сколько, а ты уходить собралась. Негоже так, не по-хозяйски.
— Мамочка, ведь я — начала было Тоня, но Татьяна Дмитриевна сощурила глаза, и всем показалось, что она даже улыбнулась.
— Что ты? — переспросила старушка. — Снимай пальто и занимайся с гостями. А я на крыльце постою, по двору похожу.
— Но это же долго! — возразила Шура, не найдя других слов.
— А мне не к спеху. Ну, а ежели смерзну, тогда вернусь. Шторки-то антихристовы, — так она назывэта маскировочные шторы, — проверьте, неровен час свет в щёлочку пробьётся.
И вышла из комнаты в сени. Звякнула щеколда, хлопнула дверь, и стало тихо-тихо.
— Девочки, — сказал Алёша, обращаясь к сёстрам Хотеевым. — А мать у вас замечательная. Всё, кажется, понимает.
— Конечно, понимает, — вздохнула Шура. — Она у нас чудесная.
— Долго дежурить Татьяне Дмитриевне не придётся, я сменю, — заявил Лясоцкий. — Начало послушаю, а потом вы расскажете.
— Хорошо. Начинаю. — Алёша наклонился над газетой.
Два долгих часа, сменяя друг друга, читали ребята «Правду» и сердито шикали на Лясоцкого, который несколько раз охал и восклицал:
— Вот здорово!.. Живём, ребята!.. Мы ещё из них кишки, выпустим!..
Вслушиваясь в каждую фразу, в каждое слово, комсомольцы уже не чувствовали себя одинокими, оторванными от всего родного, советского. В эти минуты они как бы ощушали неразрывную кровную связь со своим народом, бившимся с фашистскими ордами, мускулы их наливались силой, крепла уверенность в победе, которая придёт, обязательно придёт. И смотрели друг на друга новыми глазами — глазами не школьников и студентов, а бойцов, подпольщиков, готовых не пожа-
леРЬ ни крови, ни жизни Для разгрома ненавистного врага.
Дочитывал газету Толя Апатьев. Голос его охрип — то ли от усталости, то ли от волнения, — но каждое слово он произносил чётко и даже излишне громко. Зина несколько раз дёргала его за рукав, напоминая, что надо читать потише. А когда Толя закончил, Алёша обвёл всех довольным, торжествующим взглядом и спросил:
— - Теперь ясно, как надо жить?
— Яснее ясного! — заявил Толя, бережно складывая газету.
— Жить и верить! - тихо произнесла Шура. В полумраке комнаты, слабо освещённой маленькой керосиновой лампой, на белой стене вырисовывалась тень Шуриной стриженой головы. Эта тень двигалась то вправо, то влево, потом застыла: Шура закинула голову и мечтательно смотрела в низко нависший потолок.
— Когда же мы начнём действовать? — ни к кому не обращаясь, будто самого себя, спросил Толя. Его голубые глаза, прикрытые тёмными густыми ресницами, выражали нетерпение.
— Так мы уже действуем, - простодушно сказал Коля Евтеев, поправляя дужки очков. — Я так думаю
— Ну, знаешь, от того, что мы собираемся да всякие разговоры ведём, фашистам не холодно и не жарко, — бросила Зина.
Тоня ласково погладила по голове сестру и задумчиво проговорила:
— Ты не совсем права, Зинуша. Немцам, может быть, вреда мало, зато v нас сил прибавляется.
— Согласен, Тоня, — тряхнул головой Алёша. — Всё начинается с малого. А большое от нас не уйдёт.
И тут только Тоня спохватилась, что мать давно на улице и её так никто и не сменил.
— Она, наверное, совсем замёрзла, бедненькая, — воскликнула Тоня и бросилась к двери. Через минуту она возвратилась вместе с матерью. Татьяна Дмитриевна медленно размотала платок, покорно отдала Тоне пальто и, потирая озябшие руки, как ни в чём не бывало спросила:
— Ну, ребятушки, наговорились вволю?
— Наговорились! — Алёша подошёл к Татьяне Дмитриевне и осторожно обнял её. — Спасибо вам. Извините, что так получилось.
— А что получилось?.. Двор я подмела, на крылечке досидела, воздухом подышала А ваше дело молодое
— Она посмотрела на старшую дочь и спросила:
— Спать-то нынешней ночью собираетесь?
— Конечно, конечно, мамочка, — улыбнулась Тоня и скомандовала: - — Ну, ребята, на сегодня хватит
Когда Алёша вышел на крыльцо, его глаза долго привыкали к темноте. Сеялся мелкий осенний дождь, ветер кружил и гудел над погружёнными во тьму домами. Где-то неподалёку, на соседней улице, грохнул выстрел, истошно залаяли собаки
Постояв минутку на крыльце, Алёша пырнул в темноту.
IV
Вот и утро. Серое, слякотное, ветреное, с набухшими дождём тёмными тучами. И всё-таки утро. Это казалось невероятным, непостижимым. Слишком долго застоялась ночь, сна не было, артиллерийская канонада за городом гремела почти непрерывно, сердце ныло и болело, старая мягкая подушка превратилась в ком — жёсткий и неудобный. Время тянулось очень медленно, и Марии Кузьминичне представлялось, что ночь будет продолжаться бесконечно, а утро так и не придёт.
И всё же оно пришло. Значит, надо вставать, вскипятить чайник и хоть чем-нибудь заняться. Но чем? Подметать, убирать, хлопотать по хозяйству? К чему, зачем? В доме пусто, одиноко, неуютно. Да и чай в одиночестве пить не хочется, разве сейчас до чая!
Муж Марии Кузьминичны ушёл с партизанами в лес. На прощанье он неловко, будто стесняясь, поцеловал жену и, стараясь придать своему голосу больше бодрости, с наигранной весёлостью наказал:
— Ты тут, мать, за коменданта нашего замка остаёшься. То надо мной командовала, а теперь сама над собой. Ежели какой фриц на тебя заглядится, ты ему, лупоглазому, по-русски поясни, что них ферштеен, битте-дритте на всё четыре стороны, а то, мол, мужик мой возвернётся и тогда накостыляет как и полагается. А мужик у меня, скажи, грозный, росту трёхсаженного, кулаки пудовые, одним словом, богатырь первейший.
Мария Кузьминична привыкла к постоянной болтовне мужа. А если ещё бывало Вострухин прикладывался рюмочке, то остановить его было трудно. Шуткой он как бы разгонял усталость после трудового дня, шуткой прикрывал житейские огорчения, а на рабочих и партийных собраниях пользовался той же шуткой, чтобы привлечь внимание слушателей и поязвительнее покритиковать провинившихся.
Мария Кузьминична понимала, что мужу тяжело и птает он сейчас только для того, чтобы скрасить горечь разлуки. И всё же не могла сдержать слабой улыбки, услыхав его разглагольствования насчёт богатыря трёхсаженного роста.
— Ладно уж, — сказала она и прижалась щекой к полушубку. — Богатырь! Сам гляди В лес, небось, пс на блины со сметаной идёшь.
- До масленицы далеко. Авось мы с тобой блинков ещё дома поедим да про закусочку не забудем. Не горюй, мать.
— Я не горюю. С чего ты взял?
— С того, что глаза у тебя вроде не того красные, печальные
— Будут красные, на тебя глядя
Иван Михайлович стал серьёзным и предупредил: Только не плакать. Ни сейчас, ни потом. Договорились?
Договорились!.. Буду ждать!..
Сначала Мария Кузьминична решила уйти из Людпнова вместе с мужем - в партизанский отряд. Её, тётю Марусю, хорошо знал командир отряда Золотухин, по раз встречалась она и с комиссаром, секретарём райкома партии Суровцевым. Женщина в отряде всегда пригодится: и постирать, и сготовить, и, если придётся, в разведку сходить. Но как быть с ногами? Они уже давно болели, опухали и не позволяли тёте Марусе но нескольку дней подниматься с постели. С такими ногами партизанские походы не под силу, только обузой станет. Иван Михайлович решительно запротестовал:
— Никуда ты не пойдёшь. Сиди дома.
Мария Кузьминична пыталась возражать, но понимала, что муж прав. Что ж, придётся остаться. Но что делать одной, при немцах? Как жить?.. И, словно отвечая не мужу, а самой себе, она согласилась:
— Буду жить И дело, наверное, найдётся. Может, вам, партизанам, какая помощь понадобится, так ты скажи Суровцеву или кому ещё. Тётя Маруся, мол, всегда сгодится.
— Обязательно, — обрадовался Вострухин. — Жди привета. Да я и сам, наверное, к тебе припожалую.
— Ты?.. На немецкую перекладину захотел?
— Ну, мать, не пугай пуганого. Перекладина мне ни к чему. А коли дело потребует, то я, как говорил давеча, приду. Домишко наш недалеко от леса и от железного полотна. — И опять забалагурил: — Так что смотри, кавалеров не пускай, а то ненароком нагряну, и тогда — прощай твоя молодость
Когда немцы вошли в город, дом Вострухиных им не приглянулся, и они первое время его не занимали. И тётя Маруся жила в своём оплстевшем «замке», лишь изредка выходя на улицу пли к соседям, чтобы узнать, что делается в городе. Каждая весточка, каждый слух о «новом порядке» болью отдавался в сердце, а беспокойство за мужа превращало дни и ночи в мучительное ожидание беды. Как жить? Марии Кузьминичне казалось, что она сразу же сможет помогать партизанам, а от них никто не появлялся. Считать проходящих гитлеровских солдат, повозки, пушки? А может, это никому не нужно, к тому же здесь, в конце улицы Ленина, где под маленьким мостком бежит речка, немцы пока почти не появляются
Особенно тяжёлыми были бессонные ночи. Каждый шорох пугал, настораживал, каждый выстрел заставлял Ескакивать с постели и приникать к шершавым доскам двери, к холодному стеклу окна. И ночь тянулась, тянулась и, казалось, никогда не кончится.
В это утро тётя Маруся всё же заставила себя стереть пыль и даже помыть полы. Потом напилась морковного чаю, съела кусок чёрствого хлеба с солью и решила походить по лтодиновским умшцам: она их давно не видала. Но не прошла н тридцати шагов, как повстречала Алёшу Терехова-Шумавцова. Он спешил куда-то, но, завидев Вострухину, остановился и поздоровался. Его серые глаза из-под густых бровей глядели бодро, даже весело, и тётя Маруся удивлённо спросила:
— Не на свидание ли спозаранку спешишь?
— А может быть, и на свидание, — ответил Алёша и простодушно улыбнулся. Но тут же приглушённым шёпотом и вполне серьёзно осведомился:
— У вас, случаем, новостей нет?
— Нет, никаких.
— От Ивана Михайловича весточка не прилетала?
— Ни слуху ни духу. Как в воду канул.
— Значит, скоро объявится, — успокоил Алёша. — А молодёжь к вам не заглядывает? — Он знал, что к Вострухиным раньше часто захаживали соседские парни и девушки, чтобы послушать весёлые рассказы хозяина.
— Какая такая молодёжь? Что ей со мной, старухой, время коротать?.. — И вдруг Марию Кузьминичну осенила догадка. — Постой, Алёшенька, насчёт молодёжи ты неспроста спрашиваешь? Может, тебе чего надо?
— Нет, тётя Маруся, ничего особенного не надо. Но, если хороший парень или девушка на глаза попадутся, почему нам не познакомиться? Как вы думаете, стоит?
— Наверное, стоит, раз ты спрашиваешь. Тебе, думаю, виднее.
— Да, глаза мои пока неплохо видят, — улыбнулся Алёша. — На зрение не жалуюсь. Так разрешите к вам наведываться?
— Заходи, коли охота будет. Может, я кого-нибудь тебе и присватаю, — тоже пошутила Мария Кузьминична. — А тебя самого где, к слову, найти можно?
— Дома я бываю редко, к тому же у нас всегда полно солдат. Немцы устроили в нашем доме сапожную мастерскую, сапожники целый день тукают, а солдатня толчётся и на крыльце, и во дворе Н офицеры к сапожникам приходят. Так что я стараюсь на глаза не попадаться. Бабушка с ними там воюет, чтобы меньше сорили и шумели.
— Где ж ты всё-таки пропадаешь?
— Не пропадаю, а бываю В общем так, тётя Маруся, если что надо будет, ищите меня у Хотеевых Не застанете, передайте через Зину или Тоню.
— А про Шуру молчишь?
— Можно и через Шуру, — чуть покраснев, ответил Алёша. — Заходите, пожалуйста
Мария Кузьминична с доброй улыбкой поглядела
вслед быстро удалявшемуся Шумавцову и медленно побрела домой. Идти в город ей почему-то расхотелось.
В ноябре темнеет рано, а сегодня темнота придавила город даже раньше обычного. В воздухе заметались снежные хлопья, устилая землю непривычно белым покрывалом. Мария Кузьминична чувствовала недомогание, поэтому, не дожидаясь ночи, прилегла и задремала. Очнулась она от лёгкого стука в дверь. Вздрогнув, вскочила с кровати, подбежала к, окну и приподняла шторки, но никого не увидела. Стук повторился. Кто бы это мог быть?.. И только после того, как в дверь постучали в третий раз, уже громче, будто сердясь, Мария Кузьминична, прижавшись к косяку, спросила:
— Кто?.. Кого надо?
- Открывай Я это — услыхала она приглушённый голос мужа и с лёгким вскриком отбросила щеколду. Иван Михайлович быстро прикрыл за собой дверь, тщательно вытер о половик грязные сачоги и только после этого, найдя в темноте голову жены, притянул её к себе и жёсткими обветренными губами притронулся к её горячему лбу.
— Здравствуй, Маша Вот и я припожаловал Ты одна?
— Одна, слава богу. Ох, Вапя, напугалась я. Садись, разувайся. Сейчас чай вскипячу.
— Ладно, только свет не зажигай. И чайку попьём, и портянки подсушим.
— Ну, как ты надолго? — спросила Мария Кузминична, бесшумно двигаясь в тёмной горнице и натыкаясь на мебель. — Что там, в лесу?..
Много знать будешь, состаришься скоро, — отшутился муж, — а мне твоя молодая красота ещё пригодится. Надолго ли? Только до рассвета, пока фрицы дрыхнут и каждого куста боятся. А в лесу всё то же: деревья, снег и, конечно, мы, партизаны.
— А ты как пришёл, по своей воле или по поручению?
Иван Михайлович чуть было не рассердился.
— Эх ты, а ещё жена коммуниста и партизана. Разве вправе я своевольничать? От начальства поручение имею.
— К кому?
— К тебе!
От удивления Мария Кузьминична присела на стул и нащупала ещё не согревшуюся руку мужа.
— Ко мне?.. Чего ж ты молчишь?
— Дай отогреюсь, кипяточку хлебну, а потом и о деле потолкуем.
Когда с чаем было покончено, Иван Михайлович раскурил самокрутку, по привычке прикрыл её блуждающий огонёк ладонью и неспеша приступил к рассказу.
— Значит, так, мать Вызывает меня наш комиссар товарищ Суровцев и спрашивает: как живёшь, мол, ие очень ли мёрзнешь да не из пужливых ли ты? Я-то, отвечаю, из пужливых? Просто обидно такие вопросы слышать, даже от самого комиссара. Смолоду ничего не боялся, из любых переплётов выходил наверх, и сомнения такие мне очень неприятны. А комиссар улыбается и просит не шуметь и не обижаться. Что ж, пожалуйста, могу и помолчать и обиду про себя держать. Только поимейте всё-таки в виду, что боец я настоящий и ко всякому делу готов. А товарищ Суровцев меня сшиб новым вопросом: не соскучился ли ты, Иван Михайлович, по своей супруге Марии Кузьминичне? Как же, говорю, не соскучиться, столько годов вместе прожили. Только время нынче военное и нам не до скучания и не до интимностей всяких. За такую твёрдость мою комиссар похвалил меня, а потом опять спрашивает: знаю ли, что Октябрьский праздник на носу? Знаю, говорю, не первый год на земле советской живу. Так вот. заявляет комиссар, надо немцам праздничный гостинец подкинуть да и своих, советских людей, подбодрить. Разумеешь? Разумею, конечно, только ещё не в полную меру. Тогда вот тебе, товарищ Вострухин, боевой приказ. Берн пачку листовок, — Иван Михайлович вытащил из-за пазухи стопку небольших листков, — бери две пачки сухого киселя из клюквы, заместо клею, и отправляйся в ночь домой в Людиново. Сам никуда не шмыгай, листовки не кидай и не клей, а всё передай супруге своей и попроси её от командира и комиссара партизан осторожно разбросать и расклеить листовки.
Иван Михайлович вытащил два кубика клюквенного киселя и положил их рядом со стопкой листовок. Мария Кузьминична притронулась рукой к «подаркам» из
лесу и почувствовала, что сердце её застучало чаще и громче.
— Сот я пришёл, — заключил Иван Михайлович, попыхивая догоравшей самокруткой. — Принимай гостинцы и спозаранку, как я уйду, начинай, чтобы мне перед товарищем Суровцевым не краснеть.
Мария Кузьминична вздохнула и тихо, но проникновенно сказала:
— Нет, тебе не придётся краснеть, Вапя. Всё сделаю. Так и скажи Суровцеву, и Золотухину, и Ящерицыну. Всем скажи. — И неожиданно, совсем по-женски, испуганно осведомилась. — Немецкие патрули тебя не приметили?
— Нет, не приметали, — успокоил её муж — А чтобы не навести на грех, я, знаешь, не просто шёл или мышыо крался. Как рак пятился.
— Что ты мелешь? Ничего не понимаю.
— Военная хитрость, мать. Ежели бы я шёл обычным ходом, на снегу или в грязи следы оставлял бы, прямёхонько к нашей избе. Нет, думаю, мало ли что приключиться может. Вот я и применил эту самую военную хитрость. Не шёл, а пятился, носки назад, каблуки вперёд, вроде человек не из лесу, а в лес подавался. Понятно?
— Теперь понятно.
— Приятно слышать. А теперь слушай мой наказ. Делай всё осторожно, чтоб, как говорится, комар носу не подточил. Не дай бог, кто приметит тебя с листовками, не миновать тебе гестапы и виселицы. Немцы, как волки, везде рыщут и вынюхивают.
— Сама знаю. Волков бояться — в лес не ходить.
— Так-то оно так, да бережёного бог бережёт.
— Что-то ты сегодня слишком часто бога поминаешь. На бога надейся, а сам не плошай.
Иван Михайлович смущённо крякнул.
— Про бога это только к слову. Прилип к языку и не отдерёшь, хоть и партийный я человек. — Он откашлялся, плевком загасил самокрутку, а окурок спрятал в карман. — Ладно, расскажи, как тут жизнь идёт?..
Ранним утром, ещё до того как рассвело, Иван Михайлович выскользнул из дому и направился к лесу.
А Мария Кузьминична ещё несколько минут стояла на крыльце, дрожа от холода и нервного напряжения, и старалась разглядеть спину мужа. А потом вернулась в дом и решительно взялась за дело. Быстро развела в небольшой кастрюле сухой кисель, тёмно-розовую жижицу разлила в три стеклянные банки (чем не подарки соседям и знакомым) и установила их на дне просторной кошёлки. Поверх банок навалила килограмма два картошки, — кормнться-то ведь надо! — а пачку листовок спрятала под кофту. Теперь можно одеваться и в путь-дорогу. Ох, и страшна эта дорога, и куда приведёт она тётю Марусю
Чувствуя слабость в ногах и колотьё в сердце, Мария Кузьминична вышла на улицу Был тот час, когда ночь ещё не ушла, а утро не наступило: не то полутьма, не то полусвет. Пустынные улицы словно притаились, ожидая, когда их заставят проснуться и показаться новым хозяевам. Даже немецких часовых, и тех Вострухина не заметила в предутреннем тумане. Что ж, тем лучше.
Мария Кузьминична свернула в переулок и с замиранием сердца дрожащими руками вытащила первый листок, обмазала его оборотную сторону «клеем» и быстро притиснула «к забору. В конце переулка проделала то же самое. Прошла ещё одну улицу и везде оставляла за собой на заборах и стенах «подарки» из лесу. Удаляясь, она видела, как белеют в сизой мгле квадратные листочки — вестники народных мстителей — партизан.
Когда тётя Маруся вышла на площадь Фокина, навстречу ей попался немецкий патруль Три солдата в серо-зелёных шинелях и касках поверх пилоток медленно и размеренно вышагивали посреди площади и негромко переговаривались. Вострухина невольно замедлила шаг, не зная, броситься ли в сторону или спокойно пройти мимо. Один из солдат, заметив женщину с кошёлкой, поманил её пальцем и хриплым голосом приказал:
— Что есть в твой корб?1 Показать!
1 Корзина (нем.)
«Ну вот, Ваня», успела подумать Мария Кузьминична, а правая рука её уже вытаскивала из кошёлки две картофелины.
— Картошка, господин офицер Кушать Эссен
— А, картоффельн, — равнодушно пробормотал солдат. — Шён гут1! — И двинулся дальше.
1 Ладно (нем.)
У Вострухиной отлегло от сердца. Пронесло, слава тебе Она быстро пересекла площадь, вошла в парк и по краям дорожки и возле подножия памятника Фокичу «уронила» несколько оставшихся листков. Пошарила у себя под кофтой: нет, ничего не осталось. Значит, можно отправляться домой, успокоить гулко бившееся сердце, дать отдых больным ногам.
Всё-таки наступило утро, и на улицах стали показываться фигуры жителей Людинова. Они спешили мимо немецких солдат, обходили стороной офицеров в высоких, непривычных русскому глазу фуражках, и нигде не задерживались. Тётя Маруся была довольна, что её никто не остановил, не заговорил с нею. Так лучше
Уже на пороге своего дома Мария Кузьминична вспомнила почему-то об Алёше Шумавцове. Жаль, не осталось ни одного экземпляра листовки. Дать бы парню почитать. Глаза у него удивительно правдивые, взгляд умный, и характером, видать, смелый. Надо будет повидать его, сходить к Хотеевым, а заодно и проведать Татьяну Дмитриевну. Старушка тоже мается ногами. Но сделать это надо не сегодня, а через несколько дней, когда немцы уже «проглотят» листовки. А сейчас самое лучшее — сказаться больной и лечь в кровать. В случае чего, мол, не знаю, не ведаю, я уже старая и хворая
Так в городе появились первые советские листовки. Так Мария Кузьминична Вострухина, беспартийная женщина, жена коммуниста и партизана, нашла ответ на вопрос: как жить?..
Глава седьмая
ДЕВЯТЬ ДНЕЙ
Девятое января тысяча девятьсот сорок второго года. Эту дату помнит каждый из старшего поколения люди-новских жителей. В этот день город снова стал советским. Ненадолго, всего на несколько суток, вырвался он из-под ига фашистских захватчиков и пополнил ряды ранее освобождённых советских городов.
Неожиданным контрударом войска Брянского фронта вышибли немцев из Людинова. Отступая, офицеры хвалёной триста тридцать девятой гитлеровской дивизии пытались сохранить порядок в своих частях, но сутолока и паника, начавшаяся среди чинов ГФП, военной комендатуры и русской полиции, быстро охватила и кадровые батальоны и полки вермахта. Немцы отступали, даже не пытаясь принять боя в самом городе. Окружение. Кессель*. Они боялись оказаться в тисках между регулярными частями Красной Армии и партизанами, выходившими из лесов и перерезавшими всё дороги.
Котёл (нем.)
Снова свои!.. Многие, очень многие граждане нашей Родины испытали в годы войны это ни с чем не сравнимое чувство облегчения. Оно приходило не сразу. Вначале оглушающие грохоты боя, воздух, исхлёстанный непрекрагцающимся гулом авиационных моторов, скрежет танков, перекошенные страхом лица тех, кто ещё вчера презирал и будто не замечал тебя, проходя мимо с надменно поднятой головой победителя. И, наконец, вот оно — русское ура, нарастающее, как волна. Ура — самая короткая песня победы. Один за другим на улицы высыпали жители. Казалось, что они ещё не верят тому, что произошло. Уж очень внезапно обрушился на город шквал атак, молниеносный танковый и авиационный удар. Уж слишком быстро были выброшены из Людинова «непобедимые».
Город Людиново — важный узловой пункт на Жиз-дринском тракте — был только одним из звеньев в общем стратегическом плане мощного контрнаступления Красной Армии, начавшегося месяц назад под Москвой. Но гитлеровцы цеплялись за это звено и, отступая, рассчитывали снова ворваться в город и задержать на этом участке продвижение советских частей.
Командир и комиссар партизанского отряда — Василий Иванович Золотухин и Афанасий Фёдорович Суровцев — побывали в штабе армии и получили подробную информацию и указания. «Если у вас есть неотложные дела в городе, займитесь ими немедленно. Войска выполняют задание Ставки и будут держать город, пока » Дальнейших пояснений не требовалось. Да, дел в городе не мало. И в числе первоочередных — укрепление партизанского отряда, организация антифашистского подполья, наказание трусов и предателей.
В Люднповском райкоме комсомола, как и в райкоме партии и райисполкоме, жизнь бурлила и кипела до краёв. Аня Егоренкова вернулась с партизанами. Вместе с Ваней Ящерицыным, Петром Суровцевым и целой ватагой молодёжи она, не заходя домой, прошла в здание райкома и остановилась у входа в свой кабинет. Неужели всё, всё опять начинается по-прежнему? Какое счастье! — мелькнула мысль, и у Ани даже перехватило дыхание. - — Ещё не хватает разреветься, как девчонке. Хорош секретарь, засмеют». Но Аня уже справилась с охватившим её волнением. Секунда-другая, и голос секретаря прозвучал деловито и громко.
— Ребята, перво-наперво надо отправиться в поиски но городу и собрать всю фашистскую литературу. Всё листовки, книжонки, обращения, приказы. Чёрт знает сколько дряни сюда понавезли. Тащите всё сюда, а что не удастся, уничтожайте на месте.
Ребята группами и в одиночку уходили выполнять задание секретаря. Будто ветер, озорной и весёлый, пронёсся по зданию райкома. В коридорах, в комнатах раздавался смех, слышались громкие голоса. Торжествующая буйная молодость вновь утверждала жизнь в родном городе.
Ящерицын попросил задержаться Тоню Хотевву, Николая Евтеева и молодую учительницу Ольгу Мартынову.
- Вот что, товарищи академики, — полушутя, полусерьёзно предложил он. — У вас дело будет посерьёзнее. Сами понимаете, типографии под руками нет. На наших машинах газеты в Сызрани печатают, так что займитесь художеством. Пишите плакаты, лозунги и листовки от руки. Тексты мы с вами сейчас обсудим и подготовим. Это задание райкома партии, товарищи, — предупредил Ящерицын. — Необходимо, чтобы население Людинова знало, что происходит в стране, как идёт война, как трещит по швам пресловутый фашистский блицкриг. Кстати ребята, — удивился Иван Михайлович и даже оглянулся по сторонам, — что-то Алексея
Шумавцова не видно. И нас не встречал. Заболел, что ли?
Нет, Алёша не был болен. В час, когда людиновские комсомольцы, вернувшиеся бойцы партизанского отряда и остававшиеся в городе жители толпились в райкоме, обнимались, встречали друзей, вели душевные разговоры с солдатами и командирами, Алексей Шумавцов отчитывался в штабе партизанского отряда, который разместился на улице имени Крупской. Штаб отряда! Он был в те дни и райкомом партии, и райисполкомом.
В большой комнате днём и ночью стоял неутихающий гул от множества голосов. Едкий махорочный дым застилал фигуры людей и синеватой волной выплёскивался в открытые форточки двух окон, закрытых фанерой вместо стёкол. В комнату вместе с холодным январским воздухом влетали снежинки, кружились и таяли. Сочетание холода и духоты, дыма и морозного пара, стелющегося по стенам, напоминало вокзал, неустроенный и многолюдный. А в соседней крохотной комнатке без окна, захламлённой всяким барахлом, шёл разговор с Шумавцовым. Здесь он услышал горькие и правдивые слова.
— Перед тобой таиться нечего, Алёша. Нынче у нас успех временный. Людиново не сегодня-завтра снова может оказаться во власти фашистов, — говорил комиссар отряда Суровцев.
- Мы свою партизанскую базу даже не тронули, когда в город возвращались. Знали, понадобится ещё. Вот они дела какие, — вздохнул Золотухин, помолчал и добавил: — А сейчас докладывай про свои дела.
Внимательно слушали усталые, озабоченные командиры комсомольца Шумавцова — своего связного и разведчика. Больше трёх месяцев не видели они этого умного, смелого парня, и тому казалось, что он увидит улыбки и услышит, может быть, слова благодарности. Ведь всё-таки и он что-то сделал, хотя и мало, очень мало Поджёг немецкий склад с бензином, приглядел хороших помощников Хотел было развернуться, да не успел.
Но лица командиров почему-то мрачнели. Первым заговорил Суровцев.
— Ты что, Кропоткиным и Бакуниным увлекаешься? — невозмутимо спросил он.
— Кто они такие?
— Анархисты! Лозунг у них: «Анархия — мать порядка». Это значит: да здравствует произвол, к чёртовой матери дисциплину! — коротко и несколько своеобразно истолковал Афанасий Фёдорович основы анархизма.
У юноши заалели щёки и дрогнули губы.
— А как же, — пожал плечами партизанский комиссар. — Ты какое задание получал от Василия Ивановича?
— Я напомню, — откашлявшись, подхватил тот. — Быть глазами и ушами партизанского отряда. Наблюдать, следить, ни во что не встревать. Держаться в тени, готовить к подпольной работе подходящих людей, ждать человека с приветом от Василия Ивановича. Правильно?
— Правильно, — упавшим голосом подтвердил Алёша.
— Так кто же тебе, бисов хлопец, разрешил со смертью в пятнашки играть? — повысил голос Суровцев. — Зачем в склад полез да ещё Мишку Цурилина прихватил? Своей головы не жалко, чужую бы пожалел.
— Но ведь всё в порядке. Мы живы, а склад сожгли.
— Могло быть наоборот. И вообще запомните, комсомолец Терехов-Шумавцов. Подполье требует не меньшей, если не большей дисциплины, чем армия. Подпольщик, как сапёр, ошибается один раз.
Неожиданное обращение на «вы», да ещё названные сразу две фамилии вконец допекли парня. Алёша опустил голову, плотно сжал губы, ладони крепко вдавил в колени. Он понимал суровую правду упрёков комиссара, понимал, что разговор с ним сейчас идёт «на равных», без скидок и поблажек на молодость и неопытность. Что же, так даже лучше! Впредь умнее буду. Взялся работать, так надо думать за себя и за других.
Решительным жестом с какой-то остервенелостью Алёша провёл ладонью по волосам, поднял голову и, не сводя пристальных, немигающих глаз с комиссара, сказал жёстко, почти не раскрывая губ:
— Понял. Больше не повторится.
— Тогда так, точка, — согласился Суровцев. — Давай, Василий Иванович, что у тебя?
Командира партизанского отряда интересовали люди. Кого Шумавцов уже заприметил для будущего молодёжного подполья? Кто, смелый, беззаветно преданный Родине, возьмётся вместе с ним разделить всё трудности и опасности во вражеском тылу? Кто?.. Говоришь, есть такие в Людинове?
— Есть, — негромко, но твёрдо ответил Алексей и назвал имена ребят, которых он уже считал ядром будущей подпольной организации: Шура, Тоня и Зина Хотеевы, Толя и Витя Апатьевы, Шурик Лясоцкий, Коля Евтеев. — Жаль, Миша Цурилпн собирается в армию. — Подумал и добавил: — Есть, конечно, и ещё хорошие, надёжные ребята, но пока хватит. Для начала. А там, как в каждом деле, расти будем. Если понадобится, конечно.
— - Что же, для начала достаточно, — одобрил Суровцев. — А теперь слушай, парень, и наматывай на ус.
Больше часа говорили командир и комиссар партизанского отряда о методах конспирации, руководстве группой и о связях. Говорили о том, что он, Алексей Шумавцов, обязан знать лично всех будущих подпольщиков, зато члены группы могут знать только узкий круг товарищей, с которыми будут непосредственно выполнять то или иное задание. И Суровцев и Золотухин по опыту своей партийной и служебной работы хорошо знали промышленные «точки» города. Это сейчас им крепко пригодилось. Оба подробно растолковали Шумавцову, как нужно проникать к важным объектам, разъяснили также, как можно скрытно устраивать диверсии. И, наконец, главное: как собирать разведывательные сведения для действующей армии.
— Запомни, Алексей, это основная задача! — в который раз повторил Суровцев. — Нам пригодится всё: и сведения о продвижении воинских частей, и их опознавательные знаки, и любой документ противника, если удастся раздобыть. Но не лезь на рожон. Береги жизнь — свою и товарищей. Я думаю так, Василий Иванович, — обратился он к Золотухину. — Подпольщики должны дать подписки, вроде клятвы. Она будет им как военная присяга в армии. Ведь ребята наши и впрямь на самом переднем краю остаются одни
В глазах и голосе комиссара было столько затаённой боли и грусти, что Алексей не выдержал, встал и произнёс торжественно:
— Дадим, Афанасий Фёдорович всё поклянёмся и выполним
— Хорошо!.. — Суровцев на секунду прикрыл глаза, будто задумался или подыскивал слова, которые надо ещё сказать молодому подпольщику. — Хорошо!.. Но самое важное — верить Верить в своих друзей, в людей советских, в победу нашу.
— Я верю! — горячо воскликнул юноша.
— А я верю в тебя! — негромко, но чуть-чуть торжественно заключил Суровцев и покосился на Золотухина, который добавил:
— - Верь да проверяй. А что касается тебя, друг, то я тоже, конечно, верю в тебя, в твою смелость и пре данность. Ну, пока
В час, когда людиновская молодёжь устами своего будущего руководителя Алексея Шумавнова давала обещание быть преданной Родине, на улице имени Плеханова, в доме с наглухо закрытыми ставнями, из угла в угол метался предатель. Дмитрий Иванов не ушёл из города вместе с фашистами. Этот шаг, как, впрочем, и многие другие, он десятикратно взвесил и рассчитал. «Немцы отступили. Может быть, это начало перелома в войне. Тогда надо остаться здесь Кто и какие обвинения может предъявить ему, скромному служащему биржи труда? В сущности он делал доброе дело, помогал устраиваться на работу своим землякам. А агентурные донесения, из-за которых столько людей уничтожено, угнано?.. Кто, кроме Бенкендорфа и Айзенгута, знает осведомителя? Никто, ни одна душа. Донесения хранятся в пухлой жёлтой папке бывшего военного коменданта. А если фашисты вернутся? Тогда всё по-прежнему встанет на свои места. И то, что он сможет рассказать шефу о партизанах, об их семьях, о том, как и кто встречал Красную Армию и вернувшихся «лесных бродяг», несомненно зачтётся как ещё одна и немалая услуга немцам».
Так рассуждал предатель. Но где тонко, там и рвётся. В панике, охватившей фашистов, майор фон Бенкендорф меньше всего думал о репутации и спасении своего секретного осведомителя. Несколько последних донесений Дмитрия Иванова забыл в ящике своего письменного стола военный комендант. Это стало началом конца. Остальное было делом несложной техники сличения почерков и завершено опросом свидетелей, восстановивших в памяти ночные визиты Иванова к военному коменданту и доброе отношение последнего к исполнительному русскому из «обиженной семьи».
Дмитрий Иванов был арестован по обвинению в измене Родине, в активном пособничестве фашистам и заключён в тюрьму. Сбор материалов по его делу продолжался. Иванова готовили к отправке в тыл для следствия и суда. А пока он находился в той самой тюрьме, где по его доносам перебывало немало людиновских жителей. Здесь немцы пытали и расстреливали без суда и следствия. «Возиться» с непокорными русскими, а тем более проверять степень их вины не входило в планы гестапо и полиции.
Находясь в камере, Иванов видел, читал нацарапанные на стенах имена русских людей. Читал проклятия не только в адрес фашистских палачей, но п в адрес неизвестного предателя, погубившего их. Какие чувства будили в его сердце эти криво написанные дрожащими руками слова, строки?.. Жалость? Нет! Горечь и обиду за растраченную жизнь? Тоже нет! Волк хотел одного — жить, вырваться на свободу, чтобы снова кусать, грызть, теперь уже не таясь, открыто бросаться на людей. Лишь бы вырваться отсюда, лишь бы вырваться. Эта мысль не оставляла Иванова ни днём, ни ночью, сверлила мозг, гнала сон.
В эти дни всё Людиново жило тревожной, напряжённой жизнью. Город казался одной дымной баррикадой, защитники которой только что отбили врага, но знали, что назревает новый штурм, ещё более яростный и ожесточённый. По улицам, площадям и переулкам ходили партизанские и военные патрули. Были выставлены круглосуточные посты у здания телеграфа и почты, у партизанского штаба и городской тюрьмы.
Иван Вострухин с первого же дня возвращения домой «переменил местожительство». Забирая матрац и маленькую подушку-думку, он сказал жене: «Будем теперь друг к дружке в гости ходить. Мой адрес ты знаешь — -партизанский штаб. Я там на боевом посту круглосуточно, -но часто не тревожь. Осерчаю и враз заарестую».
К удивлению Ивана Михайловича тётя Маруся охотно дала согласие на его столь длительную отлучку. И вообще Мария Кузьминична, обычно такая боевая и острая на язык, весёлая и разбитная, заметно переменилась за короткий срок фашистской оккупации. Стала сдержаннее, задумчивее, грустнее. К петушиному задору и подковыркам своего «Щукаря» начала относиться спокойнее и снисходительнее, чем раньше. И сейчас, услыхав слова мужа, не закипятилась, как иногда бывало, а только кивнула головой и ответила коротко и негромко:
— Ну, что же, Ваня. Тебе виднее
Иван Михайлович, человек наблюдательный, сразу сердцем учуял, что жена стала вроде другим человеком. «Фашисты проклятые, не токмо здоровье Маши, смех её слопали, радость человечью отобрали», — мысленно клял он захватчиков, но внешне и виду не показывал, что приметил перемены в поведении жены. Он старался балагурить и шутить по-прежнему.
Над городом собирались тучи. Слухи, один тревожнее другого, заползали в каждый дом, в каждую оставшуюся семью, и сердца леденило от страха и беды неминуемой.
«Что-то будет? Что будет?.. Говорят, фашисты к штурму готовятся. Такую силищу собрали — жуть. Танки, самолёты, пехоты видимо-невидимо. Разве нашим выстоять? Сдадут Людиново, как пить дать сдадут», — шептались во дворах, в очередях. И постепенно тускнела радость, пришедшая в город в первый день его освобождения. Люди ждали, тревожились, всё реже выходили на улицы. Ложились и просыпались с мыслью: что случится сегодня? Не раздастся ли вновь ненавистная чужая речь под окном, не затрещат ли выстрелы, не послышатся ли вопли и горький плач?
Алёша Шумавцов, так много узнавший от командира и комиссара партизанского отряда, развил в эти дни бурную деятельность. Каждый вечер в доме Хотеевых — здесь Алёша стал уже своим человеком — собиралась молодёжь. Ребята шли не крадучись, как в дни оккупации, а открыто — Шурик Лясоцкий, Анатолий и Виктор Апатьевы. Их встречали молодые хозяйки Зина, Шура, Тоня. Коля Евтеев и Алексей, как правило, приходили первыми.
Мелодичные переборы гитары, негромкая песня — с этого начинались «вечёрки». Правда, не было танцев, как раньше, до войны, но всё равно соседи осуждающе покачивали головами. «Ишь, какие, ничто их не пробирает. Немец не сегодня-завтра опять в город придёт. Сколько ещё безвинной крови лить будет, над русскими людьми измываться, а им всё нипочём»
А тем временем ребята, сдвинувшись в кружок, голова к голове, колени к коленям, забыв о песнях и о гитаре, шептались, о чём-то спорили, горячо и страстно: и только когда кто-нибудь в запальчивости повышал голос, Толя хватал гитару и запевал:
Края мои хорошие, земля моя в цвету.
Всем сердцем вас я вынянчил и к вам принёс мечту,
Чтоб над родным Людиновом, над очагом родным Всегда заря светила нам и вился мирный дым.
— Почему мы должны сейчас таиться? Почему? Немчуру выкинули, кругом наши — как-то запротестовала Шура, но Алексей осуждающе взглянул на неё и сказал негромко, но твёрдо:
— Так надо, Шура.
Уже в эти дни Алёша проявил свои недюжинные способности организатора и руководителя. Как ни странно, но первое, на чём ему пришлось «дать бой» друзьям, это. — сломить их желание идти добровольцами в армию. Алексей сам мечтал стать солдатом. Однако после разговора с Суровцевым и Золотухиным юноша понял, что его место здесь, в городе, в подполье. С ребятами было куда тяжелее. Ведь толком о настоящей работе они ещё не знали, только догадывались из скупых фраз и намёков своего фактического руководителя. И верили, верили каждому слову Шумавцова, когда он говорил: «Нам приказали находиться здесь, в городе. Кто? Партия. Понятно? Мы здесь тоже солдаты. Воевать можно и нужно не только на фронте И ещё неизвестно, где война тяжелее. А в армию мы успеем пойти. Обязательно пойдём. Выкинем гадов и пойдём».
Пожалуй, только один из друзей не посчитался с уговорами Шумавцова — Михаил Цурилин. Добровольцем вместе с проходившей через Людиново стрелковой частью покинул город и даже не попрощался с друзьями.
— Жаль, конечно, — сокрушался Алёша. — Миша Цурилин очень Нужен был здесь. Парень решительный, геройский, когда склад поджигали, не струсил Ничего не попишешь, хотел на фронт, в армию. Пожелаем ему удачи Может быть, скоро вернётся
Но Михаил Цурилин не вернулся. Он погиб в боях с захватчиками на белорусской земле.
Минуло девять дней. Ранним утром семнадцатого января 1942 года отборные фашистские части вновь начали штурм Люди,нова. Следом за ураганным артиллерийским огнём и массированными воздушными налёта-ми на город ринулись танковые колонны и батальоны автоматчиков.
Отбив первые атаки и выполняя приказ командования Брянского фронта, советские части, державшие оборону Людинова, отходили на новые рубежи. Вместе с войсками, выдержав на окраинах города одну за другой несколько рукопашных схваток с разведывательными группами и отрядами противника, отступали в леса и людиновские партизаны.
В этот день с утра охрану тюрьмы нёс партизан Ржевский. Молодой, необстрелянный, он с тревогой прислушивался к нарастающей канонаде, к вою пикирующих «юнкерсов». Мимо пробегали солдаты с чёрными грязными лицами, прогромыхивали санитарные повозки.
— Как там дела-то? — окликнул Ржевский знакомого партизана.
- Отступаем, браток, — торопливо отозвался тот. — Немцы на окраине, так и прут, так и прут. Скоро здесь будут. Не удержать!
Партизан побежал выполнять поручение командира, а Ржевский снова остался один, чувствуя, как тоскливо и горько становится на душе. С поста уходить нельзя, а останешься, пропадёшь в два счёта. Для фашистов нет страшнее и ненавистнее слова «партизан» Замучают, повесят. Сразу взмокла спина. Запотевшая ладонь прилипла к прикладу автомата. Тоскливым взглядом Ржевский оглядел пустующую улицу. Ему стало казаться, что сейчас, через секунду, другую из-за угла выползут фашистские танки, за ними — вражеские автоматчики, и тогда всё, конец. Что делать?
И как это часто бывает в минуты опасности, неожиданно пришло спокойствие. Пришла решимость. Он не уйдёт, не отступит, встретит врага огнём автомата, а потом потом — будь что будет. И тут же обожгла мысль. Там, в одной из камер подлюга Иванов. Немцы
его освободят, и предатель начнёт снова губить советских людей. Уничтожить гадину, пока не поздно! А что скажут командиры? Сейчас рассуждать некогда, надо действовать!.,
Ржевский стремительно вбежал в здание, кинулся к камере, где находился Иванов, поспешно отодвинул глазок в двери и, просунув внутрь дуло автомата, дал очередь. Он услышал вскрик и падение тела. «Получай, скотина..» Разглядывать не было времени. Ржевский вновь выбежал на улицу, и вовремя. Партизанский связной топтался возле двери.
— Тебя куда леший носит? Чего с поста убег? — напустился он на часового. — Командир приказал сниматься. Немцы в городе.
— В камере гадюка, — часто дыша, ответил Ржевский. — Не оставлять же его фрицам.
— Это ты стрелял?
— Я.
— Ну и правильно, — махнул рукой связной. — Айда за мной.
Дмитрию Иванову повезло. Он не был убит. Подвернув раненую руку, он лежал на полу камеры без движения, кусая губы, пытаясь заглушить рвущиеся стоны. Иванов ждал, молил. Он весь превратился в слух. «Скорее, скорее, — неслышно шептали губы. — Немцы близко, рядом, они спасут »
Он не терял сознания, и когда па пороге камеры показался рослый гитлеровец в шинели и стальном шлеме, с усилием поднялся и вместо приветствия протянул раненую руку.
Глава восьмая
«НЕ ВСЯКИЙ НЕМЕЦ-НАЦИ»
Улица нашего детства!.. Всю жизнь ты сохраняешься в памяти такой, какой видели тебя ребячьи глаза, только с каждым годом становишься всё ближе, краше, роднее. И невысокие домики с узорчатыми ставнями и резными наличниками, и новые, а также покосившиеся заборы палисадников, и уютные, пахнущие сеном или свежей стружкой дворы, и виляющие хвостами собаки — жучки, шарики, кутьки, и бугристая пыльная мостовая, и даже выбоины на тротуарах, через которые приходилось перепрыгивать много, много раз — всё это потом, когда ты становишься взрослым, всё равно помнится тебе как приметы милого, весёлого, беспечного детства. Ласковая грусть касается сердца, и оно щемит-щемит той приятной, сладкой болью, которая поднимает со дна души самые светлые и возвышенные чувства.
В таком состоянии приподнятости и несвойственной её натуре умилённости оглядывала Тоня родную Комсомольскую улицу, когда приехала из Москвы в Людиново на каникулы в июне сорок первого года. Она прошла сначала по одной, потом по другой стороне улицы, мимо раскрытых окон и посеревших от дождей крылечек, мимо зазеленевших деревьев и с наслаждением вдыхала чистый воздух, летевший из Брянского леса. Навстречу ей выбегали ребятишки.
— Здравствуйте, тётя Тоня Тонечка, с приездом!.. — Тоня ерошила их спутанные волосёнки, щекотала за ушами и почему-то всё время улыбалась. Видимо, она отдавалась каким-то своим мыслям, не хотела расставаться с ними, поэтому, нигде не задерживаясь, медленно шла дальше, кивала головой знакомым, невпопад отвечала мальчишкам и девчонкам, но сама была где-то далеко-далеко
Улица детства нашего!.. Как изменилась ты сейчас. Внешне осталась такой же, но была уже другой: придавленной, насторожённой, утратившей всё милые сердцу приметы. Зато другие приметы невольно бросались в глаза буквально на каждом шагу и заставляли колотиться сердце, сжимать губы и быстрее уходить прочь — домой, в переулок, к соседям, куда угодно, только бы подальше По тротуарам взад и вперёд ходят немецкие солдаты; важно, как гусаки, с нахлобученными чуть ли не на самые клювы фуражками, в мундирах с серебрящимися нашивками и чёрно-белыми повязками на рукавах, разгуливают офицеры. Из раскрытых окон многих домов доносится чужая, немецкая речь, слышатся взрывы хохота, пиликанье губных гармоник. И вдруг всё это заглушают крики, вопли: с крыльца сталкивают и гонят по мостовой оборванных, полуживых советских пленных, женщин в разорванных кофтах, подростков с
окровавленными лицами и связанными руками. А мимо прогромыхивают тяжёлые телеги, мчатся, фырча и вздымая пыль, мотоциклы и грузовики с фашистскими солдатами. Солдаты в пилотках и касках, с расстёгнутыми на груди мундирами, с засученными по локоть рукавами.
Улица нашего детства!.. Ты стала чужой, страшной, и при взгляде на тебя, на твой изменившийся облик, кровью сочится сердце, сжимаются кулаки, губы беззвучно шепчут проклятья.
Каникулы, каникулы, весёлая пора!
Звените, песни звонкие, с утра и до утра!
Почему-то именно эти слова звучали в ушах Тони, когда она, горько усмехаясь, смотрела из окна родного дома на Комсомольскую улицу. Нет, чёрт возьми, в какие бы «штрассе» не переиначивали фашисты эту улицу, она всё равно останется Комсомольской. И другие тоже навсегда останутся в сознании, в сердце под своими настоящими, советскими названиями: Войкова, Крупской, Луначарского, имени Фокина
Десять домов на Комсомольской улице заняли солдаты и офицеры особой службы, которая именовала себя тремя зловещими буквами ГФП — гехаймсфельд-полицай: секретная полевая полиция — гестапо. Эсэсовцы из ГФП, с бархатными околышами и металлическими черепами на фуражках, стали олицетворением всего самого худшего, свирепого и бесчеловечного, что принесли с собой гитлеровцы. Полевые жандармы и гестаповцы, главным образом, и осуществляли на практике тот «новый порядок», который Гитлер обещал установить во всей Европе, а потом и во всём мире. Многие людиновцы чувствовали этот «порядок» на себе.
Да что говорить о людиновских жителях! Даже немецкие солдаты и офицеры страшились ГФП и старались поменьше сталкиваться со своими соотечественниками из этого мрачного учреждения.
Начальник ГФП Антоний Айзенгут вместе со своими подручными «работал» рядом с комендантом Бенкендорфом. Второй этаж дома № 1 по улице Карла Либкнехта полностью занял Бенкендорф. Нижний предоставил Айзенгуту. А уж Айзенгут облюбовал Комсомольскую улицу для своих младших сотрудников.
В девяти домах расположились разные чины из ГФП, а один дом, номер сорок восемь, хозяева которого, Козловы, успели эвакуироваться, приспособили под свою подсобную канцелярию. В канцелярии изредка стучала пишущая машинка, зато почти каждый день оттуда неслись крики и стоны истязуемых советских людей. Кого бы ни задержали немецкие патрули и русские предатели-полицаи «господина Двоенко», всех волокли в канцелярию ГФП, где начинался «разбор». Не зря дом сорок восемь по Комсомольской улице людиновцы называли застенком и, конечно, обходили его стороной. Сёстры Хотеевы договорились не ходить мимо этого дома, чтобы не бередить сердце. Зина и Шура придерживались договорённости (у Шуры вообще один вид немцев вызывал приступы тошноты и нервного возбуждения), но Тоню этот дом словно притягивал. Прикидываясь равнодушной, девушка медленно проходила мимо сорок восьмого дома и вызывающе, не опуская глаз, смотрела на каждого встречного фашиста.
— Не испытывай судьбу, Тонечка, — сказала как-то Шура. — Лучше не мозоль глаза им, проклятым.
— Ничего, пусть чувствуют, что мы не очень-то боимся их. А то глядят, как на рабов. Не хочу доставлять им такого удовольствия.
И Тоня продолжала свои прогулки по Комсомольской улице, разжигая в себе ненависть к оккупантам.
Рядом с канцелярией ГФП, в доме номер сорок шесть, жила семья Козыревых. Прасковья Ивановна Козырева перед приходом немцев пыталась вместе с детьми эвакуироваться из Людинова. Сыновей Володю, Виталика и дочку Валю она посадила в деревенскую телегу и присоединилась к семье Хотеевых, с которой давно дружила. Прасковья Ивановна надеялась, что сёстрам Хотеевым — Тоне, Шуре, Зине — девушкам энергичным и настойчивым, удастся добраться хотя бы до Орла. Но это путешествие под обстрелом и бомбёжками быстро закончилось. Всё дороги преградили фашистские заслоны, обе семьи, как и многие другие, вынуждены были возвратиться в Людиново, в свои чудом уцелевшие дома.
С того времени одиннадцатилетняя быстроногая девчушка Валя Козырева крепко привязалась к сёстрам Хотеевым, особенно к Шуре и Тоне. К Тоне, самой старшей, Валя относилась со сдержанным почтением, как
относятся дети к солидным взрослым, которые не чураются общества ребят. Шуру любила за доброту, за ласковые слова. А Зина представлялась Вале самой сильной и смелой. Такая, при случае, может поколотить любого хулиганистого парня и защитить сестёр и её, соседскую девочку, от пьяного полицая.
Угловой дом Хотеевых, помеченный номером тридцатым, стоял неподалёку, и сёстры Хотеевы нет-нет да и заглядывали к Козыревым. Шура иногда оставалась ночевать у Козыревых. Это становилось настоящим праздником для Вали. Она устраивалась рядом с Шурой, прижималась к ней всем своим худеньким тельцем и рассказывала обо всём, что увидела, что узнала за прошедший день. «Жандармы нынче опять двух русских гнали по улице А потом в козловский дом увели Возле комендатуры прогуливался сам Бенкендорф, такой высокий, толстый, сапоги у него блестят, как лакированные, а фуражка высокая-превысокая, смешно даже. Он разговаривал с учителем этим, очкастым, и не по-немецки, а по-русски »
Шура, обняв девочку, слушала её сбивчивый рассказ, иногда печально покачивала головой и вздыхала. Тогда Валя умолкала и начинала упрашивать:
— Шурочка, не вздыхай А фрицы эти они у нас вечно будут?
— Нет, Валюша, не вечно Но каждый лишний день жить с ними — мука.
Валя не всегда улавливала точный смысл Шуриных слов, но понимала, что той очень тяжело, тоскливо.
Прошло совсем немного времени, и сёстры почти прекратили навещать квартиру Козыревых: к ним вселились два эсэсовца из ГФП.
— Узнай, Валюша, кто они и чем занимаются, — попросила Тоня. — Может быть, теперь ты сможешь понимать их разговоры.
Тоня, неплохо владевшая немецким языком, коротая время, учила Валю, заставляла её запоминать чужие слова и составлять целые фразы. Любознательная девочка с охотой и увлечением — это было так интересно и похоже на игру — занималась немецким и даже проявляла собственную инициативу: прислушивалась к разговорам гитлеровских солдат и офицеров и всё услышанное старалась перевести на русский язык. Это ей не всегда удавалось, и тогда опять на помощь приходила Тоня: объясняла значение новых слов, учила правильно их произносить. Детская память восприимчива. И очень скоро Валя стала без особых трудностей «шпрехать» по-немецки.
Выслушав просьбу Тони, Валя лукаво сморщилась и заявила:
— Всё у них узнаю. Мне что: выгонят в дверь — влезу в окно. Ведь я в своём доме.
— В своём-то в своём, — наставительно заметила Тоня. — Но будь поосторожнее. Они и ребят, бывает, за горло хватают.
— Меня не схватят
Через три дня Валя примчалась к Хотеевым и, отведя Тоню к окну, быстро зашептала:
— Всё узнала, Тонечка, честное пионерское. Сейчас расскажу.
— Ну-ну, только не давись и не глотай слова.
— Хорошо!.. У нас их двое. Один высокий такой, чернявый, всё пуговицы :на мундире у него блестят Зовут его Рудольф, а фамилия Борхе или Борхарт — не разобрала точно. Он какой-то старший, его называют штабс-фельдфебелем. Это что — офицер?
— Почти офицер. Сволочага, как и всё?
Валя отрицательно замотала головой.
— Не, дядька вроде ничего. Не ругается, на мать не шумит, посуду не бьёт. Иногда сядет на стул, вытащит из кармана бумажник и разглядывает фотографии. Вчера подозвал меня и показывает: это, мол, моя фрау, Анни, а эта, как и ты, как и я, значит, дочка, Эльзой зовут. Посмотрела я. Ничего себе, люди как люди — и немка и её дочка.
— Ишь ты, люди! — будто удивилась Тоня. — Скучает, сукин сын. Вот и сидел бы дома, в своей Германии, а не лез к нам Значит, этот высокий — штабс-фельд-фебель?
— Ага Рудольф. Я, говорит, из Мюхена или Мюнхена.
— А второй?
— Второго зовут Якуб. Рябой чёрт. Злой, как волк. Он переводчик. По-русски хорошо говорит. Кажись, в каком-то Поволжье жил. Гадюка страшная. На мать орёт, всё швыряет, везде высматривает и вынюхивает.
— Кто из них старший?
— Да Рудольф же Но Якоб и на Рудольфа косится. Они меж собой часто цапаются.
— Чего они не поделили?
— Не знаю. Якоб всех русских ругает. И сволочи, мол, и грязные свиньи, и нехристи, и большевик на большевике. Сегодня утром они как заспорят, как заорут. Всех русских, грозится Якоб, к стенке или на виселицу
— А Рудольф?
— Не пойму его. То молчит, а то озлится и начинает собачиться с этим рябым. Нельзя, говорит, так Тогда, говорит, и русские всех нас, немцев, тоже ненавидеть будут. А Якоб своё, аж плюётся, из себя, гадюка, вылезает.
— Интересно — Тоня пригладила растрепавшиеся волосы Вали и задумалась. Действительно интересно. И среди фрицев, возможно, попадаются люди, которым не по душе ни война, ни порядки гитлеровские. И тут же спохватилась: но ведь этот Рудольф служит в ГФП. Туда подбирают головорезов, фашистских молодчиков. Да, конечно. Но почему всё-таки Рудольф ссорится с Якобом? Ведь ие разыгрывают же они перед девочкой спектакль. Перед взрослыми — другое дело, а тут девчонка, да и та лишь подглядывает и подслушивает.
— Спасибо, Валюша, — поблагодарила Тоня присмиревшую Валю. — Что узнаешь новое, интересное, приходи сразу. Может, и я как-нибудь загляну к вам, хоть одним глазом гляну на этого Рудольфа.
Штабс-фельдфебель Рудольф Борхарт и переводчик Якоб Штенглиц уже давно недолюбливали друг друга и часто ссорились. Штенглиц, выходец из богатой кулацкой семьи немцев Поволжья, люто ненавидел всё русское, советское и старался, заслужить благосклонность своего начальства. Дело в том, что поволжских немцев, как и прибалтийских, гитлеровцы считали неполноценными, второразрядными немцами и не причисляли их к чистой арийской расе. А Якобу очень хотелось быть чистым арийцем. Удлинённый, яйцеобразный череп, одутловатое лицо, испещрённое следами оспы, глубоко провалившиеся, будто вдавленные в орбиты глаза, слишком толстые мясистые губы — всё это давало мало надежд на то, что фашистские эксперты признают его полноценным германцем.
Это озлобляло и без того злобного по натуре Штенг-лица. Оставался единственный выход — верой и правдой служить фюреру Адольфу Гитлеру и рейхсминистру СС Генриху Гиммлеру, зверствовать, не давать никакой пощады русским и тем самым отличиться и заслужить железный крест. А если на мундире Штенглица появится когда-нибудь железный крест, кто же после этого осмелится унизить его владельца и причислить к разряду «низших».
Поэтому Якоб Штенглиц и усердствовал, зарабатывая внимание шефа. Начальнику ГФ.П Айзенгуту, ещё молодому гестаповцу, с постоянной презрительной улыбкой на чисто выбритом лице, пришлось по душе и служебное рвение, и собачья преданность, и палаческая жестокость переводчика. Вот такие и должны осуществлять высокие функции, возложенные фюрером на гестапо.
Рудольф Борхарт заметно отличался от Штенглица своим поведением в оккупированном городе и отношением к русским людям. Всё свои обязанности штабс-фельдфебель выполнял, конечно, с чисто немецкой аккуратностью и педантичностью. И всё же задержанных русских, заподозренных в связях с партизанами или в неповиновении новой власти, никогда не избивал, допрашивал спокойно, исполнял их мелкие просьбы: давал прикурить, напиться воды и даже поспать в углу, до отправки к более высокому начальству.
Это выводило из себя и буквально бесило Якоба Штенглица. Обычно каждого арестованного, ещё до допроса, он бил ногами, кулаками или железным прутом, всегда лежавшим наготове. Вопросы Борхарта и ответы арестованных переводил с нескрываемой злобой и готов был, не дожидаясь окончания допроса, наброситься на свою жертву и самолично задушить или застрелить.
Борхарта он сначала считал слюнтяем, мягкотелым парнем, которому следовало бы служить где угодно, только не в ГФП. Но постепенно в мозгу фанатичного эсэсовца-гестаповца стали зарождаться подозрения: уж не социалист или, что ещё хуже и страшнее! — не коммунист ли штабс-фельдфебель. Нет в нём твёрдости и жестокости по отношению к русским. С жителями беседует запросто, забывая о своей принадлежности к нордической расе. С рабами немец должен разговаривать,
как хозяин, как господин, а этот Нет, тут что-то неспроста.
В мелких перепалках с Борхартом, который требовал от переводчика выполнять только свои функции и не вмешиваться в остальное, а тем более не издеваться над жителями и арестованными, Штенглиц уже дважды злобно бормотал:
— О тебе надо доложить господину Айзенгуту. Пусть узнает, как миндальничает с русскими его штабс-фельдфебель.
И дважды, со сдерживаемой яростью, Борхарт парировал:
— Ты лучше держи язык за зубами. Не забывай, что всё, сказанное про меня, я поверну против тебя. Кому из нас поверят? Чистокровному немцу из Мюнхена или какому-то поволжскому колонисту? Так что хорошенько подумай, прежде чем пойдёшь доносить, сукин ты сын.
У Якоба отнимался язык. Проклятый Борхарт! Он бил прямо в солнечное сплетение. Но ничего, он дождётся своего Дождётся!..
Валюша Козырева однажды подслушала такой обмен любезностями между двумя эсэсовцами и прибежала к Тоне.
— Вот Я же говорила, что Рудольф — хороший дядька. А этого рябого — ненавижу.
— Всё-таки и твой Рудольф гордится своим арийством, — остановила её Тоня. — Значит, тоже господином себя считает.
— Нет Тонечка, это он, наверное, просто так, чтобы позлить рябого. Какой же он господин, если маме иногда помогает принести дрова, растопить печку, даёт хлеб и консервы Правда, когда нет Якоба А меня стал называть своей русской дочкой.
— Русской дочкой? Это что такое! — Тоня сердито наморщила лоб. — Ты смотри, не очень Завтра я зайду вроде за щепоткой соли, может быть, удастся поглядеть на этого странного немца.
— Приходи, Тонечка, пораньше, когда рябой уходит к начальству, а Рудольф садится за стол и что-то пишет.
— Хорошо. Ты стой у ворот, если в доме будет кто чужой, кивни мне.
Ранним утром Валя стояла у калитки и дожидалась Тоню. «Рябой чёрт», держа под мышкой папку с
бумагами, уже отправился в канцелярию; задержанных этой ночью не приводили. В доме только мать и Рудольф Борхарт. Скорее бы пришла Тоня. А вот и она. Идёт медленно, будто прогуливается и разглядывает давно знакомый пейзаж. Валя бросилась к Тоне и обхватила её двумя руками.
— Идём, Тонечка
— Чужих нет?
— Никого!.. Рябой ушёл.
Они вошли в сени, нарочно громко разговаривая.
— Валечка, а где мама? Я хотела одолжить немного соли.
— Вот она Заходи, Тонечка
Прасковья Ивановна Козырева с любопытством взглянула на раннюю гостью и засуетилась. Соли? Почему же не поделиться сейчас? Надо только отсыпать в бумажку из баночки.
— Заходи в комнату, я мигом, — предложила Прасковья Ивановна.
А ваш постоялец дома?
— Дома. Этот ничего, не обидит, не бойся.
— Я не боюсь, но глядеть на их рожи мне не доставляет удовольствия.
Хотя Тоня и пришла специально для того, чтобы посмотреть на «хорошего» немца, всё же она не могла сдержаться и резко «высказалась». Так она делала уже не первый раз, хотя сёстры предупреждали её, чтобы не «дурила».
В это время дверь соседней комнаты растворилась, и на пороге показался Рудольф Борхарт. Чуть сощурив глаза, он пристально смотрел на девушку, затем вежливо поклонился.
— Добрый день, фрейлейн Тоня.
От неожиданности Тоня вздрогнула, но, справившись с собой, с вызовом запрокинула голову.
— Вот как! Откуда вы знаете моё имя?
Борхарт улыбнулся.
— По долгу службы, фрейлейн. — Заметив, как гневно сверкнули глаза девушки, он поспешил добавить. — О, не думайте ничего плохого. Это шутка. Конечно, мой мундир — он провёл пальцами по светлым пуговицам своей чёрной тужурки — не слишком почётная рекомендация. Но — Его ещё молодое лицо, с тёмными зачёсанными назад волосами, с большим прямым носом, стало задумчивым, что никак не гармонировало с эсэсовским мундиром. — Но, знаете Вы достаточно хорошо понимаете по-немецки?
— Да, понимаю.
— Благодарю вас. А я, признаться, русский не знаю. Жаль. Да, так я закончу свою мысль. Может быть, она вам покажется странной Что же мы стоим на пороге? Заходите, пожалуйста. Битте!..
Прасковья Ивановна с удивлением и тревогой прислушивалась к их разговору, забыв про соль. Но по лицам Тони, своей дочки Вали и штабс-фельдфебеля она видела, что ничего страшного не происходит.
— Вы меня приглашаете в комнату, в которой — Тоня на секунду запнулась. Её начала охватывать ярость. Ведь здесь допрашивают советских людей, здесь их, может быть, бьют, мучают, а потом отправляют. Куда? На новые пытки или на смерть? О, как хотелось ей бросить в лицо гитлеровца самые гневные и оскорбительные слова, чтобы тот почувствовал, как она и его, и всех-всех фашистов ненавидит.
Борхарт, кажется, понял состояние этой красивой русской девушки и опередил её.
— Да. фрейлейн, здесь — служба. Ничего не поделаешь. Но, если вы можете хоть на минуту поверить человеку в таком мундире — он снова провёл пальцами по пуговицам, — тогда я скажу вам несколько слов. Только между нами, разумеется.
«Рисуется? Хочет втереться в доверие?.. — мысленно спрашивала себя Тоня. — Ведь гестаповец Э, чёрт, играть так играть! Хуже не будет». И она сквозь зубы проговорила:
— Хорошо. Войду на одну минутку.
И прошла мимо Борхарта в комнату, в которой когда-то бывала не раз. Теперь комната изменилась. Посреди стоял длинный стол, на нём — бумаги, пишущая машинка. Поодаль от стола, у стены, — несколько стульев и скамейка. В правом углу две походные койки, а на вешалке и на гвоздях — автоматы, шинели, ремни с сумками и планшетками. Тоня обвела взглядом всё стены — ей казалось, что они должны быть забрызганы кровью. Она судорожно проглотила слюну и изменившимся голосом сказала:
— Я слушаю вас.
— Ире файндшафт — начал Борхарт, затем быстро подошёл к окну и выглянул. Под окнами никого не было. — Ваша вражда к нам, немцам, мне понятна, — продолжал он. — Но, поверьте, не всякий немец — наци. Если он даже служит в германском вермахте. И я тоже не нацист.
— Почему же вы одели этот мундир? — спросила Тоня. И, не сдержавшись, добавила: — Он плохо пахнет.
— Согласен. Я не имею возможности вам всё объяснить. Потребуется слишком много времени, да вы и не поверите. Это ваше право. Хочу только, чтобы вы не думали плохо обо всех немцах. В Германии есть Гитлер, но есть и Тельман. Есть наци, но есть и коммунисты.
— Которым вы отрубаете головы или загоняете в концлагери?
— Власть у Гитлера. — Борхарт опять глянул в окно. — Хочу быть вам полезным, но не знаю, как. Пока же могу сказать только одно. Слушайте внимательно я запоминайте. В вашем доме наших нет. Но скоро сюда приедет один генерал. Комендатура предполагает поселить генерала у вас в доме. Вам придётся потесниться. Ненадолго.
— Новость не из приятных.
— Безусловно. Я этого генерала видел. Он большой — Борхарт щёлкнул пальцами, — но с русскими заигрывает. Надеется завоевать популярность. Советую вам не высказывать ему прямо в лицо вашу неприязнь к немцам, вот так, как мне. — Борхарт чуть заметно улыбнулся. — И ещё. Генерал любит красивых женщин. Вы знаете немецкий, и генерал, несомненно, обратит на вас внимание. Ведите себя умно и осторожно. Надеюсь, что теперь вы мне хоть немного верите?
Тоня неопределённо пожала плечами. Борхарт произвёл на неё двойственное впечатление. С одной стороны, Валюша, кажется, правильно назвала его хорошим дядькой, во всяком случае, он чем-то отличается от всех гитлеровцев. И откровенность его тоже говорит в его пользу. Но, с другой стороны, может быть, он провокатор и умело втирается в доверие? Эх, и посоветоваться не с кем. С сёстрами? Они, наверное, обругают её за это посещение. Алёша? Где его сейчас найти?
— Спасибо за предупреждение, — сказала Тоня, раздумывая, не спросить ли Борхарта прямо в лоб: не считает ли он себя коммунистом? Но не решилась. И так уже разговор затянулся И принял совсем неожиданный оборот.
Борхарт всё время поглядывал в окно, и Валя, поняв, что он опасается прихода Якоба Штенглица, пристроилась на подоконнике. Вдруг она вскочила и испуганно воскликнула:
— Идёт!.. Якоб!..
Борхарт потемнел лицом.
— Вам, фрейлейн, лучше с моим коллегой не встречаться. Вы, кажется, хотели одолжить соль? До свиданья. Ауфвидерзеен!
Он щёлкнул каблуками сапог и сделал движение, намереваясь протянуть руку. Но Тоня будто не заметила, молча повернулась и вслед за Прасковьей Ивановной прошла на кухню. Туда же бросилась Валя. Через минуту они услышали, как через сени в комнату к Бор-харту, стуча сапогами, вошёл Якоб Штенглиц и громко сообщил:
— Наш шеф чем-то недоволен. Отправился к Бенкендорфу.
— А что случилось? — послышался голос Борхарта.
— Не знаю. Туда вызвали начальника русской полиции и этого выскочку, которому Бенкендорф очень доверяет. Парень далеко пойдёт, хотя у него самая распространённая в России фамилия — Иванов. — И Штенглиц захохотал так, словно его кто-то неожиданно пощекотал.
— Чего же ты смеёшься? — спросил Борхарт.
— Этот Иванов, говорят, действует, как настоящий немец. — И с язвительными нотками в голосе добавил: — А некоторые немцы ведут себя так, будто им не хочется служить фюреру. Вот!
— Дурак! — бросил Борхарт, и на этом разговор оборвался.
Тоня поцеловала Валю и зашептала ей в ухо:
— К нам не ходи. Мало ли что. Лови меня на улице или возле озера. Прислушивайся, о чём немцы будут говорить. Старайся узнавать фамилии арестованных и куда их отправляют. Поняла?
— Поняла,
— Вот и умница. До свиданья, Прасковья Ивановна
— До свиданья, Тонечка, — ответила хозяйка. — Вот тебе соль, возьми.
— Ах, соль?.. Я про неё и забыла.
Тоня улыбнулась, взяла пакетик с солью и быстро вышла. Прасковья Ивановна с недоумением поглядела ей вслед.
Под вечер три жандарма, как называла Валя эсэсовцев, привели двух арестованных: низкорослого старика в стоптанных сапогах и чёрном пальто, из-под которого выпирал большой горб, и парня лет двадцати в синей косоворотке под помятым, облепленным грязью пиджаком. Валя видела, как жандармы втолкнули арестованных в комнату и, прикрыв за собой двери, стали что-то докладывать Борхарту. Девочка притаилась за дверью.
Допрос вёл Борхарт с помощью переводчика Штенглица.
— Твоя фамилия, имя, отчество? — негромко спросил Борхарт.
— Фамилия моя обыкновенная, русская, — ответил старик. — Закопаев. От слова закапывать. Кличут Иваном, по отцу тоже Ивановичем.
— Где проживаешь?
— Теперь не проживаю, а бедствую. Раньше я, конечно. жил. пока не война. Прозывалась деревня Косичино. А теперь как — не могу знать.
— Куда ты шёл?
— А куда глаза глядят и куда ноги приведут. Ста-pvxa померла, детишки повырастали и разлетелись, изба развалилась, сам я хворый, больной то есть. Вот и пошёл искать свою судьбу.
— Ты зубы не заговаривай, — заорал вдруг Штенглиц да так громко, что Валя вздрогнула. — Тебя сюда послали партизаны?
— Никто меня, мил человек, не посылал, — спокойно ответил старик, и Валя облегчённо вздохнула. Старик, видать, не из пугливых.
— А в вашей деревне партизаны есть? — спросил Борхарт.
И старик, явно насмехаясь, проговорил:
— Штой-то, господин немецкий начальник, вам везде
одни партизаны мерещатся? Слыхом не слыхал, видом не видал.
— А этот парень из вашего села?
— Не В первый раз вижу.
— Врёшь! — опять заорал Штенглиц, и, несмотря на то, что Борхарт дважды предупредил: — Тише!.. — Якоб продолжал кричать: — Кто тебя научил врать? Где твои командиры? Горбун проклятый!
Штенглицу от злости, видимо, не сиделось на месте, и он стал расхаживать по комнате. Когда его шаги приблизились к двери, Валя в испуге отскочила, на цыпочках прошла через сени и побежала во двор, в сарай, где находилась мать. Губы девочки дрожали, лицо побледнело, и вся она тряслась, как в ознобе.
— Что ты, дочка?
— Там двух привели Наверное, Якоб бить будет
Прасковья Ивановна погладила дочь по голове и
вздохнула.
— Что же поделаешь Помоги им, господи Может, Рудольф заступится
— Мама Я не пойду туда Мне страшно
— И не ходи. Побудь здесь. Вон на дровах посиди. А о том, что там, не думай. Ихняя сила!.. Мы с тобой
Она готова была заплакать, но сдержалась и только горестно махнула рукой.
Наверное, больше двух часов продолжался допрос арестованных. Потом сквозь щели в сарае Валя увидела, как те же три автоматчика вывели старика и парня я, подталкивая их прикладами в спины, зашагали в сторону комендатуры. Через минуту из дома вышел Штенгдип красный. злой, и поспешил вслед за арестованными. Обрадованная уходом «рябого чёрта». Валя быстро юркнула в дом, схватила кружку, зачерпнула из ведра воды и стала жадно пить. Внутри у неё всё горело.
— Валя. — услышала она голос Борхарта и опять в страхе вздрогнула. До сих пор она не боялась штабс-Фельдфебеля и даже считала его хорошим, добрым. А сейчас почему-то и он стал страшен и ненавистен Куда они повели старика и парня? Что с ними сделают?
— Валя, — повторил Борхарт. — Заходи, майне кляйне тохтер.
Валя резко распахнула дверь и зло, отчуждённо произнесла по-русски.
— Никакая я вам не тохтер. Жандармы собачьи.
— Что, что? — не понял Борхарт. — Скажи по-немецки. И не так зло.
Валя мельком исподлобья глянула на Борхарта, заметила его усталое лицо, слабый намёк на улыбку и, уже смягчаясь, составила новую фразу по-немецки
— Про дочку говорите, а старика мучите.
— Я не мучил его, — совершенно серьёзно сказал Борхарт. — А что бы ты сделала на моём месте?
— Я?.. — Этот неожиданный вопрос застал девочку врасплох. — Я!.- Я бы отпустила их, а Якобу — в морду!..
Рудольф всё так же серьёзно спросил:
— Ты думаешь, что у меня так много власти? Или тебе хочется, чтобы и меня вот так же допрашивал кто-нибудь, ну, хотя бы господин Айзенгут или Бенкендорф? Что ж тогда со мной случится?
— Не знаю.
— А я знаю. И тебе не будет меня жалко?
— Жалко, — после короткой паузы протянула Валя. Она и в самом деле испытывала непонятную симпатию к этому немцу, может, потому, что он был тихий, смирный, хорошо относился к матери, подкармливал, чтобы не померли с голоду
Рудольф задумался и несколько минут молча сидел у стола, облокотившись на него двумя руками. Валя стояла рядом и разглядывала сразу постаревшее лицо штабс-фельдфебеля. Чего он молчит? Может быть, уйти? Но Рудольф положил ей на плечо свою большую руку и тихо проговорил:
— А ведь они — партизаны. Разведчики. Понимаешь, девочка? Эркундерс.
Валя отрицательно качнула головой.
— Я написал, что они мирные жители Да, да. так и написал. Но теперь их будет допрашивать Айзенгут, а может быть, ваши русские, Двоенко, Иванов. И тут уж я ничего поделать не могу. Теперь ты меня понимаешь?
— Понимаю, — чуть слышно прошептала девочка.
— Если тебе интересно, фамилия старика — Закопа-ев. а молодого — Клюев. Запомнишь?
— А для чего мне запоминать?
* Разведчик (нем,)
— Просто так, девочка, просто так
Но смышлёная Валя сообразила. Борхарт прямо не предложил ей сообщить эти фамилии кому-либо из своих, русских, но намекнул, что это можно сделать. Только кому сообщить? Тоне, Шуре, Зине?
А Бопхарт, будто разговаривая с самим собой, тихо и задумчиво протянул:
— Да, вокруг партизаны Они у себя дома И правильно
Он не договорил и неожиданно привлёк к себе девочку.
— Скажи, майне кляйне тохтер, ты когда-нибудь слыхала такую фамилию — Тельман?
— От вас слыхала Это кто, из ваших?
По лицу Борхарта пробежала загадочная улыбка, а в глазах засветилось что-то похожее на нежность.
— Да. из наших Но не из таких — он ткнул пальнём в собственный мундир. — Эрнст Тельман Про Ленина слыхала?
— А как же! У нас портрет был. но мама испугалась и спрятала.
— И хорошо сделала, а то Якоб Я тебе сейчас что-то покажу. Валя.
Борхарт быстро и ловко отвернул верхнюю часть голенища правого сапога, запустил пальцы под распоротую подкладку и вытащил завёрнутые в серую бумагу две маленькие фотографии.
— Вот, погляди, узнаёшь?
У Вали от радости запрыгало сердце. С фотографии на неё глядело давно знакомое дорогое лицо Ильича.
— Ленин! — тихо, словно не веря своим глазам, произнесла она. — Ленин!
— Правильно, Ленин. А вот это кто, знаешь? — Он протянул ей вторую фотографию. Валя взяла её в руки и стала всматриваться. Нет, этого человека с большим открытым лбом, в белой расстёгнутой рубашке с отложным болотником она не знала, никогда не видела.
— Тельман! — тихо и торжественно сказал Борхарт. — Наш Тельман.
— А кто он?
— Большой коммунист немецкий.
— Как Ленин?
Борхарт, видимо, не знал, как разъяснить русской девочке, кто такой Тельман, и, помолчав секунду-другую, согласно кивнул головой:
— Как Ленин Друг Ленина Понимаешь?
— Понимаю. А как же вы Зачем вы
— Молчи, — перебил её Борхарт. Он быстро завернул фотографии в бумагу и ловко водворил на место — в голенище сапога. — Молчи. Якобу — ни слова. А то твоему Рудольфу — капут.
И он сделал жест, означавший, что его, Рудольфа, повесят.
Валя была растеряна, ошеломлена. Немец, хоть и хороший, но всё же гитлеровец, служит в ГФП и вдруг прячет в сапоге фотографии Ленина и ихнего Тельмана. Зачем? У неё появились те же мысли, что недавно волновали и Тоню. То ли Рудольф хочет прикинуться сочувствующим русским, то ли он и взаправду против Гитлера? Как-то он обронил такую фразу: «Всё это Гитлер Взять бы его » И оборвал самого себя, как делгл часто. И вот сегодня он показал фотографии. Вале хотелось погладить по щеке этого большого дядю, сказать ему какие-нибудь хорошие слова. Но промолчала: всё-такн он — немец в фашистском мундире.
— Вот так, майне тохтер, — сказал Борхарт и, заслышав шаги на крыльце, добавил: — А теперь марш к маме До матки — повторил он по-русски.
Всю ночь Вале снились странные сны. Она вместе с Тоней идёт по Людинову. На площади имени Фокина полно народу. Как из-под земли, со всех сторон вырастают виселицы. Немецкие солдаты ведут к торчащим чёрным перекладинам худых, оборванных людей. На груди у них дощечки с надписью: «Партизан!..» Всё, кто пришёл на площадь, молчат. Тишина такая, что болят уши. А Тоня смеётся и запевает песню. Слова песни незнакомые, а мотив?.. Да это же «Интернационал». Да, да, «Интернационал». Всё смотрят на Тоню и тоже начинают петь. И вот уже вся площадь гудит от мощных звуков гимна, люди берутся за руки и идут прямо на эсэсовцев. Те пятятся, стреляют, но пули никого не берут, никто не падает Вдруг над толпой появляется Рудольф Борхарт. Он держит в руках два больших портрета Ленина и Тельмана и тоже поёт. «Смотри, Тоня, — кричит Валя, — смотри, это наш Рудольф, я же говорила » Тоня пробивается через людской поток к Борхарту, берёт у него
из рук портреты и поднимает их над головой. Борхарт улыбается И неожиданно падает. На его месте появляется противное толстое лицо рябого Якоба Штенглица. Он угрожающе кричит, вытягивает руку с пистолетом и стреляет
Валя проснулась вся в поту от громких выстрелов на улице. Только начало светать, а уже опять стреляют. Страшно! Очень страшно!..
Солдаты провели в дом двух русских девушек. Видимо, шли они издалека, потому что еле переставляли ноги, их лёгкие пальто и ботинки были облеплены грязью. Сейчас начнётся допрос. Валя кинулась к двери, но на сей раз Якоб Штенглиц предусмотрительно выставил у двери солдата с автоматом. Завидев девочку, солдат крикнул: «Цурюк!.. Форт!..» — и Валя отскочила с испуганно бьющимся сердцем. Проклятые! Если бы сейчас появились партизаны Посмотрела бы я тогда на ваши противные морды
Не сказавшись матери, Валя побежала искать Тоню. Потопталась возле знакомого крыльца. Ведь домой Тоня наказывала не заходить. Никто не выглянул. Куда же теперь?
Валя обегала несколько улиц, но нигде Тоню не нашла. Навстречу попадались немецкие солдаты, брели местные жители; обдавая едким запахом бензина, проносились мотоциклы; откуда-то издалека, из-за леса катился гул: может быть, стреляли пушки, может быть, работали танковые моторы. Опечаленная и усталая, возвращалась Валя назад и неожиданно от радости даже заскакала на одной ноге. По улице Свердлова навстречу шла Тоня.
— Тонечка, я ищу тебя. Уже хотела домой к вам идти.
— А что случилось?
— Сейчас расскажу. Можно мне взять тебя за руку?
— Бери. Отдышись и не прыгай. Пойдём вон туда, на уголок.
Они остановились на углу, и здесь Валя, переполненная впечатлениями, быстро, глотая слова, рассказала Тоне о своей последней встрече с Борхартом, о фотографиях Ленина и Тельмана и, наконец, о двух арестованных девушках. Тоня, машинально поглаживая ладонью волосы девочки, внимательно слушала, и на её лице
можно было прочесть и удивление, и недоверие, и радость Действительно, происходит что-то странное. Кто этот Борхарт? Провокатор или коммунист? Чем обернутся его попытки наладить дружбу с русскими: непредвиденным несчастьем, трагедией или Что или?..
Когда она поделилась с Шурой подробностями своей встречи с Борхартом, та вся вспыхнула от гнева и дрожащим голосом, стиснув переплетённые пальцы, выкрикнула:
— Сумасшедшая!.. Да как ты могла Меня от одного их вида мутит. Не смей больше, слышишь, не смей!
Тоня успокоила Шуру, пообещав впредь быть осторожнее, а про себя подумала, что если уж придётся помогать своим, то, может быть, Борхарт пригодится. Только как разгадать и убедиться, что его не подсылает гестапо.
В это время на улице показался велосипедист, и Тоня обрадованно окликнула его:
— Лёша, здравствуй! Откуда ты?
— Из Агеевки.
— Зачем ты туда ездил?
— Дела всякие, Тонечка. Дела! — Он покосился на стоявшую рядом девочку. — Кажется, я знаю тебя, пионерка, — сказал он, — но имени не помню.
— Это Валечка, дочка Козыревых, — ответила Тоня, — моя маленькая подружка.
— Значит, и моя, — улыбнулся Лёша Шумавцов, на которого Валя глядела с нескрываемым любопытством. Она, заноза, знала, что Шура Хотеева дружит с этим хорошим парнем, и сейчас присматривалась: чем он приглянулся Шуре?
Алёша Шумавцов был одет в тёмную, местами испятнанную маслом спецовку, за спиной торчала сумка с какими-то инструментами. Ехал он, видимо, издалека, так как выглядел усталым.
— Можешь постоять с нами несколько минут? — спросила Тоня.
— Могу. Правда, лучше бы не здесь. — Он оглянулся, прикидывая, куда можно было бы пойти, чтобы не торчать на улице, но вдруг с какой-то лихостью присвистнул и предложил: — Ладно, постоим тут. Чем порадуешь?
Тоня взяла из рук Шумавцова велосипед и, сделав
вид, будто собирается садиться в седло, быстрым шёпотом передала всё, что только что рассказала ей Валя. Лёша понял нехитрую уловку Тони и для отвода глаз тоже стал помогать ей садиться на велосипед по-мужски. Проходившие мимо немецкие солдаты и жители почти не обращали внимания на двух молодых людей и девочку, возившихся с велосипедом.
— Так. Понятно. — Лёша сощурил глаза и сдвинул брови. — Насчёт немца разговор особый. Подумаем и посоветуемся.
— С кем? — спросила Тоня.
— Не знаю Может быть, и найдём советчика Спасибо, Валечка, ты у нас молодчина. И по-немецки разговариваешь?
— Маленько. Тоня выучила. И немцы кругом трещат.
— А я вот по-немецки не умею, — застенчиво сказал Шумавцов. — Неспособный, наверное.
— Ну, уж и неспособный? — протянула Валя. Шумавцов ей понравился, и она решила как-нибудь сказать об этом Шуре Хотеевой.
— А не можешь ли ты, Валя, — обратился к ней опять Лёша, — узнать через своего знакомого немца фамилии девушек, которых привели в ваш дом. Кто они, откуда?
— Не знаю Когда не будет Якоба, переводчика, поспрошаю у Рудольфа.
— Только осторожно, вроде между прочим, — заметила Тоня.
— Понимаю. А если узнаю?
— Передашь Тоне. А мы тебе за это — Алёша хитро сощурился. — Мы тебе сладкого раздобудем.
— Не надо, я не маленькая, — вскинулась Валя, и Шумавцов поспешил успокоить её:
— Я пошутил До леденцов я и сам охоч Ну, Тоня, давай мою коняку, пора ехать.
— До скорой встречи, Лёша.
Арестованные девушки находились в избе Козыревых всю ночь. И всю ночь возле двери в комнату Борхарта и Штенглица стоял автоматчик. Лишь утром, когда девушек увели солдаты, а переводчик Штенглиц, как обычно, с папкой под мышкой ушёл к начальству, Валя про-
скользнула в комнату и, потоптавшись у дЬёри, несмело спросила, не надо ли чего. Борхарт внимательно поглядел на девочку и в свою очередь спросил, не надо ли ей самой поговорить с ним. Валя утвердительно кивнула головой, и Борхарт, чуть усмехаясь, предложил:
— Тогда спрашивай, пока Якоба нет. Ох, и любопытная ты, майне кляйке. Знаешь такое слово — нойгиепиг менч? Не знаешь? Сейчас поясню. — Он взял со стола русско-немецкий словарь, полистал его и воскликнул: — Вот! Лыобопитный тшеловек. Это ты есть льюбопитный.
— Я могу и не спрашивать, — обидчиво заявила Валя.
- Отчего же, спрашивай.
— Две девчонки у вас тут были Они наши, людиновские?
— Я так и знал, — спокойно произнёс Борхарт. — А почему ты спрашиваешь?
— Просто так Ведь наши же, русские.
— Да, да, русские, — задумчиво повторил Борхарт. — Я и сам не знаю, кто они. Сказали, что сёстры. Оля и Маруся. Фамилия — Гороховы. — Рудольф по слогам, с трудом произнёс русскую фамилию. — Но думаю, что у них другая фамилия. Они не людиновские. Сказали, что из Рязани.
— А куда их повели? В сорок восьмой?
— Не понимаю.
— Ну, в вашу канцелярию?
— Да, майне тохтер, в канцелярию.
— Их там будут бить?
Борхарт сморщился и пожал плечами. Да, конечно, ’Тнх девушек, задержанных по подозрению в связях с партизанами, будут ещё много раз допрашивать и бить. Повадки своих сослуживцев Борхарт хорошо знал. Но что мог он сказать этой милой русской девчушке? Соврать? Не поверит. Сказать правду? Какой в этом смысл?
Борхарт встал со стула, подошёл к окну, молча постоял две-три минуты и лишь после этого повернулся и с деланным удивлением спросил:
— Ты ещё здесь?
— Их будут бить? — упрямо повторила Валя.
— Не знаю Ничего не знаю Я их не бил, — тихо и печально сказал Борхарт. — Их отвезут в Брянск, а оттуда, наверное, отправят на работу в Германию. Может быть, им повезёт — Последние слова он сказал не Вале, а себе самому. — Может быть
Девочка с силой сжала кулачонки и со слезами в голосе крикнула по-русски:
— Чтоб вам всем сгореть, подлюги разнесчастные!.. Ненавижу!..
И выбежала из комнаты.
Вечером, нарушив приказ Тони, Валя пришла в дом Хотеевых. Застала Тоню и Шуру. Зина куда-то ушла. Рассказывая о русских девушках Оле и Марусе, Валя еле сдерживала слёзы. Ей всё время чудилось, что из козловского дома — номер сорок восемь — несутся крики и вопли. Но сквозь плотно закрытые окна хотеевского дома слышались только пиликанье немецких губных гармошек да свист ветра. От его порывов крыша, казалось, сейчас сорвётся с места и улетит в непроглядную мглу.
Непогода бушевала, стонала, выла на всё лады. В Людиново пришла ночь.
Глава девятая
«МЕДИЦИНСКАЯ ГРУППА»
Как жить? Этот вопрос волновал не только молодых людиновцев. О «правильной жизни» в тяжёлые дни фашистской оккупации думала не только Мария Кузьминична Вострухина, когда, морщась от боли в ногах, выходила чуть свет с опасным грузом — листовками, спрятанными на дне порыжевшей от времени кошёлки. Этот вопрос задавали себе десятки, сотни жителей маленькою городка, затерянною в Брянских лесах. И каждому хотелось поскорее найти ясный и верный ответ.
Олимпиада Александровна Зарецкая — медицинская сестра Людиновской городской больницы — теперь почти ежевечерне навещала брата — отца Викторина. В душевных разговорах с ним, единственным близким человеком, оставшимся в живых, она нередко получала добрый совет, утешение, а главное, черпала новые силы, которых так не хватало одинокой женщине.
Работа ё больнице тяббтйла её. Никогда раньше Олимпиада Александровна не возвращалась домой такой разбитой и измученной, как сейчас. Немецкое командование установило над медицинским персоналом негласное наблюдение. Каждый шаг, каждый взгляд, каждое слово контролировались. Разговор с больными, затянувшаяся перевязка — Зарецкая работала в хирургическом отделении — всё вызывало подозрение и бралось на заметку. К тому же главный врач больницы, уже немолодой толстый немец в чине майора, пытался заигрывать с медицинскими сёстрами, говорил пошлости и делал недвусмысленные намёки. Самое же противное заключалось в том, что, разоткровенничавшись, он советовал не особенно старательно лечить русских, так как всё равно скоро всем им придёт капут.
На вопрос сестры, как же теперь жить, священник ответил не сразу.
— Как жить, Липа? — Во взгляде Викторина Александровича она прочла что-то незнакомое, глаза брата, всегда приветливые, чуточку смешливые, смотрели испытующе и насторожённо. — Ты помнишь слова, которые я написал тебе на своей фотографии?
— Помню. Ты писал, что верным и полезным своей Родине можно быть под любой оболочкой. Но как, Виктор, как? — Олимпиада Александровна волновалась. Она свела тоненькие ниточки бровей, плотно сжала бледные губы. — Как?
Викторин Александрович опять сделал паузу. Видно было, что он колеблется, раздумывает. Неожиданно сам задал вопрос:
— Ты ещё с кем-нибудь об этом говорила?
— С кем? — пожала плечами Олимпиада. — У нас в больнице невыносимая обстановка. А дома да какой, собственно, сейчас у нас дом! Из квартир повыгоняли. Живём при больнице, почти в палате, одно название, что жилые комнаты. Придёшь — и тут же спать, чтобы хоть во сне забыться.
— И всё-таки, разговаривала с кем-нибудь? — настойчиво допытывался Зарецкий.
— Нет, поверь. Рядом с нами живут три врача — военнопленные Соболев, Евтенко и Хайловский*. Им не до нас, и нам не до них. Запуганные они какие-то. Правда, перенесли много. Соболев ранен в стопу, Евтенко в спину, Хайловский контужен, ничего не слышит. Он еврей и каждый день ждёт, что его заберут и расстреляют.
* Хайловский был арестован гитлеровцами в апреле 1942 г.
— А Клавдия Антоновна Азарова? Ты же с ней дружишь?
Голос брата звучал сдержанно, и Олимпиаде Александровне почудилось какое-то искусственное безразличие в его интонации.
— Да, с Клавой я дружу. Она очень хорошая женщина, отзывчивая, внимательная.
Но почему именно Азарову назвал Викторин? Олимпиада посмотрела на брата, пытаясь прочесть что-либо на его лице. Зарецкий сидел слегка сутулясь, опустив плечи. Свет настольной лампы — брат с сестрой уединились в кабинете — падал прямо на него и оттенял чистый высокий лоб, гладко причёсанные без единой сединки волосы.
— Мне тоже трудно, Липа, — вздохнул Викторин. — К тому же тревожит Нина.
— Зачем ты разрешил ей работать переводчицей у немцев? — раздражённо и зло спросила сестра. Беспокойство о судьбе племянницы как-то сразу отодвинуло личную тревогу ипечаль. — Девочка жизни ещё как следует не видела, всё дома да дома, за твоей спиной, а здесь сразу в пекло. Я поражаюсь тебе, Виктор. Ты бы отговорил её.
— А, знаешь, Липа, ведь это я Нинуське посоветовал идти работать переводчицей.
— Ничего не понимаю, — развела руками Олимпиада. — С какой стати? Зачем?
— Длинный разговор, — улыбнулся Викторин Александрович, — давай перенесём его на другой раз.
— А ты подумал о том, что могут говорить люди. Недаром, мол, Советская власть духовным лицам не доверяет. Не успели немцы прийти, как дочь священника к ним на службу подалась, да ещё переводчицей. Стыдно в глаза будет смотреть, когда наши вернутся.
— Наши вернутся — словно эхо повторил отец Викторин, — это ты правильно сказала, Липа. Наши обязательно вернутся!.. Послушай, сестра. — Голос Зарецкого зазвучал громко, решительно, и Олимпиада Александровна удивлённо вскинула голову. — Ни тебе,
ни мне, никому из нашего рода не придётся краснеть, глядя в глаза русским людям. Потому что никто из нас Родине не изменил и не изменит. А Нина сейчас пои нужном деле, сестра, и упрекать её незачем, хотя девочка сама ведать ничего не ведает и знать ничего не знает.
У Олимпиады Александровны захватило дыхание. Смутные догадки о всём том новом, незнакомом, что незримо вошло в дом брата с первых дней фашистской оккупации, перемены, происшедшие в нём самом, сейчас постепенно обретали в её глазах реальную форму, точный смысл.
— Родной мой. как же ты — начала было Липа, но отец Викторин перебил её. Он продолжал озабоченно:
— Тревожит меня другое. Кружит голову девочке этот прощелыга Митька Иванов, недобитый прихвостень. А она верит ему. Верит в то, что фашистскую форму одел по принуждению, что был ранен партизанами по ошибке. Не в него, дескать, целились. Ловкий, шельма.
— Но ты — отец, обязан раскрыть девочке глаза.
— Я поговорю с ней, обязательно поговорю. Только не сейчас. Надо повременить, — уклончиво ответил Зарецкий и поднялся со стула. — Пойдём пить чай, сестра. Время уже позднее. Как бы по дороге с тобой чего не случилось. Сама знаешь, какие дела сейчас в городе творятся. Пойдём. И прошу тебя, Нинуське ни о чём ни слова, я сам
В этот вечер, возвращаясь домой, Олимпиада Александровна всё время думала о брате. Удивительное дело! Прожив почти всю жизнь бок о бок с ним, она только сегодня и больше сердцем, чем разумом, почувствовала, как мало знает своего Викторина. Или, может быть, война, огромные испытания, выпавшие на долю Родины, так изменили его характер, сделали совсем другим человеком. Может быть. Во всяком случае Олимпиада Александровна сегодня поняла, что её брат уже ответил на вопрос: как жить?
Путь до дома, всегда томительно длинный, показался сегодня совсем коротким. Хорошо знакомые места, повсюду темно, безлюдно. Но темнота и безлюдие мало пугали Олимпиаду Александровну. Она привыкла, сжилась с ними. Куда тревожнее было идти по набережной. Попадались офицеры и солдаты, прохаживались и переругивались полицаи. Из домов, где находились комендатура и полиция, пробивался тусклый свет. Может быть* именно сейчас там допрашивают и пытают советских, людей
Серый зимний рассвет медленно заполз в маленькое оконце. Окрашенные блёклой жёлтой краской стены, скромное убранство делали узкую комнату похожей на келью. Да и сама хозяйка, повязавшая голову косынкой, занятая приготовлением скудного завтрака на керосинке, напоминала монашку. Начинался очередной рабочий день, как две капли воды похожий на вчерашний и позавчерашний. Он не сулил никаких радостей.
Олимпиада Александровна уже привыкла к своим размеренным трудовым будням. Сейчас её даже утешала мысль о том, что она одинока, что не надо тревожиться о ком-то, волноваться за жизнь родных и близких в оккупированном городе. Небольшие радости и большие беды могли коснуться только её самой. И от сознания этого всё становилось проще, легче, понятнее.
Взбудораженность от вчерашнего разговора с братом тоже улеглась, погасла, казалась сейчас внезапной вспышкой огня в густой темноте ночи. Погас огонь, и ночь кажется ещё темнее, ещё мрачнее.
В таком состоянии встретилась она, как обычно, с соседкой Клавдией Антоновной Азаровой. Женщины поздоровались, перекинулись двумя-тремя ничего не значащими фразами и не спеша отправились в больницу.
Клавдия Антоновна никогда не отличалась большой разговорчивостью. Коротко спросит, выслушает ответ, кивнёт головой. И всё. К этому Зарецкая уже привыкла. Однако сегодня, к её удивлению, Азарова заговорила первой. Заговорила несколько взволнованно, сбивчиво и, что самое странное, глядела куда-то в сторону, изменив своей давней привычке открыто и прямо смотреть в глаза собеседнику.
— Знаешь, дорогая, у меня к тебе большая просьба. — Так начался разговор. — Ты имеешь дело с медикаментами. Не сможешь ли изредка откладывать кое-что для меня? Бинты, вату, йод, разные лекарства. Мне очень нужно.
— Зачем, Клава? — невольно вырвалось у Зарецкой. Азарова посмотрела на неё и тут же отвела глаза.
— Нужно! — повторила она ещё раз.
— Но ты же сама
— Конечно. Но мне этого мало.
— Не понимаю. Не собираешься ли ты продавать лекарства?
— А почему бы и нет! — словно обрадовалась Азарова. — Жизнь тяжёлая, продуктов не хватает, а в мешкаментах нужда. Ты же знаешь не хуже меня.
Всё, что говорила сейчас Клавдия Антоновна, было настолько чуждо её честному характеру, взглядам на жизнь, что рассмешило Зарецкую.
— Клава, зачем ты такое возводишь на себя? Как тебе не стыдно. Не хочешь — не говори. Врать-то зачем?
— Я не вру! — вспыхнула та. Лицо её покраснело. — В общем, так. Не можешь — не делай. Я ничего не просила у тебя, ты ничего не слышала.
«Клавдия Антоновна Азарова?» — почему-то именно сейчас, в самую, казалось бы, неподходящую минуту вспомнился вчерашний вопрос брата. Что он имел в виду?.. И что задумала её старая сослуживица, попросившая собирать и приносить ей бинты и лекарства. Спекулировать ими? Какая чепуха. Она ни за что не поверит.
Зарецкая твёрдо решила при первом же удобном случае вновь вернуться к этому разговору.
День ничем не отличался от других. По коридору торопливо, стараясь не попасться на глаза немецкому майору и другим чинам немецкой санитарной службы, проходили больные и сёстры. Они спешили в свои палаты, робко отвечали на вопросы врачей и косили глаза в сторону двери. Лишь бы не появился этот упитанный, жирный немец, особенно любивший «случайно» заглянуть и посидеть, когда врач осматривал молодых женщин. Он не церемонился ни в жестах, ни в выражениях, — этот герр майор, шеф медицины.
Олимпиада Александровна, так и не добившись ответа от Азаровой на вопрос «зачем?», всё же решила выполнить просьбу своей подруги. Три пачки ваты, несколько мотков бинтов, пара пузырьков с йодом и скипидаром, стрептоцид и ещё кое-какие лекарства были бережно упакованы и спрятаны до ухода домой в бельевой шкаф. Сюда мало кто заглядывал. Кому охота копаться в барахле, да ещё в хирургическом отделении.
Бремя подходило к полудню. Усталая, бледная, Зарецкая пристроилась возле окна и, задумавшись, разглядывала почти безлюдную набережную. Как опустел город. Раньше в этот обеденный час, когда затихал зычный гудок на локомобильном, народу было полным-полно: рабочие и служащие шли обедать или выходили на набережную подышать свежим воздухом; по льду гоняли на коньках озорные мальчишки. Слышался смех, а иногда и задорные песни молодёжи. Юность! Ей хотелось громко, во весь голос поведать людям о радостной жизни, о счастье, о вечерней встрече с другом. Счастье, любовь Есть ли они сейчас в Людинове? Сберёг ли кто-нибудь из оставшихся жителей в своём сердце эти чудесные чувства, или захватчики растоптали всё живое, всё светлое, и только страх и тревожная неизвестность руководят ныне всеми поступками и помыслами советских людей.
Нет, не может этого быть!
Голоса и шум за дверью отвлекли Олимпиаду Александровну от её печальных дум. В комнату без стука вошли Соболев и Азарова. У них были бледные, без единой кровинки лица, губы Клавдии Антоновны дрожали. Следом за ними два санитара, рослые, угрюмые парни, внесли носилки.
Спрашивать было незачем — люди научились понимать друг друга без слов, с одного взгляда. Ещё одна жертва палачей. Кого-то истязали, а потом бросили, ушли, и добрые люди, кто знает, может быть родственники или соседи, пытаются спасти избитого, изувеченного, не покорившегося фашистам человека.
Зарецкая молча подошла к носилкам, приподняла простыню и вздрогнула. Окровавленное, обезображенное лицо женщины было удивительно спокойно. Казалось, всё её муки, всё страдания остались уже позади. Пришла избавительница-смерть. Но нет, женщина ещё дышала. Изуродованные губы силились что-то сказать, произнести какое-то имя, но не могли. Всё тело женщины напоминало сплошной багровый комок, кости были переломаны. Такого Олимпиада Александровна ещё не видала.
— Что можно сделать, Лев Михайлович, чем помочь? — спросила она шёпотом, подойдя к Соболеву. Тот покачал головой, развёл руками и ответил тоже тихо:
— Ничем. Сделайте укол, чтобы уменьшить боли. Она почти мертва.
— Кто эта несчастная? За что её так? — Голос Зарецкой дрожал. В эту минуту она позабыла о строгом наказе жирного циничного майора ни о чём не спрашивать, ничем не интересоваться.
— Оля Мартынова, наша учительница из средней школы. Ты её знаешь, Липа. — Клавдия Антоновна говорила громко, медленно. Внешне она казалась спокойнее и сдержаннее всех остальных.
Оля Мартынова! Весёлая, жизнерадостная комсомолка, она совсем недавно отпраздновала свадьбу и почти сразу же проводила мужа на фронт. Простая, общительная, даже в эти тяжёлые дни оккупации, когда фашистский террор, нужда и голод гнули и ломали куда более сильных людей, Ольга всегда находила слова поддержки и ободрения для товарищей, для близких и для незнакомых.
Роковая случайность привела Олю Мартынову к гибели. В полицию к «господину» Двоенко, бежавшему и вернувшемуся в Людиново вместе со своими фашистскими хозяевами, попали расклеенные по городу листовки. Написанные руками комсомольцев, они призывали советских людей не гнуть спины перед захватчиками, помогать партизанам, рассказывали о положении на фронтах. Изучая доставленные в полицию листовки, рваные, мятые, Двоенко узнал на некоторых из них почерк своей бывшей «коллеги» по школе — молодой учительницы Ольги Мартыновой. Радости предателя не было конца. Ещё один «красный» попался, есть что доложить коменданту Бенкендорфу. Только бы узнать и другие имена составителей листовок. Может быть, Мартынова знает Комсомолка, учительница, жена командира, она, возможно, уже снюхалась с партизанами
Двоенко мучительно завидовал Иванову. Того наградили бронзовым крестом — награждение состоялось почти сразу же после возвращения фашистов в Людиново, — и Александр Петрович воспринял это как личную обиду. Уж он ли не старался изо всех сил, угождая начальству, насаждая новые порядки в Людинове, а всё-таки обошли, не посчитались. Сейчас в руках Двоенко был новый козырь — Мартынова, и он смертельно боялся, чтобы учительницу не «перехватил» старший следователь Иванов. А то опять обойдёт молокосос, выскочка.
Поэтому Мартынова не была вызвана в полицию. Поздним вечером к ней пришёл сам Двоенко, «для храбрости» крепко выпивший. Здесь, на квартире, он кричал, топал ногами, зверски бил, ломал руки молодой женщине, но Мартынова с презрением глядела на него и молчала. Освирепевший Двоенко сорвал с молодой женщины платье и в одной рубашке выгнал на улицу. Еле живая, шатаясь от боли н холода, Ольга Мартынова вышла на крыльцо, спустилась по ступенькам и неожиданно, собрав последние силы, повернулась к своему мучителю и крикнула:
— Подлец!.. Холуй!.. Падаль!.. Будь ты проклят!..
Только выстрел в упор заставил замолчать Ольгу. Она упала, а остервеневший Двоенко, склонившись над ней, брызгая слюной и топая ногами, выпускал пулю за пулей Обойма опустела, а он всё ещё лихорадочно нажимал на спусковой крючок.
Когда Мартынову принесли в больницу, жизнь ещё теплилась в её изуродованном и простреленном теле.
Здесь же, в больнице, на глазах у потрясённой Зарецкой и скорбно безмолвной Азаровой перестало биться сердце комсомолки Оли Мартыновой.
Снова пришёл вечер. Па улице разыгралась метель. Мягкий, рыхлый снег устлал землю, и было ясно, что ещё чуточку тепла — и он растает, превратится в грязь, в липкое месиво.
«Как-то наши там, в лесу? Тяжело, небось » Многих из людиновцев тревожила мысль о близких, находившихся сейчас совсем рядом и в то же время бесконечно далеко. Но были и такие, кто мечтал оказаться в эту пору вдали от собственного дома, от родного города, чтобы не видеть позора, унижений, не испытывать гнёта и оскорблений.
— Не могу я, Клава, больше. Готова бежать куда глаза глядят. Нынче мне сердце перевернуло. Знаю, что пропаду, а не сумею сдержаться, выложу всё, как есть, проклятым. Всё, что думаю о них, чего желаю им, извергам.
Олимпиада Александровна шагала по комнате. Всегда спокойная, уравновешенная, она стала нервной, раздражительной, вспыхивала по любому поводу и часто плакала.
Клавдия Антоновна сидела возле стола, грела руки над чайником и внимательно наблюдала за подругой. Когда та говорила особенно громко и зло, Азарова останавливала её, повторяя одни и те же слова:
— Да тише ты, не сходи с ума, истерией и криком делу не поможешь.
Вначале Зарецкая даже не слышала предупреждений подруги. Но вот слова Клавдии Антоновны дошли наконец до её сознания. Олимпиада Александровна остановилась и спросила в упор, не отрывая глаз от Азаровой:
— А чем мы можем помочь? Чем? Ты тоже не знаешь! Ведь, правда, не знаешь?
— - Знаю и помогаю, — последовал неожиданный ответ, заставивший вздрогнуть Зарецкую. — Садись, Липа, и слушай.
Клавдия Антоновна ничего не требовала: ни клятв, ни обещаний. Как самую обыкновенную историю, рассказала она о своей связи с партизанами, о помощи медикаментами и лекарствами, которые ей дважды довелось передать партизанским связным,
— Теперь ты понимаешь смысл моей утренней просьбы, Липа?
— Конечно, родная. И жалею об одном — почём\? раньше ты ни о чём не рассказала мне. Ведь вдвоём куда легче.
— Не торопись, девочка. — Как странно, Азарова всего на несколько лет старше и вдруг назвала Зарецкую девочкой. — Не торопись, — повторила она ещё раз. — Ты видела Мартынову. Её изувечили и убили только за то, что она написала несколько листовок. Наше дело куда опаснее. Мы помогаем партизанам. И в случае чего
— Не надо. Не продолжай, — перебила её Зарецкая. — Я хочу работать, хочу помогать. Я не могу больше прозябать без дела, жить без смысла и цели. Пойми, не могу!
Прижав руки к груди, Олимпиада Александровна умоляюще смотрела на подругу, и та ответила ей понимающим, ласковым взглядом. Он словно говорил: «Я верю тебе. Ну что же, пойдём вместе по трудной и смертельно опасной дороге борьбы с врагом».
Впервые вечер незаметно сменился ночью. Сегодня время пролетело удивительно быстро. Женщины договорились о многом. Какие лекарства и медикаменты отбирать в первую очередь, где прятать до прихода связного. Как вести себя, если возникнут подозрения у немцев — служащих больницы — и как поступить в случае провала
Зарецкая уже полностью овладела собой.
— Такую я тебя люблю, спокойную, рассудительную, уравновешенную. А то посмотрел бы кто-нибудь со стороны: истеричка и только! — улыбнулась Клавдия Антоновна.
— Почти то же самое сказал мне вчера брат. И о тебе спросил, интересовался, дружим ли мы.
Клавдия Антоновна сжала губы и промолчала. Зарецкая поняла, что подруга не хочет продолжать этот разговор.
Утро следующего дня выдалось безветренное и морозное. Под ногами поскрипывал снег. В голубом безоблачном небе нестерпимо ярко горел золотой солнечный диск. Подруги вместе вышли на больничный двор. И словно по уговору ни одна из них не возвращалась к теме, волновавшей обоих. Клавдия Антоновна несла под мышкой маленький свёрток.
Неподалёку от главного корпуса, в месте, хорошо укрытом от постороннего глаза, Азарову окликнул юноша в ватнике и ушанке. Юноша не был знаком Зарецкой. Она невольно залюбовалась его большими серыми глазами и крупным, красиво очерченным ртом.
— Сейчас, Алёша! — негромко отозвалась Клавдия Антоновна и шагнула за угол. Вернулась она очень скоро, но уже без свёртка. Олимпиада Александровна посмотрела на подругу и понимающе кивнула головой.
Глава десятая
ОРЛЯТА РАСПРАВЛЯЮТ КРЫЛЬЯ
Кончалась зима. Прозрачные ледяные сосульки свисали с крыш, падали и рассыпались на мелкие осколки. Ночи ещё были холодными. По утрам тонкие плёнки
льда затягивали лужи. Наступишь — и сотни трещинок, словно морщинки, разбегутся от края до края.
Под лучами ещё не жаркого солнца особенно сиротливо выглядели пепелища на городской окраине, той, что ближе к лесу и к железнодорожной станции Людиново. Немало домов здесь спалили фашисты. Объявили, что дома, мол, сожжены в наказание непослушным. Однако жители знали: немцы боялись партизан. Боялись и создавали «мёртвую зону», чтобы партизанским разведчикам невозможно было пробираться в город. Но враги плохо знали русских людей
В трёх километрах от городской окраины на крохотной полянке, «первооткрывателем» которой был адъютант Золотухина Пётр Суровцев, примостилась неприметная за деревьями избушка, «Петрухина избушка», как прозвали в отряде лесной домик. Когда начала оживать природа, зеленеть земля, когда от зимней стужи следа не осталось и деревья оделись в весеннее убранство, именно в эту пору в «Петрухиной избушке» стали встречаться молодые подпольщики с партизанскими связными, чаще всего с двумя Афанасиями — Посылкиным и Суровцевым.
Под лесным домиком был скрыт глубокий подвал. Взрывчатка, мины, листовки — всё, что приносилось из отряда, хранилось в подвале до тех пор, пока постепенно в рыночных корзинах, мешках и сумках не перекочёвывало в город.
Март — неподходящий месяц для лесных прогулок, и поэтому «посланцы» леса с приветом от Василия Ивановича нередко сами появлялись в Людинове и наведывались в знакомые дома, к проверенным людям. Сегодня «в гости» к Хотеевым пришла партизанская связная комсомолка Капитолина Калинина. Сёстры обрадовались, начали было расспрашивать о житьё-бытьё в лесу, но Капа спешила ц сразу перешла к делу.
— Значит, так, подружки.,. Слушайте меня внимательно Надо собрать сведения об огневых точках в городе и срочно передать в отряд. Товарищ Золотухин очень просил. Повидайтесь с Шумавцовым и обдумайте, как лучше и быстрее сделать. — Капа деловито инструктировала притихших сестёр. Она особенно дружила с Тоней — однолетки! — но, нередко бывая в хотеевском доме, хорошо знала всю семью.
— Хорошо, Алёшу найдём, — заверила Зина.
— Ты сразу из леса? И не боялась? — перебила Шура. Глаза её горели. Девушка с восхищением оглядывала гостью.
— Нет, не боялась, — тряхнула головой Капитолина.
— А как обратно?
— В деревню Косичино подамся, оттуда — в отряд. Места знакомые, не пропаду. — Разведчица озорно прищурилась, но, вспомнив об ответственном задании, снова стала серьёзной и степенной.
— Действуйте осторожно, девочки, что увидите, не записывайте, а запоминайте, а то враз
— Ты что, нас несмышлёнышами считаешь? — обиделась Тоня. — Нет, мы выйдем с блокнотами, с самопишущими ручками, будем ходить вокруг немецких укреплений, вести счёт и записывать Чудная!
— Задание выполним и передадим в срок, так и скажи командиру. Я сама приду в отряд с донесением, — добавила Зина.
— Без Алёши не решай, — запротестовала Шура.
— Ты или кто из нас, но в общем всё будет в порядке. — Тоня сердито глянула на сестру. — Ишь, какая бойкая!
Когда Капитолина, расцеловавшись, ушла и сёстры стали обсуждать, как обстоятельнее и лучше выполнить партизанское поручение? Шура опять напомнила, что надо поскорее встретиться с Шумавцовым и посоветоваться с ним.
— Конечно, ты же шага без Алексея ступить не можешь, — начала было Тоня, но, встретив осуждающий взгляд, рассмеялась. — Я же шучу. Сама понимаю, что без Алёши нельзя начинать.
Последнюю фразу Тоня сказала не зря. К тому времени Шумавцов без какого-либо обсуждения и голосования уже считался старшим, вожаком подпольной комсомольской группы. В группу входили сёстры Хотеевы, Шурик Лясоцкий, братья Апатьевы, Коля Евтеев. Встречи в хотеевском доме стали регулярными. Всё горели желанием приносить пользу. Вынашивались планы, велись взволнованные разговоры. Однако дисциплина и организованность приходили не сразу. Отдельные героические поступки нередко оставались поступками одиночек, смелыми, сопряжёнными подчас со смертельной
опасностью. И совершались они ещё не по воле и приказу подпольной организации, а по зову собственного сердца, полного любви к Родине и ненависти к врагу.
Шумавцов не забыл упрёков Суровцева и Золотухина. Он всё больше понимал, что в одиночку многого не сделать. Дисциплина! Организованность! Конспирация! Вот, что даст силу. Теперь Алёша чувствовал ответственность не только за себя, за любой свой шаг, но и за каждого из друзей, кого он вовлёк в группу.
Кто знает, может быть, будущие историки и исследователи, изучая действия подпольщиков в тылу врага в годы Великой Отечественной войны, назовут начало 1942 года временем рождения Людиновской молодёжной группы. И тогда задание, переданное сёстрам Хотеевым Капитолиной Калининой, станет памятно как один из краеугольных камней, положенных в фундамент боевого подполья.
В датах можно ошибиться. Описания могут быть приблизительными. Но дела молодых патриотов навечно вошли в летопись борьбы советского народа против ненавистных оккупантов. И они, дела эти, важнее и ценнее календарной точности.
Да, подпольная группа уже жила, действовала, боролась. И во главе этой группы стоял комсомолец Алексей Шумавцов, свято выполнявший задания командования партизанского отряда и подпольных райкомов партии и комсомола.
Вечером, после работы на локомобильном, Алёша навестил Хотеевых. Это вечернее посещение не удивило пн соседей, знавших о дружбе Алёши с Шурой, ни тем более Татьяну Дмитриевну. Всегда приветливая, она каждый раз гостеприимно встречала юношу. Никогда ни о чём не спрашивала ни его, ни дочерей, и только глаза этой немолодой женщины, перевидавшей на своём веку много горя, теперь постоянно хранили тревожное, тоскующее выражение.
О задании, полученном от Золотухина, Шумавцову подробно рассказала Тоня.
— Разведать огневые точки? — обрадовался Алексей. — Превосходно. Это настоящее задание. Только всё надо сделать с умом и осторожно. Вот послушайте, девушки
Алексей уже кое-что сам заприметил в городе, запомнил и подробно поделился своими наблюдениями. Он определил маршруты предстоящей разведки и предупредил, что на улице имени Либкнехта, где размещено гестапо, полицаи и эсэсовцы задерживают каждого, кто проявляет хоть малейшее любопытство и кажется подозрительным.
В эту ночь сёстры почти не спали. Ещё бы, первое боевое задание! Решили матери ничего не говорить. Зачем расстраивать? Она и без того каждый день тревожится, ходит, будто потерянная. А утром, чуть забрезжил рассвет, с хозяйственной сумкой первой отправилась в путь Тоня. Очень скоро ушли и Зина с Шурой.
Вернулись почти в одно время, под вечер, обнялись, расцеловались и сразу кинулись к столу. Следовало записать всё, что увидели и до этой минуты берегли в памяти: где стоят орудия, где пулемёты, куда нацелены И ещё одну любопытную деталь «засекла» Шура и записала бисерным почерком на листке ученической тетради: на крышах наиболее высоких людиновских зданий торчат дула зенитных пулемётов. Зоркие глаза девушки углядели даже ствол миномёта, скрытого на колокольне.
Теперь предстояло самое главное — передать собранные разведывательные сведения в партизанский отряд. Ждать, пока кто-нибудь появится из леса, не хотелось, но и найти отряд где-то в районе Косичина не так-то легко. Сёстры пошептались, пошептались и решили: пусть попытается Тоня; она — боевая, знает немецкий, авось проберётся. Алёша возражать не будет.
Тоня собралась спозаранку.
— Ты куда, дочка? — встревоженно спросила Татьяна Дмитриевна.
Всё туда же, мама, — неопределённо ответила Тоня. — Если ночевать не приду, не волнуйся.
- Как же не волноваться? Куда тебя несёт?
— Несёт, мама, несёт, жалко только, что крыльев нет тогда бы
Она чмокнула мать в щёку, помахала рукой сёстрам и вышла. Но уйти из города девушке не удалось. Проплутав весь день, она ни с чем вернулась домой. И здесь не выдержала. Обычно твёрдая, волевая, подтрунивавшая над чужими слабостями, Тоня бросилась на кровать и плача рассказала, что её на каждом шагу преследовали неудачи. Полицаи и немцы вырастали на углах, поворотах, попадались на всём пути. «Откуда их, дьяволов, столько нанесло?.. Будто мухи липли.. От одного патруля отделаюсь, пройду несколько метров — новый патруль, новый полицейский. Уж я и по-русски, и по-немецки, ничто не помогает. А один фриц, на контрольно-пропускном, так тот прямо пригрозил: «Увижу ещё раз — мигом в гестапо отправлю, там объяснишь, зачем и по какому делу из города уходишь». Тоня упрямо мотнула головой.
— Завтра ещё раз попытаюсь. Посты сменятся, может, легче будет.
Измученная, продрогшая, Тоня наконец уснула.
Однако на следующий день вместо Тони в путь отправилась Зина. На этом настоял Шумавцов, чуть свет появившийся в доме Хотеевых.
— Вторично показываться на глаза немцам — безумие, — резонно заявил он. — Это уже не храбрость, а лихачество. Сменятся ли посты и когда, мы не знаем, а играть со смертью в жмурки нечего.
И упрямая, своевольная Тоня подчинилась. Всё, что говорил Шумавцов, звучало убедительно, веско, спорить с ним было трудно даже такой заядлой спорщице, как Тоня.
— Понимаешь, Тоня, — успокаивала сестру Зина, — уж больно ты заметная, и глаза у тебя какие-то особенные, и усмешка с подковыркой. А я повяжусь платочком, надену шубейку старенькую, и получится из меня самая что ни на есть деревенская девчонка, у которой от голода живот подвело, и пошла она барахло на хлеб менять.
— Может, тебе и повезёт, — вздохнула Тоня.
Алёша собрался уходить. Уже прощаясь, он неожиданно начал расспрашивать Шуру, где, на какой колокольне она приметила немецкий миномёт.
— Идём, покажу
Шура накинула пальто и вышла в сени следом за Шумавцовым. Сёстры молчали. Они понимали, что сегодняшняя утренняя прогулка двух влюблённых не носит романтического характера.
Шура вернулась быстро.
— Показала? — спросила Тоня.
— Да. Алёша доволен. А где Зина?
— Ушла. Пройдёт ли только?..
Зина прошла! Прошла «всем чертям назло!..» Когда её останавливали немецкие патрули, ока вытаскивала из кошёлки дешёвый шерстяной отрез, совала его в лицо офицеру и солдатам и, вытирая слёзы, кричала с отчаянием и злостью в голосе:
— Эссен Надо эссен. Поняли? Ферштейн? Мутер голодная.
Немцы смеялись, что-то лопотали и пропускали девушку.
Деревня Косичино по праву считалась частью партизанского края. Огромные дремучие леса подступали здесь вплотную к домам. Немцы сюда не заглядывали. Жители Косичина были тесно связаны с партизанским отрядом, и почти в каждой избе деревни «лесные солдаты» могли найти приют и пищу.
Точно следуя указаниям Калининой, Зинаида Хотеева нашла в деревне нужных людей, а те уж переправили её в штаб партизанского отряда в деревню Волынь. Сведения, собранные сёстрами, следовало не мешкая доставить по назначению. И так потеряны целые сутки
Глухой заброшенный уголок, словно нарочно прикрытый от посторонних глаз, — такова деревня Волынь. Она лежит в стороне от проезжих дорог, кругом лесная чаша, глухомань, поскрипывают стволы деревьев. Кажется, что на многие километры вокруг нет ни живой души. Идёшь, идёшь узкими тропами, перешагиваешь через бурелом — и вдруг неожиданно, как в сказке, дымок над крышами, люди.
Начальник партизанского штаба Саша Алексеев провёл Зину к Золотухину. Однако прочесть крохотный листок бумаги, испещрённый значками, цифрами, начальными буквами и недописанными словами, оказалось им не под силу.
— Знаешь, голубушка, нам кроссворды решать некогда, прочти лучше сама, — предложил Золотухин.
И девушка толково, не спеша, сверяясь с бумажкой, рассказала всё, что разведала вместе с сёстрами: о немецких огневых точках, опорных пунктах, где размещены воинские части и учреждения в Людинове.
Зину слушали внимательно. Когда она кончила, Золотухин не утерпел и полюбопытствовал:
— А если бы тебя задержали немцы, нашли бы листок, спросили бы, что за иероглифы?
— Я бы проглотила бумажку, — не задумываясь ответила Зина.
— Правильно! — одобрил Алексеев. — Не растерялась бы?
— Нет. Знала, на что шла. Ко всему была готова.
— Ишь ты, боевая. — Золотухин довольно хмыкнул и повернулся к Алексееву. — Слушай, штаб, не оставить ли её у нас разведчицей?
— Может, она не захочет? — улыбнулся Алексеев.
— Что вы, я очень хочу! — вырвалось у Зины. — Оставьте меня в отряде, дядечки милые
— Надо говорить: товарищ командир, — раздался голос незаметно вошедшего Суровцева. Словно не замечая смущения девушки, он продолжал, обращаясь к Золотухину и Алексееву. — У меня на Хотееву свои виды есть. Если в отряде останется, быть ей секретарём нашей комсомольской группы. Комсомолка она активная, я её по райкому знаю. Не возражаешь, Зина?
Зина поняла, что вопрос решён: её оставляют в лесу, в отряде.
Спустя сутки советские самолёты уже бомбили вражеские объекты в Людинове. От сброшенных воздушных «подарков» не менее трёх часов горел вещевой склад, были разрушены подъездные пути и железнодорожный состав, гружённый боеприпасами. От «зажигалок» вспыхнуло несколько зданий, где размещались фашисты.
Поздним вечером самолёты налетели снова. К этому часу, как вчера и позавчера, уже пришёл на «огонёк» к Хотеевым Алёша. Остальные ребята задержались, пережидая окончания бомбёжки. В течение всего воздушного налёта сёстры и Шумавцов сидели молча, и только иногда по глухим взрывам Тоня пыталась определить, где упал «подарочек». А когда самолёты отбомбились и улетели, Алёша быстро вскочил с места, обнял поочерёдно Тоню и Шуру и сказал с удивившей их мягкостью:
— Спасибо, девчата. Ведь это по вашему приглашению прилетели.
— Откуда ты знаешь? — усомнилась Тоня.
— Сердце вещее у молодца, — отшутился Алексей.
— А Зины всё нет. Вторые сутки, — уныло протянула Шура. — Не случилось ли чего? Мама места не находит, молчит, крепится, да разве не видно, как переживает?
— Придёт Зина, обязательно придёт! — уверенно сказал Алексей и многозначительно поднял палец, будто указывал на отшумевшее небо. — Наши прилетели, раз-
ве это не лучшее доказательство, что Зина жива, здорова и выполнила задание. Молодчина!
В этот вечер собравшаяся молодёжь впервые услышала большую речь Алексея Шумавцова. Он говорил взволнованно и горячо. Сейчас Алёша находил нужные слова и удачные сравнения, подкреплял их красноречивыми жестами. Сколько искренности и задушевности было в голосе юноши! Всё слушали его зачарованно, боясь шевельнуться и громко вздохнуть. «Вот пришло настоящее дело, — думалось каждому. — Пусть оно, это дело, будет безмерно опасным, трудным, всё равно »
— Партизанский отряд требует от нас сведений, которые нужны Красной Армии. Начало сделано. Но это не всё, ребята. Нельзя давать фрицам покоя. Листовки, поджоги, взрывы — вот наша работа. — Алёша вытер вспотевший лоб. — Ух, и тяжело ораторствовать. И, конечно, товарищи, в первую очередь дисциплина. Чтобы не получилось у нас с вами вроде крыловского квартета: кто куда потянет. Был такой грех и со мной, — признался он. — Помните, рассказывал вам, как с Мишей Цурилиным сожгли немецкий склад и чуть ли не героями себя возомнили. А наши пришли — вызвали меня Василий Иванович и Афанасий Фёдорович да так пропесочили, что я не знал, куда глаза девать. Честное комсомольское!
— Мне кажется, следует подумать о росте нашей группы. — Коля Евтеев снял очки, протёр их, надел снова. — Не надо превращаться в закрытую секту.
— До чего же ты, Николаша, любишь высокопарные выражения, — не утерпела Тоня. — Не говоришь, а изрекаешь, как на кафедре.
Между прочим, на кафедре не изрекают, а говорят и стараются это делать популярнее, учитывая уровень некоторых студентов и студенток.
— По-моему, Николай прав, — поддержал Апагьев. — Молодёжи в нашем городе хоть и немного осталось, но, думаю, у всех одно желание — свернуть гадам головы.
— В таком деле, как наше, ребята, конспирация важнее всего. — Лясоцкий выглядел необычно серьёзным. — Одно дело, Толя, желание, а другое — характер, выдержка. Прежде чем с кем-нибудь говорить о нашей группе, о наших делах, надо человека проверить, из-
учить, так сказать, а то В общем, так, ребята, не в бирюльки играем.
— Шурик прав. И дело, порученное нам, и жизнь каждого беречь надо, — тихо, будто подумала вслух, сказала Шура.
— Правильно, Шура, — подхватил Алексей, — ну, а если найдётся подходящий человек, мы не только с ним, но и о нём должны поговорить, посоветоваться и уж йотом решить.
— Тётя Маруся Вострухина, по-моему, — человек вполне надёжный, — предложила Шура
— Прямо скажем, товарищ не комсомольского возраста, — подал реплику Виктор Атгатьев.
Это неважно, Витя. Возраст тут ни при чём. Мария Кузьминична — человек своп и уже ка деле проверенный. Но сейчас, ребята, дело не в том, чтобы увеличивать нашу подпольную группу. Хватит пока тех. кто есть. Мы ещё сами мало что делаем.
— Так давай, выкладывай свои планы, — предложил Лясоцкий. — За нами дело не станет.
— Размахнулся я, ребята, на многое. — Лицо Шу мавцова стало сосредоточенным. — Сумеем ли только?
— А почему не сумеем? — немедленно откликнулся Коля Евтеев. — Не подведём!.. Хорошо бы фрицев каждый день чем-нибудь угощать.
— Без выходных! — подала реплику Тоня.
— Тогда слушайте!..
Ребята сгрудились вокруг Алёши.
Зина вернулась домой на третьи сутки. По её словам, обратный путь оказался не таким уж сложным. Девушку сёстры встретили радостными возгласами, рассматривали со всех сторон так, будто увидели в ней что-то новое, необычное. А может быть, и впрямь Зина неуловимо изменилась, стала выглядеть старше и строже. Позади — первый и удачный поход в лес, впереди — новая жизнь в партизанском отряде. Семнадцатилетняя девушка как-то сразу повзрослела. Этого не могли не заметить сестры. Только Татьяна Дмитриевна видела в ней свою младшенькую. Она обняла дочку, прижала к груди и шептала тихо-тихо не то ласковые слова, не то благодарственную молитву.
— Насовсем, Зинок? — спросила Шура, словно сердцем учуяла: побудет сестра недолго и вновь уйдёт.
— Куда же ещё? Смотри, как похудела, — вмешалась мать.
— Нет, мамочка, я к вам ненадолго. Скажу по секрету: я теперь партизанка буду в лесу, с нашими. Там хорошо.
Татьяна Дмитриевна охнула и села. Руки её бессильно опустились. Знает она, что дочери и здесь каждый день в обнимку со смертью ходят. Свыклась, что делать! Время военное, каждый, чем может, помогает Родине. Разве она ничего не видит, не понимает? И ежевечерние встречи, и шёпот под гитару. Всё видит, всё понимает мать. Но здесь, дома, на глазах, полегче вроде. А там, в лесу, — холод, ветры, немчура вокруг бродиг. Наслушалась Татьяна Дмитриевна о том, как расправляются фашисты с пойманными партизанами, каким нечеловеческим мукам предают их.
Молчит мать, простая русская женщина, на чьи плечи в трудные годы войны легла тяжёлая участь чаще прощаться, чем встречать. Только губы закусила добела, чтобы не расплакаться, не закричать по-бабьи. Нехорошо, совестно!..
Зинаида Хотеева вернулась в Людиново для выполнения трёх ответственных заданий. Во-первых, ей поручили с помощью сестёр проверить и потом доложить командиру отряда Василию Ивановичу Золотухину результаты налёта на город советской авиации. Во-вторых, нужно было, не медля ни минуты, разыскать семью одного из партизан и предупредить, чтобы всё уходили в Косичино, так как фашисты готовятся расстрелять и старых и малых. Когда перед уходом в Людиново связную вызвал Золотухин, Зина застала у него Суровцева и Алексеева. Командиры отряда говорили об участи, уготованной фашистами этой семье. В разговоре часто упоминалось имя — Ясный. Кто он такой, этот Ясный? И вообще, имя это или чьё-то прозвище, Зина в ту пору не могла догадаться. Одно было понятно девушке: Ясный находится в городе, какими-то путями имеет доступ к немецким документам, и именно он — Ясный — уведомил партизан о беде, надвигающейся на семью партизана.
И, наконец, третье задание Хотеевой дал политрук партизанской разведки, бывший заведующий райздравотделом Афанасий Ильич Посылкин.
Даже за короткое время, за считанные часы пребывания в отряде Зина увидела, какой любовью и уважением пользуется этот человек у партизан. У внешне угрюмого, даже грубоватого Афанасия Ильича, было большое отзывчивое сердце коммуниста. Оно щедро оделяло любовью и заботой товарищей. К Посылкину шли, как к закадычному другу, как к самому близкому человеку.
— Ты, Зинуша, в городе не задерживайся, постарайся управиться за сутки. Я тут тебе ведро с капустой приготовил. В случае чего скажешь, что обменяла на ширпотреб. Поверят. Сейчас многие из горожан по деревням шныряют. Что поделаешь, голодный народ. — Посылкин вздохнул и продолжал. — Придёт к тебе твой старый дружок. Передаст кое-что для отряда. Много не бери, так, самое необходимое. Припрячь как следует — и обратно. В Косичине я тебя сам ждать буду. Ну, как говорится, ни пуха ни пера. Одна нога там, другая — здесь.
В широченной ладони Афанасия Ильича утонула небольшая рука девушки. Зина подняла голову и увидела ласковые глаза Посылкина, ободряюще смотревшие на неё.
«Кое-что», о чём говорил Афанасий Ильич, оказалось медикаментами, а дружок — Алёшей Шумавцовым. Он принёс в дом к Хотеевым свёрток с ватой и всякими таблетками. И снова пригодилось спасительное ведро! На дне уложили бинты, лекарства, сверху насыпали побольше соли, а поверх всего набросали всякого барахлишка: сгодится для обмена.
О результатах воздушной бомбардировки Зине подробно рассказали сёстры. Для большей точности Тоня даже начертила, где, в каких местах и на какие здания упали бомбы. Выходило, что сожжены два склада, несколько служебных помещений, разрушены подъездные пути. Для начала неплохо, будет о чём рассказать Золотухину. Однако когда Зина собралась спрятать в карман сестрин чертёж, Шура энергично запротестовала.
— Зачем рисковать? Ты разведчица и должна всё хранить в памяти. Если, не дай бог, задержат, можно объяснить и соль, и барахло, и даже бинты с лекарствами. Меняешь на продукты. А эти каракули, — Шура кивнула на Тонин чертёж, — смертный приговор. Зачем рисковать? — повторила она.
На этот раз даже Тоня не обиделась и поддержала сестру. Правда, и здесь не удержалась от подковырки.
— Прямо диву даёшься. В собственном доме, на глазах зреет гениальный конспиратор. Под чьим это влиянием, интересно?
Однако сейчас Тонины шпильки мало трогали Шуру. Девушка очень изменилась за последнее время. О своей привязанности к Алёше она уже не стеснялась говорить. Только теперь в её словах всё чаще звучала тревога за друга, такого умного, знающего, до дерзости смелого. Вот, к примеру, история с церковью
— Ты об этом, Зина, обязательно доложи командиру отряда. Помнишь, я рассказала при Алексее о церкви, на колокольне которой заприметила миномёт? Алёша ещё потащил меня, чтобы показала. Так, знаешь, через два дня он, бешеный, взял и поджёг церковь. Видимо, раньше всё подготовил. В общем, церквушка горела, как свеча. Стала я его расспрашивать, а он совершенно серьёзно: Не мог, говорит, стерпеть, чтобы фашистские гады надругались над чувствами верующих. Я, говорит, хоть человек неверующий, но в данном случае заодно с прихожанами.
— Вряд ли Алексей один с этим делом справился, — заметила Тоня.
— Я спрашивала. Молчит. Задание, говорит, выполнено, а кто и как выполнил — несущественно. — Шура огорчённо пожала плечами. Она ещё раньше начала догадываться о том. что кое-какие тайны Алёша хранит даже от неё. Что делать? Значит, так надо.
И снова Зина ушла в лес. Её никто не провожал. Только мать, накинув косынку, долго стояла у калитки и глядела вслед дочери. Глаза Татьяны Дмитриевны были сухими, плотно сжатые губы чуточку вздрагивали.
Зина ушла вовремя. Несколько дней спустя в доме у Хотеевых появились постояльцы. «Незваные гости, ставшие хозяевами», — так с горечью прозвала их Тоня. Немецкий генерал с адъютантом временно поселились в маленьком домике на углу Комсомольской. «Значит, не обманул, точно сказал Рудольф Борхарт», — с признательностью подумала девушка.
Теперь в хотеевском доме всё было подчинено распорядку «гостей», их нраву, желаниям, прихотям. Немецкий офицер, побывавший у Хотеевых незадолго до приезда генерала, придирчиво обследовал помещение, записал, кто живёт, поинтересовался, где находится «шве-стёр». Ему сказали, что Зинаида у одинокой больной бабушки в соседней деревне.
Немецкий генерал — человек ещё сравнительно молодой и неглупый — с первых же дней попытался установить нечто вроде «дружеского контакта» с хозяйками. Он держался корректно, просто, вечерами приглашал на «рюсский чай», был словоохотлив и изображал этакого добряка с широкой натурой.
Тоня неплохо владела немецким языком, генерал ни слова не понимал по-русски. Стройная, хорошенькая девушка явно заинтересовала фашиста, и он старался дольше и чаще находиться в её компании. В обращении генерал был сдержан, не позволял себе фамильярности.
Узнав, что Тоня — студентка московского института, он стал часто говорить о предстоящей встрече с нею в Москве, «которая будет взята очень скоро». Немец знал Москву, так как, с его слов, короткое время служил в аппарате военного атташе германского посольства в СССР. Тогда он бывал в музеях советской столицы, в театрах, посещал стадионы, знал наперечёт всё рестораны. Пожалуй, именно это заявление «гостя» явилось последней каплей, послужило поводом для «взрыва» и бурной реакции девушки. Позабыв всякую осторожность, Тоня, что называется, стала отводить душу. Не меняя выражения лица, с кокетливой улыбкой, она на приглашение в скором времени отужинать вместе в «Метрополе» отвечала: «Черви в твоей могиле будут ужинать, гад ползучий » Рассказывая о своих прогулках и поездках по Москве, об исторических памятниках Подмосковья, о красоте и полноводности Москвы-реки, генерал никак не мог догадаться, что внимательно слушавшая его очаровательная фрейлейн, улыбаясь, сожалеет, что он «свинья неблагодарная, поправшая русское гостеприимство», не утонул в этой самой полноводной реке, а ещё бы лучше захлебнулся в водосточном стоке на Яузе.
Шура и Татьяна Дмитриевна несколько раз присутствовали при подобных «любезных» разговорах. Они приходили в ужас от всего, что слышали, но им ничего не оставалось делать, как улыбаться и кивать головой в знак согласия.
— Я скажу Алёше. Ты что безобразничаешь? — разъярённо шептала Шура, оставаясь наедине с сестрой.
В ответ Тоня махала рукой и продолжала своё. Она чувствовала облегчение, ругая немца Она не могла поступать иначе. Её переполняла ненависть к лощёному, до наглости самоуверенному фашисту, каким был их недолгий постоялец.
Уже спустя некоторое время на одной из сходок подпольной группы Коля Евтеев, узнав о «похождениях» Тони, философически заметил, что безрассудство не адекватно смелости. Любил Коля мудрёные выражения, но даже в этот момент по лицу своего сурового друга Тоня догадалась, что он сочувствует, понимает её и, кто знает, может, сам поступил бы так же.
День за днём, месяц за месяцем. Как удивительно замедлился шаг времени. Раньше, бывало, до войны сутки, недели пролетали незаметно. Вот оно, начало лета! Возвращение друзей на каникулы в гадкой город. Песни, прогулки. Споры о всём виденном, слышанном, пережитом. Вспыхивали старые привязанности, взрослели ребята, влюблялись. До чего же хороши вечерние встречи у озера Поцелуи, шёпот, признания Весенняя теплынь сменялась летним зноем. Косые дожди и ветреные ночи, в свою очередь, сменяли июльский зной. Время торопилось. Зачем? Почему? Кто его гнал? А жёлтые листья уже кружили в воздухе. Потом разъезжались друзья, и нежные переборы гитары неслись не с берегов озера, не из леса, а из окон квартир. Здесь теплее, уютнее, приветливее
В дни фашистской оккупации бег времени сменился медленным шагом. День за днём, неделя за неделей, месяц за месяцем. На смену холодным вьюжным дням 1942 года пришла ветреная, сырая пора. И. наконец, словно растаяли в небе облака, потоки жарких солнечных лучей высушили землю, согнали с неё остатки снега и мокроти и утвердили весну. Нерадостную весну второго года войны.
И всё же люднновские подпольщики радовались. Весной и летом лучше держать связь с партизанским отрядом. «Петрухинская изба» стала всё больше обживаться. Заглядывали в неё «невзначай», не чаще одного раза в неделю, и находили гостинцы: листовки, взрывчатку, мины. А иногда поджидали друзей из города и партизанские посланцы — Афанасий или Пётр Суровцевы, чаще других — Посылкин В такие дни встречи затягивались. Комсомольцам хотелось узнать многое: что слышно, какие вести из Москвы, открылся ли наконец второй фронт, чем насолил немцам отряд
Зорче, опытнее становились молодые подпольщики. Опасная работа, которой они посвятили свою жизнь, накладывала отпечаток на их лица, манеры, поведение. Гитарист Толя Апатьев сейчас нехотя, только по крайней необходимости, брался за инструмент; перестал смеяться Шурик Лясоцкий; прекратились «мудрствования» Коли Евтеева и колкости Тони Хотеевой. Среди ребят возникла атмосфера строгой, нерушимой дружбы и бережного отношения друг к другу. Такое рождается у фронтовиков, привыкших открыто смотреть в глаза смерти и умеющих ценить локоть боевого друга, брата, соратника.
Тем временем на «текущем счету» подпольщиков-комсомольцев уже накопилось немало разведывательных «прогулок» и диверсионных операций. Трудно было в скромном, чуть угловатом, молчаливом электромонтёре Анатолии Апатьеве разгадать дерзкого, бесстрашного диверсанта и минёра.
— Осторожнее, Толька. Ты что-то чересчур вольно со смертью себя держишь. Она, старушенция, ядовитая, — много раз предостерегал друга Алексей.
— Мы с ней на ты, Лёша, не тревожься. Я вроде как поставщик адского двора её величества. — Анатолий лихо сдвигал на затылок кепку и отправлялся по своим «электромонтерским делам». А спустя некоторое время из-за короткого замыкания полыхал пожар в бане, и немцы не досчитывались ещё одного бельевого склада для своих солдат.
Сообщая Шумавцов у о выполненном задании, Апатьев каждый раз заканчивал шуткой:
Всё в порядке, Алёша. Вольтова дуга на Советскую власть сработала. Нормально!
С такой же спокойной уверенностью и знанием дела юноша заложил мину на дороге недалеко от леса. Почти на глазах у прохожих сделал всё необходимые приготовления и ушёл, а вскоре на мине подорвалась штабная немецкая машина с двумя офицерами.
Встретившись вечером с Лясоцким, Толя обнял друга и шепнул ему:
— Сравнялись?
Шурик молча кивнул головой. Он понял. Два дня назад на подъёме улицы имени Войкова он тоже установил мину. Немецкая машина с боеприпасами взлетела на воздух с таким оглушительным грохотом, что, казалось, на город свалилась самая мощная бомба. Примчавшиеся на улицу Войкова гестаповцы и русские полицаи во главе с Ивановым долго не могли подойти к догоравшей машине, так как в ней непрерывно рвались и, свистя, разлетались во всё стороны осколки мин и ручных гранат.
Когда машина догорела, солдаты и полицейские начали выгонять жителей из домов и собирать их небольшими группами на обочинах дорог. Женщины, дети, старики жались перепуганные друг к другу, перешёптывались. Многим казалось, что сейчас, сию минуту их начнут расстреливать. Кто-то громко закричал, кто-то всхлипнул. Маленькая белокурая девочка со светло-голубыми, как у куклы, глазами, громко плакала и размазывала по щекам слёзы. Но немцы не стреляли. Они стали гонять жителей по дорогам, взад-вперёд, взад-вперёд.
Приказ Бенкендорфа был лаконичен и ясен: взрослым и несовершеннолетним жителям Людинова своими ногами протоптать всё городские дороги, а также окраины леса. Комендант расчётливо и безжалостно решил: если ещё сохранились опасные участки, мины взорвутся под ногами русских. Так лучше.
Целый день измученные люди брели по дорогам. Потом их поворачивали и гнали назад. В одной из групп находились Хотеевы, сестра Толи Апатьева — Рая и ещё многие родственники и друзья подпольщиков.
Печальное шествие видели Шумавцов и его товарищи. Работающих немцы не трогали, берегли. Закусив губы и сжав кулаки, комсомольцы вглядывались в лица бредущих. Читали в нйх скорбь, затаённую ярость И молча провожали глазами. Но друзья были спокойны: мин на дорогах в то время не было.
Прошла неделя, и «партизанский гостинец» — совсем небольшая противопехотная мина с картонным капсюлем и бертолеткой с серной кислотой (чтобы миноискатели не обнаружили), поставленная Колей Евтеевым на улице Ленина, отправила на тот свет ещё несколько фашистов. Орлята продолжали начатое дело.
Однажды в воскресный день, встретившись с Шурой, Алёша пожаловался:
— Мы с тобой в делах да в трудах совсем друг от друга отвыкать стали.
Юноша бесхитростно сказал то, что уже давно томило девушку. Гордая и самолюбивая, Шура понимала, какую тяжёлую ношу взвалил на свои плечи её друг — руководитель комсомольского подполья. Разумом понимала, а сердце печалилось. Обычно Шура сохраняла безразличный и независимый вид, но сейчас, когда об этом первым заговорил Алёша, девушка не выдержала, прижалась к нему и взволнованно прошептала:
— Тяжело мне, ой как тяжело. И за тебя и за всех наших тревожусь. Как ночь придёт, покоя не нахожу. И ты какой-то стал
— Какой?
— Непохожий на себя.
— Всё мы изменились, родная. Может, недолго ждать осталось, тогда опять посмеёмся, погуляем, на велосипедах покатаемся.
— Опять молодыми станем?
— Точно!
Алёша рассказал Шуре, что недавно встретил двух хулиганов, которые когда-то приставали к ним. Сейчас они стали полицаями, но Алексея не узнали, хотя и встретились с ним лицом к лицу.
— Отребье продажное, один к одному: Иванов, Двоенко, бандиты с большой дороги. Перестрелять бы проклятых! — вырвалось у девушки.
— Всему свой черёд, до всех доберёмся, — уверенно пообещал Алексей.
Они медленно шли по улице, держась за руки. Встречавшиеся немецкие солдаты и полицаи бросали в их адрес грубые шутки. Каждый раз, услыхав остроту, Шура Вздрагивала, хотела выдернуть руку, но Алёша тИхо говорил: — Не надо! — и она успокаивалась. Уже далеко от дома Шумавцов предупредил деловито и сдержанно:
— Я начертил схему противовоздушной обороны города. Получил задание. Надо проверить, не ошибся ли в чём Поможешь?
— Конечно. Что я должна делать?
— Гулять со мной.
И они ходили час за часом, всё так же держась за руки. Иногда Алёша обнимал Шуру за плечи, громко смеясь, говорил о чём-то вздорном, смешном, а зоркие глаза обоих тем временем отмечали всё нужное, каждую деталь, каждую мелочь.
Когда Шура вернулась домой, Тони ещё не было. Мать сказала, что, одевшись похуже, повязавшись косынкой, Тонюшка спозаранку ушла из Людинова. Куда, зачем? Спросить было некого. Мучительно потянулось время. Часы-ходики стучали, щёлкали. Пять, шесть, семь, восемь вечера. Уже сумеречные тени легли на землю. Долог июльский день, но и ему на смену пришёл вечер. Где Тоня? Как же так: ушла, ничего не сказав
Сестра вернулась в десятом часу. Больше тридцати километров прошла она за день. Оказывается, ещё вчера в «Петрухиной избушке» Тоня и Шумавцов встретились с Посылкиным и Зиной. Афанасий Ильич передал комсомольцам задание, полученное партизанами из штаба фронта: перепроверить данные армейской разведки о резервах противника, наступавшего на станцию Фаянсовая. Было решено, что в немецкий тыл, в деревню Мокрое, отправится Тоня.
— Девушке сподручнее: не так будет в глаза бросаться, — согласился Посылкин.
Свой поход, чтобы не тревожить, не пугать, Тоня скрыла от Шуры. Ничего не сказал подруге и Алёша. Это, конечно, огорчило Шуру и одновременно наполнило благодарностью. «Беспокоятся, берегут »
Тоня Хотеева задание выполнила. Полученные и переданные ею сведения совпали, а кое в чём даже дополнили данные армейской разведки. Станция Фаянсовая вскоре была отбита у врага.
- — А мне Алёша ничего не говорил о вчерашнем, — вырвалось у Шуры, когда она прослушала рассказ сестры. Шура сидела за столом, подперев ладонями подбородок, и смотрела в окно, за которым густела вечерняя тьма.
Ответ прозвучал несколько неожиданно:
— Алексей — замечательный парень. Помяни моё слово, сестрёнка, со временем он станет большим человеком. — Тоня, обычно скупая на похвалы, даже приподнялась на локтях — она отдыхала на диване — и пристально посмотрела на сестру. — Я всё чаще задумываюсь, — продолжала она, — откуда у провинциального паренька, — не морщись, пожалуйста, наше Людиново не ахти какой город! - - столько выдержки, дальновидности, ума и опыта.
— Ты наговоришь
— Нет, нет, это действительно так. Если бы сейчас здесь был Николай, он наверняка процитировал бы какую-нибудь мудрость, вроде война родит героев или тому подобное. А по-моему, партия, комсомол, вся наша жизнь воспитывают таких, как Алёша.
— Таких, как Алёша, — повторила Шура. — Ты права. Значит, и мы с тобой, и Толя, и Шурик, и тётя Маруся — всё чего-то стоим.
Сочтёмся славою, ведь мы свои же люди. Пускай нам общим памятником будет построенный в боях социализм — продекламировала вместо ответа Тоня. — А в общем — ты счастливая, — внезапно заключила она.
— Почему?
— Счастливая — и точка. А теперь не мешай спать. Я устала, и ноги гудят.
Стало уже совсем темно. За стеной в соседней комнате хозяйничала Татьяна Дмитриевна.
Глава одиннадцатая
В ЛЕСАХ БРЯНСКИХ
Густы и необозримы леса Брянские. Наезжему человеку покажется страшной их бескрайняя чаща, колдовская мрачность и унылый, неумолкающий шелест и скрип могучих деревьев.
Жутко, боязно! Но люди, выросшие в этих местах, любят и понимают лесной говор. Для них лес — друг, союзник, кормилец. Словно открытую книгу читают они лесную жизнь. Читают по свежим следам на глухих тропках, по извилинам и трещинам на древесной коре, по протокам и ручейкам, по примятым листьям и высокой траве. И так уже издавна повелось на Руси, что в трудные дни, когда одолевает враг, лес открывает свои потайные места людям. Уходят они в его глубины, набираются там сил, в дерзких вылазках бьют врага, изматывают его внезапными налётами, перемалывают живую силу, уничтожают запасы, технику, добывают «языков».
В августе 1941 года, когда фашистские полчища находились ещё далеко от Людинова, по заданию Орловского обкома ВКП(б) Людиновский райком партии уже загодя готовил партизанский отряд. Будущие лесные жители тайно переправляли к месту своего партизанского лагеря выданные им скудные боеприпасы, продовольствие, средства связи. Крохотным, обжитым и неприступным островком должен был стать этот лагерь на огромной, многокилометровой территории лесного массива.
Четвёртого октября 1941 года в полупустых землянках первые партизаны, главным образом рабочие локомобильного и чугунолитейного заводов и людиновский партийный и комсомольский актив, «отпраздновали» своё новоселье.
Время до января сорок второго года было временем накопления сил, изучения основ трудной партизанской войны. Люди ходили в разведки, добывали сведения, нужные для армейского командования, оружие. Иногда нападали на фашистские патрули и отряды карателей. Ударной группой руководил Иван Ящерицын. Ему — человеку спокойному и отважному — командование поручило эти первые боевые дела. Со своими «ударниками» он появлялся то там, то тут и всюду оставлял на земле сожжённые немецкие повозки, грузовики и трупы в серо-зелёных шинелях.
В эти дни немало славных подвигов совершали женщины-партизанки. В необычных условиях лесной жизни они делали всё, чтобы бойцам отряда было чуточку легче жить и воевать. Питание, стирка белья, первая медицинская помощь — всё лежало на женских плечах. А бывало и так, что командир отряда Давал «боевое задание. И тогда отправлялась в опасный путь Аня Егоренкова, крепко обняв на прощание мужа — Сашу Алексеева. Повязавшись платком, в кургузой кацавейке шла в соседние, примыкавшие к лесу деревни Зоя Ковалёва. Уходя знала: внимательно и долго смотрит вслед не проронивший ни слова при расставании муж — Ваня Ящерицын.
Пряхина, Калинина и другие партизанки-разведчицы и бойцы Людиновского отряда также показали себя стойкими, бесстрашными, терпеливыми воинами. Они делили всё невзгоды, опасности жизни вместе с остальными партизанами, мужали, крепли и не уступали им ни в чём.
С середины января 1942 года, когда после кратковременного возвращения в Людиново партизаны вновь ушли в леса, началась по-настоящему боевая жизнь партизанского отряда.
Василий Иванович Золотухин оказался «трудным? командиром. Прав был Иван Ящерицын, когда с треногой говорил своему другу Афанасию Посылкииу о слабинках и недостатках будущего партизанского вожака. «Кремнёвый» характер командира в условиях партизанской войны был очень кстати, если бы не разъедала этот характер ржавчина: мнительность, недоверие к людям, излишняя подозрительность и ненужная резкость в обращении. И так уже получалось, что нередко достоинства Василия Ивановича Золотухина, бывшего оперуполномоченного райотдела НКВД — его преданность, упорство, смекалку — с лихвой перекрывала эта «ржавчин-Ъ Из-за неё многие партизаны сторонились командира: до любому делу шли к отрядному комиссару Афанасию Оровцеву, к политруку разведки Афанасию Посылкин,, подолгу душевно беседовали с Коротковым, Алеквым, Ящерицыным, подрывником Иваном Никаноровичем Стефашиным — бывшим инструктором Людиновского райкома партии. И только по крайней необходимости заглядывали в землянку Василия Ивановича.
Афанасий Суровцев — среднего роста, рыжеватый, в очках, в дублёной шубе и шапке-малахае — был человеком сдержанным и спокойным, но иногда и он распалялся до крайности, разговаривая с Золотухиным. В такие минуты он зло сбрасывал шубу, швырял оземь шапку и,
шмыгая носом чаще обычного, — была такая привычка у комиссара, — выговаривал:
— Ты родом чей?.. Графский, княжеский или из рабочего класса вышел?..
— Сам знаешь, чего спрашиваешь, — гудел Золотухин и прятал глаза.
— Так откуда в тебе спесь барская? Почему людей не уважаешь? Словам их не веришь? Кроме окрика, другого подхода не имеешь.
— Пойми, Афанасий, время военное, кругом враги. Может, среди нас фашистские лазутчики, вражья агентура
— Может, какой сукин сын и объявится, — соглашался комиссар. — Так мы же людей изучаем, приглядываемся. Но нельзя недоверие в принцип возводить. Мало в тебе, Василий, любви к людям, вот что я тебе скажу. Народ добровольно пришёл с врагом за Родину биться, от дома оторвался, близких оставил, а ты одним махом — агентура, лазутчики.
— - Всякое бывает, комиссар, — устало и нехотя возражал Золотухин. Опустив большую голову, он тяжело и трудно думал. Командир понимал, что комиссар во многом прав. Разве раньше в его работе оперуполномоченного НКВД не бывало так, что подозрительность подменяла подлинную бдительность, а честный, преданный человек оценивался как предатель, враг. Бывало, чего греха таить.
Ладно, Афанасий. Я же не со зла. Учту, продумаю. Давай потолкуем о делах отрядных.
Так или примерно так заканчивались подобные стычки между командиром партизанского отряда Золотухиным и комиссаром Суровцевым.
А тем временем партизанский отряд множил свои боевые успехи. И хотя не всегда всё ладно складывалось — были и столкновения характеров, и взаимные попрёки, и ругань из-за нехватки еды, патронов, медикаментов или из-за грубости и резкости командира, — всё же благородное чувство патриотизма было главным в делах и помыслах партизанских.
В конце февраля 1942 года партизаны-людиновцы в районе деревни Мосеевка «попробовали» свои силы в открытом бою с фашистами
Получив задание заминировать шоссейную дорогу, группа партизан под командованием Владимира Короткова и Ивана Ящерицына двинулась в путь.
Ночные переходы, безмолвие зимнего словцо задремавшего леса стали уже привычными для большинства бойцов, и всё же торжественная тишина природы невольно трогала и тревожила сердца. Иван Вострухин шёл рядом с молодым партизаном Мишей Стеггичевым. «Из молодых, да ранний», — ласково отзывался о Мише командир группы Ящерицын. И действительно, атлетически сложённый шестнадцатилетний юноша обладал не только физической силой былинного богатыря, но был не по летам рассудителен, нетороплив и уравновешен. Ещё недавно он по-мальчишески резвился вместе со своими сверстниками, как и положено в его возрасте. Война отняла у Миши юность. Фашисты в Людинове убили его отца, и мальчик перестал быть мальчиком. Ненависть к врагу заполнила сердце сына. С клятвой о мести он засыпал, с единственным желанием воевать, бить фашистов сегодня, завтра, каждый день просыпался по утрам. Таким Миша пришёл в отряд, — еле уговорил, чтобы приняли. Таким и оставался в нём.
Бывший директор Дома пионеров, секретарь райкома комсомола Иван Ящерицын с первых дней внимательно приглядывался к молодому партизану, подолгу беседовал с ним. И постепенно сумел обуздать мальчишескую безрассудную горячность. Иван Михайлович часто говорил Мише:
— Ты хочешь мстить врагу? Превосходно! Мы ’ хотим того же. Но мстить, а по-нашему, воевать нягюмом, с толком и рассудительностью.
Прошло совсем немного времени, и Ящерицын предупредил Степичева:
— Слушай, друг, я беру тебя в свою группу. Здесь тебе уж наверняка понадобятся выдержка, хладнокровие, спокойствие. Иначе ты и себя и товарищей погубишь.
И Миша менялся на глазах. Безгранично преданный командиру, он точно выполнял его задания, превращался в образцового воина — дисциплинированного, смелого. Сейчас, идя на боевое задание, юноша нёс на плече трофейный ручной пулемёт, внимательно вглядывался в ночную темноту леса и слушал приглушённый говорок Вострухина.
— Стою, значит, я на часах на почте. Поглядываю, что к чему, в общем, держусь как полагается часовому. Вижу, что-то засуматошилось на улице, вроде выстрелы ближе стали. А мне ни к чему Моё дело охранять — и точка. Вдруг Петька, адъютант командирский, бегет кричит: «Ты что, чёрт старый, здесь делаешь?» Я ему: «Уйди, — приказываю.- -Какое такое ты право имеешь часового оскорблять». Ружьё на изготовку взял. А он своё: «Махай отсюда, дьявол, немцы в городе. Наши в лес подались, обратно». Сказал — и дёру. А я в сомнении остался. Может, сбалагурил, а за уход с поста, знаешь, как пропесочат. Стою, размышляю, пока с поворота улицы немецкие мотоциклисты не повыскакивали. Ну, думаю, ждать смены не придётся. Айда, Ваня, пока цел. Задами к дому подался. Обождал малость — и в лес. Вот ведь какое бывает Вострухин решил рассказать Мише ещё об одном происшествии, приключившемся с ним уже по дороге в лагерь, но прозвучала негромкая команда Короткова. Партчаны подходили к месту минирования.
Свевременно и точно выполнив задание, Коротков вместе с боевой группой направился в Мосеевку. Однако здесь их ожидал «сюрприз». Староста деревни Герасим Зайцев, партизанский «маяк», только что вернулся из Людпнова. В комендатуре он получил приказ подготовить ночлег и пищу для отряда карателей, которые должны были прибыть в деревню ранним утром. Объяснение простое: немцы обнаружили партизанскую базу и решили расправиться с «бандитами». Но если гитлеровцев потрепать у Мосеевки, может быть, они дальше не сунутся. Кооме того, «усач» — так прозвали Зайцева за большие пушистые усы — слыхал, что немцы готовят наступление на Букань. Не устроить ли здесь засаду, чтобы фашисты запаниковали?
Не менее часа советовались командиры: как поступить? Незаметно сняться и уходить в лес или принять бой? Конечно, карателей прибудет немало. Но в группе имеется несколько пулемётов. Ребята лихие, хорошо вооружены. Важен и элемент внезапности, его тоже нельзя сбрасывать со счёта. Надо только умеючи расположить людей, так, чтобы простреливалась вся дорога н немецкая колонна оказалась в огневом полукольце. На этом и порешили. До рассвета Коротков и Яшерицьш осмотрели всё укрытия, развели на места бойцов, проинструктировали каждого.
Перед селом во рву залегли пулемётчик и три автоматчика.. На левый фланг, со стороны деревни Ромаиовки, Коротков тоже послал опытного пулемётчика Пряхина с двумя автоматчиками. В крайних избах и сараях Мосеевки замаскировались с двумя пулемётами Федотов и Степичев, а рядом с ними — командиры Коротков и Ящерицын. Остальные бойцы залегли за деревьями.
Рассвет выдался тусклый, поздний. Свинцовые облака почти не пропускали солнечных лучей. Лес казался сплошным чёрным пятном, окутанным лёгкой дымкой сероватого тумана.
Немецкий отряд, появившийся на дороге, напоминал длинное тело огромной толстой змеи. Змея подползала всё ближе, ближе. Теперь отчётливо стали видны лица солдат, машины с миномётами
Карателей было не меньше двухсот. По десятку на человека, подумал Ящерицын, лежавший рядом со Степичевым. Всем партизанам приказали подпустить вражеских солдат на сто метров, и по сигналу Короткова открыть огонь со всех сторон. Партизаны, несмотря на «боевую молодость», проявили удивительную выдержку и хладнокровие. Они не дрогнули и не нарушили приказа даже тогда, когда каратели неожиданно на ходу начали стрельбу из автоматов и миномётов, потом побежали к деревне.
— Психи, гады, на господа берут, — пробормотал Вострухин, не отрывая глаз от бегущих немцев и ещё плотнее вдавливая тело в обрыхлевший снег.
Считанные секунды перед боем Одна, две, три.. Осталось триста двести метров.
— Иван Михайлович, пора! — Ящерицын слышал шёпот Миши Степичева, видел его поблёскивающие от возбуждения глаза из-под низко надвинутого танкового шлема. Миша добыл шлем в одной из атак и не расставался с ним.
— Обожди обожди — в ответ прошептал Ящерицын.
Снова томительные секунды. Пора!..
— Бей!.. — И сразу же в руках Степичева задрожал, выбрасывая красные струи, пулемёт. Теперь залпы загремели со всех сторон: из-за укрытий, с чердаков, из
сараев. Партизаны расстреливали в упор наступавших гитлеровцев, и те падали, падали, оглашая лес громкими лающими криками, зарывались в снег и ползли в гущу леса, пытаясь спастись от этих «руссише партизанен».
В короткий срок не менее сотни немцев закончили свой поход на Восток в снегу возле маленькой деревеньки Мосеевка.
Но бой продолжался. Пронзительно, надрывно загудели, засвистели, заныли над головами партизан снаряды и мины, заговорила фашистская артиллерия. Однако она опоздала. Горели избы, сараи, а партизаны, подобравшиеся почти вплотную к орудийной прислуге, точно и методично уничтожали её. Всё больше трупов чернело на побуревшем от крови снегу.
В горячке боя никто сначала не заметил, что ранен командир группы Коротков. Он подполз к простреленному фашистской пулей партизану Федотову и, опустив пылающую голову, шептал:
— Так их, гадов Так их
— Слушай мою команду! — крикнул Яшерииын Он приказал Степичеву продолжать огонь, а остальным бойцам стягиваться к крайней избе для отхода в лес.
— Есть! — ответил Степичев и вдруг свирепо выругался. Немецкая пуля ударила в ребристый шлем и сорвала его с головы Миши. — Ну держитесь!.. — И Степичев, не слыша собственного голоса, с силой нажал на гашетки. Пулемёт в его больших руках ходил ходуном.
Спустя три часа партизанская группа, унося раненых, отходила в лес. Вместе с ней уходили и всё жители Мосеевки. После сегодняшнего разгрома отряда карателей следовало ждать немедленных жестоких репрессий обозлённого немецкого командования. Оставаться в деревне — значило обречь себя на верную смерть.
Опустела Мосеевка. Догорали отдельные избы. Одинокие, беспризорные собаки рыскали между развалин и жалобно выли, задрав морды.
Однако на базу уходила не вся ударная группа. Продолжат выполнять ппиказ, партизаны под командованием Яшерииына выбили немцев из глухого лесного села Куява, неподалёку от Косичина. Здесь они закрепились и держали оборону вплоть до июня 1942 года.
Рядом мирно журчала с детства знакомая река Болва, неподалёку за линией фронта располагались советские дивизии, а здесь, на маленьком клочке советской земли, горстка партизан отбивала атаки немцев и не давала им возможности пробраться к реке и форсировать двухсотметровый водный рубеж.
Шло время. Людиновский партизанский отряд жил напряжённой и трудной жизнью. Не проходило дня без стычек и перестрелок с вражескими патрулями и разведывательными группами. В своих донесениях, передаваемых через связных Хотееву, Пряхину, Калинину и Ковалёву, людиновские подпольщики подробно информировали Золотухина о передвижениях немецких войск,
0 подходе подкреплений, о строительстве дзотов, укреплений, новых линий обороны.
« Немцы в Людинове строят линию обороны. Она тянется от лесопилки вдоль линии до Псурского, а возможно, и дальше моста. На это строительство фашистские сволочи ломают наши дома »
« За улицей Свердлова в лесу, по обеим сторонам Ржевской дороги, 500 метров от улицы, на протяжении
1 км стоит большое количество неприятельских машин. Приблизительно около 100 — 120. Имеется также и 5 — 6 пушек среднего калибра, пулемёт и живая сила противника. Прекрасное место для бомбёжки, товарищ командир!»
«На этом чертеже представлено расположение вражеских войск около Псурского моста по ж. д.».
Таких «весточек» было немало. На большинстве из них в конце значилось: «Орёл». Так подписывал донесения Алёша Шумавцов. В конце некоторых стояла подпись «Ясный». Партизанский «маяк», почти никому не известный в Людинове, изо дня в день также вёл свою разведывательную работу.
« Обоз в сопровождении 70 человек будет к вечеру около Сукремля. Примите меры. «Ясный».
И партизаны совершают налёт, уничтожают охрану, отбивают немецкие подводы с грузами.
« Готовится переброска значительных сил на Жиздру».
Это сообщение было немедленно передано по рации армейскому командованию. Оттуда последовал ответ - «Разведать и уточнить».
В разведку отправились двое: Михаил Степичев и Николай Андрианов.
— Не молод ли? — Золотухин поначалу скептически отнёсся к кандидатуре Степичева, но заместитель по разведке Владимир Коротков, только что оправившийся после ранения под Мосеевкой, знал людей не хуже командира отряда и умел настоять на своём.
— Если бы вы, Василий Иванович, хоть разок побывали в деле с этим пареньком, увидели его в бою или в разведке, вы бы не задали такого вопроса.- — Решительнее и точнее трудно было ответить, и Золотухин согласно кивнул головой:
— Действуйте!
Путь лежал в Чернятичи Дятьковского района. Знакомые Мише места. Сколько раз он вместе с отцом, бывало, совершал недолгие железнодорожные путешествия до районного центра, а иногда и до самих Чернятичей, где до войны проживали дальние родственники Степичевых.
Разведчики долго шли лесом. Они умышленно уходили от проторённых путей вдоль железнодорожного полотна и проезжих дорог. Так спокойнее.
Уже смеркалось, когда показались Чернятичи. Подошли ближе, ползком добрались до околицы деревни и залегли. Молодые зоркие глаза разведчиков увидели большое количество немецких транспортных машин, укрытых под навесами, вездеходы, несколько пушек, пулемёты. Очевидно, именно отсюда враг готовил наступление.
Возле крайней избёнки одиноко приткнулся пулемёт. Часового не было видно, он куда-то отлучился. Друзья переглянулись. Одна и та же мысль мелькнула у обоих.
— - Гляди в оба. Я мигом обернусь.
Степичев, распластав своё большое, мускулистое тело, пополз к избе. Вот Миша уже рядом с пулемётом. Вдруг он вскинулся, как на пружинах, поднял пслемег словно игрушку, и во весь опор понёсся обратно. В тот же момент из-за угла показался немецкий солдат. Видимо, растерявшись, солдат поначалу молча смотрел велел убегавшим, потом, опомнившись, дико завопил и, прижав к животу автомат, стал стрелять. Рассерженно заметались над головами разведчиков смертоносные свинцовые осы. Разведчики бежали изо всех сил. Даже с тяжёлой трофейной ношей Миша Степичев легко обгонял запыхавшегося друга и всё торопил его: — Быстрее, быстрее!..
Но что это? Андрианов словно споткнулся, упал и больше не поднялся. Михаил кинулся к товарищу. Тот лежал, раскинув руки, уткнувшись лицом в снег. Одна пуля догнала и насмерть ужалила партизана.
Где-то на окраине Чернятичей продолжали истошно кричать немцы. Выстрелы участились, но сгустившаяся темнота надёжно укрыла разведчика. Михаил поднял труп Николая и понёс его в лес.
В начале 1942 года Людиновский партизанский отряд вписал в свою ратную историю одну из наиболее замечательных страниц.
Незадолго до этого войска десятой советской армии после трудных, кровопролитных боёв подошли вплотную к городам Киров, Людиново и Жиздра, окружив с юго-запада сильную юхновскую группировку гитлеровцев. Одновременно соединения нашей пятидесятой армии и первого гвардейского кавалерийского корпуса охватили эту группировку с юга. Однако упорно оборонявшиеся немцы нанесли по флангу десятой армии контрудар и потеснили её. Положение на этом участке фронта осложнилось.
В раннее морозное утро Золотухину передали зашифрованную радиограмму. Военное командование приказывало немедленно всем отрядом идти на подкрепление десятой армии, обороняющей районный центр Киров. Сюда же стягивались и некоторые другие партизанские отряды, действовавшие по соседству с Людиновским. Шли ночами, разбившись на небольшие группы, старательно обходя немецкие заслоны и заставы. Привалы были короткими, люди почти не спали. Всеми руководила одна мысль, одно желание: скорее прийти к месту назначения, помочь Красной Армии, вступить в бой с проклятыми захватчиками и насильниками. Молча и упорно партизаны вышагивали километр за километром, не обращая внимания на стужу, дорожную скользь, снежные сугробы и завалы.
Армейское командование указало пункт, который отряд должен был оборонять: станция Фаянсовая. Станция как бы представляла собой ворота в город Киров, и эти ворота людиновские партизаны обязаны были запереть, чтобы не пропустить через них непрошеных гостей.
С первых же часов прихода на Фаянсовую партизанский отряд стал пополняться рабочими, колхозниками, интеллигенцией окрестных мест. Влились в него и бойцы Красной Армии, доселе, как и многие местные жители, в одиночку и группами пробиравшиеся к своим из немецкого окружения.
Немало потрудился в эти дни начальник партизанской разведки Владимир Коротков. Здешние места он знал, как дом родной. Нехожеными путями и тропками, знакомыми ему одному, Коротков иногда под самым носом у врага выводил «окруженцев» и доставлял их в отряд или в расположение советских войск. А вскоре начались бои — трудные, непрерывные. В течение целого месяца отряд отбивал атаки рвавшихся в город немцев. Исхудали и обросли щетиной партизанские лица. День и ночь, день и ночь В сумасшедшей карусели закрутилось время, подстёгиваемое выстрелами, грохотом орудий, заревом непрекращающихея пожаров.
Наконец, подошедшие воинские подразделения сменили истомлённых партизан. Перед уходом со станции Фаянсовая Людиновский отряд всего на один день оказался в Кирове, на «большой земле», как ласково прозвали этот город партизаны. И такой дорогой, такой неоценимой показалась каждому непоруганная, не истоптанная вражеским сапогом русская земля, что бойцы целовали её и плакали. Плакали, не стесняясь, может быть, впервые за всю жизнь.
Глава двенадцатая
ВЕРЮ В ТЕБЯ!..
В непогожий августовский день Алёша Шумавцов стоял у людиновского озера и следил за круженьем трёх диких уток. Накрапывал мелкий дождик, озеро Покрылось тёмными пузырящимися точками. Утки проносились низко над водой, иногда садились, опять поднимались и взмывали вверх, рассекая воздух острыми крыльями. «Что-то рано они заметались, подумал Алёша, время отлёта ещё не пришло »
Внезапно хлопнули пистолетные выстрелы, и Алёша невольно вздрогнул. Он не заметил, как неподалёку остановились два немецких офицера. «Господа» решили поохотиться: вытащили пистолеты и стали палить в уток. Одна упала, ударившись грудью о воду, окрашивая её в вишнёвый цвет. Две другие, тревожно закрякав, разлетелись в разные стороны и скрылись из глаз.
Алёша поспешил уйти, опасаясь, что гитлеровцы, чего доброго, заставят его лезть в воду доставать убитую утку. Он с сожалением поглядел на тёмный комочек, покачивающийся посреди озера, и зашагал прочь. Надо было поскорее попасть в домик Хотеевых, где его ждали друзья.
Друзья! В дни войны, оказавшись во вражеском тылу, в родном городе, ставшем передним краем, — Алёшиным передним краем борьбы, — юноша с особой силой почувствовал, как много значит в его жизни дружба. Каждый из друзей уже проверен на прочность, как проверяют на заводе сталь, и ни в ком не заметно ни трещинки, ни зазубринки. Это значит, что Толя, Шурик, Тоня, Витя, Коля и, конечно же, Шура, его Шура, дышат одним воздухом, живут одними помыслами, связаны общим делом и готовы выполнить любое задание - — лишь бы приблизить ещё далёкий светлый день победы.
Алёша как-то поймал себя на мысли о том, что, может быть, слова «светлый день победы» уж больно часто приходят на ум и могут потерять свою свежесть и значение. И тут же сам себя опроверг. Нет, действительно то, что придёт потом, после войны, не может не быть светлым, солнечным, радостным, изумительно красивым и вдохновенным. Всё вокруг должно измениться, стать лучше во сто крат. Например, город Людиново. Исчезнут маленькие постаревшие домики, вырастут новые нарядные дома, улицы раздвинутся, станут шире, тротуары покроются асфальтом, и везде — парки, сады, фонтаны. У самого озера под тентами засверкают на солнце белые столики, а мимо будут проноситься байдарки, яхты «Я знаю, город будет, я знаю, саду цвесть » Да, так будет!..
У Хотеевых его уже ждали Тоня, Шура, Толя, Витя и Шурик Лясоцкий. Стараясь придать своему голосу побольше бодрости, Алёша громко поздоровался:
— В этот день первого августа одна тысяча девятьсот сорок второго года приветствую и поздравляю вас — И сразу осёкся. По встревоженным лицам друзей он понял, что им сейчас не до шуток. — Что случилось, товарищи?
— Садись, — предложила Тоня. — Сейчас всё узнаешь.
— Я. Я сама, — перебила Шура и начала рассказывать, что сегодня утром к ним приходил «господин обер-лейтенант» Дмитрий Иванов.
— Пришёл, понимаешь, на лице — улыбка, разговаривает вежливо, интересуется, как живём, как самочувствие, не нужно ли чего.
— Скажите, пожалуйста, каким заботливым стал, подлец! — не выдержала Тоня.
— Да, — согласилась Шура, — всё выспрашивал, нужна ли какая помощь. Не стесняйтесь, говорит, мы свои люди, земляки, всегда готов Дома, понимаешь, никого не было, я да мама, сердце у меня прямо замерло: чего ему нужно? Он улыбается, а мне хочется плюнуть в его подлую рожу. Еле сдержалась. Ничего нам не нужно, отвечаю, живём, как всё. Так и будете жить, спрашивает, без всякого дела, без интересов и надежд? Почему же, отвечаю, надеюсь, например, что после осени и зимы придёт весна, а потом и лето. Он усмехнулся и своё: как это понимать, в смысле природы или перемен в жизни? И стал, сукин сын, хвастаться, что помнит философские рассуждения насчёт того, что всё течёт и всё изменяется. А мне это оказалось кстати. Я, говорю, философией не интересуюсь, а природу, конечно, люблю В общем, посидел он, вот здесь, — Шура брезгливо показала на свободный стул, — и наконец выкатился. Закрыла я дверь, а меня, чувствую, трясёт, как в лихорадке.
Шумавцов, сжав губы и наморщив лоб, слушал рассказ подруги, а когда она закончила, покачал головой.
— - Да, этот визит неспроста. Или сам надумал, или ем поручили принюхаться. Он же знает, что мы — комсомольцы. Про комсомол не спрашивал?
— Нет, — ответила Шура. — Такого вопроса я
больше всего боялась. Могла бы не сдержаться.
— Вот в том-то и дело, Шурочка, что всем нам нужна выдержка и самодисциплина. — Алёша пригладил растрепавшиеся волосы и посоветовал: — Об осторожности, ребята, никак забывать нельзя.
— Только, чтобы осторожность не переходила в боязливость, — подал реплику Толя и оглянулся на брата. Витя согласно качнул головой и поддержал:
— Осторожность — Это умная тактика, а боязливость — свойство трусов.
— Согласна! — воскликнула Тоня.
— Ия согласен, — откликнулся Алёша. — Думаю, что трусов среди нас нет и не будет. Помню, отец мой и дядя Яша Терехов из Ивота одно и то же говорили: трус — это предатель; в гражданскую войну трусов просто пристреливали, чтобы не путались под ногами. А ещё дядя Яша вспоминал Игната Фокина. Тот как-то рабочим про подполье в царское время рассказывал. Один трус или болтун мог провалить всю подпольную революционную организацию. Ну и в жизни вообще, говорили мои старики, — а они коммунисты! — бойся, Лёшка, трусов.
— Насчёт нас можешь быть спокоен! — пылко заявил Толя.
— Я и не волнуюсь, — улыбнулся Алёша. — Просто к слову пришлось. Считаю, что мы с вами делом как бы уже присягнули на верность Так что если кто попятится
— Никто не попятится! — выкрикнул Лясоцкий.
Шура, как и всегда, начала догадываться, что Лёша
не зря завёл этот разговор и прямо спросила:
— Ты хочешь нам что-то предложить?
— Вот именно, Шурочка.
— Так чего же ты крутишься вокруг да около? — Тоня присела рядом. — Чёрт, надо бы этот стул отмыть после Иванова Выкладывай, Алёша.
Лицо Шумавцова стало строгим и слегка бледным.
— Хочу предложить вам, друзья, скрепить нашу дружбу и работу присягой как солдаты в армии, на фронте.
— Не совсем понимаю, — пожала плечами Шура. — Я уже давно и всё мы давно сердцем, душой Как же ещё!
— А ещё вот как Каждый из нас — единица, от-
дельный боец. Всё вместе — организация. Но необычная, а секретная, подпольная. Так?
— Так! — подтвердила Тоня. — Дальше!
— Так давайте напишем, что обещаем работать на пользу Родине, Красной Армии. Никогда не изменим. Что бы ни случилось Это будут не просто бумажки, а наши клятвы Советской власти, комсомолу, партии. Понимаете, клятвы!
Шумавцов поднялся и стал взволнованно расхаживать по комнате. Всё молчали, словно обдумывали Алёшино предложение, ещё и ещё раз проверяли самих себя.
— Клятва!.. — негромко сказала Тоня и возбуждённо запрокинула голову. — Я готова.
— И я И я — послышались голоса.
— Вот и хорошо. — Алёша остановился у стола и опёрся на него двумя руками. — И Золотухин, и Суровцев, и Посылкин, и Ящерицын — всё считают, что так нужно.
— Тем лучше, — отозвался Витя Апатьев. — Может, сейчас и напишем?
— Нет, — возразил Лёша. — Пусть каждый напишет, как совесть подсказывает.
— А ты спрячешь в свой сейф? — попытался пошутить Шурик Лясоцкий.
— Я всё переправлю в отряд, — спокойно ответил Алёша. — Пусть там хранят и знают, что мы здесь, как одно целое И ещё, ребята. Пусть каждый придумает себе подпольную кличку и напишет рядом со своей фамилией. В отряде должны знать наши клички и меньше вспоминать фамилии.
— Ты уже изучил всё законы подполья, — с одобрением сказала Тоня.
— Стараюсь, Тонечка, — ответил Алёша.
— А себе кличку уже придумал?
— Да Давно В отряде знают.
— Скажи, какую, — попросила Шура.
— Орёл! — дрогнувшим голосом произнёс Алёша и повторил: — Орёл!..
— Положим, годами ты, Лёшка, ещё орлёнок, — проговорила Тоня и с нежностью взглянула на Алёшу. — А в общем здорово!
Вскоре друзья распрощались и по одному, с паузой в две-три минуты, разошлись. Задержался только Алёша. Ему хотелось хоть несколько минут побыть наедине с Шурой. Но помешала Мария Кузьминична Вострухи-на. Она пришла навестить Хотеевых и «отвести душу».
Сильно сдала за последнее время тётя Маруся. Румянец на её полных щеках поблёк, под глазами появились тёмные мешки, дышала она тяжело, будто ей не хватало воздуха. И всё же она держалась бодро и на вопрос Татьяны Дмитриевны насчёт здоровья ответила задорно и чуть насмешливо:
— А я к нему не прислушиваюсь, к здоровью. Не до него сейчас. Когда наши вернутся, тогда и в поликлинику сходим.
— Ишь ты, шустрая какая, — заметила Татьяна Дмитриевна, а Тоня, любившая людей энергичных, волевых, с удовольствием обняла гостью.
— - Правильно, тётя Маруся. Всё болезни гоните прочь.
— Вы ещё совсем молодая, — улыбнулся Алёша. — Вам можно в комсомол.
— Не иначе, — согласилась Вострухина, усаживаясь на стул, — Мой Ваня тоже как-то предлагал мне в комсомол вступить. Ты, говорит, супротив меня, богатыря, совсем ещё девчонка, и политического образования в тебе недостаточно. Поступай в комсомол, а я при тебе буду для партийного руководства.
Эта шутка Ивана Михайловича Вострухина всем понравилась. Сдерживая смех, Татьяна Дмитриевна спросила:
— Весточу какую от мужа имеешь?
— Нет, — ’Вздохнула тётя Маруся. — Давно. Жив ли, хворый ли, — ничего не знаю.
— Из лесу почта ходит нерегулярно, — успокоил Алёша, — так что волноваться не нужно. Значит, занят дядя Ваня.
— - Знаю, что занят. Я вот сижу словно вдова при живом муже и дела никакого не имею. А могла бы Ну. ладно, плакаться нечего
— Как живётся-то на новом месте? — спросила Татьяна Дмитриевна.
Мария Кузьминична рассказала, что после того, как немцы сожгли её старый, но милый сердцу дом («Боялнсь, что близко от леса, вот и пожгли, окаянные!»), она перебралась к соседям на улицу имени Крупской. Приткнулась кое-как, да много ли ей надо. Весь день сидит и закутке и только под вечер иногда выходит к калитке подышать воздухом. «Дыши не дыши, а всё равно воз-чуху не хватает. Фрицевской стервячиной воняет ».
Татьяна Дмитриевна вспомнила, что ей надо приглядеть за печкой, и вышла в кухню. Вострухина, понизив голос, спросила Алёшу:
— Ты насчёт молодых меня спрашивал, помнишь?
— Конечно, помню.
— И я не забыла. Хочу присоветовать тебе невест, двух сразу.
— Если невесты с хорошим приданым, я готов устроить смотрины.
— А от Шуры тебе не попадёт?
Шура смущённо зарделась, и тётя Маруся поспешила успокоить её:
— Не красней, Шурочка, это я так, для шутки Невест моих хочу предложить для дела.
— А кто они? — спросил Алёша и присел рядом.
— Девчушки знакомые: Римма Фирсова и Нина Хрычикова. Подружки.
— Слыхала про таких, — сказала Тоня. — Не помню, в какой школе учились.
- — Да, учились, а теперь — Тётя Маруся махнула рукой. — Мой глаз ещё никогда не обманывал. Вижу, рвутся девчата к настоящему делу, совета спрашивают. Что я могу им присоветовать? Пойти и колом по башке Бенкендорфа стукнуть или Митьку Иванова где придушить?.. Вот и решила вам рассказать, авось не без пользы.
— Спасибо, тётя Маруся, — поблагодарил Алёша. -Раз вы советуете, значит, не зря. Приведите их как-нибудь сюда, будто действительно на смотрины, только заранее предупредите, чтобы и я пришёл. Познакомимся с вашими невестами, может быть, и женихов им найдём.
— Ну вот и ладно, — удовлетворённо заключила Мария Кузьминична. — Приведу и Римму и Нину. Мне пора.
— Мне тоже, — собрался Алёша. — Я вас провожу, тётя Маруся.
— Давай, ежели со старухой пройтись не скучно.
На улице Алёша взял тётю Марусю под руку и, стараясь приноровиться к её мелким шагам, попросил помочь в одном важном деле.
— Нашим позарез нужна немецкая печать Там у вас рядом фрицы устроили какую-то свою канцелярию. Поглядите, может, что-нибудь можно сделать.
Задание добыть немецкую печать Шумавцов получил от Золотухина и Суровцева через Посылкина. Задание трудное и почти неосуществимое. И чем сложнее оно представлялось Шумавцову, тем сильнее ему хотелось выполнить его. Но как? Забраться ночью в комендатуру? Чепуха, пристрелят сходу. Поджечь здание полиции или управы и в суматохе забраться внутрь? Из этого тоже ничего не выйдет Планы один фантастичнее другого рождались в голове Алёши. Встреча с Вострухиной навела его на мысль, которой он и поделился Попытка не пытка, спрос не беда
— Хорошо, Лёшенька, — просто, даже не удивившись, ответила Мария Кузьминична. Ответила так, будто выкрадывать печати дело для неё привычное. — Погляжу, постараюсь Ну, шагай своей дорогой, а то Шура и впрямь тебя за вихры оттаскает
Они пожали друг другу руки и разошлись в разные стороны.
Мария Кузьминична не ошиблась, рекомендуя привлечь её знакомых девчат «к делу». Подруги оказались скромными, серьёзными девушками, с внимательными, пытливыми глазами, спокойными, рассудительными. Они сразу понравились Алёше, Тоне и Шуре. Римма Фирсова выглядела старше и решительнее Нины. Нина казалась более застенчивой, на вопросы отвечала тихо и всё время оглядывалась на подругу. Но на главный вопрос Алёши, что же они хотят, обе ответили ясно и определённо:
— Хотим работать на общую пользу.
— А в случае чего, не испугаетесь? — спросил Алёша. — Ведь с немцами шутить не приходится.
— Нет, не испугаемся, — ответила Римма, поправляя косынку на голове. — Вы же не пугаетесь?
Такое заявление огорошило Алёшу. Разве девушкам что-нибудь известно? Вот тебе и конспирация. Но оказалось, что и Римма и Нина ничего, собственно, не знали, но, как и тётя Маруся, понимали, что другие — Алёша и сёстры Хотеевы, например, — не сидят сложа руки.
— Давайте попробуем, — предложил Алёша.
— Конечно, — поддержала Тоня, — пусть попробуют.
— А ежели нужно, я помогу, — добавила Мария Кузьминична. — Я-то уже опытная.
На том и порешили.
Обе девушки аккуратно и точно выполняли всё задания, которые им поручал Алёша. А задания были трудными и опасными. Девушки ходили «гулять» далеко за город, на большак, и там быстро и ловко ставили небольшие мины, на которых потом подрывались немецкие автомашины, тягачи и связные мотоциклисты. Улучив удобную минуту, Нина и Римма разгребали верхний слой почвы, закладывали «подарок», присыпали его землёй и не спеша, болтая о каких-то пустяках, возвращались в город, каждый раз выбирая другой путь. Когда до Людинова доносился глухой взрыв и начинали метаться полицаи и гестаповцы, девушки уже обычно сидели дома или у тёти Маруси и довольно переглядывались.
И ещё одно важное задание выполняли девушки. По поручению Шумавцова они переписывали печатными буквами листовки, которые доставляли им партизанские связные, чаще всего Зина Хотеева. Написав десятка два листовок, подруги снова шли «гулять» по вечернему городу. С ними выходила и тётя Маруся, ставшая их постоянным «шефом». Она и беспокоилась за девушек и помогала им. Римма и Нина расклеивали листовки в одном конце города, а тётя Маруся в другом. Так, «в три руки» и работали они — пожилая женщина, жена партизана, и две юные подпольщицы.
Понимали ли они опасность своей работы? Понимали и даже иногда, возвратись с задания, бросались друг другу в объятия и так долго стояли, не говоря ни слова, дожидаясь, пока перестанет громко стучать сердце. А Римма как-то сказала тёте Марусе:
— Может, и для нас уже виселица готова.
— Э-э, девонька, — спокойно ответила тётя Маруся. — На всех виселиц они не напасутся Разве вы не знали, на что шли?
— Знали Очень хорошо знали И знаем
— О чём же разговор?
— Просто так Не думайте, что мы боимся. Шумавцов нам доверяет.
— Доверяет. Так что плохие мысли из головы выкинь.
— Выкину. Взялся за гуж, не говори, что не дюж После того, как Римма и Нина выполнили несколько
заданий Шумавцова, он с удовлетворением сказал Шуре и Тоне:
— Девчата молодцы. Нашего полку прибыло.
Несколько дней подряд тётя Маруся рассуждала сама с собой: как добыть немецкую печать. Ей очень хотелось выполнить поручение Алёши Шумавцова, но доступа в немецкую канцелярию она не имела. И Вострухина решила снова попытать счастья при помощи детей. Да, один раз ей уже помог хороший шустрый паренёк, Славик Овчинкин. Может быть, теперь поможет че-тырнадцатилетяяя Танюша Доронина?
Со Славиком было так. Встретил он как-то Вострухину, отвёл в сторону и, хитро улыбаясь, заговорщически зашептал:
— Тётя Маруся Я бы сказал дяде Ване, да его-то нет
— А что бы ты ему сказал, мой хороший?
— У нас в саду винтовка и сумка с патронами. Я сам видел, как какой-то дядька, когда наши отступали, копался в земле.
— И место заприметил?
— А как же Чего винтовке пропадать. Небось нашим, — он опять произнёс слово «нашим» совсем как взрослый, посвящённый в тайны партизанской борьбы и подполья, — она во как нужна!
— Кажись, ты говоришь дело, — задумчиво протянула тётя Маруся. Винтовка всегда пригодится. А язык за зубами держать умеешь?
— Я-то? — обиделся Славик. — Да у меня хоть вырви его — ничего не скажу.
— Ну, ну, верю, мой хороший. Тётя Маруся была неравнодушна к детям, тосковала по сыну, воевавшему на фронте, поэтому одаряла ребят своей любовью и называла ласковыми словами. — Мы с тобой, мой сладкий, эту винтовочку и спасём. Согласен?
— А как же Давайте
Поздним вечером тётя Маруся вместе со Славиком Овчинкиным пробрались в сад, откопали винтовку, сумку с патронами и утрамбовали яму так, чтобы никто ничего не заметил. Вместе очистили винтовку от ржавчины и разобрали, а на следующий день, — он считался базарным, — Мария Кузьминична с большой хозяйственной сумкой, заполненной свёклой и морковью, отправилась через мостик в город и вскоре оказалась в доме Хотеевых. Тони и Шуры не застала и очень удивила Татьяну Дмитриевну необычной просьбой:
— Вот эту сумку передай дочкам своим или Алёше Шумавцову, если придёт. Окажешь, тётя Маруся передала.
— На кой им твоя морковь и свёкла. Сама небось голодной сидишь.
— Эта морковь особенная, — ответила Вострухина. — Пусть ребята попробуют её на вкус. Может, понравится. А за остатком приду. Свёкла и морковушка мне, нонечно, сгодятся.
Татьяна Дмитриевна догадалась, что в сумке не только морковь. Пряча сумку в кладовушку, пробормотала:
— Старая что молодая. В одно дело встреваешь.
— А ты! — возразила Вострухина. Я ведь не слепая.
— Дети — они мои. Мне от них подаваться некуда.
— И мне некуда Будь здорова, Татьяна.
Так, с помощью Славика Вострухина передала партизанам оружие. А теперь надо попробовать с помощью девчушки Тани Дорониной достать печать. Обычно Таня, когда немцы выходили из дому на поверку, в столовую или по каким другим делам, убирала их комнату, мыла полы. Гитлеровский офицер и его помощники — унтеры и ефрейторы — к девочке привыкли, не обращали на неё внимания и, уходя, всё оставляли на столе. Уже много дней они прожили в этом доме, и ни разу ни одна бумажка, ни одна вещь не пропали. «Кляйнес медхен» не вызывала у них никаких подозрений. Этим-то и решила воспользоваться Мария Кузьминична.
С Танюшкой она договорилась быстро. Девочка, как и всё советские дети, ненавидела «противных фрицев», а о риске даже и не Думала.
— Стоит на столе какая-то печатка с ручкой. Взять не трудно.
— А если немцы потом хватятся, начнут тебя стращать?
— Я не пугливая.
— Это хорошо. Но могут ударить или ещё что похуже. А ты с перепугу расскажешь, что взяла печать и отдала её мне. Что тогда будет? Меня повесят, а тебе тоже плохо придётся.
— Знать ничего не знаю, пусть хоть иголками колют, — решительно заявила девочка. — Не бойтесь, тётя Маруся, всё сделаю.
Два дня Таня приглядывалась к печати, что стояла на столе немецкого унтера. Хотя маленькая жёлтая ручка привораживала девочку, схватить печать она не решалась. А на третий день всё же рискнула.
Комната опустела, немцы ушли па обед, приказав помыть полы. Таня взяла ведро, тряпку и стала усиленно трудиться. Когда, ползая на коленях по мокрому полу, очутилась у самого стола, рывком схватила печать и выскочила в сени, где в кладовушке в полутьме, сидела Мария Кузьминична. Девочка сунула ей печать и кинулась обратно в комнату, а Мария Кузьминична сразу же прошла в деревянную будку — уборную. Здесь она отломила рукоятку, бросила в яму, а медный пятак печати сунула в пучок волос на затылке. После этого вышла из уборной и задами направилась к Хотеевым.
Таня домывала полы, когда в комнату вернулись немцы. Худой остроносый унтер настучал на пишущей машинке какую-то бумажку, потянулся за печатью и от удивления даже открыл рот. Что за чертовщина! Печать только что стояла здесь, на фиолетовой подушечке с краской — и вдруг исчезла. Может быть, её взял герр лейтенант? Нет, не может быть
— Эй, Танья, — крикнул писарь, — сюда, здесь был кто?
— Найн, найн, — замотала головой Таня, вытирая вспотевший лоб.
— Ферлорене захе! Пропажа!.. — завопил немец и побежал разыскивать своего начальника. Вскоре вернулся с лейтенантом. Тот наорал на струхнувшего писаря, несколько раз с размаху хлестнул его по лицу и приказал обыскать весь дом, перетряхнуть всё вещи, осмот-
реть каждый уголок. Таня усердно помогала немцам искать пропажу и даже рылась в мусорной яме.
А тем временем тётя Маруся уже находилась у Хотеевых. Она вынула из пучка волос свой трофей и с довольной улыбкой вручила его Шумавцову. Алёша на радостях расцеловал Вострухину.
— Спасибо Большое спасибо Вот наши обрадуются Сегодня я повидаю Петю Суровцева, он придёт на встречу, отдам печать, а заодно и привет Ивану Михайловичу передам.
— Передай, чтобы ноги берег, не простужался и вообще
Мария Кузьминична махнула рукой.
— В общем, передай привет, Лешенька, скажи, что я здесь тоже Понятно?
— Тан точно. Всё передам!..
Будни молодых подпольщиков были насыщены большими и опасными делами.
На последней встрече в «Петрухиной избушке» Афанасий Ильич Посылкин, выслушивая подробную информацию Шумавцова, неожиданно поймал себя на мысли о том, как быстро повзрослел и возмужал этот смелый и толковый парень. В нём почти ничего не осталось от юношеской порывистости и наивного задора, всегда вызывавших у Посылкина неприметную любовную улыбку Сейчас перед ним стоял сосредоточенный, наполненный энергией разведчик, который меньше всего упоминал о себе и больше всего говорил «мы», имея в виду своих друзей из подпольной группы.
Положив на плечо Шумавцова большую, перевязанную бинтом руку, Посычкин кашлянут и испытующе спросил:
— Скажи, сынок, одну важную работёнку осилишь?
— Если надо — осилим! — не задумываясь ответил Алёша. — Разве вы сомневаетесь?
— Нет, не сомневаюсь. Только уж больно рискованное задание хочу тебе поручить.
— Риск — благородное дело.
— Ну это ты зря, — нахмурился Посылкин. — Конечно, без риска не обойтись. Только хорошего в этом не так уж много.
Алёша неопределённо пожал плечами и промолчал, ожидая подробностей нового задания. А оно заключалось в следующем.
В тридцати метрах от приземистого здания станции Ломпадь, неподалёку от леса, уже две недели стоит большой штабной автобус, в котором смонтирована мощная фашистская радиостанция. Она не только передаёт гитлеровскому командованию сведения о передвижении советских войск, но также перехватывает радиодонесения и пеленгует — «засекает» места расположения наших раций — войсковых и партизанских.
— Вот этот автобус, — заключил Посылкин, — хотелось бы поднять на воздух. Вместе с аппаратурой и радистами. Уразумел?
— Уразумел Мы это сделаем.
— Кто — мы? — переспросил Посылкин.
— Я и ещё кто-нибудь Могу взять Витю и Толю Апатьевых.
— Сказать легко, сделать труднее, — словно самому себе сказал Посылкин. — Как подобраться к автобусу — вот в чём загвоздка. Давай покумекаем
Ещё не меньше получаса обсуждали Посылкин и Шумавцов «загвоздку», а когда прощались, Афанасий Ильич крепко прижал к себе Алёшу и с отцовской нежностью проговорил:
— Ну, сынок, желаю удачи Береги себя и ребят А с консервами поосторожнее
Консервами он называл магнитные самодельные мины, которые только что передал Шумавцову. Небольшие жестяные коробочки, плоские, с закруглёнными боками, они и впрямь походили на обыкновеннее консервные банки.
Серо-зелёный автобус, накрытый маскировочной сеткой, стоял на своём обычном месте, будто накрепко врос в землю. Вокруг автобуса ходил немецкий автоматчик и поглядывал то на лес, шумевший рядом, то на станционное здание, где размещалась караульная команда. Уже два часа за часовым наблюдали три пары внимательных, насторожённых глаз. Ребята лежали за деревьями, молча, стараясь даже дышать потише, и только изредка осторожно шевелили затёкшей рукой или ногой,. Когда темнота сгустилась до черноты, Алёша притронулся к плечу Виктора, тот, в свою очередь, тр.о-
мул локоть Толи, и через секунду всё, как и было условлено, расползлись в разные стороны.
Прошло ещё десять долгих, томительных минут. Неожиданно в лесу хлопнули пистолетные выстрелы, мигнув во тьме тремя блуждающими огоньками. Стрелял Голя. Немецкий автоматчик прыгнул в темноту, плюхнулся на землю и дал в сторону леса длинную очередь. В это же время откуда-то у двери станционного здания упала ручная граната, за ней другая Это выполнял свою часть задания Виктор Апатьев. Из автобуса с громкими криками выскочили немецкие радисты и, ничего не видя, стали беспорядочно стрелять в лес. Вот в пи опасные минуты даже секунды, Алёша Шумавцов подполз к автобусу и мгновенно прилепил к металлической обшивке кузова две магнитные мины.
Вскоре с десяток немецких солдат под командованием унтер-офицера, освещая местность сильными электрическими фонарями, начали прочёсывать опушку леса возле станции Ломпадь, а радисты вернулись в автобус продолжать свою работу. Но работали они недолго — всего сорок минут, ровно столько, сколько потребовалось, чтобы сработали мины. Два сильных взрыва разорвали ночную тишину. Немецкая радиостанция взлетела на воздух.
Ещё более дерзкую диверсию совершили подпольщи ки на реке Ломпадь.
Ломпадь речушка небольшая, но норовистая. Тихая, спокойная, она вдруг вздыбится и шумно несётся к Болве. Старожилы Людннова гордились своей Ломпадью и, бывало, говаривали: «Ей бы простору дать, океаном разлилась бы Они конечно, сильно преувеличивали, и приезжие гости снисходительно улыбались, слыша такие восторженные отзывы.
Но для партизан теперь Ломпадь была крепким орешком. Вернее, не сама река, а плотина через неё. Дело в том, что через плотину рядом с Сукремльским чугунолитейным заводом немцы перебрасывали свои части и специальные отряды карателей для борьбы с партизанами. Советское командование поручило партизанам взорвать сукремльскую плотину. По заданию Золотухина и Суровцева два подрывника из группы Стефашнна недавно пробрались к плотине и даже заложили взрывчатку. Взрыв оказался неудачным: в темноте партизаны
выдолбили гнёзда в самом начале плотины, и она, чуть повреждённая, осталась цела. Приводилось всё начинать сызнова.
Однажды Пётр Суровцев передал Шумавцову и Лясоцкому задание штаба партизанского отряда — вторично взорвать сукремльскую плотину.
— Будет сделано, — ответил Алёша, хотя не представлял себе, как он сможет пройти к плотине, которая теперь стала охраняться ещё сильнее: немцы удвоили посты, окликали и проверяли всех проходивших мимо. Но раз приказано, надо выполнить — и точка.
Несколько раз Шумавцов и Лясоцкий проходили вдалеке от плотины, стараясь сориентироваться и наметить пути подхода. Во время одной из таких прогулок Алёша вспомнил, как его друг из посёлка Ивот, Евгений Туляков, советовал взобраться на сукремльскую плотину, прочитать стихи, вообразить себя Наполеоном. Этот совет Алёша передал Лясоцкому. Шурик тихонько присвистнул.
— Наполеону не пришлось бы самому взрывать плотину. А мы с тобой
Алёша будто не расслышал реплики друга. В голову ему пришла совсем дерзкая мысль. Вот если бы немец из ГФП, что живёт у Козыревых, оказался настоящим коммунистом, он, возможно, помог бы Фу, чёрт об этом сейчас и думать нельзя. Комиссару Суровцеву через Посылкина он, Алёша, так и не успел сообщить об этом немце. Может быть, от старших попало бы и ему, и Тоне Слишком уж всё это сложно и необычно.
— О чём задумался? — спросил, Лясоцкий.
— Да так Всякое
— Ты думай не про всякое, а про плотину эту. Долго мы ещё будем приглядываться?
— Я и думаю,.. Есть только одна возможность. Там вода неглубокая, через плотину, как через решето, просачивается.
— Не в воде дело, — перебил Шурик, — а в плотине. Она теперь вроде моста, и нам надо мост пустить на воздух.
— Правильно. Поэтому план, по-моему, такой. Подходить придётся поздним вечером, поближе к ночи, и только со стороны леса. Там спрячемся и будем ждать
подходящего момента. В темноте подползём, только чтобы часовые не заметили, и но воде доберёмся до деревянных балок, что подпирают плотину. В случае чего, можно на балках повисеть и переждать.
— По воде — это подходяще, — согласился Лясоцкий. — К тому же собаки немецкие потом нашего следа не учуют.
— Шерлок Холмс! — шутливо бросил Алёша и продолжал: — Ночью через плотину, или через мост, как хочешь называй, тоже идут машины — и грузовые и легковые. Но всё же поменьше, чем днём. А если даже будут идти, пусть, больше шума — нам на руку. В это время кому придёт в голову под мост заглядывать. А мы будем заниматься своим делом.
— Посылкин и Суровцев передали совет Стефашина: сделать, если удастся, гнёзда, вроде высверлить или выдолбить, чтобы в них заложить взрывчатку.
— Так и сделаем. Прихватим дрель, стамеску, нож. Под шум и сработаем. Только, гляди, чтобы взрывчатку не замочить.
— Постараемся. Может, ещё раз встретимся с Посылкиным и расскажем, что и как с тобой придумали? К тому же,- говорят, в отряде есть свой конструктор по делам взрывным, Сазонкин, кажется.
— Ждать нельзя. Будем действовать сами.
— Я готов, Лёша
В лес они ушли ещё засветло, унося с собой под рубашками и пиджаками инструменты и взрывчатку, недавно полученную через связных. Забрались далеко-далеко, чтобы их никто не обнаружил. В долгие часы ожидания ночи, которая могла стать последней ночью их короткой жизни, юноши шептались о многом. Не оставил ли Лёша своей мечты стать лётчиком?.. Куда после войны собирается пойти учиться Шурик? Не пристукнуть ли где этого гада Иванова и Двоенко в придачу?.. Хорошие у нас девчата Хотеевы И новые девчата — Фирсова и Хрычикова — тоже оказались вполне подходящими Почему ночью, когда не спится, в голове мысли скачут, как сумасшедшие Памятник Игнату Фокину надо бы поставить после войны, новый, побольше, и пионерские дружины назвать его именем
О предстоящем взрыве плотины не упоминали, хотя каждый всё время думал: удастся или не удастся?..
Представляя себе путь, который им вскоре предстоит, Алёша и Шурик как бы нарочно всякими разговорами о прошлом и будущем отодвигали в сторону поджидавший их смертельный риск.
Стало совсем темно. Деревья превратились в сплошную чёрную стену. Где-то громыхало — не то гром, не то артиллерия. Друзья бесшумно подошли к опушке и залегли. Теперь стали видны блуждающие в воздухе огоньки: они на мгновение вспыхивали и тут же г шли. Значит, через мост двигались автомашины. Потом огоньки надолго пропадали и появлялись снова через пятнадцать — двадцать минут.
— Пошли, — наконец прошептал Алёша.
— Не пошли, а поползли, — уточнил тот и лёг на землю.
Вскоре они достигли насыпи. Упираясь ногами и руками в осыпающуюся и шуршащую землю, сползли вниз и замерли у самой воды. Где немецкий часовой? Вот он еле видной тенью бродит по верху и даже насвистывает какой-то мотив. «Гуляй, свисти», — подумал Алёша и шагнул в воду. Ноги сразу свело от холода, зато перестали гореть уши и в теле появилась так необходимая теперь энергия. Свой драгоценный груз оба подняли над головами. Медленно, осторожно ступая, приблизились к опорным балкам. Прижались к ним, переждали, прислушались. Всё в порядке. Теперь можно взбираться повыше, к самому настилу, и начинать
В это время издалека мигнули фары грузовика, а ещё через короткое время их тёмные бесформенные силуэты вползли на мост. Воспользовавшись шумом моторов, заглушавшим всё звуки, юноши работали быстро и лихорадочно. Вот уже готово первое гнездо, за ним второе. — Закладываю, — выдохнул Алёша — Шнур!.. — Лясоцкий протянул шнур. — Раскручивай Спускайся Не плюхнись в воду Пошли
Друзья находились уже далеко в лесу, когда почувствовали, как дрогнула под ногами земля, заметался ураганный ветер. До ушей докатился громоподобный грохот взрыва. К чёрному беззвёздному небу взметнулся огненный столб, какое-то мгновение он висел между небом и землёй, между чернотой и багровым балдахином и вдруг сломался, рассыпался, погас. Стало совсем темно и тихо.
Шумавцов и Лясоцкий задание партизанского штаба выполнили.
Второго августа, под вечер, когда немецкие солдаты-сапожники ушли на ужин, а бабушка взялась за щётку, чтобы вымести мусор, Алёша пошёл в сарай, положил на колени сохранившуюся у него ученическую тетрадь для арифметики и вырвал из неё чистый листок. Надо было написать своё обязательство, свою клятву, как он и обещал друзьям.
Алёша задумался. Что писать? Какие подобрать слова, чтобы выразить всё, что переполняет его сердце, что клокочет в груди, что видится в непроглядной ночи фашистской оккупации - во сне и наяву? Нужны, казалось ему, какие-то сильные, необыкновенные слова, такие, какими пишут стихи, песни, поэмы. Или слова торжественные, звучные, вызывающие дрожь и восторг Например: Верю в тебя, Родина моя!.. В твою силу, победу, и во-имя этой Победы - с большой буквы — клянусь быть верным сыном до последнего вздоха, до последнего биения сердца
Нет, такая излишняя восторженность сейчас, в суровое время войны, ни к чему. Надо проще и короче. Хорошо бы переписать военную присягу. Ведь он — тоже солдат, боец переднего края, только в тылу врага, невидимый, тайный. Но текста присяги под руками нет и достать негде. Надо припомнить и написать что-то похожее И пусть каждое слово станет поистине клятвой, самой сильной и нерушимой
Что ж, так и будешь сидеть и раздумывать, комсомолец Шумавцов? Ведь всё нужные слова давно лежат на сердце, стучат в мозгу. Пиши!..
Подложив под листок тетрадь, Алёша быстро написал: «Я, Шумавцов Алексей Семёнович, 1925 года рождения». — Поставил точку и не заметил, что она тут и не нужна. Прислушался. Тихо. Солдаты ещё не топают. Скорее. И уже, не останавливаясь, дописал: «Беру на себя обязательство работать на пользу социалистической Родины путём собирания данных разведывательного характера, идущих на пользу Красной Армии и красным партизанам. Если я нарушу своё обязательство или
выдам тайну, то несу ответственность по законам Советской власти как изменник Родины».
Алёша перечитал написанное. Может быть, не совсем складно и суховато, но главное сказано. Во всяком случае похоже на присягу. Всё! Теперь остаётся поставить подпись и подпольную кличку.
«Шумавцов» — подписался Алёша, слева поставил чату, а ниже буквами помельче дописал: «Орёл».
На душе стало легко, будто он покончил с очень трудным делом. Алёша встал, вытянулся во весь рост, глубоко вдохнул воздух, постоял, словно прислушиваясь к знакомым голосам командира и комиссара партизанского отряда, к голосам своих боевых друзей, и наконец пошёл домой. Листок со своим обязательством; он спрятал под рубашкой у самого сердца.
На следующее утро Алёша зашёл к Хотеевым. Шуры дома не оказалось: она отправилась в город, надеясь добыть продукты. Тоня выглядела усталой п грустной.
Что, Тонечка, пригорюнилась?
- Ничего Не выспалась.
— Какие тебе сны снились?
— Вот какие!
Она протянула Алёше два небольших листка и пояснила:
— От меня и Шуры.
Алёша дважды внимательно прочитал листки и одобрил:
— Хорошие клички вы себе выбрали, девчата, ничего не скажешь. Значит, ты- -Победа, а Шура — Отважная.
Тоня сдвинула брови, положила руку на плечо Шумавцова и тихо, но с огромной внутренней силой повторила:
— Да, Победа!.. Теперь я будто одела солдатскую гимнастёрку и взяла в руки автомат. Сражайся до победы, боец Хотеева!
— Только так, до победы, — повторил Алёша. — Передай мой привет Шуре. Завтра зайду.
— А другие написали?
— Готовят. Толя Апатьев решил назвать себя Русланом. Витя, кажется, Ястребом, Коля — Соколом У всех завтра соберу и при первой же встрече с Посылкиным или Петей Суровцевым передам в штаб отряда
Через два дня Василий Золотухин и Афанасий Суровцев в полутьме партизанской землянки внимательно перечитывали маленькие листки, вырванные из школьных тетрадей. «Я, Шумавцов Алексей Я, Хотеева Антонина Я, Хотеева Александра Я. Апатьев Анатолий Я, Лясоцкий Александр Я, Евтеев Николай Я, Апатьев Виктор Я, Фирсова Римма Я, Хрычикова Нина »
Суровцев бережно сложил всё листки, один к одному, накрыл их ладонью и с отцовской нежностью произнёс всего три слова:
— Ребятки, дорогие мои
Глава тринадцатая
ГИБЕЛЬ ОРЛЯТ
Фёдор Гришин, мастер ремонтно-строительного цеха локомобильного завода, в эти дни молился особенно рьяно. Не щадя лба, в буквальном смысле слова, он бился об пол, трясся так, что позванивали монеты в жилетном кармане, и шептал заученные слова молитв, вознося их невидимому владыке, надеясь, что тот незримо присутствует рядом и ждёт покаяний своего преданного земного слуги.
А каяться Фёдору Ивановичу было в чём. Старый сектант-пятидесятник стал провокатором. В первую же встречу с майором Бенкендорфом поведал он, что хочет верой и правдой служить христианскому воинству.
Бенкендорфу понравился этот средних лет человек, почтительный и раболепный. К тому же Гришин знал завод, людей, работавших в цехах, значит, мог принести немалую пользу. Комендант распорядился помочь Гришину продуктами, дровишками, сказал о визите начальнику ГФП Антонию Айзенгуту, а Дмитрию Иванову приказал:
— Держи с Гришиным связь. Вызывай, беседуй почаще. Он человек нужный.
Так начал свою «карьеру» мастер локомобильного завода пятидесятник Фёдор Гришин.
На улице холодище. Гуляет ветер, а в комнате геплынь. Потрескивают дрова, привезённые сегодня утром, берёзовые, сухие. На столе масло, сало, свежеиспечённые пироги
Гришин, в нательной рубашке, в шлёпанцах на босу ногу, только что отужинал и с усмешкой поверх очков поглядывал на чернявого паренька, энергично орудовавшего за столом.
— Ешь, Проша, ешь. Мы как-никак сродственники. А ты, видать, крепко отощал.
— Как вам удаётся доставать всё это, дядя Федя? — искренне удивился Прохор. - В магазинах хоть шаром покати, на рынках тоже пусто, а у вас И Прохор показал на стол, уставленный продуктами.
— Уважают меня нынешние хозяева, потому как человек я верующий, тверёзый, ог политики далёкий. Господин майор дон Бенкендорф посулился начальником сделать.
Гришин не врал. Комендант действительно уже предупредил его о предстоящем новом назначении. И только в одном сейчас Фёдор допускал маленькую неточность. Не за трезвость и религиозность ценили его фашистские власти, а за доносы. Старый мастер локомобильного завода знал не только своих рабочих, но и других жителей Людинова. А ныне знакомство и доверительные разговоры с благообразным дядей Федей оборачивались для многих из них трагедией.
Чернявый паренёк, рабочий завода Прохор Соцкий, человек бесхитростный, был в то время чересчур доверчивым и не особенно смекалистым. Он не знал этой «оборотной стороны медали». И хотя в душе не одобрял, что мастер ладил с «немчурой», вес же верил Гришину. Прохор даже сердился, когда в его присутствии кто-нибудь из рабочих ругал Фёдора, обзывал его трясучим гадом (пятидесятников в народе звали трясунами), и в защиту запальчиво твердил одно и то же:
— Он от веры свой к политике безразличный. Ему главное, чтобы на душе чисто было, а что вокруг на земле творится — ему ни к чему. Сам-то он безгрешен, мухи не убьёт.
Так пытался объяснить поведение Гришина молодой Соцкий, а услышав от собеседника ответ: «Дурень ты,
парень, или сосунок ещё, чёрт тебя разберёт», — обижался и отходил в сторону.
Сам Прохор рвался к делу. Но где найти это самое дело? С дядей Федей ни о чём земном не поговоришь, человек он особенный. Молодёжи в городе почти не осталось. Однажды, случайно встретив Алёшу Шумавцова, Прохор пожаловался, что томится от безделья.
— Не такое время, Лёшка, — жалобно говорил парень, — чтобы отработать на фрицев на заводе, прийти домой и завалиться спать. Сам понимаю, грошовая такая жизнь, а что ещё делать?
Алексей обещал подумать, помочь.
Со дня той встречи прошло немало времени. Ребята теперь встречались на заводе. Электромонтёр Шумавпов нет-нет да и спросит ненароком о Соцком. Прохора характеризовали по-разному. Но всё сходились на одном: звёзд с неба не хватает, по честен, не пьёт, не озорует. Ещё белее «Орёл» проникся симпатией к Прохору, когда узнал, что тот по собственному почину с большим риском для себя пускает в сборку бракованные детали. Видать, незачем его чураться. Больше того, следовало предостеречь немедля от излишней горячности и, может, тем самым уберечь юношу от опасности, спасти ему жизнь.
Шура Хотеева и Саша Лясоцкий поддержали «Орла», поделившегося с ними своим планом. Правда, согласившись, Шура тут же высказала опасение: не слишком ли говорлив н доверчив Прохор? Она не любила болтливых. По в общем А тут ещё подоспело задание из партизанского штаба выявить людей, активно помогающих фашистам на заводе. Кто-кто, а Соцкий мог сделать немало. Он жил на квартире мастера Гришина, и ему куда легче, чем остальным., можно было выведать, собрать необходимые сведения.
Спустя два дня под вечер Алёша провожал Шуру домой после очередной прогулки «влюблённых». В этот раз им надо было высмотреть новое сооружение фашистов. В центре города - неподалёку от площади имени Фокина — вырос большой, с толстыми накатами из брёвен дзот. Из двух тёмных гнёзд дзота высовывались, будто принюхивались и приглядывались, зелёные рыльца пулемётов. Алёша и Шура, болтая о пустяках, прошли мимо дзота и «засекли» его для очередного донесения в пар-
тизанский штаб. На Комсомольской улице неподалёку от хотеевского дома им навстречу попался Прохор Соц-кий. Обычно малоразговорчивый, он выглядел оживлённым и, усмехнувшись, спросил:
— Всё гуляете? А когда же и меня в компанию пригласите?
Шура сердито нахмурилась. Она не могла терпеть никаких вольностей и намёков на её отношения с Алёшей. Но того вопрос озадачил. Как понять его?.. Прохор — парень, кажется, подходящий, ничего плохого о нём не скажешь. Однако каждый раз что-то останавливало Алёшу от доверительной, откровенной беседы с Соцким. Осторожность? Опасения? Подозрения? Нет, подозрений никаких. И сейчас Алёше снова подумалось, что, может быть, Прохора не следует сторониться. Всё-таки парень свой, рабочий.
Сжав локоть Шуры, Алёша неопределённо пожал плечами и в свою очередь спросил:
— Ты насчёт чего?
— Насчёт того самого Не понимаешь разве?
— Мы с тобой вроде в тёмной комнате в жмурки играем, — рассмеялся Шумавцов-
— А ты не темни. Давай в открытую.
— Ну что же, — после небольшой паузы сказал Алёша. — В открытую? А дальше что?.. Пет, брат, такие дела быстро, с наскоку, не делаются
— Значит, дела всё-таки есть?
— А как же! — воскликнул Алёша и тут же осёкся. Что-то он сегодня разболтался. И Шура глядит укоризненно. Подпольщик, называется. Но, с другой стороны, почему не попробовать?
— Пройдёмся, — коротко предложил он, и Соцкий охотно согласился. Всё трое свернули в переулок, и по пути Алёша попросил Прохора приглядеться к своим же, заводским, узнать, кто чем дышит, кто работает на немцев из-под палки, а кто с охотой да ещё выслужиться старается.
— Если заприметишь кого, составь списочек и передай мне. — Алёша говорил настолько тихо, что Соцкому. приходилось напрягать слух. — А мы потом прикинем, что к чему Понял?
— Понял дело немудрёное.
— Дело опасное и трудное, — резко перебил Алексей. — И чтобы никому ни звука.
— Что я, дурной? — обиделся Прохор.
— Слово?
— Слово!
— Ну, тогда действуй
Алёша был доволен. Соцкого, если всё сделает аккуратно, можно будет вовлечь в подпольную группу. Каждый новый подпольщик — это новый боец.
Кажется, был доволен и Соцкий. Задание действительно показалось ему легко выполнимым. На заводе всё как на ладошке. Проще простого — посмотреть, послушать, а коли надо, завести малоприметный обходной разговор с надёжным человеком.
— Ты, Проша, расспрашивай так, чтобы никаких подозрений, — з свою очередь предупредила Шура.
— Не маленький. В общем, задание выполню, ребята, не подведу. Будьте покойны.
Однако уже на следующий день Соцкий понял, что переоценил свои силы. Он знал свой цех, но не знал, что происходит в остальных. А если бы и узнал, всё равно это не облегчило бы ему выполнение задания. Кто выслуживается перед фашистами? — вот что следовало выведать. «А если рабочий «вкалывает» на своём месте, изо всех сил гонит непосильную норму, так ведь делается это не из любви к фрицамц а из-за боязни оказаться в полиции, быть измордованным или, ещё хуже, угнанным в Германию. «Нет, так не пойдёт. Честных людей шельмовать незачем. Буду искать другой подход», — решил юноша, шагая после работы домой.
Гришин ещё «трясся» где-то в молельне. Он объявился через час-другой, обмякший, притихший, с красным вспотевшим лицом, выпил квасу и позвал соседа чаёвничать.
— Очистился, Проша, отвёл душу господу, и враз полегчало. Превеликое счастье, скажу тебе, божью благодать на себе чуять.
Фёдор не спеша пил чай из блюдечка. Из-под расстёгнутого ворота рубахи виднелся острый прыгающий кадык и поросшая волосами шея.
«Божий человек, — подумал Соцкий. — Такой не предаст, не подведёт. С кем как не с ним посоветоваться? Знает он народ».
— Дядя Федя!.. — Прохор отодвинул чашку и просительно глянул на хозяина.
— Чего, мил человек?
— Просьба есть.
— О надбавке хлопочешь?
— Не обо мне разговор. О Советской сласти. Задание небольшое имею.
— Какое задание? По какому такому поводу? — спрашивал Гришин и, как и прежде, дул на блюдечко, а сам напрягся, даже холодок прошёл по спине.
«Вот оно привалило!.. Лишь бы не спугнуть. Да нет, парень доверчивый, по глазам всё нутро витать».
— Ну чего умолк? Начал- — так раскручивай. Небось, не чужие.
Гришин говорил неторопливо, негромко, продолжая дуть на уже остывший чай. Волнуясь, комкая слова, Соцкий рассказал о своих намерениях.
— Ишь, куда нацелился, — усмехнулся Гришин. — Теперь Прохор был в его руках, и он решил поиграть с ним, как кошка с мышью. — Кто же тебя на такие дела уполномочил? Брешешь, небось. Сам выдумал?
— Честное слово, не сам, а кто — так это неважно. Люди хорошие интересуются, вот кто.
Гришин помрачнел. Ему хотелось выругаться длинно, смачно, но сдержался. Надо было продолжать игру с «несмышлёнышем», как он про себя охарактеризовал Прохора.
— Чего ж ты от меня хочешь? — поинтересовался он.
Помощи. Кому, как не начальнику цеха, знать, кто
из наших тянется к немцам, в холуях ходит, а может, и в доносчики записался.
— Есть, наверно, такие, закивал головой Гришин. — Только объясни толком, от кого задание имеешь. За зря рисковать не буду.
И Прохор Соцкий после короткого колебания назвал «божьему человеку» сектанту Гришину известные ему имена комсомольцев Шумавцова и Шуры Хотеевой.
Пройдёт ещё немало лет. Вырастет новое поколение советских людей, людей, для которых Отечественная война будет известна только по книгам и рассказам дедов. Вырастут и расцветут новые города и сады. Время залечит боль и погасит тоску о безвременно ушедших.
Но до конца дней своих не оставят Прохора Соцкого горькая обида и сознание совершённой непоправимой ошибки. Он проболтался, доверился человеку, оказавшемуся предателем.
Разговор приближался к концу. Ходики на стене натужно и хрипло пробили восемь раз. Следовало торопиться. Гришину не терпелось сегодня же сообщить обо всём коменданту города. Именно ему, а не кому другому. Сведения, можно сказать, из ряда вон выходящие. И пусть мдйор фон Бенкендорф первым узнает преданность обласканного им «хорошего русского».
Гришин спешил. Он почти бежал навстречу холодному осеннему ветру. Полы его пальто развевались, конец шарфа, которым наспех повязал шею, болтался за спиной. Вскоре он появился в кабинете коменданта, удивив немецкого майора и его позднего гостя обер-лейтеианта Дмитрия Иванова.
Торопливое, сбивчивое сообщение предателя было выслушано с напряжённым вниманием. Бенкендорф одобрительно кивал головой. Довольная улыбка блуждала на выбритом лице. Иванов несколько раз ловил взгляд шефа и отводил глаза. Внутри кипела злоба и против Гришина, этого старого выскочки, сунувшегося прямо к коменданту, минуя старшего следователя полиции, и против тех, молодых, видимо, уже давно обводивших его вокруг пальца, действовавших почти открыто, на глазах. Ладно! Теперь он им покажет. Они заговорят. Он вытянет из них всё, всё
В эту ночь Иванов не ложился спать. Спустя два часа после ухода Гришина он по приказанию Бенкендорфа составил подробный план, а ещё через час несколько полицейских ворвались в дом к Саше Лясоцкому. Иванов начал с друзей Шумавцова.
Если в ненависти ко всему советскому Бенкендорф не уступал садисту и палачу Айзенгуту, то он всё же был несравненно умнее и дальновиднее начальника тайной полиции в агентурной и карательной политике. «Кнут и пряник!..» Комендант Людипова часто повторял это выражение. В плане «операции на уничтожение», представленном обер-лейтенантом Ивановым, Бенкендорф сразу же вычеркнул из списка «смертников» Прохора Соцкого.
— Смерть щенка не окупит потери Гришина, — цинично и предельно точно сформулировал он своё решение. И Дмитрий Иванов, почтительно склонив голову, признал правоту шефа. — Что же касается остальных, — приказал майор, — выбейте из дьяволят всё, что они знают.
«Орла» арестовали на следующий день во время работы на улице Калинина: он менял электропроводку. С верхушки столба Алёша увидел подъезжавшую машину с эсэсовцами и полицейскими и понял, что это за ним. На работе был взят и Толя Апатьев — «Руслан».
Несчастье следовало за несчастьем, неудача — за неудачей. Сейчас, спустя много лет, изучая материалы о провале людиновской подпольной организации, с грустью убеждаешься, сколь примитивна и несовершенна была конспирация комсомольцев. Люди с чистыми сердцами, беззаветно преданные Родине, безгранично смелые в своих делах, они оказались чересчур доверчивыми и наивными. О дружбе и частых встречах комсомольцев знали соседи, знал Иванов. А этого было вполне достаточно, чтобы навлечь беду. Кроме того, почти в открытую на квартирах хранились антифашистские листовки, оружие, а на чердаке у Лясоцких — даже взрывчатка. Множество улик сразу же попало в руки карателей.
Смелые духом, неукротимые в борьбе, людиновские подпольщики на всё вопросы Иванова отвечали гордо и прямо: «Нет!» И это «нет» ничего не могло сломить.
Много книг написано о пытках в фашистских застенках, об изощрённости и садизме заплечных дел мастеров, какими были каннибалы двадцатого века — гестаповцы. Полную чашу страданий и горя испили и комсомольцы-людиновцы.
Израненного, избитого до неузнаваемости Алёшу через несколько дней после ареста привезли на телеге домой. Руки его были связаны колючей проволокой, лицо вспухло и почернело.
— Алёшенька, родненький! — Бабушка Евдокия Андреевна, еле передвигавшая ноги, нашла в себе силы оттолкнуть полицаев и кинулась на шею к внуку. Ударом приклада её швырнули на пол.
— Лезь, показывай, где схоронил оружие, — распоряжался Иванов. Алёша молча лез на чердак, слонялся
для вида по знакомым с детства чердачным закуткам, спускался вниз, пожимал плечами и с трудом шевелил распухшими губами:
— Нет у меня никакого оружия я же говорил.
И всё же полицаи раскопали на чердаке пачку листовок и пистолет с патронами.
— Не знаю Не мой — сказал Алёша и отвернулся.
Его били тут же, на глазах у старой бабки, заставляли лезть снова и снова. А когда увозили обратно в тюрьму, юноша улыбнулся старушке и прошептал на прощанье:
— Не плачь, бабушка. Крепись, родная. Что бы ни случилось, мы всё равно победим-
Спустя десять лет, во время ремонта дома, родные Алёши нашли в земле бережно завёрнутый в плотную бумагу комсомольский билет «Орла» — Алексея Терехова-Шумавцова.
У Шуры и Тони полицейские при обыске ничего не нашли. Но хотеевский дом уже давно был на примете. Бенкендорф и Айзенгут ни минуты не сомневались в том, что «эти русские-девченки» тоже помогали партизанам. Сестёр арестовали ночью и полураздетыми погнали в тюрьму.
Иванов добивался признания. Даже его, видавшего виды фашистского палача, охватывал трепет при виде небывалой стойкости, несгибаемой воли арестованных.
— Проклятая порода фанатиков! — жаловался он шефу во время одного из очередных докладов.
Бенкендорф понимающе кивал головой. Ему уже не раз приходилось сталкиваться с этой породой. Через его руки прошло немало схваченных партизан и мирных жителей, подозреваемых в подрывной деятельности про-див немецких властей. И почти всегда одно и то же, одно и то же.
— Действуй энергичнее, — советовал Бенкендорф и отпускал обер-лейтенапта. Сейчас у немецкого майора было много других забот — служебных и личных. Он понимал, что гитлеровская власть здесь недолговечна. Правда, после начала контрнаступления русских под Москвой, здесь, в районе Людинова, фронт стабилизировался, и кое-кому из молодых офицеров казалось, что это навсегда. Но Бенкендорф, старый, опытный волк,
имевший связи в высших штабах вермахта, не раз уже размышлял над будущим, и оно представлялось ему не очень радостным. Время работает на русских и против немцев, значит, надо позаботиться и о судьбе присвоенных имений и поместий в Белоруссии, Польше. Личные дела всё больше и больше, тревожили немецкого майора.
Слушай, Лясоцкий. У тебя в доме нашли взрывчатку и бикфордов шнур. Мы не маленькие. Понимаем, что не для игры всё это пряталось. Говори: от кого получил? Какое задание имел? Назови всех сообщников. Скажешь — отпустим. Это решено- Уедешь из города и сгинешь, как сквозь землю провалишься, а потом объявишься целёхонький, как ни в чём не бывало.
Всё чаще и чаще Иванов, кроме плётки и кулаков, стал прибегать к подобным уговорам. Думал, подействуют. Как-никак, всё-таки обещана жизнь. Но Саша молчал и твердил уже опостылевшее обер-лейтенанту: — В глаза ничего не видел. Откуда взрывчатка взялась, сам не знаю, может, кто из ваших подложил. Вы же можете всякое
И снова кулаки, снова плётка, снова угрозы:
— Всю семью перестреляю, так и знай! И старых и малых не пощажу..
Такие же угрозы и посулы Иванов адресовал каждому. Но Шумавцов, Лясоцкий, Толя Апатьев, Тоня и Шура не назвали никого. Их молчание уберегло от ареста и пыток Колю Евтеева и Виктора Апатьева, тётю Марусю и двух «невест» — Римму Фирсову и Нину Хрычи-ков у.
Как вчера и позавчера, Шурик очнулся на каменном полу камеры. Друг Лёша дал воды, полил на голову и за ворот разорванной рубахи. Чуть слышно прошептал, почти касаясь губами уха:
— Тихо, мы не одни.
Немного отойдя, Шурик и сам увидел третьего заключённого. Высокий черноволосый человек сидел на топчане возле стены, подняв плечи, опустив голову, зажав коленями сплетённые пальцы рук. Чёрная тужурка со споротыми погонами и со следами от вырванных пуговиц
показалась знакомой юноше. Ну, конечно, такие тужурки он не раз видел. Их носят эсэсовцы. Откуда же у этого? Алёша, заметив удивление на лице Шурика, шёпотом пояснил:
— Немец. Он мне своё имя назвал — Рудольф Бор-харт. Я вспомнил о нём ещё раньше. Тоня рассказывала. Штабс-фельдфебель. В доме у Козыревых жил. Тоня говорила, будто против Гитлера шёл.
— А может, подсадили к нам выведать? — прошептал Шурик и закрыл глаза. Всё тело ныло, голова кружилась.
Алёша растерянно пожал плечами. Всякое может быть. Он встал и молча пересел на свой топчан.
Борхарт услышал, как назвали его имя- Но не поднял головы, не произнёс ни слова, чтобы хоть как-нибудь объясниться с этими обречёнными на смерть мальчиками. Зачем? Ему всё равно не поверят Клеймо фашиста легло на него с того дня, как он надел эту ненавистную форму. У себя в ГФП он был чужаком, окружённым фанатичными приверженцами Гитлера и садистами вроде Якоба Штенглица. Система сыска и слежки в немецкой армии была доведена до совершенства. Не доверяли ему, боялись.
«Ты совсем одинок, Рудольф, — часто говорил он сам себе. — Русские тебя сторонятся, они не верят человеку в форме убийцы. И я бы не верил и ненавидел! Только кляйне тохтер, маленькая Валя, слушала, понимала и, кажется, чуточку верила. А сейчас конец всему».
Борхарт отлично понимал, что ему грозит. Штенглиц выполнил свою угрозу. Он нашёл фотографии Ленина и Тельмана в сапоге фельдфебеля. Сейчас всё прежние доносы переводчика обрели новую силу. Дело военнослужащего Борхарта передано в полевой суд, а это почти наверняка расстрел.
«Что же, может быть, так и лучше!» Ещё никогда Рудольф Борхарт не чувствовал такой безграничной опустошённости и безразличия к собственной судьбе, как сейчас. Он посмотрел в сторону Шумавцова и Лясоцко-го. Совсем мальчики Как их изуродовали! На лицах, на спинах не осталось живого места. Сколько им ещё придётся перетерпеть, прежде чем придёт смерть!
Повинуясь внезапш эспыхнувшему порыву, Борхарт
встал, поднял над головой полусогнутую руку со сжатым кулаком и произнёс:
— Рот фронт Ленин — да, Гитлер — капут Алёша и Шурик удивлённо переглянулись. Заговорить с этим немцем, расспросить, за что его пихнули сюда?.. Но немецкий они не знают, а главное — сейчас нельзя рисковать, может быть, после
Однако к вечеру немца вызвали на допрос, и в камеру он больше не вернулся.
Проходил час за часом. Шурик Лясоцкий забылся в полусне и только изредка стонал и что-то шептал вспухшими, запёкшимися губами. Алёшу тоже клонило ко сну, но наплывавшую дремоту всё время отгоняли тревожные мысли: какую ошибку он совершил? В чём и где не выполнил наказа Золотухина и Суровцева об осторожности и конспирации? Алёша вспоминал каждый свой шаг, каждое слово, сказанное знакомым и незнакомым людям, и только почему-то фамилия Соцкого не приходила ему на ум. Он просто забыл о Прохоре.
«Если бы взяли меня одного, — думалось Шумавцову, — тогда ещё полбеды, но рядом Шурик А может, за стеной, в соседней камере, пытают других? Может взяли и Шуру?.. А ведь я в ответе за судьбы друзей».
Душевная боль томила Алёшу и была сильнее боли физической. Сон не приходил.
Шура Хотеева тяжело болела. Девушка простудилась, когда её вели полураздетую из дома в тюрьму, и сейчас она кашляла, по ночам бредила и стонала. Тоня согревала сестру собственным телом, гладила по голове и шептала ласковые слова утешения. Обычно прямая, смешливая, иногда по-мужски резкая, Тоня таила в себе нерастраченный запас нежности и мужества. Она ободряла Шуру, утешала её, вселяла в сердце сестрёнки крупицы надежды. Поздней ночью, как и дома, Тоня забиралась на топчан к Шуре, обнимала её, и сёстры шептались до самого рассвета, свинцового, тяжёлого рассвета, возвещавшего о приходе нового, может быть последнего дня их жизни.
О чём только не было переговорено в эти долгие часы бессонных ночей. О любви и дружбе, о счастье тех, кто доживёт до победы, о маме и малышке Тамаре, им
сейчас особенно тяжело. Тревожились девушки и о судьбе Зины. Ведь если сестра объявится в городе и придёт домой, её обязательно схватят. Но больше всего тревожила Шуру и Тоню мысль о друзьях. Где-то совсем рядом находились товарищи, соратники, любимые. Живы ли они? Что с ними?
— Не быть Алёше лётчиком, а он так мечтал, — однажды подумала вслух Шура и ещё крепче прижалась к сестре. — Знаешь, Тоня, в самом начале войны он сказал, что поедет учиться в лётное, и так мне грустно тогда стало, чуть не разревелась. Честное слово!
— И всё-таки ты счастливая, — уже в который раз повторила Тоня и провела ладонью по горячей щеке сестры. — Ты любишь, тебя любят.
— Любила, любил — чуть слышно поправила Шура.
— Незачем похороны раньше времени устраивать, — -рассердилась Тоня. — А я верю, что мы будем жить будем. Лишь бы выдержать, лишь бы выдержать
Она до хруста сжала пальцы. В темноте был виден лихорадочный блеск её глаз.
— А если и умрём, — удивительно спокойно продолжала думать вслух Шура, — то всё равно будем жить в памяти. Ведь мы умрём не просто так, не по старости, не от болезни, а за нашу Родину, за наш город, за наш лес, нашу любовь. Правда?
Тоня хотела что-то ответить, но промолчала. Ей показалось, что Шура засыпает и последние слова произнесла уже в полусне.
Следствие затягивалось, и его никак нельзя было назвать успешным. Как бешеный, с толпой полицаев Иванов метался из камеры в камеру. Он уже перестал вызывать арестованных к себе в кабинет и «работал» прямо в камерах.
Да, следствие затягивалось. Начальство выражало недовольство, и Бенкендорф решил использовать ещё один ход — «психологический». Вывести арестованных в лес и под угрозой неизбежной, немедленной смерти заставить показать путь к партизанам. Иванов с радо стью ухватился за это предложение.
Много лет спустя Пётр Суровцев рассказывал:
«Седьмого ноября сорок второго года вместе с Афанасием Посылкиным я пошёл на встречу с ребятами в нашу, верой и правдой послужившую «Петрухину избушку». День седьмого ноября! Праздник! В лагере готовились как могли встретить его, а мы вышагивали по лесным дорогам и тропкам и вели негромкий разговор о тревожных весточках, долетевших из города. Толком мы сами ещё ничего не знали. Командир отряда приказал передать Шумавцову или другому, кто придёт, листовки для населения. Как сейчас помню, в них говорилось, что надо всем держаться и верить в освобождение, ну и, конечно, поздравление с Октябрьской годовщиной. Мы получили ещё устное задание подробно разузнать о событиях в Людинове. Молчание тревожило всех.
Ноябрь — плохое время для прогулок по лесу, но мы за долгие месяцы лесной жизни пообвыкли и шли как будто по центральной улице города. В отряде и у подпольщиков имелся твёрдый график встреч. Пришлось торопиться, однако ни вечером, ни на следующий день, а это было воскресенье, в «Петрухину избушку» уже никто не пришёл. Что делать? Афанасий Ильич решил: будем ждать понедельника. Кто знает, может, ребята не сумели выбраться из города. Всякое бывает. Остались ещё на одну ночь. А в избе холодно, печь не топлена, окна и дверь в щелях, прохудились. Кое-как дождались утра.
— Давай, Петро, подадимся ближе к улице Войкова, — предложил мне Посылкин. — И мы пошли. Идти пришлось недалеко. Очень скоро заметили неладное: навстречу двигалась толпа полицаев. Из-за деревьев мы отчётливо увидели злые лица Иванова, Доронина, был такой подлюга, предатель. Всего полицаев насчитали не меньше тридцати. Но смотрели мы в эти секунды не на них. Впереди со связанными руками шли Алёша Шумавцов и Шурик Лясоцкий. Лица у ребят будто кровяные маски, но головы они держали высоко, шагали твёрдо, видать, не хотели показать палачам свою боль и страдание. Я не утерпел, высунулся из-за дерева, тут меня Лёша и увидел, отвёл глаза в сторону, да как закричит: — Братья, партизаны, уходите!.. — И Шурик тоже крикнул: — Если много вас, помогите, а нет, бегите!
Потемнело у меня в глазах, рванул винтовку и в полицая Кажется, не попал. Тут же загремели ответные выстрелы в нашу сторону, пули защёлкали по деревьям. А гадюка Иванов и Доронин вскинули пистолеты и в упор в Алёшу и Шурика. По нескольку пуль всадили враз. Возле Будённовской это случилось Там раньше ребята футбольное поле готовили, неподалёку от болота».
Так оборвалась жизнь «Орла» и его друга Александра Лясоцкого. Спустя час обер-лейтенант Дмитрий Иванов явился в комендатуру и осторожно, чтобы не испачкать стекло, положил на край стола Бенкендорфа вещественное доказательство — отрубленную голову Алексея Шумавцова, завёрнутую в окровавленную тряпку. Коменданту показалось, что глаза убитого юноши продолжают смотреть на него с холодной неумирающей ненавистью и рот приоткрыт в иронической улыбке. Майору стало нехорошо. Он вздрогнул и приказал немедленно вынести «это» из комнаты.
Только в конце апреля сорок третьего года пастух, гнавший коров, наткнулся на трупы Шумавцова и Лясоцкого. Старая бабушка Алёши вместе с соседкой тайком пробралась в лес, похоронила их, окрестила землицу дрожащей рукой и поплелась обратно в город, плача и вздыхая. Никто из Лясоцких помочь Евдокии Андреевне не мог, так как через несколько дней после гибели Шурика, вся семья Лясоцких — восемь человек, и старые и малые, — была расстреляна фашистами на окраине Людинова.
Прошло ещё немного дней. Упорство оставшихся в живых подпольщиков сломить не удалось. И тогда ночью, тайно, по приказу коменданта были вывезены из тюрьмы и расстреляны Тоня и Шура Хотеевы и Анатолий Апатьев.
Глава четырнадцатая
ПРОЩАЙ, КЛАВА!..
Гибель орлят не испугала оставшихся в живых лю-диновских подпольщиков. Психологический расчёт «специалиста» по русским делам майора фон Бенкендорфа
лопнул, как мыльный пузырь. По-прежнему, как и раньше, на стенах домов появлялись листовки, рассказывавшие о положении на фронтах и крахе блицкрига, гремели выстрелы в окна управы, взлетали на возух немецкие автомашины. Николай Евтеев и Виктор Апатьев продолжали начатое дело и, мстя за гибель друзей, не упускали ни одной возможности «пощекотать нервы» оккупантам. Они писали и расклеивали по ночам призывы к людиновцам не сдаваться и не покоряться врагу, мастерили самодельные мины и подкладывали их даже возле домов, где размещались чины ГФП. Фирсова и Хрычикова всё так же приходили к тёте Марусе и уносили от неё «подарки» из леса. Да и сама Вострухина, преодолевая боль в ногах, нет-нет да и наведывалась в самые отдалённые улицы и переулки города и оставляла на заборах весь запас листовок, доставленный партизанскими связными. А бывало и так, что в город проникали разведчики Золотухина и Яшерицына, «снимали» часовых у комендатуры и складов и забрасывали гранатами дома предателей, ставших прислужниками фашистов.
Да, фон Бенкендорф просчитался. Иванов был взбешён и опасался за свою карьеру. Спокойствия в городе не наступило. Борьба продолжалась!
Продолжала борьбу и людииовская медицинская группа.
Клавдия Антоновна Азарова не ошиблась, привлекая к подполью Олимпиаду Зарецкую. Верным другом и помощником стала её сослуживица. Теперь Олимпиада Александровна была посвящена во многое. Партизанский связной дважды виделся с ней, и она передала из рук в руки собранные за неделю медикаменты. Посыл-кин, который первым в отряде узнал о новой участнице «медицинской группы», одобрил выбор Клавдии Антоновны, и с его мнением и оценкой согласился скупой на похвалы и одобрение Золотухин.
А сама Липа, как ласково, куда чаще чем раньше, звала её подруга, словно зажила новой, ещё не изведанной жизнью. Она и внешне преобразилась. Речь стала громче, твёрже, глаза, обычно грустные, сейчас глядели прямо, уверенно, и даже поступь молодой женщины изменилась. Теперь она ходила быстро, стремительно, еы-соко подняв голову.
Эту разительную перемену первым заметил Викторин Александрович.
— Ты будто именинница, или, может, влюбилась в кого? — пошутил он однажды.
— Влюбилась, брат, крепко влюбилась. Навсегда, навечно, — улыбнулась Олимпиада. И добавила уже вполне серьёзно: — Я и раньше любила, да всё думала, что любовь неразделённой была. А теперь, вижу, любкт меня, доверяют.
— Понимаю, сестра. — Викторин Александрович белой тонкой рукой потёр лоб и тихо закончил: — Только никому не говори о своей любви. Береги её в сердце, в помыслах своих. Так надёжнее и лучше будет.
Олимпиада внимательно и долго смотрела на брата. Как понять его совет? Знает что или о чём-то догадывается? Но лицо брата как всегда было безмятежным и ласковым.
Труднее оказалось дома. Бок о бок жили Соболев и Евтенко. За последнее время они почти каждый вечер наведывались к Олимпиаде Александровне. Да оно и понятно, куда ещё могли пойти два военных врача, оказавшиеся в плену, в незнакомом городе, среди незнакомых людей. Арест врача Хайловского, попавшего в плен одновременно с ними, наложил на каждого отпечаток подавленности и трудно скрываемой тревоги. «А может, завтра моя очередь? Кто знает?» — читалось на лицах Соболева и Евтенко. Азарова и Зарецкая разделяли беспокойство своих коллег, понимали их состояние, сочувствовали им, и всё же у обеих женщин росло чувство недовольства и обиды за приниженность и робость, так явственно проступавшие в облике и в поведении этих двух советских людей.
Однажды в воскресный день к Олимпиаде Александровне пришёл гость. Открыв входную дверь, Зарецкая вначале не узнала стоявшего перед ней высокого плотного мужчину в модном широком пальто. Пригляделась внимательнее. Иванов, Дмитрий Иванов! Почему, зачем? И в штатском. Он ни разу до этого не бывал здесь. Неужели провал? Но, удивительное дело, в это мгновение мысль о провале не напугала Зарецкую.
— Товарищ Иванов? Какими судьбами? Чем обязана? — Эти возгласы будто вырвались у хозяйки наивно и непосредственно.
— Иванов — это верно. Только не товарищ. И вообще, уважаемая Олимпиада Александровна, следовало бы отвыкнуть от подобного обращения. Мы же с вами интеллигентные люди.
Уже позднее Зарецкой показалось странным, почему именно эти произнесённые зловещим гостем слова убедили её, что неожиданный визит обер-лейтенанта не грозит сейчас ни допросом, ни арестом. Сразу пришло решение продолжать разговор просто, легко и чуточку наивно.
— Брось, Митя, к словам придираться. От многолетней привычки сразу не отобьёшься.
— Верно, но надо стараться отвыкать. — Гость говорил медленно, с апломбом. Чувствовалось, что Иванов хочет с первых же минут произвести впечатление очень серьёзного, важного человека, облечённого полномочиями и высоким доверием. Однако Олимпиада Александровна всего этого будто и не замечала.
— Проходи, Митя, проходи. Ишь, какой ты нарядный.
— Как живётся, Олимпиада Александровна, как работается? — Иванов с любопытством оглядел маленькую комнатку, увидел фотографию Нины на этажерке, подошёл, повертел в руках, поставил обратно.
— Ничего, Митя. Холодновато, голодновато, но не тужу. Время тяжёлое.
«Так и буду. Так и буду, — настойчиво билась мысль. - Он на вы, по имени, отчеству, а я на ты и просто по имени». — Зарецкая видела, что Иванову не по душе подобная фамильярность, но продолжала своё.
— А у меня к вам серьёзный разговор. Садитесь!.. — это было похоже на приказ, но хозяйка опять «не поняла».
— Насиделась, спасибо. Может, чайку попьёшь?
— Не хочу. Садитесь!
Недоумённо пожав плечами, Олимпиада Александровна опустилась на стул. Перед нею сидел Митька, тот самый Митька, который мальчишкой с рёвом прибегал в больницу. Порезав палец, расквасив нос, он всегда боялся идти домой, чтобы не попасть под тяжёлую руку матери или старшего брата. Студент, о котором рассказывала Нина: «Любит трогательные стихи и читает их, чуточку завывая». Нет, сейчас это был другой,
совсем другой человек. Припухшие веки и морщины на невысоком лбу, синеватые щёки, то ли от мороза, то ли от бритья, широкий, словно срезанный подбородок и слегка приподнятое левое плечо, наверное, результат ранения. Опытным глазом медицинского работника Зарецкая охватывала, прощупывала облик Иванова, будто пыталась установить диагноз. Что произошло с ним? В чём причина тяжёлого заболевания?
Глаза небольшие, кажется, карие. Но Зарецкую в данном случае мало интересовал цвет глаз непрошеного гостя. Выражение насторожённости и таящегося где-то в глубине непроходящего испуга — вот что читала она в его глазах. Может, такое впечатление создавалось из-за чуточку расширенных зрачков? Может быть. Но Олимпиада Александровна с радостью мысленно отметила, что Дмитрий Иванов постоянно чего-то боится.
— Послушайте, дорогая, чем объяснить излишнюю сердобольность кое-кого из больничного персонала? — после короткого молчания спросил Иванов.
- Не понимаю, о ком ты, Митя? — На этот раз недоумение Зарецкой было вполне искренним. Она действительно не поняла вопроса.
Каждый раз, когда мы готовим людей для отправки в Германию, не менее десяти — пятнадцати мерзавок приносят справки, что они больны Какая сволочь.
— Ты не шуми! — неожиданно властно оборвала его Зарецкая. — Вокруг Нинки вьюном вьёшься, а пришёл к её тётке и расшумелся
Ото был поистине умный ход. Он сразу перевёл допрос в плоскость личных отношений и как бы отгораживал Зарецкую от всего, что происходило в больнице и в городе
Наступила долгая неловкая пауза. Видимо, гость, сбитый с толку, искал новую линию в поведении и разговоре.
— Ладно, — примиряюще пробурчал Иванов и даже попытался улыбнуться. — Я к чему. Мне из-за этого одни неприятности. Недоглядел, подготовил не тех, кого надо. Ведь больных хозяева не хотят к себе в страну ввозить. Согласитесь, кому такие нужны.
«Ах ты гад недострелянный, — думала в эту минуту Олимпиада Александровна, глядя на Иванова, — так
вот что тебя тревожит, вот о чём ты печёшься». Думала одно, а слова произносила совсем другие:
— Что поделать, Митя. Жизнь тяжёлая, народ ослабел. Ютится где попало, ест плохо, отощал. Вот хворь и лепится. Кто же понапрасну справки давать будет! Сам понимаешь, врачебное дело ответственное.
А сама думала: «Кто? Кто выдаёт справки?»
Будто отвечая на невысказанный вопрос хозяйки, Иванов пояснил:
- На справках подпись одна: старшая медсестра Азарова. Всего две-три справки подписали врачи. Я ещё доберусь до больницы. Может, липует старая ведьма, выдумывает всё, получается, что полгорода болеет, и на всех уже давно больничные карточки заведены. — Спохватившись, что выболтал лишнее, Иванов косо поглядел на Зарецкую и предупредил. — Вы никому ни слова о нашем разговоре. Понятно?
— Упаси бог, — перекрестилась Олимпиада Александровна. — Мне-то что. Только зря ты, Митя. Всё, что пишется, — правда. Я так думаю.
А в голове неотвязная мысль: неужели действительно Клава писала от себя, с целью спасти советских людей от неволи, от кабалы в фашистской Германии? И не подумала о возможной проверке. Или, может, сумела с чьей-то помощью завести нужные карточки. Дай-то бог. Ведь Клава осторожная и умная.
Скоро Иванов ушёл. На прощанье фамильярно похлопал хозяйку по плечу. Похвастался, что, наверное, в ближайшее время поедет в командировку в Германию.
— Шеф посылает, говорит, посмотри, Дмитрий, как настоящие люди живут. Приедешь обратно, будешь читать лекции о великой Германии, её культуре и цивилизации.
Дверь закрылась, и Олимпиада Александровна облегчённо вздохнула. Но тут же разрыдалась. Сдали нервы. Хотелось лечь, закрыть глаза и уснуть. Крепко уснуть, чтобы забыть гостя, разговор с ним, забыть всё, всё Однако тревога за Клаву оказалась сильнее всех других чувств и желаний. Не прошло п минуты, как Зарецкая заторопилась к подруге. Надо было немедленно предупредить её об опасности, а в случае необходимости помочь.
Проходят дни и годы,
И бегут века.
Надломленный хрипловатый голос Лещенко, тоскливая мелодия романса ежевечерне доносятся из соседней квартиры. Пластинка заиграна, слова малоразборчивы, но Клавдия Антоновна знает их наизусть. Сколько раз она слышит эту тягучую песню, эту фальшивую тоску. Как не надоело тем, кто живёт рядом, за стеной. Из вечера в вечер, долгими часами одно и то же, одно и то же.
Нервы, нервы Никуда не годятся нервы. Последние несколько дней они особенно сдали. В чём дело? Что произошло?
Клавдия Антоновна ходит по комнате и кусает губы. Она всегда, когда очень взволнована, ходит до полного изнеможения, потом валится на постель и засыпает, будто проваливается в пропасть. Несколько часов абсолютного покоя. Теперь почти никогда ничего не снится. Так даже лучше. Что может присниться радостного и хорошего, когда уже столько месяцев жизнь придавлена, растоптана, когда не видно конца вражескому господству. А ведь был смех, было счастье, маленькое, но было. Были друзья, любовь к театру, к книгам. Всё ушло. Ушло настолько далеко, что даже не возвращается во сне.
« Проходят дни и годы и бегут века». Кажется, прошёл десяток лет, никак не меньше. За окном уже снова снежная крупа и вьюжит, вьюжит без конца. Но ведь так было и неделю и две недели назад. Почему же растёт тревога? Да, да, гибель Алёши и его друзей. Они, наверное, умерли героями, никто не сказал ни слова. Иначе уже давно схватили бы и её. Азарова успела полюбить Алёшу - скромного, сероглазого юношу, который в короткие минуты встреч всегда пытался ободрить, поддержать её. Но почему уже столько дней никто не приходит из партизанского отряда? Почему? И не у кого узнать. Пыталась разговаривать с «Ясным». Молчит, а глаза грустные. Обронил скупо и тихо:
— Грядут испытания. Крепитесь, друг мой.
Из угла в угол, из угла в угол. Сколько исхожено километров. Лучше и легче было бы в лесу среди своих. Но нужно быть здесь. Нужно лечить, улыбаться, разговаривать и ждать. Медикаменты собраны, упакованы,
спрятаны в надёжном месте. Не может быть, чтобы в них не нуждались там, в лесу. Почему же никто не идёт за ними? Раньше приходил Алёша. Кого теперь пришлёт Посылкин? Ах, как тяжко, ждать, ждать И ложиться спать вот так, как сегодня, исшагав комнату до изнеможения, под звуки опостылевшего романса.
Клавдию Антоиопну Азарову арестовали в ночь на девятое декабря 1942 года. Немецкий фельдфебель и два полицая истоптали комнату грязными сапогами, раскидали бельё, книги, изрезали диван и матрацы. Забрали всё фотографии, письма, бережно хранившиеся в шкатулке и перевязанные голубой ленточкой. Девичьи письма уже стареющей женщины. В них стыдливо рассказывалась печальная история неразделённой любви девушки, почти девочки, Клавы Азаровой, к прапорщику Серёже, чьи родители искали для сына невесту с приданым. Письма давно пожелтели от времени, пропахли вялыми листьями и засушенными цветами.
Когда Азарову уводили, никто из соседей не вышел в коридор. Боялись. За каждой дверью стояла насторожённая тишина. А во дворе, маленьком, заснеженном, к Клавдии Антоновне метнулась худенькая женщина. Она проскользнула между конвоирами и крепко обняла арестованную. Это была Олимпиада Зарецкая. Так и стояли они обнявшись: одна высокая, в зимнем пальто и платке, другая — полураздетая, в тапочках на босых ногах, с бледным лицом и широко раскрытыми глазами.
— Иди, девочка, домой, простудишься. — Голос Клавдии Антоновны звучал спокойно, обыденно. — Ни о чём не тревожься. Ни о чём. Всё будет в порядке.
Полицай грубо оттаскивал Зарецкую в сторону и матерился. Но в самую последнюю секунду Азарова чуть слышно шепнула Олимпиаде:
— Пойди к брату, назови его «Ясным». Он поймёт предупреди Обязательно.
Увели. Замерла посреди двора одинокая женская фигура. Уже затихли шаги и брань полицая на улице. Тишина. Снег падает на непокрытую голову, шею, лицо, тает и слезинками течёт по щекам.
Ночью Клавдию Антоновну на допрос не вызывали. Втолкнули в камеру и заперли тяжёлую дверь. Кое-как в темноте она добралась до топчана, легла, и с открытыми глазами пролежала до утра. Пыталась разобраться
iso всем, что произошло. Может быть, её взяли просто так, чтобы проверить, выведать? Олимпиада рассказала о своём! разговоре с Иьановым. Тот зол, как дьявол, подозревает в выдаче фальшивых справок. Но если арестовали только за это, она спокойна, в больнице, в регистратуре, всё сделано так, что и комар носа не подточит. Хотя о каком спокойствии можно говорить сейчас, здесь, в плену у фашистов. Они убивают просто так, из-за каприза, прихоти, из-за непонравившегося взгляда и случайного подозрения. Однако, возможно, её взяли не из-за больничных справок, а по главному, большому делу. Но откуда стало известно о нём? Где, в каком звене оборвалась цепочка?
Клавдия Антоновна не могла ответить ни на один из этих вопросов. Она лежала, думала, перебирала в памяти всё события, всё мелочи и почти спокойно ждала утра, ждала первой встречи с палачами.
Иванов не поднял головы, не оторвал глаз от бумаги, которую читал или делал вид, что читает, когда Азарову ввели в комнату. «Стандартный метод устрашения», — промелькнула мысль у Клавдии Антоновны. Она остановилась у двери и ждала. Конвоир вошёл вместе и стал рядом, за спиной.
— Садись сюда к столу, ближе, отрывисто приказал Иванов и кивнул головой полицаю. Тот вышел.
Женщина медленно прошла по дорожке через всю комнату и села на стул.
— Говорить сразу будешь или по жилам вытягивать придётся?
Сейчас Иванов был в зеленовато-сером офицерском мундире с серебряными пуговицами, на груди поблёскивали немецкие награды: крест с мечами и бронзовая медаль.
— О чём говорить? — пожала плечами Клавдия Антоновна.
— Не дури! — прикрикнул Иванов, — Нет у меня ни времени, ни охоты с тобой в прятки играть. Выкладывай всё, что знаешь.
— Стара я для игры. Если бы у меня был сын, он смог бы с вами в пряталки поиграть и даже на одной студенческой скамье посидеть, — горько усмехнулась Азарова.
— Хватит агитировать! — Иванов выругался громко и цинично.
— А ведь я тебе в матери, Дмитрий, гожусь. Неужели и перед ней ты тоже
Договорить не удалось. Иванов вскочил, ударил её ладонью по лицу. Голос его перешёл в визг. Он остервенел и зло ругался, стуча кулаком по столу, грозя всевозможными пытками, плевался, а потом как-то сразу сник. И наступила короткая тишина.
Иванов посмотрел на ручные часы, потом на арестованную, перевёл взгляд на дверь. Чувствовалось, что он чего-то боится и страшно торопится.
— Вот, смотри, читай. Хана твоё дело, точка! — Иванов ткнул Азаровой в лицо смятый листок бумаги.
Смысл нескольких слов не сразу дошёл до её сознания. Только мгновение спустя Клавдия Антоновна поняла, что произошло самое страшное, непоправимое, то, чего она больше всего боялась. Провал. Вот она — тягчайшая улика. Теперь оставалось одно — собрать всё силы и молча перенести оскорбления, побои, пытки, а потом — умереть, чтобы спасти остальных.
«К. А. Спасибо. Время пришло. Приходите. Захватите инструмент. Заберите с собой Л. Привет от В. И.»- — Таково было содержание записки.
Рука женщины невольно потянулась к листку, но Иванов поспешно положил его на стол, возле себя.
— Понятно? Всё! И не рассчитывай, что откровенное признание тебе поможет. Партизаны и всё, кто помогают им, не выходят отсюда. Верёвка или пуля обеспечены. Лично тебе обещаю пулю. Довольна?
— Но я не знаю никакого В. И. Почему вы решили, что записка адресована мне? Это какая-то провокация.
— Хватит кривляться. Слушай! — Иванов перегнулся через стол и зашептал: — Вчера днём на опушке леса, недалеко от города, схватили двух парнишек. Оказались партизанскими курьерами. Не веришь? Вот их имена: Рыбкин и Сенька Щербаков. У них нашли записку к тебе. Со шпаной будет особый разговор. — И уже совсем тихо, хрипло и зловеще: — Ты со счёта скинута, поняла? Тебя уже нет. Но кто Л.?
— Не знаю, — как можно спокойнее ответила Клавдия Антоновна. Она чувствовала, как к горлу подкатывается тошнота, и боялась упасть в обморок.
— Зато я знаю. Пока один знаю. Липа- это Олимпиада. Вот кто.
— Выдумываете всё, — устало попыталась возразить Азарова.
— А-кто же тогда Л.? Кто? Говори!
Иванов, не отрываясь, смотрел на арестованную, и ей начинало казаться, что этот предатель в серовато-зелёном мундире немецкого офицера страстно хочет, чтобы она, Клавдия Антоновна Азарова, назвала совсем другое имя. Не Олимпиаду Зарецкую, нет, кого-нибудь другого. Может быть, Иванов, боится за себя? Конечно. Ведь только этим можно объяснить его поведение. Он, конечно, уверен, что Л. — это Липа, Олимпиада. Но Зарецкая, тётка Нины, близкая родственница девушки, о которой он хлопотал и устроил переводчицей к немцам. Вот оно что! Он опасается «хозяев». Возможно, он даже кое о чём догадывается и в отношении отца Нины — Викторина, «Ясного». Но Иванов знает, что если «хозяевам» станет что-нибудь известно об отце и тётке Нины, шутки плохи, ему самому не уцелеть. Его уничтожат, сотрут в порошок или просто отдадут в руки Двоенко или эсэсовцам. Иванов всё это отлично понимает и смертельно боится этого. Тогда понятно только что сделанное им предупреждение: «Не рассчитывай, что откровенное признание тебе поможет». Странное заявление из уст следователя, стремящегося побольше узнать. Странное вообще и вполне естественное для Иванова сейчас. Но что мне до всего этого. Всё равно я ни одного имени не назову. Ни одного. — Эта мысль как бы заглушила, отогнала остальные.
Клавдия Антоновна отрицательно покачала головой и повторила:
— Я уже сказала. Я не знаю ни В. И. ни Л. Поступай, как хочешь.
— Это ты мне сейчас говоришь. А когда начнут ломать кости, вгонять иголки под ногти, всё выложишь.
И женщина не выдержала:
— Стращаешь, а сам боишься, гадина? За собственную шкуру трясёшься. Думаешь, не понимаю всей твоей подлой игры, паскудного страха? Всё понимаю. Ну, что ж, потрясись немного. А ещё лучше подумай, удастся ли тебе смыть с себя кровь наших русских людей? По роду ты русский, а по нутру — овчарка немецкая,
фашистский ублюдок. Я плюю на тебя, на твой поганый мундир, на твои кровью покрытые награды.
Клавдия Антоновна была близка к истерике и выпалила всё одним махом.
Иванов словно оцепенел. Замер, тяжело дыша, сжимая и разжимая кулаки. Он не был оскорблён словами, бившими, как хлыст. Нет, он ещё больше напугался. Иванов понимал, что загадка разгадана, что он может оказаться в руках этой спокойной, умной, ненавидевшей его женщины. И кто поручится, что, доведённая до отчаяния пытками и ежечасной угрозой смерти, она не сделает признания, которое попутно погубит и его. Нет, он хочет жить!.. К чёрту, к дьяволу!
Иванов кинулся к Азаровой, рывком сбросил её со стула и стал бить, топтать ногами, а потом хлестать плёткой уже потерявшую сознание женщину.
Когда в комнату вбежали полицаи и солдаты, Иванов стоял опираясь о стул. Возле Клавдии Антоновны лежало тяжёлое пресс-папье. Всё должно было по замыслу Иванова воспроизвести картину внезапного нападения на него и вынужденной обороны. Подобное уже не раз случалось в полиции, главным образом, при допросах захваченных партизан. Один из полицаев равнодушно перешагнул через тело женщины и спросил:
— Выносить?
Иванов молча кивнул головой.
— Да, и пристрелите её немедленно. Кидается, проклятая
Иванов услышал револьверный выстрел. Всё в порядке! — Обер-лейтенант облегчённо вздохнул.
Когда через несколько дней вслед за Соболёвым и Евтенко гестаповцы вызвали Олимпиаду Зарецкую, допрос её носил поверхностный и формальный характер. Правда, немецкий фельдфебель долго кричал, что русские прикрывают друг друга, и угрожал расстрелом или виселицей, если она не признается. Он стучал согнутым пальцем по записке, которую недавно предъявляли Азаровой, и несколько раз спрашивал, какие русские имена начинаются па букву «Л».
— Мало ли, отвечала Зарецкая и всё время думала о том, что произойдёт с нею дальше. Посадят в камеру? Будут пытать? Или отпустят? Неужели может
случиться такое?.. — Леонид, Леокадия, Лаврентий, Любовь А меня зовут Олимпиада, понимаете — Олимпиада, на букву «О»
Немец опять ругался, но как-то лениво, словно по обязанности, опять грозил и даже дважды с размаху ударил Зарецкую по щеке. Она охнула, побледнела, но усидела на стуле. Только сердце колотилось так сильно, что, казалось, сейчас разорвёт грудную клетку. А когда фельдфебель, усмехнувшись, сказал, что её подруга Азарова «во всём призналась и отправилась на небо замаливать свои большевистские грехи», Зарецкая опустила голову, замолчала и больше не произнесла ни слова. Она поняла: фашисты убили её мужественную подругу.
Зареикую продержали на допросе около трёх часов. И неожиданно для неё самой выпустили.
— - Иди и не попадайся!..
Она вышла на улицу, измученная, постаревшая, и сразу же отправилась к брату, к «Ясному». Теперь он был ещё ближе, ещё дороже. Домой идти не могла. «Клавы нет. Клава убита. Прощай, Клава». Эти мысли гнали Олимпиаду Александровну всё дальше и дальше от дома.
Спустилась декабрьская ночь. Крепчал мороз. Словно вымерший, город встречал женщину чёрными глазницами окон и воем голодных бездомных собак.
Глава пятнадцатая
У СЛЕДОВАТЕЛЯ
Следствие подходило к концу. Дальнейшее упорство и отрицание собственных злодеяний всё чаще представлялось Иванову бессмысленным. Ничего не поделаешь! Ставка на карьеру, на шикарную жизнь, во имя чего он, собственно, и шагал по трупам, предавал, пытал и расстреливал своих недавних сограждан, оказалась битой. Расплата неизбежна. Сдаться, признать всё от начала до конца и подписью на последней странице протокола вынести приговор самому себе? Или ещё упорствовать, за что-то цепляться, отрицать, сваливать на других?
Высокий, грузный, широкоплечий, смуглый от южного солнца, Иванов медленно шёл по коридору в кабинет следователя. Вот сейчас он откроет дверь, из-за стола встанет молодой высоколобый человек с внимательными, чуточку грустными глазами и скажет негромко: «Садитесь, Иванов. Будем заканчивать?» Что отвечать? Молча кивнуть головой, досказать недосказанное и подвести черту или, как вчера и позавчера, как неделю назад в Москве и здесь, в Калуге, тянуть своё? «Не так уж я виноват, как кажется, гражданин следователь. Я же был только исполнителем». Надоело, до дьявола надоело. «Игра сделана, ставок больше нет!» — Проклятая фраза привязалась ещё со времени поездки в Германию в 1943 году. О, тогда она звучала совсем по-другому. Обласканный высоким покровительством Бенкендорфа, с немалыми деньгами, он пил, закрутил интрижку с прехорошенькой немочкой, играл в казино, а вернувшись обратно в Людиново, ораторствовал перед горожанами, рассказывал о немецкой культуре, восхвалял её.
Игра сделана Сейчас это звучит, как приговор.
И всё же Иванов даже в эти последние дни следствия ещё сопротивлялся. Для него каждая встреча со следователем представлялась поединком. Кто кого? Перехитрит он следователя, или тот припрёт к стене неопровержимыми уликами? И бывший обер-лейтенант вермахта тянул, пытался хоть что-нибудь скрыть, чего-то не досказать, в искажённом1 свете представить тот или иной факт. Удастся, и, кто знает, может быть, ещё одна крохотная гирька ляжет на чашу жизни, а не возмездия.
Отвечая па вопросы и изворачиваясь, Иванов не понимал главного: сейчас группа талантливых чекистов не только распутывает до конца грязный клубок его измен и предательства. Она вписывает недостающие страницы в славную историю борьбы людиновских подпольщиков.
Что же касается самого Иванова, то его жизнь и «деятельность» следствию уже хорошо известны.
Начало сентября 1943 года. Фашистской оккупации Людинова приходил конец. «Завоеватели» убегали, оставляя как мрачную память по себе сожжённые дома, трупы, ненависть к коричневой чуме, ненависть, которую сбережёт не одно поколение советских людей.
Готовясь к следствию, изучая материалы о зверствах фашистов в Людинове, Владимир Иванович и его товарищи записали некоторые цифры. Вот они: за время оккупации в Людинове гитлеровцы расстреляли 251 человека, публично повесили 7, угнали в рабство в Германию 1107 человек, нанесли материальный ущерб на 525 миллионов рублей. Конечно, эти цифры были не полны, но и они говорили о безграничном горе и бесчисленных страданиях жителей только одного небольшого советского города.
В стае стервятников Дмитрий Иванов был не последним. Изменник Родины старался изо всех сил. Хитрый, жестокий, злобный, он стремился только к одному — упрочить своё положение у хозяев, добиться похвалы v шефа — Александра Бенкендорфа. Шеф хвалил: «Молодец, Димитрий. Продолжай, действуй так же». И Иванов продолжал: вынюхивал, как ищейка, арестовывал, допрашивал, истязал, калечил, убивал.
Какой выдержкой нужно обладать, чтобы, зная всё о сидящем перед тобой звере в человеческом обличье, терпеливо слушать, спокойным голосом задавать вопросы У коммуниста следователя выдержки хватило. Терпеливо и настойчиво он разматывал хитроумную паутину, сплетённую врагом на случай провала.
Одетый в немецкий мундир, с наградами на груди, Дмитрий Иванов не только допрашивал и расстреливал советских людей. Он готовил план разгрома партизанского отряда. Вот что могло окончательно укрепить его положение и открыть путь к новым благам.
Обдумав и взвесив всё возможности, Иванов с согласия Айзенгута и Бенкендорфа осуществил хитро} мный, как ему казалось, трюк. Нашёл, завербовал, проинструктировал и забросил к партизанам учительницу Елизавету Грачёву. Он сам привёз Грачёву в деревню Куяву и связал её с немецким офицером для завершения операции. И не вина предателя, что Грачёва была очень скоро разоблачена и расстреляна партизанами.
А молодые подпольщики? Большую ставку делал Иванов на то, что сумеет развязать им языки, добиться признания. И снова просчёт, снова неудача. Не дрогнули, ни слова не сказали комсомольцы.
В скупых фразах, в коротких строках вопросов и ответов встаёт на страницах следственных протоколов
жизнь Людинова за двадцать два месяца фашистской оккупации. Жизнь во тьме, в голоде, страхе, но и в непрекращающейся борьбе за светлое завтра. И наконец этот день, это завтра пришло. Девятое сентября 1943 года. В этот день маленький город-герой, израненный, искалеченный, вновь расправил плечи и сказал: «Я живу!»
А Иванов? Для него освобождение Людинова явилось крушением, катастрофой. Правда, ещё жила, теплилась надежда, что всё переменится, что после короткой паузы «победоносные войска» фюрера вновь двинутся вперёд. Но омерзительное чувство страха, ощущение безнадёжности, провала честолюбивых планов и надежд становилось с каждым днём сильнее и сильнее. Теперь Иванов, как тень, следовал за своим шефом Бенкендорфом. В глазах холуя немецкий майор видел просьбу, мольбу не оставлять его здесь, забрать с собой. «Я ещё пригожусь, поверьте», — читалось на лице старшего следователя. И Бенкендорф сберёг Иванова. На всякий случай.
Вскоре оба они оказались в Минске. Александр Бенкендорф в новом для него ампула — шефа местной военной промышленности, Дмитрий Иванов--в должности заместителя директора военного завода.
Архивы тех лет не сберегли во всех подробностях описания «трудовой деятельности» Дмитрия Иванова за время с сентября 1943 до июня 1944 года. Однако известно, что новый заместитель директора немецкого военного завода был тесно связан с гестапо и принимал деятельное участие в розыске и арестах подпольщиков Минска.
И всё же история неумолимо вершила своё дело. Освобождалась русская земля от фашистского ига. Вышибались за рубежи Советского Союза поредевшие, обезумевшие от ярости, ещё злобно огрызавшиеся фашистские армии. И всё чаще наши воины писали на поваленных пограничных столбах два слова: «Даёшь Берлин!»
Прошло ещё немного времени. В имении Бенкендорфа Калиш на территории Польши объявился новый лесник. угрюмый, чурающийся людей, злой и тяжёлый на руку. Дмитрий Иванов. Трудно было узнать в этом обросшем, малоопрятном человеке недавнего щёголя, разгуливавшего по улипам Людинова в мундире немецкого
офицера. И только глубоко запавшие глаза таили знакомое выражение непреходящей злобы и неуёмного страха.
Лес!.. Раньше старший следователь людиновской полиции обер-лейтенант Иванов, как, впрочем, и большинство его тогдашних «коллег», боялся леса, сторонился ш обходил его. А сейчас лес притягивал к себе Иванова.. Деревья и кустарники укрывали предателя от людей,, чьи внимательные, насторожённые взгляды каждый раз; провожали странного пришлого человека, по-собачьи преданного немецкому хозяину.
Но уже горела земля под ногами фашистов и в Польше. Ни жестокие расправы, ни массовые аресты и пытки не могли погасить пламени сопротивления польских патриотов. Варшава, Лодзь, Краков уже слышали мерную поступь наступавших советских армий.
В конце 1944 года незадачливый немецкий майор, незаконный и кратковременный владелец воровски присвоенных имений на польской земле, Александр Бенкендорф запаковал чемоданы и сбежал в Германию. Вместе с ним бежал в фашистское логово Дмитрий Иванов.
— Окажите, неужели Бенкендорфу не надоело нянчиться с вами? Таскать всё время за собой, из города в-город, из страны в страну? — поинтересовался однажды следователь.
— Не знаю, — пожал плечами Иванов. — Собственно, я ему никогда не был в тягость. Всегда помогал, чем мог. Вроде носильщика или грузчика
Иванов явно скромничал, низводя свою роль единомышленника, палача, исполнителя кровавых замыслоа шефа до роли слуги, но следователь Владимир Иванович внимательно, не перебивая, слушал. Ободрённый молчанием, Иванов продолжал:
— В мае сорок пятого мы расстались. Я понял с опозданием, правда, что нам не по пути, и ушёл. Даже не простился.
— Любопытно, — улыбнулся Владимир Иванович. — Проститься — не простился, а охранную грамоту с упоминанием ваших услуг вермахту шеф всё-таки выдал, а вы взяли.
— Было такое, — пробормотал Иванов.
Следователю понадобилось много сил и времени,
чтобы проследить от начала до конна извилистый, пу
таный и скользкий путь, который прошёл Дмитрий Иванов, расставшись с Бенкендорфом.
По немецким дорогам двигались советские войска, залпы орудий уже доносились до Берлина. Может быть, именно в эти дни бесноватый фюрер спрятал в карман френча несколько ампул с крысиным ядом. «Игра сделана, ставок больше нет!»
А Иванов, человек без родины, искал спасения. Назад в Россию, снова стать русским, втереться в ряды победителей. С этой целью он сжёг всё документы. К чёрту услуги вермахту, гестапо, к дьяволу фашистские благодарности и медали! Однажды ночью в придорожном кювете Иванов, по его словам, наткнулся на труп советского солдата. Находка!.. Через минуту гимнастёрка, штаны и смятая пилотка убитого оказались на отощавшей фигуре Иванова. Красную звёздочку он выбросил, свою одежду кинул в яму, а сам в новом обличье дождался утра и смешался с толпой освобождённых советских военнопленных. Вместе с другими на пункт сбора военнопленных явился «исстрадавшийся в неволе» уроженец Гомеля Николай Петрович Смирнов. «Контузия, амнезия (потеря памяти), лагерь вырвался, дорогие товарищи спасибо вам »
Ему поверили, и через короткий срок «Смирнов Н.П.» уже значился бойцом хозяйственной команды сапёрного батальона.
Сейчас, спустя много лет, возникает законный вопрос: не помогла ли Иванову в последний момент фашистская разведка? Возможно, что превращение предателя в солдата Советской Армии было подготовлено заранее и имело «далёкий прицел» шпионского характера. Кто знает, может быть, именно так и было
Однако Иванов хотел забраться ещё глубже. Хотел ещё надёжнее замести следы, чтобы сбить с толку тех, кто мог заинтересоваться судьбой вернувшегося из плена солдата. С этой целью, выкрав из канцелярии документы, литера, чистые бланки, Иванов бежал из части и подался куда глаза глядят.
На пути вставали освобождённые, разрушенные города. Истомлённые, исхудавшие лица его недавних сограждан светились счастьем и радостью. Иванов был чужим на всенародном празднике. Он крался, как волк,
как хищник, боясь пристального взгляда, неожиданного вопроса.
Расплата. Возмездие! Уже тогда эти резкие, беспощадные слова хлестали, будили ночью, напоминали о неизбежном.
В маленьком грузинском городе Зестафоии Алек-сандр Иванович Петров, уроженец Смоленска, он же Дмитрий Иванов, стал проводником скоропортящихся грузов на железной дороге. Частые поездки, незнакомые станции, крохотные полустанки — всё это устраивало человека, жившего по подложным документам. Лишь бы не засиживаться на одном месте, лишь бы одни и те же люди меньше видели, меньше знали, меньше расспрашивали.
Так проходил месяц за месяцем, год за годом. Пришёл 1949 год Иванов, он же Петров, продолжал работать па железной дороге. Погрузнел, стал говорить неторопливо и уверенно, приглядывал жену с твёрдым намерением взять при женитьбе её фамилию: ещё один ход, чтобы прошлое кануло в неизвестность. Обзавёлся «дружками», старательно выбирая тех, кто не ахти как разборчив в делах и по характеру подходит. Жил тихо, не бросаясь в глаза, а в помыслах и на сердце таил одно: урвать побольше денег, вырваться на простор, добиться власти над людьми. Если не довелось достичь этого с помощью фашистской плётки, то хотя бы с помощью «деньги».
Осенью 1949 года Иванов-Петров с шайкой грабителей совершил в городе Орджоникидзе крупное хищение из железнодорожных вагонов. Вскоре он был пойман и осуждён на 15 лет лишения свободы. В лагерь прибыл уголовник Петров.
- Только, бывало, выкарабкаюсь, и опять хлоп по башке — и вниз кувырком. — цинично признался Иванов на одном из допросов. — Видать, судьба не сложилась — И выжидательно посмотрел на следователя. Однако Владимир Иванович и на этот раз не возражал и не спорил. Зачем? Стоило ли убеждать преступника, что своей судьбой распоряжался он сам. Его сверстники сражались за Родину, а этот, затаив ненависть и злобу, переметнулся к врагам. Тщеславный и алчный, он превратился в садиста. Родина была для него пустым звуком. Дружба, честь? Он смеялся над этими «словечка-
ми». И позже, в послевоенные годы, на какой-то срок уйдя от наказания, остался таким же ненавидящим, поправшим всё человеческое, ищущим лёгких путей.
Следователь промолчал, а Иванов продолжал сокрушаться:
— Двоенко — тот вовремя беду учуял. Хитрый, подлец: удрал из Людинова пораньше и сразу, как клоп, в щель забился. Ему что!
— Каждому свой черёд, — сдержанно заметил Владимир Иванович и предложил арестованному продолжать рассказ о себе. А говорить уже оставалось немного
Освобождённый досрочно. 10 июня 1955 года. «Петров» поселился в Якутии в Усть-Наре Работал шофёром на приисках, накапливал деньжат и собирался через год-другой махнуть туда, где потеплее. Северный климат пришёлся не по нраву.
На душе у него, как говорится, полегчало. Был Иванов да сплыл. Нет его. Есть Петров, хоть и отсидевший свой срок за уголовщину, но вернувшийся к честной жизни. К политике, (к фашистам, к Людинову, к казни подпольщиков и партизан Петров никакого отношения не имеет. Теперь он трудится по-ударному, можно и судимость снять, и льготной путёвкой в санаторий воспользоваться. Пора и отдохнуть от трудов праведных.
Десятого ноября 1956 года, при возвращении и санатория, шофёр из Усть-Нары Александр Иванович Петров был опознан и задержан на одном из московских вокзалов. Так пришёл конец.
Высокий, плечистый мужчина в чёрном пиджаке и белой рубашке, смуглый от южного солнца, вошёл в кабинет. Вместе с ним вошёл конвоир. Молодой следователь с внимательными, чуточку грустными глазами поднялся навстречу, кивнул головой и сказал:
— Садитесь, Иванов. Будем заканчивать.
ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Вот и заканчивается паше путешествие в небольшой тихий городок Калужской области Людиново. Заканчивается короткая повесть, по страницам которой мы водили тебя, наш молодой друг и товарищ, вспоминая
недавней прошлое. Оно было славным и героическим, это прошлое. Оно было трудным и прекрасным. Простые Советские люди, юноши и девушки, воспитанники Ленинского комсомола, следуя традициям своих старших братьев и отцов-коммунистов, не склонили головы перед врагом. В дни Великой Отечественной войны они стали бойцами, подпольщиками, народными мстителями. Каждый из них жил и боролся, защищая счастье, честь и свободу своей социалистической Родины. Всё они имели право сказать о себе словами любимого писателя Николая Островского:
« Вся жизнь и всё силы были отданы самому прекрасному в мире — борьбе за освобождение человечества».
Не всё, что мы знаем о юных людиновских подпольщиках и партизанах, рассказывают страницы повести. Жизнь богаче любого произведения, и никакая книга не вместит всего, что наполняло сердце, что двигало помыслами и поступками юных героев.
Редкая семья в Людинове не испытала горечи утраты. Избежавшие гестаповских застенков Николай Евтеев и Виктор Апатьев ненадолго пережили своих друзей. Они стали воинами Советской Армии и погибли на фронте. На фронте же, спасая командира, погиб бесстрашный пулемётчик Миша Степичев. В августе сорок второго года пуля предателя сразила начальника партизанской разведки Володю Короткова. В декабре отряд потерял Афанасия Посылкина. Лучший подрывник отряда Гриша Сазонкин, пустивший под откос четыре паровоза, шесть железнодорожных составов, взорвавший два моста, тоже пал смертью храбрых. А в декабре сорок третьего не стало того, кто был душой и совестью партизанской — комиссара Афанасия Суровцева.
Всех не перечесть Матери и вдовы, дети и внуки бережно хранят фотографии и письма самых близких, самых дорогих. Комсомольцы шестидесятых годов всегда помнят о тех, кто лицом к лицу бился с фашистами.
В центре людиновского парка неподалёку друг от друга стоят памятники коммунисту Игнату Фокину и комсомольцу Алексею Шумавцову. Тишина. Но тишина кричит, и в уши бьёт спрессованный воздух взрывных
волн, гремят артиллерийские залпы, Неумолчно тарахтят автоматы Тишина разрывается заводскими гудками, звенит молодёжной песнью, славящей Родину, что идёт в коммунизм. И мы слышим в этих песнях родные голоса тех, кто ушёл в бессмертие и сейчас стоит в почётном карауле на родной, цветущей земле.
Повесть заканчивается. Жизнь продолжается. Иди же, молодой товарищ, в эту жизнь с чистым сердцем, с крепкой волей и верой в торжество бессмертных ленинских идей. Всегда и везде, где бы ты ни очутился, — в труде или в бою — пусть звучат в твоём сердце слова, которые повторял про себя скромный, добрый, отважный людиновский комсомолец Алексей Шумавцов:
— Верю в тебя, Родина!.. Верю в тебя, Партия!.. Верю!..
|