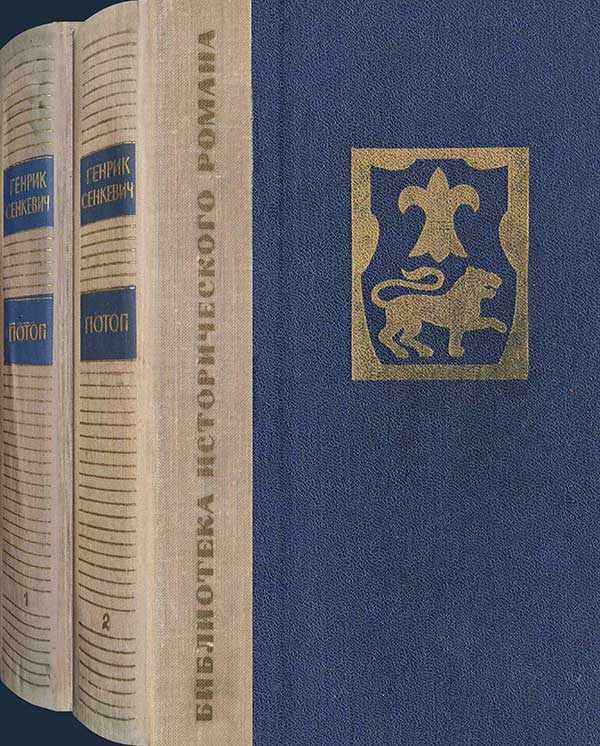Сделала и прислала Светлана Сибирцева.
_________________
Лауреат Нобелевской премии, польский писатель Генрик Сенкевич (1846–1916) известен нашим читателям своими историческими романами «Крестоносцы», «Камо грядеши» (Quo vadis) и трилогией «Огнём и мечом». Действие в романе «Потоп» происходит в середине XVII века во время нашествия шведов, решивших покорить Польшу и посадить на её престол своего наместника. Этот эпизод в истории получил название «Шведский потоп». В то время когда многие польские шляхтичи один за другим переходили на сторону врага, когда шведский король Карл X захватывал всё новые и новые польские города, когда пала Варшава и казалось, что Речь Посполитая вот-вот перестанет существовать, против захватчиков выступило войско вернувшегося из изгнания польского короля Яна Казимира. В его рядах сражались патриоты своей страны, в том числе главный герой романа — отважный рыцарь Анджей Кмициц. На борьбу с врагом поднялся простой народ, крестьяне с кольями и вилами нападали на шведов. Вскоре Австрия вступила в военный союз с Польшей и отправила ей на помощь свою семнадцатитысячную армию. Война завершилась подписанием Оливского мирного договора. — С. С.
Сохранить как FB2:
senkevich-potop-1.fb2
senkevich-potop-2.fb2
…как TXT: senkevich-potop.txt
СОДЕРЖАНИЕ
Книга 1
О. Михайлов. О романе Г. Сенкевича «Потоп» 5
Том первый 23
Том второй (главы I–XVII) 439
Примечания 693
Книга 2
Том второй (главы XVIII–XL) 5
Том третий 265
Примечания 641
О РОМАНЕ Г. СЕНКЕВИЧА «ПОТОП»
У книг, как и у людей, — свои судьбы. И можно смело сказать, что у популярнейшего и исключительно плодовитого польского писателя Генрика Сенкевича (1846—1916) не было другого такого произведения, которое вызвало бы столько споров, такой разноголосицы критических суждений, как монументальная историческая трилогия из эпохи XVII века («Огнем и мечом», «Потоп», «Пан Володыёв-ский»). «Уже восемьдесят лет, — пишет в наши дни польский критик, — ведется большой национальный спор вокруг сенкевической «Трилогии», и можно полагать, что закончится он очень нескоро»1. Немало резких, почти уничтожительных оценок прозвучало на родине писателя. Говорилось и о недвусмысленных патриархально-дворянских симпатиях Сенкевича, и о возвеличивании им католицизма, и о реакционности его исторической концепции, подчас и вовсе перераспределяющей свет и тени, и даже о «лакировке» прошлого. А хорошо знакомый советскому читателю современник Сенкевича Болеслав Прус механически противопоставил в «Трилогии» «уродливость» содержания «прекрасной форме». За пределами же Польши критика, кажется, только усиливалась. Такой проницательный читатель, как Лев Толстой (кстати, высоко ценивший наиболее крупные произведения Сенкевича о современности — «Без догмата» и «Семья Поланецких), безоговорочно отозвался: «Его исторические романы очень плохи»2.
Читая «Трилогию» Сенкевича сегодня, и впрямь ощущаешь — не только в «Пане Володыевском» и «Огнем и мечом», но даже в лучшем, реалистически и исторически наиболее крепком романе «Потоп», — черты сословно-шляхетской ограниченности автора, а кроме того — привкус сладковатой банальности в изображении любви, налет выспренности и мелодраматизма. Но странное дело: критика копила упреки, а читающая Польша, можно сказать, всенациональная читательская аудитория неизменно сохраняла свое, иное отношение к «Трилогии» и роману «Потоп». Сменяли друг друга поколения и эпохи: вслед за многострадальной Польшей Сенкевича, рассеченной натрое Россией, Австро-Венгрией и Германией, пришла самостоятельная Речь Посполитая; буржуазная республика пала под гусеницами гитлеровских танков; новая, социалистическая Польша возродилась и двинулась дальше в своем национальном развитии, — и на всех резких исторических поворотах, именно тогда, когда страна испытывала жгучую потребность в общенародном патриотическом единении и подъеме, роман «Потоп» не просто читался, — он помогал нации в сохранении себя и в самоутверждении; он оставался источником оптимизма, веры и надежды. Критики продолжали спорить — польский читатель давно уже вынес свой оправдательный «приговор» роману.
Национальное и общечеловеческое — всегда ли они совпадают? Как часто крупные, истинно национальные произведения, выйдя за пределы своего отечества, оказываются долгое время недопонятыми, недооцененными. Не так ли иные читатели в гениальном «Тарасе Бульбе» увидели сколок с новеллы Проспера Мериме «Матео Фальконе». Но ведь гоголевская повесть обладала великими художественными достоинствами. А сколько их, поднимавших дух нации, состояло в ином, посредственном ранге! Легендарный Тиртей, шедший в рядах спартанцев, дабы поддержать их воинскую доблесть своими стихами, отнюдь не был Гомером.
Генрик Сенкевич — писатель первоклассный не только по европейским, но, можно сказать, и мировым масштабам. Однако и его «Потоп» не просто «литература», не только «исторический роман». Подобно современнику и компатриоту, любимейшему своему художнику Яну Матейко, он обращался к далекому прошлому Польши во имя ее настоящего и будущего. Пережив увлечение позитивизмом, теорией «постепенности», примиренчества и разочаровавшись в бесплодности этого пути, Сенкевич со всем пылом и страстью истинного патриота стал указывать униженной и растоптанной родине на годы ее величия и борьбы, тяжких поражений и славных побед. «Я почувствовал отсутствие вкуса к новеллам, к героям-лилипутам... — писал он одному из своих друзей. — Я сказал себе: «довольно», и сейчас пробую другую ноту... Там все такое выразительное и великое, в противоположность никчемности нашей действительности...» Поисками сильных страстей, героики, могучих характеров, нравственной чистоты и прочности отмечены все его исторические романы, как те, которые посвящены прошлому Польши (вспомним многократно переводившихся на русский язык «Крестоносцев» — о столкновении поляков с Тевтонским орденом в конце XIV — начале XV века), так и обширное произведение о Древнем Риме времен Нерона — «Камо грядеши». А в споре с известным датским критиком Г. Брандесом Сенкевич прямо заявляет, что куда полезнее «вместо изображения нынешнего состояния умов и людей, их нынешней нищеты, разлада с собой, бессилия и смятения, показать своему обществу, что были еще худшие времена, более страшные и горестные, и что, несмотря на это, пришли спасение и возрождение. Одно может окончательно обескуражить и ввергнуть в отчаяние, тогда как другое придает силы, вселяет надежду, воодушевляет к жизни».
Вторая половина XVII века, война со шведами при короле Яне Казимире и позволила Сенкевичу развернуть широкую панораму, где «разыгрываются великие события и выступают великие люди. Там есть чем воспламениться: сильные характеры, большие преступления и большое самопожертвование». К этому времени Польша раздиралась внешними и внутренними силами: честолюбивые руки тянулись к короне, коррозия шляхетского своейолия разъедала могущество страны, Украина полыхала огнем народного восстания, московское войско князя Хованского теснило поляков с занятых ими исконно русских земель: смоленских, новгородских, псковских, — а к северным границам подступала армия воина-короля Карла Густава. Стране и нации грозила уже, кажется, утрата государственной самостоятельности. Только потоп всеобщего сопротивления мог спасти Польшу от шведского нашествия.
В романе Сенкевича как бы два слоя. «Верхний», придающий ему удивительную увлекательность, легкость и даже занимательность чтения, составляют приключения и скитания молодого оршанского хорунжего, а затем полковника Анджея Кмицица и его возлюбленной Александры Биллевич. Читатель едва успевает уследить за сменой событий: погони, засады, военные хитрости и честные поединки на саблях, пытки и веселые попойки, грабежи и лихие кавалерийские атаки, пышные балы магнатов и осада крепостей, и снова — ратные схватки, пушечная пальба, интриги, подвиги и злодейства, столкновение тонкого коварства одних с прямолинейной честностью других, фальшивые имена, переодевания, подметные письма... Здесь «аппетит к чтению» вызывается уже резкими драматическими поворотами: перед нами как бы вращающаяся сцена, которая являет все новые сюжеты, столкновения и разрешения, завязываемые и разрубаемые узлы. Кажется, не меньше десятка раз Кмициц оказывался на краю гибели, на неотвратимом пути к смерти. Он получил несколько страшных сабельных ударов по лицу и голове, его в упор расстреливали из пистолета, подвешивали к балке, вели на скорую казнь, — всякий раз неожиданный случай приходил на помощь и спасал его. «Ты создан не из мяса, а из селитры, того и гляди, сгоришь», — говорит воевода Виленский Януш Радзивилл Кмицицу. Из селитры и роман: что ни страница, то вспышка. И по увлекательности сюжета «Потоп» не уступит лучшим книгам Дюма-отца.
Однако под этим «верхним» слоем в романе угадывается второй — основа, или, вернее, подоснова его, словно подымающийся из воды материк,обобщающая мысль о патриотической непреклонности, которая и делается главной мерой поступков для всех без исключения героев «Потопа». Если фабульной канвой в узком смысле слова служит борьба Кмицица за Оленьку, куда вовлекаются и вероломный, честолюбивый вельможа Януш Радзивилл, и равнодушный к судьбам отечества, совершенно денационализировавшийся его брат Богуслав, и честный старик, мечник россиепский Томаш Бил-левич, и маленькая, несколько легкомысленная красавица Апуся Борзобогатая, и неотразимый боец на саблях, «тоненький, как иголка» полковник Володыевский, и т. д., — даже этот сугубо «личный» конфликт движим побуждениями общественными. Ведь драма полюбившей Кмицица Александры в том, что для нее долг, безусловно, превыше чувства: узрев в молодом полковнике изменника, она проклинает его. И путь Кмицица к любимой — это и его путь к родине, искупление действительных и мнимых преступлений перед ней. Так личное растворяется в патриотическом.
Однако своим романом Сенкевич не просто восполнил острую потребность Польши в героическом слове. Он стремился, используя его собственное выражение, свести «счеты с прошлым, где речь идет обо всем обществе». Иными словами, в героических эпизодах истории он увидел не только пример для подражания («Вы, нынешние, нут-ка!»), но и, как подлинно крупный писатель, во многом объяснил настоящее. Тем самым, рассказывая о преданьях старины глубокой, он сумел затронуть болевые точки нации.
Можно даже сказать, что в «Потопе» Сенкевич оставил художественное исследование польского национального характера, точнее, характера «верхних тысяч» нации. Выросший в родовитой дворянской семье с сильными военно-патриотическими традициями, став свидетелем кровавой расправы царских войск с восстанием 1863 года, он не мог не вдохновляться романтизмом былого величия Польши. История становилась здесь уже мифом, эпосом и, одновременно, входила в день сегодняшний и во многом предопределяла его. Но только ли шляхетско-сословная ограниченность Сенкевича проявилась в таком подходе? Как писал в конце 1864 года А. И. Герцен, «Польша представляла рыцарскую традицию в новом строе европейских народов... Полная старостью и юностью, полная идеалом, героизмом, католицизмом, она касалась разом средних веков и 1789 года, крестовых походов и великой армии... Для поляков отчаяние было новой силой, опасность — новым вдохновением»1. Эта «рыцарская традиция», уходившая в глубь веков, и была главным предметом изображения в сенкевическом романе.
Видя в шляхте XVII века цвет тогдашней нации, писатель воссоздает ее облик во всей ее противоречивости и исторической ограниченности. Подобно Бальзаку, подобно нашему Бунину, с их дворянскими симпатиями и тяготениями, он в собственной художественной практике зачастую преодолевает узость своих же взглядов. Общее отношение к старой, «Великой Польше» у Сенкевича недвусмысленно романтическое, ее возвеличивающее. Однако именно так виделась она подавляющему большинству нации, даже ее русифицированным слоям. Как вспоминал В. Г. Короленко, «историческое прошлое Польши, родины моей матери, своеобразное, крепкое, по-своему красивое, уходит в какую-то таинственную дверь мира...»2. Куда же ушло, через какую таинственную дверь вытекло оно, это славное прошлое? Ответ на этот вопрос Сенкевич ищет, создавая из отдельных штрихов, образов, портретов эпизодических и главных лиц как бы огромное мозаичное панно отошедшей старо-шляхетской Польши.
Отправной точкой служит небольшое местечко Россиены. Слогом летописца шляхты «всего» Россиенского повета неторопливо начинает Сенкевич свое повествование, рассказывая о славном роде Биллевичей, о медвежатниках Домашевичах, молчаливых рубаках Бутрымах, славившихся хорошенькими девушками Гаштовтах из Пацунелей, «дымных» смолокурах Гостевичах... Все это не просто дворянство, но среднее и мелкое, служилое, военное, видящее короля «супругом республики и отцом шляхты». И все любезные авторскому сердцу герои «Потопа» — панна Александра, Кмициц, Володыевский, Скшетуский, Томаш Биллевич и т. д. — принадлежат именно к этому слою. Для них определяющей чертой является прямодушие. «Ни любить, ни ненавидеть вполовину я не умею», — говорит Кмициц, но то же самое могли бы повторить и Володыёвский, и Скшетуский, и Томаш Биллевич, и, конечно, Александра.
Но от их прямодушия всего один шаг, нет, шажок до простодушия. Они наивны и доверчивы, как дети, и готовы воздвигнуть кумира, чтобы тотчас же сокрушить, совлечь его с ими же установленного пьедестала. Таково же и остальное большинство шляхетства, в котором — подчеркнем! — названные выше герои представляют его лучшую, истинно доблестную часть. Беззаботные и простодушные, шляхтичи в каждом новом воеводе видят истинного избавителя Польши. Так, в лагере под Уйстем воинственно настроенное дворянство кликами радости встречает своих вождей — воеводу калишского Анджея Грудзипского со свитой, одетой в голубые и белые костюмы, могущественного познанского воеводу Кшиштофа Опалинского с тремя сотнями гайдуков в желтых и красных ливреях и шутом Стахом Острожкой. Однако магнаты быстро предают Польшу шведскому королю, и вот уже лагерь дрожит от криков: «Измена! Измена! Зарубить предателей!» Но, поостыв немного и видя, что деваться некуда, те же глотки кричат: «Да здравствует король Карл Густав!.. После этого все вельможи стали обниматься. Их примеру последовала шляхта, и радость стала всеобщей. «Виват» кричали так, что эхо разносилось по всей округе». Писатель передает здесь своего рода «метафизику души» польского дворянства, с его прямолинейным: «или — или». И примерно та же картина, та же художественная кардиограмма (с поправкой на меру стойкости и патриотизма) не раз повторится на страницах романа и в истории самой Польши.
Так, узнав об измене под Уйстем, три боевых товарища — Володыёвский, Скшетуский и Заглоба все свои помыслы устремляют на Виленского воеводу Януша Радзивилла. Многоопытный Володыёвский убежденно восклицает: «Наш Радзивилл на такие дела не способен... могу поклясться, что он скорее пролил бы последнюю каплю своей крови, нежели подписал такую постыдную сдачу...» И сам тертый и стреляный Заглоба, этот польский Фальстаф и одновременно польский Тиль Уленшпигель, восторженно вторит маленькому полковнику: «Я бы за него в огонь бросился!» Но приходит день и час, когда на пиру Радзивилл провозглашает: «Да здравствует король Густав, с нынешнего дня милостивый наш повелитель!» И вот уже Заглоба бросает ему: «Иуда Искариот! Чтобы род твой угас! Чтобы дьявол унес твою душу!»
Как видно, Сенкевич, несмотря на все свои шляхетско-аристократические симпатии, в романе «Потоп» резко осудил своевольных и честолюбивых магнатов, не раз предававших родину, — всех этих Радзивиллов, Радзеёвских, Опалинских, Грудзинских и т. д. В то же время он с глубокой психологической правдивостью отобразил и характернейшие черты средней и мелкой шляхты. Сама история Польши, очевидно, столь драматична, повороты ее столь резки, что они оставили свой чекан и на душе шляхтича. И Кмициц, только что проклинавший Радзивилла, простодушно верит в патриотические побуждения его шага, падая перед ним на колени: «Я с тобою до гроба! Отец отчизны! Спаситель!» А что же наши три товарища? У них новая надежа — воевода витебский Сапега:
« — Ведь Сапега не только все имение отдал, не только все серебро и драгоценности, но и все бляхи с наборной сбруи в деньги перелил, только бы побольше войска набрать против врагов отчизны, — заметил Володыёвский.
— Благодарение богу, хоть один такой нашелся, — сказал Скше-туский. < — А то помните, как мы верили Радзивиллу?
— Ты кощунствуешь, пан Станислав! — крикнул Заглоба. — Витебский воевода — это да! Да здравствует витебский воевода!»
Во всех этих эпизодах поражает не только простодушие даже лучших из шляхтичей, но еще и соединение искренности с непременной театральностью, прямодушия — обязательно в блеске великолепной позы, а кроме того — резкая смена настроений, постоянные переходы от ликования и хвастовства к отчаянию. В романе Сенкевича его любимые герои постоянно «сверкают глазами», «вскакивают, как безумные», «хватаются за голову» и часто льют слезы. Нет, не только гордая и надменная Александра Биллевич, у которой они падают, «словно жемчуг». Отчаянные рубаки, не ведающие страха рыцари плачут, как женщины: «на глазах Кмицица блеснули слезы», «на глазах Кордецкого были слезы», «Кмициц зарыдал», «из глаз рыцаря хлынули слезы», «Володыёвский заплакал», «тут слезы потекли по его (Заглобы) лицу» и т. п.
Мы встречаемся здесь не просто с особенностями романтической манеры. Эти вот эффектность и публичность переживаний, романтизм, непременная красота поступков и чувствований, соревнование в благородстве друг перед другом, красочность и блеск, — даже в беде, в горе, в унижении, — не суть ли черты, коими отмечено именно польское рыцарское сословие? И не в том ли самом психологическом регистре, но уже с помощью музыки запечатлел характер шляхтича наш Глинка? (Герцен проницательно отметил противоположность польского и русского начал в опере «Иван Сусанин»: «...С одной стороны великорусское село... поются унылые песни хором, тишина, бедность, грусть и в то же время готовность постоять за свою землю. С другой — польская ставка, все несется в мазурке, шпоры гремят, сабли гремят, притоптывают каблуки. Вот гордый пан стольник, как его описывал Мицкевич, высокомерно взглянул на соперников, дотронулся до шапки и пошел, пошел...»1 Заносчивые в отваге, высокомерные в смелости, все они отмечены и великим своеволием, и самоуправством, не терпят подчинения, не знают удержу своим страстям и страстишкам.
Так, Кмициц, едва появившись у Биллевичей в качестве нареченного Александры, немедля учиняет великий разор окрест. С нескрываемым презрением относится он к бедной россиенской шляхте («У нас коль ты мужик, так мужик, а шляхта на одну кобылу вдвоем не садится»). Со своими страшными полувоинами-полубандитами он грабит обывателей, поджигает их дома, расстреливает фамильные портреты Биллевичей, убивает, насилует. Когда, под влиянием Александры, он пытается остановить чересчур уж расшалившихся дружков, те напоминают ему о его «подвигах»: «А кто пана Тумграта по морозу прогнал, привязавши к коню? Кто зарубил того поляка из Короны, который спрашивал, ходят ли оршанцы уже на двух ногах или все еще па четырех? Кто изувечил панов Вызинских — отца и сына? Кто разогнал последний сеймик?» Таков в начале романа Кмициц, главный герой «Потопа». Это ли идеализация шляхты? Это ли ее приукрашивание? При всем том Кмициц в глазах Сенкевича — один из лучших представителей дворянства, обладающий таким драгоценным качеством, которое, словно ариаднина нить, выводит его в конце концов на верный путь: я говорю о патриотической непреклонности.
Зато великое множество шляхты, видя измену князей и воевод, от состояния лихой заносчивости и шапкозакидательства быстро переходит к унынию, растерянности, а в итоге — и примирению с оккупантами. В разговоре шведского провиантмейстера Вжещовича с посланником германского императора бароном Лисолой дается хоть и преувеличенно жестокая, но несущая в себе зерно истины характеристика склонившейся перед врагом Польши: «Где, как не в шведском стане, сенаторы этого королевства, князья, магнаты, шляхта, рыцари?.. Есть ли на свете другая такая страна, где бы царили такой беспорядок и смута?.. Король не правит, ибо ему не дают править... Сеймы не правят, ибо их раздирают распри... Нет войска, ибо народ не хочет платить податей; нет повиновения, ибо повиновение противно свободе. Нет правосудия, ибо некому приводить в исполнение приговоры и всяк, кто посильней, попирает их; пет верности, ибо все поляки оставили своего государя; нет любви к отечеству, ибо они отдали его шведам за посул не мешать им жить в прежних распрях. Где еще могло бы случиться такое? Какой народ в мире помог бы врагу покорить собственную землю? Кто оставил бы своего короля не за тиранство, не за злодеянья, а потому, что пришел другой король, более могущественный?»
Пусть это тирада врага и перебежчика, смысл которой не разделяют ни подслушивающий Вжещовича Кмициц, ни сам Сенкевич: ужасно уже то, что для этих несправедливых слов есть серьезные основания. Не одни счеты с историей диктовали писателю такие страницы. Прошлое оказывалось не только укором настоящему, но и объяснением его; оно не только звало к спасению, но еще и мстило...
Многострадальная история Польши, непрерывные тяжкие испытания, выпадавшие на ее долю, — в силу уже одного географического положения страны, не говоря о других факторах, — породила у писателей, художников, с одной стороны, гиперболизированный патриотизм, а с другой — унижение паче гордости, стремление даже преувеличить размеры бедствий, еще и еще раз испить до дна горькую чашу страданий. «Пролейте бальзам на ваши раны... Или нет, пусть это будет не бальзам, но соль и перец; пусть раны наши воспламенятся и закровоточат; пусть мы снова и снова попытаемся пережить все, что случилось с незабвенным нашим отечеством, ибо такое страдание целебно», — вот смысл многих произведений польского искусства, от траурно-героических поэм Словацкого до фильмов Анджея Вайды.
В Польше, растоптанной шведским ботфортом, Сенкевич ищет ответ на вопрос о причинах ее падения и возрождения. Откровенно симпатизируя «рыцарскому сословию», он вопреки собственным симпатиям показывает и его слабость, переменчивость, нестойкость. С каким презрением относился всегда его Кмициц к людям простого, «низкого» звания, противопоставляя им шляхту. Но вот, скитаясь под именем Бабинича, попадает он в захваченную врагом Варшаву: «Кмициц ушам своим не верил, в голове у пего не укладывалось, что люди подлого сословия и подлого звания могут хранить верность своему законному монарху и больше любить отчизну, нежели шляхта. Шляхта и магнаты становились па сторону шведов, а простой народ только о том и думал, как бы дать отпор врагу...» Но была еще одна сила, которая, по мнению Сенкевича, могла возродить страну.
По наблюдению того же Кмицица-Бабинича, шляхта пила за здоровье шведского короля и, слушая надругательства шведских офицеров, сама смеялась над Яном Казимиром и Чарнецким. «В одном только не переходили они границу. Они позволяли смеяться над собою, над королем, над гетманами, над Чарнецким, но не над верой...» Видя в католических догматах прочный фундамент для нравственной основы личности, Сенкевич находит в эпизодах истории XVII века многочисленные примеры соединения патриотизма с истовой религиозностью. Общеизвестно, что польская церковь занимала патриотические позиции в пору иноземных нашествий и войн, а в ту далекую эпоху владела сердцами сограждан. Ведь даже характеризуя Польшу 60-х годов XIX века, Герцен, как мы помним, отмечал и ее мистицизм, реликты средневековья и крестовых походов. Что же говорить о Речи Посполитой Кмицица и Володыевского! А так как шведы Карла Густава исповедовали протестанство, сопротивление им приобретало уже религиозную окраску.
Правда, Сенкевич стремится преувеличить, акцентировать этот момент, даже вопреки хорошо известным ему историческим фактам. Поворотным пунктом в войне со шведами и в судьбе всей Полыни (равно как и в судьбе Кмицица-Бабинича, искупающего свои вольные и невольные прегрешения) он делает оборону Ясногорского монастыря, в действительности сыгравшую в кампании второстепенную роль. Здесь уже сказалась полемика с современностью, с материализмом, с позитивизмом, который праздновал свое торжество во второй половине XIX века. Однако нельзя забывать и о другом — о том, что героическое сопротивление Ясногорского монастыря (помимо чисто военного значения этого эпизода) для поляков, очевидно, столь же дорого и свято, как, скажем, для русских знаменитая, отмеченная ратной доблестью защита Троице-Сергиевской лавры от полчищ короля Сигизмунда III примерно за полвека до событий, описанных в «Потопе» Сенкевичем.
Выдержавший шведскую осаду Ясногорский монастырь становится в романе символом нарастающего сопротивления. Война приобретает общенародный, освободительный характер. И, как все отечественные войны, она характерна широким партизанским движением, в котором отличился опять-таки и Кмициц-Бабипич. Шведский король напрасно ожидает сражений «по правилам»: «Подобно шакалам, что бегут ночью вслед за раненым буйволом... за шведами следовали отряды шляхты и мужиков, подступая к врагу все ближе, все смелей нападая и кусая... Шведы жаждали битвы. Они в отчаянии молили о ней бога, покровителя воинов, но Чарнецкий боя не принимал: он выжидал своего часа, а пока норовил куснуть как шакал или пускал на них, словно соколов на диких уток, небольшие отряды». Не правда ли, все это, в описании Сенкевича, отдаленно напоминает и испанскую «гверилью» — сопротивление Бонапарту, и нашу первую Отечественную 1812 года с мудрой тактикой Кутузова.
В многочисленных ратных эпизодах «Потопа» ярко раскрываются своеобразные характеры носителей патриотического начала — Кмицица, Володыёвского, Заглобы. Два последних (как и значительно бледнее обрисованный полковник Скшетуский) проходят по страницам всей «Трилогии». Собственно, кроме общей, «генерализующей» мысли об исторических судьбах нации, только это и объединяет романы «Огнем и мечом», «Потоп», «Пан Володыевский», каждый из них совершенно самостоятельное произведение.
В изображении благородных героев и низких, коварных злодеев сказалась художественная традиция, близкая романтическим контрастам Гюго. Даже в пору своего служения у предателя Радзи-вилла Кмициц — воплощенное благородство, неоднократно спасающий от верной гибели своих противников-друзей — Володыёвского, Скшетуского, Заглобу. Это монолит, последовательный в своих заблуждениях и подвижничестве, в любви и ненависти. Вблизи него образ Володыевского уже двоится: он одновременно и героичен и комичен, — маленький рост, привычка смешно шевелить усиками, любовные неудачи, вплоть до нелепого сватовства к Александре Бил-левич. При всем том Володыёвский — знаменитый во всей Польше воин, славный полковник, с которым, если верить Сенкевичу, считался сам Хмельницкий, непревзойденный боец на саблях, дающий Кми-цицу памятный урок в решающей дуэли в начале романа.
Кажется, сам изобретательнейший по этой части Голливуд позавидовал бы динамизму и драматичности их схватки. Виртуозный фехтовальщик, Володыёвский откровенно издевается над отважным, но молодым противником, закладывает левую руку в карман панталон, поучает и даже предупреждает его: «Подними!» «Последнее слово Володыёвский произнес раздельно, в то же мгновение сделал полукруг, потянул на себя руку с саблей, и прежде чем зрители поняли, что означает этот возглас «Подними!» — сабля Кмицица, точно соскользнувшая с нитки игла, просвистела над головой Володыёвского и упала у него за спиной». По части сабельного искусства маленькому полковнику нет равных не только в Польше, но, возможно, и за ее пределами.
Этот его талант смертельно жалящей осы раскрывается в непрестанных схватках с противником: «Ежеминутно чья-то шведская шляпа проваливалась перед ним в темноту, точно ныряла под землю; порою рапира, выбитая из рук рейтара, взлетала со свистом над рядом бойцов, раздавался пронзительный крик, и снова проваливалась шляпа; место ее занимала другая, третья, а Володыёвский все продвигался вперед, и маленькие глазки его светились, словно две зловещие искорки; но он не увлекался, не забывался, не махал саблей, как цепом; порою, когда никого нельзя было достать саблей впереди, он повертывал лицо и клинок чуть вправо или влево и мгновенно, движением как будто почти незаметным, выбивал сбоку рейтара из седла, и страшен он был этими движениями, легкими, но молниеносными, почти нечеловеческими». Это уже эпос, сказание, фольклор. Володыёвский на поле битвы глядится, несмотря на малый свой рост, сказочным исполином, сокрушающим врага.
Нельзя не отметить удивительную силу Сенкевича-баталиста — не только в прямом, «лобовом» изображении сражений, стычек, рукопашной, — но и в описании военных операций, маневров, тактических ходов. И его Володыёвский и Кмициц, отмеченные героизмом до безрассудства, сверхчеловеческой отвагой, еще и искусные военачальники, выигрывающие сражения не одной слепой силой и мужеством.
До сих пор действующие лица «Потопа» заставляли вспомнить о романтической традиции Гюго. Лишь один герой в романе понуждает говорить о Шекспире, и имя ему: Заглоба. Можно выстроить длинный ряд многообразных его родственников с того или иного боку, — Одиссей, Фальстаф, Санчо Панса, Тиль Уленшпигель, Тарта-рен, Мюнхгаузен, Портос, — но что толку? Ведь при всем общечеловеческом содержании, им присущем, мы все-таки легко узнаем в Тар-тарене черты именно француза, в Санчо Пансе — испанца, в Тиле Уленшпигеле — фламандца, в Фальстафе — бритта, а в Мюнхгаузене — немца. Заглоба же прежде всего — поляк, поляк с головы до пят, утрированно, комически сгущенно, подчас резко шаржированно выражающий черты своего национального характера.
В романе «Потоп» все его герои, вплоть до эпизодических, — яркие индивидуальности. Разве можно забыть, к примеру, тупицу рубаку Роха Ковальского, который, кажется, глупее собственной лошади; Роха Ковальского, не расстающегося с тяжелой драгунской саблей и упрямо повторяющего одно и то же: «Я Ковальский, а вот моя пани Ковальская...» Или трогательно преданного Кмицицу старого вахмистра Сороку, не раз выручавшего своего полковника из бед и в плену у Радзивилла спокойно идущего на жуткую казнь: его велено посадить на кол... Но посреди огромной и пестрой толпы индивидуальностей, многоликой массы людей разного звания, положения, нравственной наполненности, — не только романа «Потоп», но и всей «Трилогии», — фигура Заглобы выделяется своей громадностью. Это воистину тип, одновременно всечеловеческий и специфически национальный, открытый большим художником.
Вспоминаются слова Л. Н. Толстого: «Характеры только выигрывают от смело накладываемых теней». В Заглобе очень органично уживаются сверхъестественное хвастовство, вранье — с добротой и чувством товарищества; трусость и паникерство — с патриотизмом и верностью долгу; заносчивость и кичливость — с блестящим остроумием и неистощимой изобретательностью. Он лжет отважно, находчиво, — перед вельможами, в кругу солдат и даже самому королю. Популярность Заглобы основывается на его же россказнях. («Слушайте, братья? Вот что скажу я тем, кто меня не знает, — гремит он в толпе, — я старый герой Збаража, этой вот старой рукой я зарубил Бурлая, самого великого гетмана после Хмельницкого; кто не слыхал про Заглобу, тот в первую казацкую войну, верно, горох лущил, или кур щупал, или телят пас...») По словам Заглобы, валахи хотели избрать его своим господарем, крымский хан в нем души не чаял, а наследник хана, так тот совсем недаром вылитый Заглоба...
Он страсть как любит предаваться воспоминаниям, правда, перераспределяя роли к своей выгоде:
« — Не в таких мы с тобой бывали переделках, пан Михал! — говорит он Володыевскому. — Помнишь, как я тебя спасал, когда мы с Геленкой от татар бежали, а?
Володыевский мог ему ответить, что тогда не пан Заглоба его спасал, а он пана Заглобу, однако он промолчал, только усы встопорщил».
Не надо удивляться тому, что друзья Заглобы часто молча проглатывают его враки. Вот и тут: ведь только что хитростью Заглоба спас жизнь арестованным полковникам, убедив конвоировавшего их Ковальского, что он его дядюшка, и мертвецки напоив глупого офицера. Впрочем, иногда фантазии Заглобы только случайно не встречают отпора. Так, например, друзья вспоминают еще один эпизод, также относящийся к роману «Огнем и мечом»:
«— А помните, как мы ехали с Володынки в Збараж? — спросил Володыевский.
— Как же, помню. Тогда вы свалились в яму, а я погнался за татарами...
Володыевский отлично помнил, что все это было как раз наоборот, но не успел ничего ответить...»
На самом деле Заглоба использует любой повод, дабы уклониться от ратного дела. Однако это ничуть не мешает ему затем восхвалять себя и свои подвиги. Подобно пушкинскому Фарлафу, это —
...крикун надменный,
В пирах никем не побежденный,
Но воин скромный средь мечей...
Едва лишь запахло «шведским мясом», как Заглоба убеждает Володыёвского и других полковников, что именно ему необходимо сторожить Роха Ковальского. При одном упоминании о преследующем их Радзивилле он впадает в ужасную панику. А когда Тыкоцин, последний оплот мятежного виленского воеводы, окружен, Заглоба с притворным сожалением отказывается идти в ночной поиск с Вэ-лодыёвским: «Жаль бой пропускать! А впрочем, ночью, при огне, я почти ничего не вижу. Кабы днем надо было драться, ты бы меня ни за что не уговорил».
Но Заглоба — это трус-храбрец, у которого вдруг, в минуту уже совершенно неотвратимой опасности, обнаруживается поразительная находчивость, переходящая в отвагу. При штурме занятой шведами Варшавы Заглоба, как обычно, хотел было довольствоваться «занятием» уже взятых дворцов, но увлекся и ринулся на осаду дворца Казаковских. Одна атака за другой захлебывалась. «Вдруг Заглоба, перекрывая своим зычным голосом всеобщий шум и грохот выстрелов, закричал: «Заложить под ворота бочонок пороху!» В образовавшуюся брешь Заглоба врывается во главе атакующих. И, стремясь снизить этот неожиданный героизм своего героя, Сенкевич тут же заставляет Заглобу... очутиться в клетке с обезьянами, с которыми он столь же отважно, под хохот шляхтичей, продолжает битву.
При всех своих смешных или даже отрицательных чертах Заглоба песет в себе массу обаяния, ума, проницательности, юмора. Его шутки, часто по-солдатски грубые, исполнены какой-то первородной, хочется сказать, раблезианской силы. Так, увидев прекрасную Бил-левич, он снисходительно роняет: «Что говорить, хороша, но, по мне, лучше такие, что сразу не признаешь: пушка это или баба?»
А как он находчив и изобретателен! Он мастак обвести вокруг пальца, ловко обмануть не только тупицу Роха Ковальского. Нет, первые люди Польши — сам коварный воевода виленскпй Радзивплл, сам храбрейший воевода витебский Сапега, сам честолюбивый маршал Любомирский, — все попадаются на его удочку. Старый краснобай безошибочно угадывает слабые струнки каждого магната. Рад-зивилла он с ходу убеждает, что учился с его отцом в одной школе («...у него сызмальства была склонность к рыцарству, да и я предпочитал латыни копьецо, потому и пользовался его благосклонностью»).
« — Так ты, пап, родом из Литвы?
— Из Литвы! — не моргнув глазом ответил Заглоба».
С маршалом же Любомирским Заглоба и вовсе поступает как с простачком. В разгар войны каштелян Чарнецкий страшится, что его громкие победы над шведами вызовут в честолюбивом маршале жгучую зависть и это вновь разъединит польские силы. Навстречу Любомирскому отправляется посольство во главе с Заглобой, который совершенно безудержно, очертя голову, льстит маршалу, играя на его честолюбии и спеси. Он сравнивает его с Аристидом и Сципионом, предлагает от имени каштеляна взять под начало все польское войско, вдруг, — совершенно по-хлестаковски, — говорит о его возможном короновании, а в конце концов припадает к его руке. Впрочем, и тут Заглоба остается Заглобой. Он объясняет Скшетускому: «Я свой собственный большой палец поцеловал, а его только носом клюнул». Растроганный Любомирский беспрекословно подчиняется каштеляну, а Заглоба комментирует: «Он-то? Глотал все, что я ему в рот клал, словно рождественский гусь галушки, только кадык у пего ходил да глаза заволакивало. Я уж думал, сейчас лопнет от радости, что твоя шведская граната. Этого человека лестью в ад заманить можно!» И снова думаешь о нелестной характеристике магнатов, даже патриотически настроенных, в романе «Потоп».
Обладая недюжинным умом и смекалкой, Заглоба отзывается язвительно почти о каждом из вождей. Чарнецкий? «У кого клюв птицы, у того воробьи в голове». Витебский воевода Сапега? «Голова то неумна, знать, из Витебска она». Замойский? «Будь он ножиком, который я ношу у пояса, я бы часто точил его об оселок, — туповат». Его начинают бояться и преследовать.
Сила Заглобы в том, что в его характере ощутимо еще и почвенное, народное начало. Это тем более важно, что непосредственно народ — простолюдины, крестьяне показаны в романе лишь в качестве общего фона. Читателю запомнится разве что эпизодический образ крестьянского юноши Михала, захватившего шведское королевское знамя. Но и тут мы видим, так сказать, потенциального дворянина. Каштеляп Чарнецкий обещает на первом же сейме сделать его шляхтичем, чтобы «он был равным вам по положению, как уже сегодня он равен вам душой». Это исключение, лишь подчеркивающее господствующее правило: роман «Потоп» — огромная картина стародворянской, шляхетской Польши, величественное сооружение, наподобие старинного замка, овеянного историческими преданиями и хранящего драгоценные реликвии.
Архитектура его отмечена стройностью, красотой и продуманностью планировки. Действие начинается и заканчивается в маленьких Россиепах, замыкая в сюжетное кольцо гигантское территориальное пространство, дальние кровавые дороги, пройденные героями. Правда, Сенкевич и тут отдал дань непременной традиции. В соответствии с канонами исторического романа «Потоп» завершается благополучной концовкой: соединением влюбленных Кмицица и Александры Биллевич. Счастливое разрешение всех конфликтов и недоразумений песет королевский указ, возвестивший жителям Россией о патриотических подвигах Кмицица. Воистину, это не античное «deus ex machina» («бог из машины»), но «тех ex machina» («король из машины»). Однако до полного счастья в тихом семейном кругу Кмицицу предстоит пройти новые испытания в войне с мадьярами...
Мы говорили преимущественно о национальном содержании романа Генрика Сенкевича. Но именно в этом заключается и его всеобщее значение. Углубленно и полно запечатлев польский национальный характер на исторических перепутьях страны, писатель тем самым вывел свое произведение далеко за рубежи собственной родины. Словами польского романиста Стефана Жеромского, давшего обобщенную характеристику романа, мне и хотелось закончить эту статью: «Дыхание прошлого в «Потопе» огромно. Это поэтическая картина, эпос в манере Ариосто. И отсюда сходство его с Матейко. Это не просто изображение отошедших поколений, но великая интуиция творца. Его Богуслав Радзивилл, Кмициц, Володыёвский, Заглоба с точки зрения исторической, возможно, и абсурдны — но это образы, гениально сотворенные, ставшие подлинными созданиями прошлой эпохи, типами, настолько цельными, что они поглощают твое внимание, притягивают его, подобно творениям Виктора Гюго. Такие образы творит лишь поэт, этого не достичь буквалисту, пишущему по всем прописям искусства и данным историографии. «Потоп» — это великая песнь нашего прошлого, обобщение нашего политического бытия, запечатление нашего духа не только в ту эпоху, но и на всем его существовании в целом».
Олег Михайлов
|