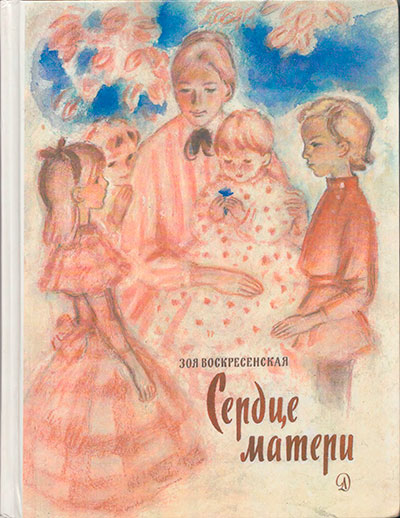Сделал и прислал Кайдалов Анатолий.
_____________________
СОДЕРЖАНИЕ
НА СТАРОМ ВЕНЦЕ 7
НОВЫЙ ДОМ 12
СЕКРЕТ 18
ЗИМНИМ ВЕЧЕРОМ 23
ГОРЬКИЙ САХАР 31
КАРПЕЙ 39
СТАРОЕ КРЕСЛО 46
НА КОНЧИКЕ НИТКИ 49
ЛУЧШАЯ ОТМЕТКА 53
СОЧИНЕНИЕ 59
ПАПИНА ВИШНЯ 69
В ПУТЬ 74
ОРДЕН СВЯТОГО СТАНИСЛАВА 82
ПИСЬМО 95
СУД 102
НОЧЬ 108
ДОМ ПРОДАН 113
ЛУННАЯ ТЕНЬ 119
ОЛЯ 130
НАВСЕГДА 138
ПРЕКРАСНЫЕ КНИГИ 148
ДЕЛО ВСЕГО НАРОДА 153
ЖЕЛТЫЙ ЧЕМОДАН 163
«ВЕСЬМА ВАЖНО» 168
В ССЫЛКУ 177
500 РУБЛЕЙ 188
ЦВЕТЫ В КАМЕРЕ 192
КОСТРЫ 197
ХИТРЫЙ СТОЛИК 215
НА ОТДЫХ К МАМЕ 227
ДРАГОЦЕННОСТЬ 235
РЕФЕРАТ 242
«ЛУННАЯ» СОНАТА 249
«ДОЛОЙ ВОЙНУ!» 258
Дорогие читатели!
Перед нами повесть писательницы З. И. Воскресенской «Сердце матери» — о жизни матери Владимира Ильича Ленина, Марии Александровне Ульяновой, и семье Ульяновых.
Зое Ивановне Воскресенской принадлежат книги о Ленине: «Сквозь ледяную мглу», «Встреча», «Утро», «Костры», а также повесть «Надежда» — о Надежде Константиновне Крупской; художественно-публицистические книги: «Слово о великом Законе», «Дорогое имя», «Поездка в будущее» и рассказы об октябрятах и пионерах разных поколений — «Девочка в бурном море», «Ястребки», «Консул» — роман о советских дипломатах.
По книгам З.И.Воскресенской поставлены кинофильм «Сквозь ледяную мглу», кинодилогии «Сердце матери», «Верность матери», кинофильм «Надежда», получившие широкое признание у нас и за рубежом.
Писательница Зоя Ивановна Воскресенская — лауреат Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола.
Мама!
Самое прекрасное слово на земле — мама.
Это первое слово, которое произносит человек, и оно звучит на всех языках мира одинаково нежно.
У мамы самые добрые и ласковые руки, они всё умеют. У мамы самое верное и чуткое сердце — в нём никогда не гаснет любовь, оно ни к чему не остаётся равнодушным.
И сколько бы ни было тебе лет — тебе всегда нужна мать, её ласка, её взгляд. И чем больше твоя любовь к матери, тем радостнее и светлее жизнь.
«Мамочка!» — ласково называл Владимир Ильич свою мать в детстве.
«Дорогая мамочка», — обращался он к ней в письмах из тюрьмы, из ссылки, из эмиграции.
«Берегите нашу мамочку, не оставляйте её одну», — напоминал он сёстрам и брату.
Мать Владимира Ильича Ленина, Мария Александровна Ульянова, прожила большую жизнь: восемьдесят один год.
Она не состояла в организации революционеров, царские жандармы не заключали её в тюрьму, не угоняли в ссылку. Но она воспитала всех своих детей революционерами, пошла за ними, стала их верным единомышленником и на склоне лет могла сказать: я горжусь своими детьми!
Дети ей отвечали любовью, вниманием и заботой.
В Ленинграде, на Волковом кладбище, на могиле Марии Александровны всегда живые цветы. Люди приносят их в знак благодарности и глубочайшего уважения к великому жизненному подвигу этой замечательной русской женщины, подарившей миру его гения — Владимира Ильича Ленина.
НА СТАРОМ ВЕНЦЕ
Волга течёт на юг, Свияга — на север. Четыреста вёрст упрямо пробирается Свияга рядом с великой рекой, увлекая за собой мелкие речушки, прокладывая свою дорогу к неведомому морю. Но за Казанью Волга преграждает ей путь. Некуда деваться своенравной реке, она смиряется, и теперь уже Волга несёт её воды обратно на юг.
Между Волгой и Свиягой раскинулся город Симбирск.
На Старом Венце, что кручей взвился над Волгой, в конце Стрелецкой улицы стоит двухэтажный деревянный дом и из-под насупленных резных наличников всеми окнами смотрит на Волгу.
В этом доме на втором этаже живёт семья директора народных училищ Ильи Николаевича Ульянова. Старшей дочке Ане одиннадцать лет, и она главная помощница у мамы: накрывает на стол, моет посуду, нянчится с годовалым братишкой Митей. Саше — девять. Но он рослый, сильный мальчик, может и воды из колодца принести, и нащепать лучины для самовара. И ещё есть обязанность у Ани и Саши — присматривать за младшими: братишкой Володей и сестрёнкой Олей. Оба быстрые, шустрые, не ходят, а летают; глаза устанут следить за ними, особенно за Володей.
Мама больше всего боится, чтобы Володя не прошмыгнул за калитку. Однажды чуть не случилась беда. Аня с Сашей были в гимназии, мама хлопотала на кухне. Выглянула во двор — нет Володи. Выбежала за ворота и чуть не упала от страха. Младший сын её сидел на дороге и играл в камешки, а прямо на него неслась, раскосив налитые кровью глаза, чем-то напуганная лошадь. Володя и крикнуть не успел, почувствовал только, как его обдало жаром, перед глазами мелькнули копыта. Лошадь перескочила через мальчика и поскакала дальше. Мама схватила малыша и плакала и смеялась. И с тех пор всегда волнуется, когда Володя исчезает. А двор у дома крохотный, пыльный, обсаженный редкими акациями. Единственное развлечение — качели.
Аня с Сашей заняты делом — начались занятия в гимназии; они сидят в комнате, готовят уроки. А Володя с Олей качаются на качелях. Володе хочется взлететь высоко-высоко и через забор увидеть светлые воды Волги.
Лицо у Володи разгорелось, на носу ярче выступили веснушки, кудри прилипли ко лбу. У Оленьки разметалась коса, и бант, как цветок, голубеет в пыли под качелями.
— Я вижу Волгу! — кричит Володя. — Я вижу её уже до середины!
Он приседает, сильно толкает доску — Оля на другом конце взлетает вверх, визжит от страха и восторга, поворачивает голову назад: ей тоже хочется увидеть Волгу.
Мама вышла на крыльцо, подозвала малышей к себе, усадила рядом на ступеньку в тени, чтобы остыли, отдохнули. Раскрыла книжку с картинками. Брат и сестра сидят не шелохнувшись, глядят то на картинки, то на мамино лицо и, зажав коленями ладошки, поёживаются, когда мама читает что-то страшное, или весело хохочут — когда смешное.
— А теперь давай играть в буквы, — просит Володя.
Мама вытаскивает из коробки картонные буквы:
— Это буква «М», а это «А». Приложим одну к другой. Вышло «МА». И ещё раз «МА» — получилось «МАМА».
— Вот и я угадала буквы! — Оля проворно складывает слово.
— Тебе, Олюшка, рано учиться, — ласково говорит мама. — Володюшка у нас уже взрослый, ему пять лет.
Но Оля всегда делает то, что делает брат.
И вот уже оба разыскивают буквы и составляют волшебное слово «МАМА».
— Показывай другие буквы, — торопит Володя.
Но мама посылает их играть в кубики. Хватит заниматься науками.
Сделано большое открытие. Теперь слово «мама» можно смастерить из стручков акации, начертить палочкой на песке. Оля выкладывает слово из кубиков. Володя подобрал у крыльца кусочек угля, зажал его в кулаке и думает, где бы ему написать это слово, чтобы всем было видно.
Подошёл к калитке, нажал плечом. Калитка слегка скрипнула и распахнулась. Страшно и интересно. Страшно потому, что налево за высокой каменной стеной стоит тюрьма. Там всегда что-то скрежещет, звякает, оттуда всегда слышатся грубые окрики и печальные песни.
Интересно потому, что впереди Волга — широкая, сверкающая, и в неё смотрится солнце. Рыбачьи лодки, как семечки, рассыпаны по воде, а между ними дымит, пыхтит, вспенивает воду белый пароход.
Володя перебежал площадь. Узкая тропинка огибает утёс и извилистой лентой спускается вниз. Володя приподнялся на цыпочки, аккуратно начертил угольком на камне большие буквы «МАМА».
Теперь это слово, наверно, увидят и на другом берегу. Спуститься бы и посмотреть снизу. Ну, всего несколько шагов…
Сверху с удочками на плечах мчались мальчишки, взбивая ногами клубы пыли, и Володе захотелось с ними. В воду он не полезет. Это мама с папой строго-настрого запретили. Но посмотреть снизу на утёс и самому прочитать «МАМА» можно? Совсем близко увидеть пароход тоже интересно! А если ловко бросить камешек, то он полетит над водой и будет ронять светлые круги и в центре самого большого круга исчезнет. А если поставить ногу к самому краешку воды, то волна лизнёт носок сандалии, и он заблестит, как начищенный…
Вот она, Волга, где-то далеко-далеко, на другом краю, соединяется с небом. А здесь, у берега, наверное, и папе будет с ручками.
Володя оперся ладонями о колени, наклонился — смотрится в воду, ждёт, пока проплывёт рыбёшка или прикатит волна от лодки, и тогда отражение в воде сморщится, глаза и уши запрыгают и расплывутся в разные стороны. Смешно!
Солнце скатилось на край неба и стало растекаться по Волге. У ног Володи заплясали солнечные зайчики. Он хотел зачерпнуть в ладонь зайчика и услышал тяжёлое дыхание. Кто это так тяжело и шумно дышит? Река? Нет, это позади него. Он оглянулся и замер. По берегу медленно двигались бурлаки. Вытянув вперёд подбородки, обросшие бородами, они руками разгребали воздух; обутые в лапти ноги глубоко зарывались в песок.
Почему им так тяжело? Володя пригляделся и понял, что люди запряжены. Так мальчишки запрягают друг друга, когда играют в лошадки. Но это были взрослые мужчины, и им было не до игры. Замусоленные грязные лямки опоясывали им грудь, врезались в тело и сзади были привязаны к толстому канату.
Володя повёл глазами по канату и увидел, что другой его конец прикреплён к огромной барже, нагружённой кулями из рогожи. На барже стоял дом с окнами, и из трубы шёл дым.
Совсем близко от Володи, тяжело ступая, прошёл запряжённый человек. Он облизывал сухие губы и громко, с хрипом дышал. Глаза смотрели и не видели: он чуть не задел Володю.
Бурлаки с трудом передвигали ноги, баржа легко плыла против течения.
Володя вздохнул и оттянул рубашку от груди, словно тоже тащил эту баржу и лямка давила ему грудь. Чьи-то руки схватили его за плечи и подняли в воздух.
— Как тебе не стыдно! — услышал Володя голос Саши. — Мамочка волнуется, мы все тебя ищем.
Усадив брата на закорки, Саша стал подниматься наверх.
— Я пойду сам, — запротестовал Володя и спрыгнул с Сашиной спины.
Взявшись за руки, братья долго взбирались в гору.
Володя оглянулся назад.
Над Волгой плыли кудрявые облака — золотые, красные, сиреневые — и, как в зеркале, отражались в реке. Бурлаков уже не было видно.
У камня, на котором Володя написал «МАМА», виднелась светлая фигура.
— Ма-моч-ка-а! Нашёлся-а! — кричал Саша.
И Володе стало стыдно, что он «нашёлся», а не пришёл домой сам.
— Володя! Как можно? — сказала с укоризной мама.
Сказала «Володя», а не «Володюшка». Значит, очень сердита.
Опустив голову, Володя шагал рядом с мамой.
На площади стало совсем темно. В зарешечённых окнах тюрьмы виднелись круглые пятнышки света. Тюрьма была такая же большая, как баржа. Только она стояла на месте.
На столе шумел самовар. Володя сидел между Аней и Сашей и усиленно дул в блюдце с чаем. Ему очень хотелось, чтобы мама назвала его «Володюшкой», и не терпелось спросить Сашу про бурлаков, но Саша увлечённо разговаривал с сёстрами.
Завтра приедет папа из губернии, Володя должен сам рассказать ему о своём проступке. А это ох как нелегко! Володя тяжело вздохнул.
— Володюшка, закрой окно, стало совсем прохладно, — сказала мама, и в глазах её снова появились весёлые искорки.
НОВЫЙ ДОМ
В то памятное августовское воскресенье день начался необычно. Илья Николаевич ходил по маленьким комнатам квартиры, внимательно оглядывал их, измерял складным аршином длину и ширину буфета, рояля, своего письменного стола, потирал от удовольствия руки и чему-то улыбался в усы. И мама была радостно взволнована.
Дети с недоумением поглядывали на родителей, понимая, что предстоят какие-то важные события.
— Скоро мы переедем в новый дом. Вот где вам будет раздолье! — объявил папа, когда вся семья собралась за столом.
Дети еле дождались конца завтрака.
Папа посадил на плечи Митю, мама взяла на руки Маняшу, и все отправились вниз по Покровской улице.
Калитка открылась в сад. Но разве это был сад? Несколько одичавших яблонь и малинник вдоль забора вперемежку с бузиной и высоким репейником.
Сад отделялся от двора полуразвалившимся сараем и флигелем, возле которого лежало огромное дубовое бревно.
Саше и Володе понравились раскидистые вязы, что росли у кухни, возле конюшни и в центре сада.
Володя мигом оседлал толстый сук.
— Готовый конь с зелёной гривой. Н-но!
Вошли в дом, разбежались по комнатам, аукались, и голые стены отзывались весёлым эхом.
Дом просторный, с двумя застеклёнными верандами, антресолями. Но и семья стала большая — шестеро детей.
Прежде всего решили выбрать папе служебный кабинет. Мама обошла весь дом ещё раз и решила, что для кабинета больше всего подходит комната с пятью окнами, три из которых выходят на веранду и два на улицу. Здесь Илья Николаевич будет встречаться со своими помощниками, принимать учителей, родителей.
Но Илья Николаевич возразил:
— Мне больше нравится средняя комната, а здесь поселится мама.
— В таком случае, это будет гостиная, — решительно сказала мама. — Поставим сюда рояль, дети будут заниматься музыкой, по вечерам можно потанцевать, попеть.
— Наконец-то у нас будет шумная комната! — обрадовались Володя и Оля.
Самую большую комнату отвели для столовой.
— Здесь дети могут учить уроки, играть в шахматы, читать.
— Это будет тихая-претихая комната, — решила Оля.
— Тем более что, когда я ем, я глух и нем, — добавил Володя.
На антресолях, куда вели крутые деревянные лесенки, — четыре маленькие комнаты с низкими потолками; одна из них была, скорее, лестничной площадкой.
— На антресолях разместим детей, — решили родители. — Аня кончит гимназию, будет работать учительницей, ей нужен свой угол. Вторая комната — для Саши; он устроится в ней со своими коллекциями, гербариями, колбами и пробирками. Третья — спальня для малышей.
— Я буду с малышами? — спросил Володя дрогнувшим голосом.
Мама задумчиво посмотрела на сына. Володе уже девятый год. Будущей осенью пойдёт в гимназию.
— Куда же тебя определить — к старшим или к младшим? — спросила она.
— По-моему, Володю пора зачислить в старшие, — рассудил Саша. — Ему нужен свой «кабинет», и я предлагаю устроить его на лестничной площадке.
Володя с благодарностью взглянул на старшего брата.
— Совершенно верно, — обрадовалась мама. — Там уставятся и кровать, и стол, и книжная полка.
Володя горячо обнял маму.
— Что же это получилось? — вдруг забеспокоилась Аня. — Комнаты наверху — для нас, гостиная внизу — для шумных игр, столовая — для тихих, а где же у нас поселятся папа с мамой?
Мама засмеялась:
— О себе я подумала прежде всего. В передней поставим ширму, получится прелестная комната. Из окна чудесный вид на сад, и вы всегда перед глазами. А папа будет спать у себя в кабинете.
Аня с Сашей понимали, что родители прежде всего заботились о них, детях, и не думали о своих удобствах.
Началась весёлая, хлопотливая пора переезда, устройства на новом месте. Пятый раз переезжала семья Ульяновых в Симбирске на новую квартиру, но на этот раз переезжала в свой дом.
Всё свободное от учения время дети проводили за работой в саду и во дворе. Выкорчевали старые яблони и на их месте посадили молодняк. Выдрали лопухи и крапиву, расчистили дорожки. Пришёл столяр, и Саша с Володей помогали распиливать дубовое бревно, твёрдое, как чугун. Работали и рубанком и молотком, и скоро в столовой выстроилось двенадцать тяжёлых, добротных стульев.
Зимой во дворе соорудили снежную горку с ледяным раскатом до самого крыльца, лепили снежные бабы, заботливо окучивали молодые деревца снегом, чтобы они не замёрзли.
Весной сад и двор нельзя было узнать. Ровная площадка во дворе покрылась травой, распушились зеленью молодые деревца, вылезли из земли синие крокусы, белые нарциссы.
В сарае появилась корова Красавка — кормилица детей.
И Саша понял, почему маме так понравился двор и сад, когда они пришли сюда впервые. Мама умела заглянуть в будущее, она тогда уже увидела пустырь, превращённый в прекрасный сад.
В семье Ульяновых наступила счастливая пора.
Мария Александровна сидит у раскрытого окна, штопает рубашку, поглядывает во двор. Старшие дети кончили учить уроки, только Аня в беседке зарылась в книги, готовится к выпускным экзаменам. Из трубы летней кухни валит рыжий дым. Это Саша занимается опытами по химии. В открытом настежь каретном сарае Володя и Митя тренируют мускулы на турнике и кольцах. Маняша сладко спит в тени под вязом.
Мария Александровна вспоминает своё детство — детство без матери. Умный, добрый отец, чопорная, строгая тётка, взявшаяся воспитывать её, Машеньку, и четырёх её сестёр. Жили дружно, росли трудолюбивыми, но без матери — как без солнца. Даже сейчас, когда самой Марии Александровне уже за сорок, ей очень не хватает матери. Навсегда сохранились в памяти мягкая, ласковая рука мамы и глаза, добрые и чуть грустные…
Надвинулись прозрачные майские сумерки. Вернулся Илья Николаевич с учительских курсов. Вся семья собралась за столом.
Наступает самое интересное время. Папа рассказывает о новых школах, о замечательных самоотверженных людях — сельских учителях. После ужина он сядет с Сашей играть в шахматы. Аня с мамой будут решать головоломные ребусы, а Володю пошлют спать. Во всём его приравняли к старшим, а вот спать он должен идти с младшими, в девять часов.
Оля косится на маятник — ему всё равно, о чём рассказывает папа. Похожий на круглую луну маятник раскачивается из стороны в сторону и хоть бы на минуточку остановился. Нет, качается, подгоняет большую стрелку. Скоро она поднимется вверх, как грозящий указательный палец, часы начнут бить девять раз, и уже после этого мама ни за что не разрешит задержаться.
Часы зашипели, и раздался громкий плач.
— Олюшка взвыла, — смеётся Аня. — Значит, пришла пора спать.
Аня берёт Митю и Олю за руки и ведёт в детскую комнату. Володя поднимается к себе в «кабинет». Мама в гостиной раскрывает рояль. Её пальцы быстро-быстро бегают по клавишам, торопят, чтобы дети в такт музыке поднимались по ступенькам наверх. Аня помогает малышам раздеться.
Митя покорно укладывается в кровать.
Оля решительно заявляет:
— Я спать не буду. Буду всю ночь лежать с открытыми глазами, — и тут же, всхлипнув, засыпает.
Володя сидит на кровати и, поддерживая веки пальцами, чтобы не закрылись глаза, слушает мамину колыбельную. Мама поёт:
Володя упёрся локтями в колени, чтобы не соскользнули пальцы, не закрылись глаза. Закроются глаза — перестанут слышать уши. А он так любит мамину песню!
«Какая это тайна? — думает Володя. — Как можно подарить человеку новую силу? Надо спросить маму».
«Нет, нет, спать я не буду. Буду сидеть всю ночь и думать о тайне. Как её подглядеть? Какая она?»
«Нет, нет, спать я не буду. Как хорошо поёт мама!..»
Пальцы устали поддерживать веки. Руки опускаются, ноги скользят по простыне. Володя сваливается на бок и уж никак не может открыть глаза.
СЕКРЕТ
В конце февраля в доме на антресолях поселялся Секрет. Он был беспокойный: стучал молотком, тарахтел швейной машинкой, визжал, как пила, и похрипывал, как лобзик.
Стоило детям в столовой хоть на минуту остаться без родителей, Секрет соединял их головы и начинал таинственно шептать.
С появлением мамы он исчезал, и дети садились по местам с самым равнодушным видом.
Аня, Саша, Володя и Оля дали друг другу слово беречь Секрет и папе с мамой его не выдавать. Здесь же были Маняша и Митя. На Маняшу можно было положиться — ей два года, а Мите хоть и шесть, но он никак не может смириться с тем, что о Секрете не должна знать мама. Вечером Митя не вытерпел, подошёл к маме и прошептал:
— Мамочка, а у нас есть секрет. Хочешь, скажу?
Мама строго посмотрела на младшего сына:
— Нет, я и слушать не буду. Секрета выдавать нельзя, его надо беречь.
По вечерам мама не заходила к детям наверх, чтобы не столкнуться с Секретом. Она сидела в столовой, вязала и улыбалась. Когда Аня попросила разрешения оставить себе деньги, заработанные за уроки, мама не спросила, зачем они ей понадобились. Она даже не заметила, что швейная машинка переехала из столовой в Анину комнату. Папа сидел у себя в кабинете и, заткнув уши, работал, чтобы не слышать, как Секрет прошивает стуком швейной машинки весь дом.
За ужином родители не замечали ни золотистых стружек, запутавшихся в кудрях Володи, ни висевших на шее у Оли прядей цветных ниток, ни забинтованного у Саши пальца, ни перемазанного красками лица Мити. И папе почему-то в эти вечера не хотелось сыграть с Сашей в шахматы…
Только часы ни с чем не считались. Им не было дела ни до какого Секрета. И если бы они не били по вечерам девять раз, мама и не вспоминала бы, что детям пора спать.
Секрет помогал готовить уроки особенно тщательно, он не мог допустить, чтобы из-за него дети схватили, чего доброго, плохую отметку.
Накануне торжественного дня Секрет должен был спуститься с антресолей вниз, и мама с папой ушли к знакомым.
Саша с Володей принялись натирать воском крашеные полы и чистить себе и сёстрам ботинки. И полы и ботинки сверкали, как зеркальные. Аня и Оля крахмалили, наглаживали братьям воротнички, рубашки и себе ленты. Митя наводил порядок в игрушках. Маняша сидела в детской, и, чтобы ей не было скучно, Оля дала ей поиграть своим Секретом. В этот вечер Маняша никому не мешала.
И когда, казалось, всё было готово и до прихода родителей оставались считанные минуты, разразилась беда.
Оля с плачем прибежала к Ане:
— Смотри, что Маняша натворила! Где она только ножницы разыскала?
Аня ахнула, и сёстры побежали к братьям за помощью. Володя увидел заплаканное лицо Оли, вынул из кармана платок, вытер ей слезы.
— Не плачь, — уговаривал он свою подружку. — Саша сейчас что-нибудь придумает.
Саша не умел огорчаться и всегда находил выход из положения, даже когда Секрет, казалось, был непоправимо искалечен.
Саша принялся рисовать. Аня подбирала нитки. Володя вдевал нитки в иголки. Оля вытерла насухо глаза и принялась за работу. Беда была ликвидирована, а Секрет после поправки стал ещё красивее.
6 марта Секрет заставил маму спать дольше обычного, чтобы дети ушли в гимназию до того, как она проснётся.
Уроки в этот день тянулись необыкновенно долго. Зато, когда они закончились и Саша с Володей встретились у Мариинской гимназии с сёстрами, чтоб вместе идти домой, всем им показалось, что солнце светит совсем по-весеннему и улицы сверкают в праздничном инее, а Володя прислушался и нашёл, что галки сегодня поют, как скворцы.
В доме пахло праздником.
Мама, одетая в своё лучшее платье, сидела с папой в столовой и ждала детей. Сверху доносился весёлый переполох.
И вот они, шестеро детей, спускаются по лесенке и тремя парами входят в столовую. Впереди идут Маняша с Митей, за ними Оля с Володей и затем Аня с Сашей. У каждого за спиной Секрет, который они сейчас откроют маме.
Заполнили комнату, остановились. Шесть пар сверкающих глаз с восхищением смотрят на свою маму. Она сегодня такая красивая! Ей так идёт синее платье с белым воротничком и волосы белые, как кружево, над высоким лбом! На лице улыбка, и в карих глазах поблёскивают солнечные искры. Папа в парадном сюртуке стоит за стулом мамы, сияющий, торжественный.
Аня вышла вперёд.
— Дорогая наша мамочка! — говорит она звонким, срывающимся голосом. — Мы поздравляем тебя с днём рождения. Желаем, чтобы ты всегда была здорова, всегда счастлива, всегда улыбалась.
— Спасибо, дорогие мои, спасибо! — И у мамы срывается голос и в глазах блестят слёзы.
— Маняша, иди, — шепчет Аня.
Маняша бежит к маме, подаёт на блюдечке крохотный колобок. Она сама его состряпала.
— Попробуй, — предлагает она маме и живо взбирается к ней на колени.
— Ах, как вкусно! — откусила мама кусочек, а остальное Маняша запихала себе в рот.
Митя, выпятив важно губы, несёт на ладонях конверт, разрисованный диковинными цветами и неведомыми зверюшками. Все самые яркие и весёлые краски и всё своё умение вложил Митя в рисунок. А как старательно выведены на листке четыре слова: «Дорогая мамочка. Поздравляю. Митя»!
Мама прочитала вслух и передала письмо папе:
— Смотри, какое чудное поздравление!
И папе очень понравился Митин подарок.
Оля положила маме на колени думочку. На зелёной подушке, как на лугу, пестрели вышитые полевые цветы и в середине большой красный мак.
— Очень красивая подушка, — залюбовалась мама, — настоящий весенний луг. — Особенно понравился маме мак. — Этот лепесток словно ветром отвернуло, и мак совсем как живой.
У Оли отлегло от сердца: как раз под этим лепестком и была злосчастная дырка, вырезанная ножницами Маняшей.
Маняша взглянула на подушку и уткнулась лицом маме в грудь.
Володя вздохнул. Подушка затмила все подарки. Понравится ли маме его подарок? Он поставил на пол маленький светлый домик с круглым окошечком.
— Мамочка, этот скворечник я приделаю к вязу возле кухни. В нём поселятся скворцы и будут петь тебе песни. Они ведь скоро прилетят.
— Какая прелесть! — обрадовалась мама. — В детстве у меня перед окном был точно такой же скворечник. С тех пор я очень люблю скворцов. Спасибо, Володюшка!
Саша развернул лист белой бумаги и вынул дощечку. Нет, это когда-то была дощечка, а лобзик и пилка в руках Саши превратили её в тонкое кружево с красивыми зубцами и причудливо изогнутыми веточками и цветами.
— Это дощечка для резки хлеба, — сразу поняла мама. — Как раз мне её и не хватало. Но она такая красивая, что, право, жалко на ней резать хлеб. Я буду её очень беречь.
Наконец пришла очередь Ани. Она раскрыла свой секрет. Тёплая байковая кофточка, жёлтая, как цыплячий пух, была отделана коричневым воротником и манжетами. Материю Аня купила на свой первый трудовой заработок. Сама скроила и сшила.
Мама примерила кофточку и не захотела её снимать. Уж очень она ей понравилась.
Где-то хлопнула дверь. Папа засмеялся:
— Это господин Секрет убежал.
И сразу стало шумно и весело. Шестеро детей уселись за стол. На одном конце Мария Александровна, на другом — Илья Николаевич.
— А у меня тоже подарок — всем нам по случаю дня рождения нашей мамочки.
Папа вынул из конверта большую фотографию, на которой была снята вся семья.
Дети вспомнили, как осенью папа водил их всех в фотографию, и как долго их там усаживали и не велели дышать и моргать, и как Маняша испугалась фотографа, когда он накрылся чёрной пелёнкой.
И вот перед ними готовая фотография.
— Как хорошо, что у нас есть мама! — сказал папа. — Она заботится о всех нас и очень нас любит. Скажем ей спасибо за это. И мы все тоже крепко любим её.
ЗИМНИМ ВЕЧЕРОМ
В папином кабинете Аня и Саша занимаются астрономией. Сейчас они увидят, как ночь сменяется днём и почему наступает весна, а за ней лето, осень и зима.
Вместо солнца светит керосиновая лампа с рефлектором.
Земной шар величиной с Маняшин мячик вращается вокруг своей оси и вокруг солнца-лампы. Совсем крохотная луна, прикреплённая к длинному стерженьку, обращается вокруг земли.
Этот астрономический прибор — теллурий — папа выписал и недавно получил из Петербурга.
— Вообразим, что я на Луне, — говорит Аня. — Я лечу вокруг Земли. — Аня закрыла глаза. — Какая красавица Земля в солнечном свете!
— А ты переберись на другую половину Луны и посмотри, что там, — шутит Саша.
Илья Николаевич сидит рядом, показывает Саше, как надо управлять теллурием.
— Когда-нибудь пытливый ум человека заглянет и на другую сторону Луны, — говорит Илья Николаевич. — А сейчас мы устроим с вами солнечное затмение…
Рядом в гостиной горит только одна настенная лампа над роялем, оставляя большую часть комнаты в полумраке. Окна запушены изморозью. В передней весело потрескивают дрова в печке. Мама с младшими детьми готовится к увлекательной поездке.
Володя бегает из папиного кабинета в гостиную и обратно и не знает, на что ему решиться. Хочется самому сменить зиму на весну, и трудно устоять против соблазна прокатиться на тройке.
Наконец он уступает просьбам младших при условии, что ямщиком будет он, Володя.
Мама, Оля и Митя готовятся к путешествию: сдвинули вместе четыре стула — это сани. Впереди Маняшин высокий стул — козлы. Широкое низкое кресло с тремя зубцами на спинке отлично заменяет тройку вороных.
Володя запрягает лошадей: накручивает верёвочки на зубцы кресла, подтягивает подпруги. А лошади застоялись, им не терпится пуститься в путь. Кучер сердито покрикивает на них.
Мама с Маняшей усаживаются на заднее сиденье, Оля и Митя — на переднее. Оля закуталась в тёплый платок, Митя повязал башлык, Маняша натянула на голову капор. Даже мама повязала голову платочком. Путь предстоит дальний. Мороз лютый. Ямщик подтягивает кушак, надевает рукавицы и спрашивает густым басом:
— Далеко ли ехать, сударыня?
— Сегодня мы поедем в страну Добра и Радости, — отвечает Мария Александровна. — Знаете ли вы туда дорогу?
Володя задумался.
— Кажись, это за Подтянутой губернией, уездом Терпигоревым, Пустопорожней волостью?
— Да, да, — подтверждает мама. — Дорога туда нелёгкая. Мы встретим много препятствий и опасностей. Ну, в добрый час! Закутайтесь получше, дети, — говорит мама, — поднимается ветер.
Оля натянула на самые глаза платок, Митя потуже завязал концы башлыка, и Маняша закрыла уши капором.
— Смотрите, какие мохнатые ели стоят по обе стороны, они закутались в снег, как в вату, чтобы не замёрзнуть. А на пригорке ель совсем розовая — это её закатное солнце освещает. — Мама показывает рукой на окно, разрисованное инеем.
И не тёмная застеклённая веранда, а зимняя сказка возникает перед глазами детей. В белой дымке инея проносятся леса, их сменяют поля, а по ним до самого горизонта тянутся синие дороги.
— Смотрите, — кричит Оля, — солнце из золотого совсем стало красное, на него смотреть можно!
— Быть непогоде, — басит ямщик и постёгивает кнутиком лошадей.
Маняша таращит большие чёрные глаза: где это мама и Оля увидели солнце?
— Смотри-ка, Маняша, из-под ёлочки выпрыгнул зайчик. — Мама показывает в сторону фикуса.
— Не вижу, — простодушно отвечает Маняша.
— Ну как же не видишь? — удивляется Митя. — Он на двух лапках сидит, передними мордочку моет.
— Он какой, серый или белый?
— Белый как снег, а ушки у него розоватые, — фантазирует Оля.
— Теперь вижу, — покорно соглашается Маняша, поглядывая на фикус, — только ушки у него зелёные.
— Н-но, милые, н-но, вороные! — покрикивает ямщик и оглядывается на пассажиров. — Сейчас через огненную реку переезжать будем, только отважные могут перебраться через неё, трусливые пусть заранее выходят.
Дети смотрят на маму. Митя говорит:
— Мамочка, вчера няня меня куриным пером пугала, такая страшная большая тень ползла на стене, а я закрыл глаза и не испугался.
— Ну, вот ты и стал смелее, — говорит мама, — сумеешь через огненную реку переехать.
Володя обернулся и, прищурив левый глаз, внимательно посмотрел на Олю.
— Может быть, барышне страшно, она не поедет дальше? Вон красный туман над рекой, сейчас мы ринемся в пламя.
— Я не страшусь! — гордо ответила Оля.
Митя вобрал голову в плечи, закрыл лицо руками, ямщик погнал лошадей во весь опор, и вот уже вокруг ревёт пламя, спирает дыхание, огненные языки тянутся к лицу и рукам.
— Н-но, милые, н-но, вороные! — Ямщик разгоняет дым и пламя перед лицом, что есть силы стегает лошадей. — Ну, вот и проскочили огненную реку!
Все облегчённо вздыхают.
Теперь Митя твёрдо знает, что ему нечего бояться тени какого-то куриного пера.
— Нам бы засветло проехать мимо башни Змея Горыныча, — беспокоится мама. — Он видит только ночью. У него один глаз, и тот загорается, когда восходит луна.
— Ямщик, мы проедем башню засветло? — опасливо осведомляется Митя.
— Приложим всё наше старание, — отвечает ямщик и вдруг натягивает вожжи: — Тпру-у, тпру-у!
— Почему остановились? — спрашивает Мария Александровна.
— Пристяжная распряглась. Вот подтяну хомут, почищу под дугой бубенчики, чтобы веселее звенели, и поедем дальше. — Володя подтянул верёвочки на крайнем зубце кресла. Взобрался на козлы, погоняет лошадей.
— Сорока на сучке сидит, нас в гости приглашает, — подмечает Митя.
— Лисица её под деревом караулит. Ишь, плутовка, как хвостом машет, — добавляет Оля, — ласково так машет, но ты, сорока, ей не верь…
— Я вижу, белочка на дерево карабкается, — придумывает уже и Маняша, — карабкается, как наша Оля.
— Н-н-но, милые, н-н-но, вороные, живей! Овса, что ли, не ели? Держитесь крепче, господа хорошие, сейчас под горку понесёмся! — кричит ямщик.
Седоки схватились за спинки стульев, ветер в лицо бросает пригоршни снега, слепит глаза, но вот лошади вынесли сани в поле, побежали рысцой.
— Солнце скрылось, взошла луна. — Оля зачарованно глядит в потолок.
— Я вижу звёзды! — убеждённо говорит Митя.
— Видите большой ковш наверху, что это? — спрашивает мама.
— Большая Медведица, — хором отвечают Оля, Митя и Володя.
— Я не хочу медведицу, я хочу медвежонка, — заявляет Маняша. — Где он?
— А вот и медвежонок! — прыгает от радости на сиденье Оля. — Вылезает из берлоги, протирает глаза. Слышите, как ревёт?
— Слышу, — испуганно шепчет Маняша.
— А что это за огоньки мелькают? — спрашивает Оля, поглядывая в переднюю, где на крашеном полу пляшут отсветы огня от печки.
— Это светятся папины школы, — отвечает мама.
— Вот мы проехали деревни Заплатово, Дырявино, — объясняет ямщик. — Чуть подале за ними будут Разутово, Знобишино, а под горой Горелово, Неелово…
— …Неурожайка тож, — заканчивает Оля знакомые стихи Некрасова и, вглядевшись вдаль, спрашивает: — Что это за зарево над лесом?
— Это горят зубцы на башне Змея Горыныча, — отвечает мама.
Оля вскрикивает, кувырком слетает со стула и проворно отползает в тёмный угол комнаты.
— Ямщик, остановите лошадей, девочка из саней выпала, — тормошит мама за плечи Володю.
Он с трудом останавливает разогнавшихся лошадей, спрыгивает с козел, привязывает вожжи к дереву и, поставив козырьком ладонь над глазами, пробирается сквозь метель, идёт разыскивать девочку. И вдруг раздаётся тягучий страшный вой.
— Это наш Володя воет! — Маняша захлопала в ладоши.
— Нет, это волки, — догадался Митя. Он закусил зубами палец и отчаянными глазами следит за ямщиком. — Ямщик, держитесь правее, девочка лежит под ёлкой. Волки идут прямо на неё! — почти плачет Митя.
Ямщик пробирается через густой кустарник, сугробы под ногами всё глубже. Даже Маняша стала беспокоиться и поторапливать его. Наконец ямщик разыскал девочку; она уже замерзала в снегу. Он поднял её, обнял за плечи, тащит к саням, оттирает ей снегом руки, а волки вокруг воют всё громче и громче.
— Волки… — стонет Оля, — чуть не съели меня. Голодные, худые, жёлтыми зубами лязгают, глаза зелёным огнём горят.
— Один… два… три… — считает Митя. — Сейчас я их убью. — Он вскидывает воображаемое ружьё на плечо, прицеливается. — Бах!.. — кричит он. — Упал, упал, задрыгал ногами. Бах! Второй под горку кубарем покатился!
— Бах! — не выдерживает ямщик. — Третьего, матёрого, я убил!
— Володя, ты же ямщик. У тебя нет ружья, — напоминает Оля.
— В такую дальнюю дорогу ямщик может взять с собой ружьё, — возражает мама. — У нас очень хороший кучер, смелый и добрый. Видите, как он умело правит лошадьми. Удалось бы ему проскочить башню Змея Горыныча, а там недалеко и до цели.
— А какая она, страна Добра и Радости? Мамочка, расскажи! — просят дети.
— В этой стране живут сильные, красивые люди. Они не знают, что такое ложь, трусость, зависть. Им неведомы болезни, войны, голод, им раскрыты все тайны мира. Они научились управлять солнцем, силами природы, их главные правители — Разум и Дружба.
Кучер опустил вожжи, повернулся и блестящими глазами смотрит на маму, подперев руками голову.
— Мамочка, а почему эти люди не могут сделать счастливыми всех? — спросил он.
— Вот когда будет побеждён Змей Горыныч, тогда люди этой страны подарят всем счастье.
— Володя, — с упрёком говорит Оля, — ты всё время забываешь, что ты ямщик. Гони лошадей, не то попадём в лапы к Змею Горынычу.
— Н-н-но, голубчики, н-н-но, милые! — Володя прищёлкивает языком. — Сударыня! — вдруг поворачивается он к Марии Александровне. — Дальше пути нет. Слышите, как храпят кони? Поднялся буран, зги не видно.
— Может быть, повернуть обратно? — спрашивает мама, обращаясь к детям.
— Нет, нет! — кричат Оля, Митя и Маняша.
— Обратного пути нет, — басит ямщик, — все дороги за нами замело. — Он приподнялся на козлах, вглядывается вдаль. — Сюда бредёт Змей Горыныч, — фантазирует Володя, глядя на рояль. — У него три ноги, в пасти несметное число белых и чёрных зубов и огромный огненный глаз. Он бредёт и лижет землю, а позади него мёртвый след тянется. Мужчины, выходите из саней, встретимся с врагом…
Из саней выпрыгнул Митя. Володя разочарованно посмотрел на него.
— Оля, ты тоже будешь мужчина, — сказал он сестре.
За Олей потянулась Маняша.
— А вы женщина, — сказал ей ямщик, — сидите с мамой, мы будем вас защищать.
На крышке рояля трепетало отражение от лампы. Но это был уже не рояль, это был Змей Горыныч о трёх ногах, и в его раскрытой пасти сверкали белые и чёрные зубы.
— Вперёд! — крикнул ямщик. — Оля, поражай его в пасть, я отрублю ему заднюю лапу. Ого-го-го!
Володя, Оля и Митя с воплями ринулись навстречу врагу. Маняша прыгала в санях, ей тоже хотелось вступить в бой.
Шум сражения оторвал Сашу и Аню от солнечного затмения. Даже папа не мог усидеть у себя в кабинете.
— Сударыня! — крикнул из-под Змея Горыныча кучер. — Укройте вашего ребёнка. Змей Горыныч может его ослепить!
Папа занял позицию за фикусом — заряжал воображаемую пушку.
— Р-р-раз! Р-р-раз! — поражал врага Володя.
Внезапно руки его рванулись к толстой ножке рояля — это его схватил Змей. Володя извивался, отчаянно отбивался ногами, старался высвободить руки из лап чудовища.
Саша подполз под рояль и стал наносить Змею удары в брюхо.
Оля положила пальцы на клавиши и завопила:
— Змей Горыныч укусил меня за руку! Я тяжело ранена!
Аня отвела раненую к саням, а сама кинулась помогать товарищам. Но Оле скучно было сидеть в санях, и она снова вступила в бой, воюя левой рукой.
— Бу-ум! — раздалось из-за фикуса, и папа хлопнул бумажной хлопушкой.
О, это был меткий удар!
— Папа выбил Змею глаз! Ура-а-а! Ура-а-а! — кричал Митя.
— Молодец наш папочка! — похвалил нового бойца ямщик.
Саша помог Володе высвободить руку, и они вместе отрубили Змею Горынычу лапу.
Маняша соскользнула со стула, побежала добивать Змея.
Мама села за рояль и стала импровизировать музыку боя.
…Вот он, Змей Горыныч, надвигается, огнедышащий, страшный. Против него идут люди с чистыми сердцами… Пальцы быстро бегают по клавишам. Удар! Ещё удар!.. Змей стонет… ухает… корчится… подыхает…
Сильные аккорды на басовых клавишах.
— Совсем подох… — смеётся Володя, вылезая из-под рояля.
Папа опустил за шнур лампу-молнию и зажёг её. В гостиной стало светло и празднично. Змей Горыныч исчез.
Мамины руки ведут на рояле мелодию чистую, светлую. Усталые бойцы стоят вокруг мамы, сидят у её ног и чувствуют себя очень счастливыми.
КАРПЕЙ
Аня проворно обрывала мелкие ягоды.
— Я как в малиновое варенье попала. Ты чувствуешь, какой чудесный запах?
Саша не отвечал. Он охотился за бабочкой. Такой в коллекции у него не было. Алые крылья с чёрными пятнами мелькали перед глазами. Но едва Саша поднимал сачок, бабочка исчезала и, словно дразня и увлекая, появлялась в чаще малинника. Саша упорно пробирался за бабочкой, царапая руки и лицо о колючие кусты. И вот она уже бьётся в сачке.
Подошла Аня с корзиной, полной ягод.
— А у тебя пусто?
Саша только сейчас вспомнил, что обещал принести Мите целый туесок малины.
— Я быстро соберу, — сказал он смущённо.
Аня помогала брату наполнить туесок.
В малиннике было душно, парило. Кусали комары.
— Хорошо, что Володю с собой не взяли, — сказала Аня, обмахиваясь веткой. — На него комары набрасываются, как на сахар.
— Его даже малина не соблазнила, когда он вспомнил, сколько здесь комаров, — засмеялся Саша.
Неожиданно над головой загрохотал гром. Наползла чёрная туча.
— Пойдём скорее, — заторопился Саша, — не то промокнешь и опять будешь кашлять.
— Давай лучше под деревом постоим: всё равно до дома добраться не успеем.
— Нет, мы переберёмся на другой берег Ушни и зайдём к Карпею. Это близко.
Выбрались из малинника, сбежали по крутому берегу к реке, где у ивы была привязана лодка. Река потемнела, сморщилась. Туча сизым крылом закрыла солнце.
От берега до избы Карпея бежали по лугу, перепрыгивая через ряды скошенной травы.
Карпей ещё в окно увидел детей и широко распахнул дверь в избу.
— Добро пожаловать, дорогие гости! Вовремя приспели.
Карпей был охотник и рыболов. Жил бобылём. В хате у него стояли стол да скамейка, зато стены сплошь были увешаны пучками трав, сетями, вершами, капканами. В избе пахло свежим сеном.
Ульяновы любили этого статного, красивого и доброго старика. Илья Николаевич называл его поэтом в душе. Карпей прожил долгую жизнь, много видел и умел хорошо рассказывать.
— Вовремя приспели, — повторил Карпей. — Я только что из лесу воротился, мёд добывал.
Карпей принёс из чулана деревянную чашку, полную коричневатых медовых сотов.
Аня и Саша макали куски хлеба в мёд и, запрокинув головы, ловили ртом золотистые капли.
Дед Карпей взглянул в туески, похвалил — хорошую малину собрали.
— А какой сегодня день-то? — хитро прищурившись, спросил он.
— Четвёртое августа, — ответили разом брат и сестра.
— Вот то-то! Сегодня день Авдотьи-малиновки. Аккурат в этот день малина доспевает. Потому и удача вам.
За окном лил дождь, шумный, светлый.
— Ишь, припустился, — прислушался Карпей.
Аня выглянула в окно. Сквозь сетку дождя за Ушней видно освещённое солнцем поле.
— Грибной дождь!
— Ан нет! — возразил Карпей. — Грибной дождичек мелкий, тёплый, с парком, а этот с холодком. Грибной дождик позавчера сеялся. Сеногноем его ещё зовут — много сена губит. А этот дождь спорый, значит, скорый.
— Когда мы за грибами пойдём? — спросила Аня, страстная грибница.
— Денька через два. Самая пора маслятам. В бор пойдём, сосны там прямые, словно свечки стоят, под ногами мох, как перина.
Дождь действительно закончился быстро.
— Я вас через Ушню провожу, — сказал дед. — После дождя река бурливая, не ровён час, душегубку опрокинет.
Саша разулся.
— Я пойду босиком, а ты в лодке мои сухие сандалии наденешь, — сказал он сестре.
Аня попыталась возражать, но Саша сумел убедить, что это устраивает именно его — походить по мокрой траве босиком…
Карпей и Саша вели лодку против течения. Густые заросли ивняка сменил сосновый бор, звонкий, как гусли. Дождя здесь не было, но парило, пахло смолой и земляникой. За лесом раскинулось поле, а через него пролегал Владимирский тракт.
Карпей вгляделся в пыльное марево и велел Саше подгребать к берегу.
По Владимирской дороге медленно двигалась группа людей.
— Святая Владимирка, людскими косточками мощённая. — Карпей снял картуз, перекрестился. — Сколько каторжников по ней в Сибирь прогнали! Тыщи. Не многие обратно воротились… Гляньте, как они скованы промеж себя.
Каторжан было двенадцать человек, шли они по двое в ряд. Между обоими рядами покачивался железный прут, и к нему прикованы цепи от наручников.
Люди двигались по дороге, как серые тени, едва отличимые от пыльного тракта.
Аня и Саша, сцепившись за руки, в молчании следили за этой процессией, пока она не скрылась в лощине.
— Страшно как, когда живых людей железными цепями сковывают! — Аня не сдерживала слёз.
Карпей вытер ладонью вспотевший лоб, надел картуз.
— Я, девочка, видел виды и пострашней…
Он присел на корму, вынул из кармана берестяную табакерку.
— Не забыть мне одного утра. Осенью это было. Шёл я на охоту, шёл по этой самой Владимирке и уж хотел в лес своротить, вижу — вдали пыль клубится. Партию ведут. Пригляделся — нет, не арестанты. Больно мелкий народ. Подождал, пока ближе подойдут. Гляжу — глазам не верю. Детей гонют, ведут, как взрослых арестантов, строем. Только что без кандалов… На каждом шинель надета и полы за пояс подсучены, чтобы по земле не волоклись. Идут босиком, а через плечо у каждого сапоги, за ушки связанные, висят. Все детишки по восемь — десять лет. Самому старшенькому не боле четырнадцати, как тебе, Сашенька…
Карпей затянулся козьей ножкой. Ветер подхватил синее облачко дыма.
— Какие глаза на меня глянули, сердце сковали. Большие, чёрные, по-младенчески открытые, ни слезинки в них, а мука страшная. Впереди махонький идёт, вот такой… — Карпей показал рукой чуть повыше кормы. — Ему бы на коленях у мамки сидеть, в бирюльки играть, а он шинель пудовую на плечах тащит… Поглядел на меня круглыми чёрными глазами — только дитё так в душу заглянуть может. «Что за ребятишки?» — спрашиваю солдата, а у самого от ужаса зубы лязгают. «Жиденят ведём, — отвечает солдат. — По царскому указу в Сибирь гоним, да уж не знаю, сколько до места доведём. Почитай, половину вдоль дороги закопали. Хлипкий народ. Маета с ними». Сообразил я тогда, что это еврейских детей на царскую службу гонют. Двадцать пять лет полагалось им солдатчины отбыть. «Позволь, — говорю, — служивый, хлеб мой им отдать». — «Не порядок это», — буркнул солдат и погнал их вперёд. Я старшенькому успел краюху сунуть… Солдаты идут и следят, чтобы ровными рядами по уставу шли, чтобы с ноги не сбивались. Для порядка мёртвых из списка чиркают, для порядка несколько душ на место приведут. Вот какой он, царский порядок! — гневно закончил Карпей.
— За что это их? — спросил тихо Саша побледневшими губами.
— По царскому указу. По царскому порядку.
— Подлость это, — прошептала Аня, вытирая слёзы.
Дети попрощались с Карпеем. Шли молча, оба потрясённые. Саша остановился, оглянулся на Владимирку.
— Ты права! Подлость это… Низость… Ненавижу царя!
Пришли домой.
Пятилетний Митя ещё с крыльца увидел сестру и брата и кинулся им навстречу. Схватил туесок с малиной, взвизгнул от радости.
Саша поднял братишку на руки, заглянул в его блестящие чёрные глаза, такие радостные и счастливые, доверчивые глаза ребёнка, которого все любят и ласкают. Прижал к себе и осторожно опустил на землю.
Вечером Саша, Аня и Володя сидели на крылечке, смотрели на тусклые огоньки деревни, за которой проходила Владимирка. Саша поведал Володе о том, что они видели по дороге и слышали от Карпея.
Аня, повернув лицо к Саше, громко прочитала:
Саша, обхватив за плечи Аню и Володю, привлёк к себе и, переводя глаза с одного на другого, взволнованно ответил:
Десятилетний Володя хорошо знал эти стихи Плещеева, которые так часто напевал отец. У Саши они звучали особенно призывно, и Володя, старавшийся во всём подражать брату, вместе с ним и сестрой громко пел:
Все трое встали и уже кричали во весь голос в темноту, туда, где пролегал Владимирский тракт:
Из комнаты вышла мама:
— Тс-с!.. Тише… Что с вами? Нельзя так громко. Это запрещённая песня.
— Эту песню всегда поёт папа, — ответил Саша.
— Значит, она правильная, — добавил Володя.
— Нам хочется, чтобы её услышали все, и те, которых ведут по этой дороге…
Мария Александровна смотрела на возбуждённые лица детей, на их горящие глаза. Как они остро чувствуют несправедливость!
— Песня потому и запрещена, — сказала мама, — что призывает к честности, к неподкупной любви к родине. И стихи Некрасова, которые записаны у папы в тетрадке, тоже рассказывают правду, потому и нельзя их читать при посторонних.
— Это может повредить папе, — понимающе заметила Аня.
— Да. Вот, скажут, чему директор народных училищ учит своих детей.
— Но разве папа делает неправильно? — допытывался Володя.
— Нет, он делает правильно, вам надо знать правду, — ответила Мария Александровна. — А пока сберегите эти строки в сердце своём.
СТАРОЕ КРЕСЛО
В папином кабинете стоит большое кожаное кресло. Оно всегда холодное и неуютное. Даже в жаркий день на него неприятно садиться. Поэтому и сидишь в нём в наказание. Чуть шевельнёшься — кресло сердито скрипит, словно тоже осуждает за твой проступок.
Митя сидит в кресле, слушает, как тикает будильник. Раньше мама заводила в нём музыку, чтобы можно было знать, когда пройдут положенные минуты наказания, и, как только зазвучит мелодия «Во поле берёзонька стояла», можно было соскочить с этого кресла и идти играть. А сегодня мама музыку не завела. Просто сказала, что Митя должен сидеть в кресле тридцать минут, подумать о своём проступке и выучить урок из арифметики.
А Мите думать не хочется.
Мите хочется в столовую, где братья и сёстры мастерят сейчас ёлочные игрушки. Митя тоже мог бы оклеивать орехи золочёной бумажкой — фольгой, а вместо этого сидит в кресле, и даже будильник ему не подскажет, когда можно сойти.
Сегодня на уроке арифметики учительница крутила на картонных часах жестяные стрелки и спрашивала, который час. Спросила и Митю. Он ответить не мог и получил двойку. А не ответил потому, что Красавка отелилась. Митя весь вечер просидел на кухне возле телёнка. Телёнок смешной: не успел родиться, как уже старался встать на ноги, а они расползались у него в разные стороны. Митя пригибал ладонью голову телёнка к миске с тёплым молоком и совал ему палец в рот. Телёнок принимался сосать молоко с пальца, а язык у него шершавый, щекочется. Нос у телёнка розовый, с тёмным круглым пятном между ноздрями, глаза большие и скучные. Наверное, ему плохо без своей мамы. И Красавка жалобно мычала в хлеву, звала к себе своего маленького.
Мария Александровна сказала, что дети будут кормить телёнка по очереди и нечего всем сидеть вокруг него. Он только что появился на свет, и ему надо дать хорошенько поспать.
Все пошли учить уроки, а Митя украдкой пробрался на кухню и всё кормил телёнка. И сейчас ему не терпится посмотреть на него, умеет ли он уже стоять на ногах. Но Митя должен сидеть в кресле и повторять урок из арифметики. А Мите не хочется учить уроки.
Мама сказала, что сидеть в кресле он должен полчаса и что может сойти без четверти пять. Когда это будет без четверти пять?
Митя сидит и думает.
Вокруг циферблата точки и чёрточки. Митя знает: между двумя точками — одна минута, а между чёрточками — пять минут. Большая стрелка помедлит, прицелится и перепрыгнет с одной точки на другую, а маленькая толстая стрелка стоит на месте и, кажется, вовсе не движется. Полчаса — это тридцать минут. Где же будет большая минутная стрелка, когда наступит без четверти пять?
Скрипнула дверь, и в кабинет заглянула смешная мордочка кота в большой шляпе с пером.
— Мяу!
— Володя, я знаю, что это ты. Пойди сюда, покажи мне, где будет большая стрелка, когда наступит без четверти пять.
— Мяу, милый мальчик, если я подскажу тебе, ты никогда не выучишь урока по арифметике. Соображай сам. Мяу! Мяу! — И Кот в сапогах исчез.
Митя вздохнул. Успеют ли теперь ему сделать маску зайчика? Он смотрит на часы. Даже вспотел от напряжения, и кресло кажется ему горячим. Несколько раз он проверял себя, прежде чем убедился, в каком месте минутная стрелка подаст ему знак к свободе.
За стеной в столовой слышен громкий смех. Звонче всех смеётся Маняша. Мычит телёнок на кухне. Его, наверно, забыли покормить. А стрелки застыли на месте. Наверно, часы вовсе остановились, и телёнок может умереть от голода, и все игрушки будут сделаны без него, Мити. Позвать маму? Сказать ей, что часы остановились? Митя смахивает слёзы с глаз, они мешают следить за стрелкой. Митя считает. Осталось сидеть семь минут. Это уже точно. С проверкой решал.
Опять мычит телёнок. Сможет ли поголодать ещё семь… нет, только пять минут?
Нигде так медленно не идёт время, как в этом кресле. День пробежит — не заметишь, а в кресле каждая минута тянется, тянется, и конца ей нет.
Но наконец-то долговязой стрелке осталось перепрыгнуть с точки на чёрточку. И тогда будет без четверти пять. Но стрелка замерла и не думает перепрыгивать. Митя отвёл глаза в сторону — может быть, он пригвоздил стрелку взглядом, загипнотизировал её и она больше не стронется с места.
— Митя, сколько времени? — раздаётся голос мамы в дверях кабинета.
Стрелка испуганно вздрогнула и перескочила на длинную черту против цифры «9».
— Без четверти пять, мамочка. Полчаса прошло.
— Совершенно верно, — сказала мама. — Ты подумал над своим уроком из арифметики?
— Нет, не успел, — смущённо признался Митя, — я всё время думал о том, когда можно будет встать с места.
— А сколько времени сейчас?
— Без тринадцати минут пять, — бойко ответил Митя, едва взглянув на часы.
— Ну, вот и отлично, — похвалила мама. — Иди покорми телёнка — он, бедный, проголодался, — а потом будешь оклеивать орехи фольгой.
Митя соскользнул с кресла.
НА КОНЧИКЕ НИТКИ
Мама сидит на диване. Перед ней стоит Маняша. На руках у девочки растянут моток ниток. Мама сматывает нитки в клубок, берёт две тоненькие блестящие спицы и показывает дочке, как надо вязать.
Едва заметно шевелятся мамины руки, и с левой спицы на правую, словно голубое ожерелье, нанизываются петли.
Маняше всё понятно. Теперь она свяжет Мите шарф, и брат больше не будет болеть ангиной.
Дочка берёт из маминых рук спицы, крепко сжимает их в пальцах, но поддеть и вытянуть кончиком спицы петлю не так-то просто.
— Вот если бы кончики были загнуты крючками, тогда было бы легче, — говорит Маняша.
А такими гладкими спицами могут управлять только мамины руки — они всё умеют. Не прекращая вязания, мама может заглянуть в учебник и объяснить задачу. Слушать, как Оля играет на рояле, и уловить неправильно взятую ноту. Спросить у Володи про дела в гимназии и продолжать считать петли.
Легко шевелятся кисти рук у мамы, указательный палец всё постукивает да постукивает о кончик спицы. У неё всё легко и просто. А Маняша ковыряет спицами и зевает до слёз. Обернулась — чему это так заразительно смеются Володя и Оля? — и вязанье выпало из рук. Мурка спрыгнула с дивана и подцепила вязанье лапкой, и со спицы, как капельки, соскользнули петли и пролились на пол извилистой ниткой.
Маняша тяжело вздыхает.
— Мамочка, мне не хочется вязать, — говорит она, откладывая спицы в сторону. — Я лучше буду учиться шить.
— И шить ты научишься и вязать, — отвечает мама. — Нужно всё уметь делать.
— А зачем? — простодушно спрашивает Маняша.
— Мамочка, а если человеку не нравится какое-нибудь занятие, зачем же его заставлять? — заступается за сестру Оля.
Мама покачала головой:
— Человек должен уметь всё делать, чтобы обслуживать себя. Тогда он будет независимым, ему не потребуется просить других. А занятие в жизни надо выбрать то, которое по душе.
— Поэтому ты и Митю учишь шить на машинке? — спросила Оля.
— Да, он учится быть самостоятельным.
После обеда мама опять засадила Маняшу за работу.
— Это волшебный клубок. Когда весь вывяжешь, на кончике нитки получишь сюрприз.
— А нельзя сейчас размотать клубок и посмотреть, что там?
— Нет сюрприз надо заработать.
Маняша старается. Руки уже не так напряжены, и петли перебегают с одной спицы на другую почти как у мамы, только медленнее.
К вечеру можно было видеть, что Маняша вяжет шарф, голубой, пушистый.
Клубок с каждым днём становился меньше, шарф — длиннее.
И каждый раз, вернувшись из гимназии, Митя торопит Маняшу с уроками, хочет, чтобы она поскорее кончила вязанье.
На Свияге устроили каток, а мама без тёплого шарфа не пускает. И Маняша поэтому не ходит на каток. Дети катаются парами: Володя с Олей, Митя с Маняшей.
Сегодня Маняша закончит шарф. Клубок сильно похудел и из круглого стал угловатым. Интересно, что это там, на кончике нитки?
Спицы в Маняшиных руках ходят легко и быстро. Теперь она может взглянуть на Мурку, когда кошка крадётся к корзиночке, в которой бьётся клубок, и отогнать её ногой. Митя сидит на диване и торопит сестру.
— Потерпи немножко, совсем чуть-чуть осталось, — говорит ему Маняша.
Вот и последний ряд. Шарф закончен. Нитка натянулась.
Маняша тянет нитку — на кончике привязана маленькая дощечка шоколада.
Сюрприз!
Когда же мама сумела запрятать в клубок шоколадку, ведь она наматывала нитки вместе с ней, Маняшей?
— Мамочка, ты волшебница! — восхищается Маняша.
— А по-моему, волшебник тот, кто умеет простую нитку превратить в очень красивый и тёплый шарф.
Мите шарф тоже очень понравился, он сразу повязал его на шею.
Оля и Володя в полном снаряжении ждут у дверей.
В шоколадке четыре дольки. Маняша отламывает и протягивает одну Оле, другую — Володе, третью — Мите, а четвёртую разламывает пополам: маме и себе.
Сейчас все четверо побегут на каток.
Как много радости на кончике нитки!
ЛУЧШАЯ ОТМЕТКА
Весело возвращаться домой из гимназии в сентябрьский погожий денёк: пышные сады расцвечены багряными красками, воздух напоён запахом созревающих яблок и горьковатых астр.
Дома ждут братья и сёстры, весёлые игры, прочитанная до самого интересного места книга, гигантские шаги во дворе. А вечером вернётся из губернии папа, и ему можно будет с гордостью показать свой дневник, в котором красуются круглые пятёрки.
По дороге Володя завернул к женской гимназии, подождал, пока выбежит Оля.
— Ну как? — задал он обычный вопрос.
Оля весело помотала головой, отчего её коса, похожая на тугую рыбку, описала в воздухе полукруг.
— Из истории двенадцать, и из физики двенадцать, — пропела она тоненьким голоском.
— А у меня из латыни пять, — сказал Володя.
Пять — это высшая отметка в мужской гимназии, а двенадцать — в женской. Схватившись за руки, брат и сестра, цокая башмаками по деревянному тротуару, помчались вниз по Покровской улице.
— Ты знаешь, как я волновалась за физику? — вдруг остановилась Оля. — Сижу за партой и ничегошеньки не помню, а когда учительница вызвала к доске, в голове всё пришло в порядок. Ух, как я рада, что не срезалась!
— Ты же вчера свою физику при луне повторяла, — засмеялся Володя. — Я вылез на балкон и видел, как ты пальцем на стекле формулы выводила.
Володя по-хорошему завидовал сестре, её усидчивости и терпению. Вот кто умел упорно трудиться!
— Нас кто-то ждёт у калитки, — сказала Оля.
Володя прищурил левый глаз.
— Да, какой-то парнишка. Я его не знаю.
Подошли ближе. У изгороди стоял мальчик лет двенадцати, ровесник Володи. Видно было, что он пришёл издалека: лапти на ногах совершенно разбиты, длинный кафтан покрыт пылью, за спиной болтается мешок.
— Ты к нам? — спросил Володя.
— Я к главному учителю Ульянову. Люди сказали, что он живёт здесь.
— Здесь, здесь, — живо подтвердил Володя. — Это наш папа. Почему же ты не входишь?
— Боязно. Мой отец стращал, что в Симбирске в каждом дворе злая собака.
— У нас никакой собаки нет. Заходи, заходи. — Володя распахнул калитку; Оля прошмыгнула первой и побежала вперёд. — Только папу тебе придётся ждать, он вернётся вечером. Зачем он тебе? — полюбопытствовал Володя.
— В школу мне надо. Учиться.
— Как зовут тебя?
— Иваном.
— Меня зовут Володя, сестру — Оля. Будем знакомы.
— Твой отец сердитый? — спросил Ваня и замедлил шаг.
— Увидишь сам.
Мама с Олей накрывали на стол в беседке, а Володя с Ваней пошли мыться в сарай. Натаскали из кадушки воды, нагретой солнцем. Ваня с любопытством смотрел, как Володя мылил себе голову и как у него под пальцами вырастала пушистая снежная шапка.
И Ваня захотел такую же шапку. Он никогда не видел мыла и не знал его волшебных свойств. Володя фыркал — и Ваня фыркал. Володя обливался из ведра — и Ваня обливался. А потом, вымытый, чистый, с довольным видом осматривал себя в Володиных холщовых брюках и в серой рубашке.
За обедом мама подкладывала Ване самые большие куски. Ваня уплетал за обе щеки и рассказывал, что он давно, ещё с весны, решил учиться. А отец не пускал в школу — незачем, говорит, бурлаку учиться. Бурлак бедный, ему ничего не надо знать; если будет много знать, невзлюбит свою жизнь. Отец у Вани бурлак, и дед был бурлаком, а Ваня хочет стать учителем. Люди сказали, что занятия в школе начинаются осенью, когда пожелтеют листья. Вот Ваня и ждал, пока берёза под окном вызолотит свои листочки. Ночью он тайком ушёл из дому искать школу. Много деревень прошёл — нигде нет школы. Люди сказали, что в Симбирск надо идти, к главному учителю Ульянову, он поможет…
Володя внимательно слушал, подавшись вперёд, ссутулив плечи, сдвинув брови, и только тихонько произносил: «Гм… гм… да… да…»
После обеда Володя с Олей повели Ваню к себе наверх, показали ему книжки с картинками.
— Вот это библия! — воскликнул Ваня, разглядывая книжку.
— Какая библия? — удивился Володя. — Это «Хижина дяди Тома». Самая лучшая книжка на свете.
— Нет, библия, — настаивал Ваня. — Я сам видел такую штуку в церкви, только ещё красивее.
Брат с сестрой переглянулись. Они поняли, что мальчик никогда не держал в руках книги. Володя был потрясён. Он ровесник Ване и успел прочитать много-много книг, а этот чудесный мир был закрыт для сына бурлака.
Ваня вертел в руках книгу, перелистывая её, как слепой, ощупывал пальцами строчки, и глаза его оживлялись, когда он встречал картинку.
— Хочешь, почитаю? — предложила Оля.
— Почитай. Покажи, как ты это делаешь.
Ваня слушал и следил за Олиным пальцем. Палец двигался по строчкам-бороздкам, и все бороздки были одинаковые, и каждая страница похожа на аккуратно вспаханное поле. Как же эта девочка высматривает в этих бороздках такие интересные истории и почему, как ни пялит глаза Ваня, он сам ничего этого не видит?
Володя сидел рядом и старался углубиться в латынь. И не мог. Его подавляло смутное чувство недовольства собою, какое-то сознание вины перед Ваней. Илья Николаевич часто рассказывал детям об ужасающей нищете и бесправии в деревне. А теперь Володя сам услышал это от мальчика. Чем порадовать Ваню? Подарить ему свою любимую книгу? Но Ваня не умеет читать. Отдать свои сокровища — коллекцию пёрышек? Но он не умеет писать. Выпросить у Саши для Вани календарь?.. Нет, не то, не то…
Вечером приехал Илья Николаевич. Он был на открытии двух новых сельских школ, вернулся в отличном настроении, и ему не терпелось поделиться своей радостью с Марией Александровной, с детьми.
— Папочка, тебя ждёт мальчик Ваня, — начал было Володя.
Но отец уже всё знал от мамы.
— Мы поговорим с молодым человеком, а ты иди к себе.
Володя и Оля уселись на сундуке в передней и с нетерпением ждали решения отца.
Ваня вышел из кабинета счастливый. Он ничего не говорил, только смеялся.
Смеялись его глаза, губы и даже кончик сморщенного носа.
Володя побежал к отцу:
— Папочка, как хорошо, что ты определил Ваню в школу! Он такой счастливый!
— Нет, — ответил Илья Николаевич, — он опоздал, и ребята в занятиях ушли далеко вперёд.
— Но он опоздал не по своей вине. Ему сказали, что занятия в школе начинаются, когда пожелтеют листья на деревьях. Вот он и ждал, а потом искал школу. Он шёл до Симбирска две ночи и два дня. Разве можно, чтобы он вернулся ни с чем? — Перед глазами Володи стояло улыбающееся лицо Вани. — Папочка, разве ты не хочешь, чтобы он учился?
— Ты сам понимаешь, что нельзя задерживать целый класс из-за одного ученика. — Илья Николаевич внимательно смотрел на сына.
Володя вдруг весь вспыхнул, зарделись щёки, заискрились глаза.
Он подошёл ближе к отцу:
— Он догонит, папочка. Мы поможем ему — я и Оля. Даю тебе слово.
Складка на лбу у Ильи Николаевича разгладилась, густые брови вскинулись вверх, губы дрогнули в улыбке.
— Вот именно этого я и ждал от тебя. Я буду просить, чтобы Ваню приняли в школу.
Володя порывисто обнял отца и помчался наверх…
Над садом висел серп луны, по небу плыли облака, оставляя за собой рассыпанные звёзды. Огромные вязы в саду сильными изогнутыми сучьями, казалось, подпирали небо.
Володя стоял на балконе, вцепившись руками в перила, вглядывался в Млечный Путь.
На балкон выбралась Оля.
— Я показала папе свой дневник. Он посмотрел на двенадцать по физике и сказал: «Это ещё не самая лучшая твоя отметка». А какая же может быть лучше, Володя? — Она взглянула в лицо брату.
Володя молчал.
— О чём ты думаешь?
— О Ване… Ты слышишь? — Володя указал рукой вниз.
Через двор, по дорожке, посыпанной лунным светом, шли папа, мама и старшие — Аня и Саша. Илья Николаевич смеялся особенно задушевно, и, как маленький колокольчик, звенел голос мамы.
— Ты слышишь? — повторил Володя. — Папа рассказывает про Ваню и радуется, словно открыл новую школу. Вот бы научиться так радоваться!.. — Володя схватил Олю за руку.
— Я знаю, знаю, что такое лучшая отметка! — Оля посмотрела на брата, на его сияющее лицо. — Лучшая каша с тобой отметка будет первая пятёрка Вани. Правда?
Володя спрыгнул с перил и заглянул в окно. Ваня спал, крепко ухватив обеими руками «Хижину дяди Тома», которую Володя получил в подарок за успехи и учении.
СОЧИНЕНИЕ
В доме тихо. Слышится только, как потрескивают дрова в печке да пронесётся вдруг по комнатам дуновением лёгкого ветра мелодичный звон часов. За окном двор и сад в белом зимнем убранстве. С отяжелевших ветвей берёзы опадают пушистые снежные хлопья и рассыпаются в воздухе серебристой пылью.
Тихо и спокойно на сердце у Марии Александровны. Мелькает иголка в её руках. На столике растёт стопка починенного и аккуратно сложенного детского белья. Сделав последний стежок и закрепив нитку, Мария Александровна воткнула иголку в подушечку, подошла к окну. С высокой ледяной горки, крутясь волчком, скатывается вниз на круглой ледянке Маняша. Митя стоит наверху, ждёт своей очереди.
Мать постучала напёрстком в стекло, позвала малышей домой. А сама пошла в столовую накрывать стол к обеду.
Заскрипела дверь с чёрного хода, зашуршал веник: Митя и Маняша очищают друг друга от снега. Не раздеваясь, заглянули в столовую.
— Вот и мы, — заявила Маняша.
— Вот и мы, — повторил Митя.
Оба как из снежной купели, на пунцовых щёках, на ресницах блестят капли от растаявших снежинок.
— Раздевайтесь-ка скорее, — улыбается мать. — Сейчас наши гимназисты придут, будем обедать.
— А потом спать? — вздыхает Маняша.
— Немножко отдохнёте.
Стук-стук-стук… — стучат каблучки по ступенькам.
— Оля идёт! — взвизгивают малыши и несутся навстречу сестре.
Оля целует Митю и Маняшу.
— Ой, как вам снег щёки нагрел!
— Не нагрел — наморозил, — поправляет Маняша.
Распахивается дверь с улицы на веранду, кто-то скачет через две ступеньки: раз, два, три, четыре… Это Володя.
В тесной передней возня, смех. Володя затеял с Митей борьбу — кто сильнее, Маняша рассказывает, как летела «вот с такой высоченной горы», перевернулась и «чуть не утонула в сугробе».
Но вот слышно, как кто-то сбивает с башмаков снег на веранде.
— Саша пришёл!
И в передней сразу водворяется порядок.
Мария Александровна улыбается. Пришёл наставник, старший брат Саша, и все, как по мановению волшебной палочки, становится на свои места.
— Саша, у меня валенки не снимаются, помоги… — жалобно просит Маняша.
Саша наклонился, Маняша обхватила брата за шею и повисла на нём.
Володя расчёсывает волосы перед зеркалом и искоса поглядывает на брата. Не получается у него такая же причёска. У Володи волосы светлые, с рыжинкой, и закручиваются в разные стороны, а у Саши шапка тёмных волос, блестящих, чуть волнистых и послушных.
Маняша уже сидит у старшего брата на закорках, Оля потёрлась щекой о его плечо и произнесла своё привычное ласковое «мур-мур». Никому другому Саша не позволил бы таких «телячьих нежностей», это можно только двум младшим сёстрам.
— Мыть руки — и за стол! — говорит Саша, осторожно опуская Маняшу на пол, и бежит наверх положить на место портфель с книгами.
Последней приходит Аня.
И вот все за столом. Нет только Ильи Николаевича, он в разъезде по губернии. Когда отца нет дома, его во всём заменяет Саша.
Зоркий глаз матери подметил, что старший сын чем-то взволнован. Вот уже шестнадцатый год пошёл ему, а мать не может вспомнить, чтобы он чем-то огорчил её. Он не любит ласкаться, как все другие её дети, всегда ровен, спокоен и послушен. Но покорным назвать его нельзя. «Я сам» — это были его первые сознательные слова. «Я сам буду есть ложкой… сам справлюсь с пуговицей… сам зашнурую ботинки… сам застелю постель… сам решу трудную задачу. Я — сам». Однажды она увидела, как Саша — ему было тогда три года — складывал из кубиков картинку. Пыхтел, мучился — не мог подобрать кошке ногу. Мать долго следила за мальчиком и решила помочь ему: взяла кубик, перевернула и поставила на место. У кошки появилась четвёртая лапа. А Саша вдруг обмяк, вскинул тёмные глаза на мать, и она прочла в них упрёк: она оборвала его пытливую мысль. «Я ведь хотел сам», — тихо сказал он. И это был урок для молодой матери.
Саша отличался отменным здоровьем, был сильным мальчиком, но эта сила таилась в нём, он словно стеснялся её. С младшими был осторожен, никогда не повышал голоса, но все дети его беспрекословно слушались. Даже Аня уступила ему старшинство в семье, часто советовалась с ним, спрашивала его мнение.
Саша аккуратно ходил с отцом в церковь, знал наизусть все молитвы, хотя постоянно старался понять их суть и как-то долго допрашивал отца, что такое «иже еси на небеси». С третьего класса гимназии увлёкся книгами по физике, астрономии, в летней кухне стал заниматься химическими опытами. И вот недавно, когда Илья Николаевич собирался в церковь, Саша подошёл к отцу и мягко, как только он умел, но решительно сказал: «Папа, я не пойду в церковь». — «Ты чем-то занят, мой мальчик?» — спросил отец. «Нет», — коротко ответил сын. И ещё несколько раз отец звал его в церковь, и наконец Саша сказал: «Я больше не буду ходить в церковь». Отец понял, что это не каприз ребёнка, а решение юноши, решение зрелое. «Ну что ж, неволить не буду», — вздохнул он. Саша видел, что отец огорчён, но даже ради него, любимого отца, он не мог поступиться собственными убеждениями.
Сегодня Саша чем-то обеспокоен, что-то упорно решает для себя, даже не расслышал вопроса Володи — пойдёт ли он завтра на каток. Обычно все дети рассказывали, что произошло в гимназии. Так было и на этот раз. Только Саша молчал.
После обеда Володя с Олей повели малышей наверх укладываться спать. Мария Александровна с Аней убирали со стола. Саша взял из рук сестры тяжёлую стопку тарелок и понёс на кухню.
— Мне кажется, у Саши какие-то неприятности, — сказала мать. — Но не будем у него выпытывать. Если найдёт нужным, расскажет сам.
Саша вернулся в столовую. Преодолел минутное колебание и спросил:
— Мамочка, Аня, у вас есть несколько минут? Я хотел бы прочитать вам своё сочинение.
Мать и сестра охотно согласились послушать.
Саша побежал на антресоли за тетрадкой и привёл с собой Володю.
Мария Александровна подкрутила фитиль в лампе, чтобы было светлее. Все уселись за стол. Саша раскрыл тетрадь, Володя заглянул в неё. Густо исписанные лиловыми чернилами глянцевитые страницы привлекали внешним видом.
— Нам задали сочинение на тему: «Что требуется для того, чтобы быть полезным обществу и государству». Я написал так, как понимаю свой долг перед обществом и государством, — сказал Саша.
— За этим сочинением ты и засиживался последние ночи? — спросила сестра.
— Да. Очень много думал: ради чего человек живёт? Ради чего живу я? Сегодня нам раздали тетради. Господин Керенский поставил мне за сочинение четвёрку.
— Тебе — четвёрку? — изумился Володя. — Это несправедливо!
— Не спеши судить, — ответил Саша. — Меня огорчила не отметка, а озадачило замечание Фёдора Михайловича, что у меня в сочинении отсутствует главная мысль, а какая, он не сказал.
— Почитай, дружок, может, вместе и разберёмся. — Мария Александровна взяла корзиночку с вязаньем — руки у неё всегда должны быть заняты.
Саша разгладил ладонью лист тетради.
— Сначала у меня идёт краткий конспект. Я его опускаю. Начну с текста:
«Чтобы быть полезным обществу, человек должен быть честен и приучен к настойчивому труду, а чтобы труд его приносил сколь возможно большие результаты, для этого человеку нужны ум и знание своего дела».
— Трудолюбивый человек не может быть не честен, — горячо возразил Володя. — Раз он любит труд, хорошо работает, значит, он честен.
— Володя, не перебивай, — остановила его Аня, — пусть Саша дочитает до конца.
Саша внимательно посмотрел на брата, словно взвешивая, доступно ли Володе то, над чем он сам долгими ночами мучился.
— Я не случайно поставил на первое место честность, — заметно волнуясь, ответил Саша. — Если человек честный, он выберет себе такое занятие, чтобы от него было больше пользы народу, обществу, а нечестный человек прежде всего будет думать о собственной выгоде. Такой труд может принести обществу вред. Ты согласна, мамочка?
Мария Александровна отложила вязанье в сторону. Ответила не сразу.
— Да, Саша, ты прав. Возьми хотя бы купца Никитина. У него вся семья работает от зари до зари. Сами мешки в амбары грузят. Осенью скупают зерно, а весной продают втридорога. Какая уж тут польза обществу!
Саша просиял.
— А ты согласен? — спросил он младшего брата.
— Вполне, — ответил Володя, глядя влюблёнными глазами на Сашу. — Читай, читай дальше.
— «Но честности и желания принести пользу обществу недостаточно человеку для полезной деятельности: для этого он должен ещё уметь трудиться, то есть ему нужны любовь к труду и твёрдый, настойчивый характер. Трудолюбие необходимо каждому трудящемуся человеку; труд по какому-либо внешнему побуждению не принесёт и половины той пользы, которую принёс бы свободный и независимый труд…»
— Вот это я не совсем понимаю, — сказала Аня. Она стояла, прислонившись к кафельной печке.
— Труд раба, труд по принуждению, подневольный труд не может принести той пользы обществу, какую ему может дать человек свободный, избравший себе профессию по своему желанию, — ответил Саша.
Мария Александровна вдруг по-новому увидела своего старшего сына. Какие глубокие мысли волнуют его! И эти мысли так близки и Ане и даже одиннадцатилетнему Володе. Он, младший, обычно непоседа и пересмешник, сейчас замер, опёрся на сплетённые пальцы подбородком, не шевельнётся, и только живо и заинтересованно искрятся чуть прищуренные глаза.
Аня подошла к брату, заглянула через плечо в тетрадь, ещё раз перечитала.
— Но я не могу выбрать профессию по своему желанию, значит, я не свободный человек?
— Да, ты не свободный человек, — резко произнёс Саша.
И эта жёсткая нотка осуждения относилась вовсе не к сестре, а к кому-то другому, кто сковывает свободу сестры, поняла Мария Александровна.
— Дальше я это объясняю. — Саша перевернул страницу. — «Любовь к труду должна простираться не только на лёгкие и ничтожные вещи, но и на то, что с первого взгляда кажется непреодолимым. Чтобы быть действительно полезным членом общества, человек должен настолько приучиться к настойчивому труду, чтобы не останавливаться ни перед какими трудностями и препятствиями, ни перед теми, которые представляют ему внешние обстоятельства, ни перед теми, которые представляют ему собственные недостатки и слабости: для этого он должен уметь управлять своей волей и выработать в себе твёрдый и непреклонный характер». Мне кажется, что я ответил на твой вопрос, — обратился к сестре Саша.
— Да, твёрдого и непоколебимого характера мне как раз и не хватает, — призналась Аня, — но даже если бы он у меня был, как я могу изменить «внешние обстоятельства», как я могу изменить законы и порядок в нашем государстве?
Саша пожал плечами:
— Я считаю, что если действительно хочешь принести пользу обществу, то нельзя останавливаться ни перед какими трудностями и препятствиями.
— Но как их преодолеть, эти препятствия? — почти с отчаянием спросила Аня.
— Не знаю — как, но знаю только, что это необходимо. — И, уловив недоумевающий и встревоженный взгляд матери, продолжал читать: — «Умственное развитие необходимо человеку так же, как и нравственное; без него деятельность человека может получить ложное направление и не будет приносить никакой пользы людям. Но и верно направленный труд умного и трудолюбивого человека может приносить различные результаты, смотря по тому, насколько производительно он выполняется…»
Володя прикоснулся к Сашиной руке:
— Извини, что перебиваю, но объясни, что значит производительно выполнять труд?
— Слушай до конца. «Для того чтобы деятельность человека приносила полезные результаты при возможно меньшей затрате труда и сил, для этого человеку нужно основательное знание того дела, которое будет предметом его занятий. От степени образованности вообще и, в частности, от знания своего дела много зависит та польза, которую принесёт человек обществу». Теперь понятно? — спросил Саша брата.
Володя утвердительно кивнул головой:
— Понятно. Надо отлично знать дело, за которое взялся, чтобы трудиться было легко и чтобы от этого труда было больше пользы. Так?
— И к этому необходима широкая образованность, — добавил Саша. Он закрыл тетрадь.
Некоторое время все молчали.
— Я бы никогда не смогла так глубоко и логично сформулировать идеал служения обществу, как сделал это ты, — сказала растроганная Аня.
— И за такое сочинение четвёрка! Я сразу сказал, что это несправедливо. Несправедливо! — горячился Володя.
— Я ничего не упустил в своём сочинении? — спросил Саша, обращаясь главным образом к матери.
— По-моему, это отличное сочинение. Но, может быть, в нём были грамматические ошибки?
— Нет, грамматических ошибок не было. Но мне кажется, что Фёдор Михайлович снизил мне балл за то, что я не внял его подсказке, когда он задавал нам это сочинение: «Соблюдать заповеди господни, служить верой и правдой царю». Это, очевидно, он считал главной мыслью сочинения.
— А почему ты не написал этого? — осторожно спросила мать, стараясь подавить тревогу, вдруг возникшую в сердце.
— Я написал то, что входит в программу моей жизни, — уклончиво ответил Саша.
— Я бы на месте господина Керенского поставил кол себе, преподавателю словесности, за то, что ничего не понял. — Володя взял в руки тетрадь. — Саша, разреши прочитать мне самому ещё раз.
— Бери, но читать будешь, когда выучишь все уроки.
Володя прижал тетрадь обеими руками к груди и понёсся к себе наверх.
— Как ты думаешь, папа одобрит моё сочинение? — спросил Саша мать.
— Думаю, что папе будет интересно проследить ход твоих мыслей. Глубокие и правильные рассуждения.
— Спасибо, мамочка!
Аня и Саша ушли. Мать осталась одна.
К чувству гордости за сына, озабоченного в свои пятнадцать лет вопросом, как принести пользу людям, примешалась тревога. Почему Саша не включил в своё сочинение тезис «служение царю»? Ведь ещё года не прошло, как был убит царь Александр II. И сейчас во всех школах и гимназиях стараются внушить и укрепить любовь и преданность к царю. Поэтому и задали сочинение на такую тему. Саша этот вопрос в своём сочинении обошёл. Случайно? Но из его суждений можно понять, что «служение царю», как и «служение богу», не входит в заповеди его жизни.
«Надо поговорить с Сашей», — решила Мария Александровна и поднялась к нему наверх.
Он сидел за большой грифельной доской, испещрённой алгебраическими формулами.
— Тебе много задали уроков? — спросила мать, когда Саша поднял на неё свои глаза, ясные глаза, в которых она не увидела и тени смятения.
— Как обычно, — спокойно ответил он. — Вот я стараюсь найти самый короткий и простой способ решения этой задачи. Сижу над ней второй вечер… Я тебе нужен?
— Нет, нет. Я хотела только сказать, что ужинать мы сегодня будем позже, подождём папу.
«Зря я тревожусь», — попрекнула себя Мария Александровна и заглянула в комнату меньшего сына.
Володя, шагая по комнате, учил стихи из латыни.
Проснулись малыши и затеяли в своей комнате игру. Оля в гостиной села за рояль, разучивает новую пьесу.
Мария Александровна прошла в столовую, вынула из корзиночки вязанье, прислушалась к детским голосам, к звукам рояля. Тревога матери утихала, утаившись в глубине сердца.
ПАПИНА ВИШНЯ
Никогда не светит солнце так ярко, как в марте, никогда не бывает небо таким просторным и чистым, как в марте, и чем ярче сияет солнце, тем злее ночной мороз.
За ночь мороз старательно затягивает лужи узорчатым ледком, развешивает по краям крыши бахрому сосулек, сковывает сугробы. А солнце, отоспавшись за зиму, весело расправляется по-своему: растапливает ледяные плёнки на лужах, острым лучом отпиливает сосульки, и они падают с хрустальным звоном. Сугробы дряхлеют, оседают, уходят в землю.
Длинным днём хозяйничает солнце, короткой ночью — мороз. И морозу не хватает ни времени, ни сил, чтобы восстановить то, что разрушило солнце. А солнце расчищает дорогу весне, которая идёт с юга на север и скатывает снеговой ковёр с земли.
Ледяная горка во дворе Ульяновых побурела и стала рыхлой, тропинки в саду почернели, углубились, и по краям нависли хрустящие льдистые кромки.
Митя и Маняша с нетерпением ждали, когда братья и сёстры придут из гимназии. Мама сказала, что пора белить стволы деревьев, чтобы защитить их от вредителей, горячего солнца и мороза…
И вот после обеда три брата и три сестрички бегут в летнюю кухню. Там у Саши припасены известь, вёдра. Малыши с любопытством смотрят, как Саша и Аня отмеряют известь, разводят её в ведре с водой. Каждый получает кисть, и Саша указывает, кому какое дерево выбеливать. Володе достаётся старый вяз, что растёт у беседки, Оля белит свою любимую осинку у забора, Аня — яблоньки, Мите и Маняше достаётся по вишнёвому деревцу. Папину вишню будет белить сам Саша.
Это деревце Илья Николаевич привёз из деревни года три назад. Оно плохо приживалось, болело, чуть не погибло. Но Саша с Аней прочитали в книгах, как его лечить, чем подкармливать. И вишня выжила…
До позднего вечера работали дети. И в темноте стволы засветились, как снежные столбики.
В Володин день рождения прогремел первый гром, пролил весёлый светлый дождь, и этот молодой гром разбудил сад к жизни. Наутро все деревья окутались зелёной дымкой, а ещё через несколько дней в ветвях словно запуталось лёгкое облако: зацвели вишни. И если подойти поближе, то услышишь, как деревце гудит.
Когда Маняша увидела в первый раз, сколько пчёл налетело на вишню, она испугалась: повредят пчёлы цветы — и не будет ягод. Но Саша её успокоил: пчёлы хоботком аккуратно выбирают из сердцевины цветка сладкий нектар и лапками переносят пыльцу с цветка на цветок, чтобы завязались вишни…
Саша сидел у себя в комнате и готовил уроки. Все в доме уже спали. Вдруг порыв ветра распахнул форточку, и в комнату роем влетели снежинки, ледяной ветер пахнул в лицо.
Саша побежал в комнату Володи:
— Володя! Проснись! Беда!
Володя сел на кровати, протёр глаза и в следующую секунду начал одеваться и успел догнать Сашу, когда он вышел на крыльцо.
Пахло зимой, снегом и свежей зеленью. Северный ветер обрывал лепестки цветов, смешивал их со снегом, пригибал к земле ветки молодых деревьев. Мороз, как ворюга, пробрался в сад и душил цветы.
Аню разбудили отсветы огня, которые плясали по потолку. Она выглянула в окно и сквозь белёсую сетку метелицы увидела две тени возле костра. «Мороз! Братья спасают сад», — поняла она. Быстро оделась и, взяв в руки башмаки, на цыпочках пробралась через детскую комнату. Скрипнула половица. Оля подняла голову с подушки:
— Аня, ты куда?
— В сад, жечь костры. Мороз.
— Я с тобой.
— Хорошо. Не разбуди малышей.
Но Митя уже спустил ноги с кровати.
— Мороз! Погибнет папина вишня, мне её жалко! — чуть не плакал он.
— Пойдём, оденься потеплее. Давай я помогу тебе зашнуровать ботинки, — наклонилась Оля к брату.
Маняша только покруче свернулась калачиком. Аня накинула на неё второе одеяло. Ветер дул изо всех сил, старался погасить костёр, но он разгорался ещё ярче; мороз хватал колючими пальцами молодые побеги, но тёплый дым окутывал их и не давал заморозить.
Саша выбежал на улицу, постучал в соседние дома, разбудил людей, предупредил об опасности. Один за другим задымились костры в садах Симбирска.
Володя, Оля и Митя подносили поленья, пучки сена. Саша с Аней разводили новые костры. Проснулись птицы и заметались по саду. Порывом ветра из гнезда над окном сдуло птенцов. Оля подобрала их и завернула в шарф. Птенцы были голенькие — одни круглые синеватые животики и над ними широко раскрытые клювы. Воробьиха летала над Олиной головой.
— Не бойся, глупенькая, — приговаривала Оля, — я твоих птенцов отнесу на веранду, а как только взойдёт солнце, согреет землю, мы их тебе вернём.
Но воробьиха не отставала от Оли и влетела в застеклённую веранду.
Дружно и отважно отстаивали дети цветущий сад от мороза. А утром им помогло солнце. Оно растопило снег на крышах, отогрело деревья.
Побледневшие после бессонной ночи, но счастливые, сидели дети за завтраком и наперебой рассказывали папе и маме, как они победили мороз. А Мария Александровна и Илья Николаевич видели всё это в окно и решили дать возможность детям самим справиться с бедой. Только Маняша не могла понять, почему Дед Мороз, которого все так ждут под Новый год с мешком подарков, весной становится таким злым и нападает на цветы и птенчиков.
Сад был спасён, только кое-где сморщились листочки, пожухли и опали. Птенчиков Саша с Володей водворили в гнёзда. Снова загудели пчёлы. А на вишнёвых деревьях на месте опадающих цветков стали появляться зелёные горошины. В загустевшем малиннике по утрам пели пеночки. Воробьи носились по саду и склёвывали с деревьев жучков и гусениц.
— Молодцы воробьи, наши хорошие помощники! — хвалила Оля трудолюбивых птиц и подсыпала им пшено в кормушки.
…Кончились занятия в гимназии. В саду наливались красным соком вишни, яблоки стали светлее листьев, на грядках поспевала клубника. Сад прихорошился.
Володя устроился на толстом суку вяза, грыз семечки и читал книгу. Он уселся поудобнее, сук, который нависал зелёным крылом, качнулся, и с папиной вишни взвилась стайка воробьёв. Птицы покружились в воздухе и снова опустились на дерево. Они острыми клювами вырывали кусочки мякоти, вишни сморщивались и становились уродливыми. И Володе показалось, что воробьям пришлась по вкусу именно папина вишня. Он быстро соскользнул с дерева и побежал к Саше. Позвали Аню и Олю.
Как спасти папину вишню от воробьёв?
Оля предложила подсыпать им побольше пшена в кормушку.
— Дураки они, что ли, менять вишню на пшено! — пожал плечами Володя.
Как отогнать воробьёв, придумал Саша. Девочки нарезали узенькие полоски блестящей бумаги-фольги, нанизали их, как флажки, на длинные нитки. Мальчики развесили эти гирлянды на деревья. Особенно тщательно опутали папину вишню. Ветер колышет полоски, они шуршат, сверкают на солнце, пугают воробьёв. Покружатся, покружатся воробьи над вишней — делать нечего, летят к кормушке с пшеном.
И вот наступило 14 июля — день рождения папы. Утром Илью Николаевича пришли поздравить его помощники, учителя, школьники.
В беседке был накрыт стол, посредине возвышался именинный яблочный пирог. А возле беседки стояла папина вишня, вся обсыпанная тёмными блестящими ягодами. Отяжелевшие ветки клонились до самой земли.
Аня подошла к вишне с ножницами в руках. Перерезала нитку, и гирлянды с фольгой опали.
— Угощайтесь, — пригласила она взрослых.
— А я предложу сначала отгадать загадку, — сказал Володя детям. — Кругла как шар, красна как кровь, вкусна как мёд. Что это такое?
— Вишня! Вишня! — хором закричали дети.
— Давайте проверим, так ли это, — рассмеялся Володя.
И все стали обрывать сочные ягоды, ели их и очень хвалили. Маняша сама скоро стала похожа на вишню — так она перемазалась соком. И воробьи налетели и тоже лакомились, и их уже никто не отгонял. Вишен много. Хватит на всех.
В ПУТЬ
Лёгкий туман курится над полями. Над Волгой встаёт солнце, неяркое, затуманенное. Река дремлет. Южный ветерок ершит рябью воду. Медленно, бесшумно плывёт по течению длинный плот, оставляя за собой приглаженный след на воде. На плоту вьётся синеватый дымок от костра и сливается с белёсым туманом.
У берега — почерневшая от времени баржа, гружёная лесом. С баржи спускаются бурлаки, не освежённые сном. Сходни скрипят и прогибаются под их тяжёлой, неторопливой поступью. Лениво переругиваясь, бурлаки натягивают на плечи лямки, впрягаются в работу.
Тишина… Сонная тишина над огромной рекой, над полями.
Деятельны и не сонны только стрижи. На известняковой скале прилепились их гнёзда. Как чёрные маленькие молнии, мелькают острокрылые птицы. Из гнёзд высовываются широко раскрытые жёлтые клювы птенцов. И снуют, снуют без конца работяги стрижи, рассекая крыльями туман.
Вот зачокал валёк, и звонкое эхо рикошетом поскакало по воде. Зазвенела коса о брусок, сверкнула на солнце. Зашагали косари по необъятному заливному лугу, сочно захрустела трава под косой.
— Р-раз-два — взяли! Р-раз-два! Р-раз-два! — Бурлаки подались левым плечом вперёд, стараются сдвинуть с места глубоко осевшую в воду баржу. — Р-раз-два — взяли! Р-раз-два! Р-раз-два! — несётся, как стон, над рекой.
Солнце поднимается выше, лёгкие космы тумана тают, оседая на траве хрустальной россыпью росы.
У рогатой коряги мужик в холщовых портах, завёрнутых выше колен, тащит из воды вершу. Ему помогает мальчонка лет двенадцати, голый — одна суровая нитка с медным крестом на шее.
Гриша стоит по грудь в воде, подталкивает плетёнку снизу. Вот наконец верша в лодке. Отец хватает уверенной рукой рыб за жабры и кидает их на дно лодки. Мальчишка ворошит руками рыбу, хлопает панибратски сома по жирному боку. Выпрямляется во весь рост и, заслонившись рукой от солнца, глядит на косогор.
— Тять, Ульяновы идут. Бежать мне надо, — деловито говорит мальчонка, натягивая на мокрое тело штаны.
— Ого-го-го! — кричит в картонный рупор Саша, появившийся на вершине косогора, и с толстых ив соскальзывают и летят ему навстречу босоногие загорелые мальчишки в выцветших рубашках.
У Саши за плечами туго набитый вещевой мешок. Ветер шевелит на голове густые тёмные волосы, серая рубашка, подпоясанная шнурком, облегает стройную фигуру. Рядом с ним Володя с вёслами на плече, в руке ивовая корзина. Глаза у Володи лукавые, чуть раскосые и широко распахнутые. Он с гордостью посматривает на брата, которого окружили мальчишки.
— Александр Ильич, у нас всё готово!
— Александр Ильич, прикажете паруса ставить?
— Ленька сегодня опять дрался, не берите его с собой!
Володе нравится, что мальчишки тоже признают в Саше старшего и называют его по имени и отчеству.
У берега на привязи покачиваются старые плоскодонные лодки. Володя принёс с собой дощечки с надписями: «Неустрашимый», «Вольный», «Стремительный» и теперь вместе с мальчишками прикрепляет их к бортам лодок.
На траве под суковатой ольхой расположились Илья Николаевич, Мария Александровна, Митя и девочки.
Аня поставила корзину на землю и, чуть подавшись вперёд, что-то шепчет реке, словно здоровается с ней. Оля в восторге поёт, тащит за руку Митю, а Митя боится оторваться от маминой руки. Черноглазая Маняша сидит на плече у папы; ей лучше всех видна Волга.
К лодкам бегут мальчишки с вёслами, удочками на плечах.
Гриша, запыхавшись, спрашивает Илью Николаевича:
— Здрасте! Александра Ильича не видели?
— Здравствуй, Гриша! Саша внизу с ребятами оснащает лодки.
— Не лодки, Илья Николаевич, а пакетбот. И не с ребятами, а с матросами, — резонно замечает мальчик.
— Прошу прощения, — серьёзно отвечает Илья Николаевич.
Гриша бежит вниз.
Володя уже ждёт своего приятеля.
— Что это у тебя под рубашкой трепыхается? Наверно, птица? — заинтересованно спрашивает Володя.
— Не-е, сомище — во! У тятьки стащил, — хвастается Гриша и вытаскивает из-за пазухи рыбу. Сом не так уж и велик.
— Это зачем же? — спрашивает Володя.
— Известно зачем — уху варить будем.
— Ишь, Христос нашёлся, одной рыбой хочешь целую флотилию накормить! — Володя взял из рук Гриши извивающегося сома и поднёс к носу. Сморщился: — Плохо пахнет!
— Пошто? — удивился Гриша. — Она же живая!
— Живая, а воняет. Потому что ворованная. Беги к отцу и отнеси, не то Саше скажу.
Гриша разочарованно вздохнул. Но делать нечего. Капитан флотилии Александр Ильич шутить не любит. Спишет с корабля, и останется Гриша с рыбой на суше.
Мальчик побежал, оглянулся, смерил глазами расстояние до флотилии и до коряги и решил схитрить. Швырнул сома в Волгу и побежал обратно к ребятам.
А матросы уже занимали места на пакетботах.
— Аня-а! — кричит Саша в рупор.
— Сейчас! — отвечает ему сестра, торопливо что-то дописывает, подбегает к маме и передаёт ей тетрадь: — Мамочка, я стихи сочинила. Про Волгу. Прочтёшь, когда мы отплывём. Пожалуйста, не сейчас. — Аня целует мать, машет рукой сестре и отцу, бежит вниз, ухватив подол длинного ситцевого платья.
Оля потёрлась о плечо матери:
— Мур-мур…
— Иди, иди, — торопит Мария Александровна дочку, — слушайся во всём Аню, как меня.
— Обещаю! — кричит уже на ходу Оля.
Митя вскочил на ноги:
— Мамочка, папочка, разрешите мне тоже ехать. Я во всём буду слушаться Сашу.
Илья Николаевич взглянул на Марию Александровну и крикнул Володе, чтобы он взял с собою Митю.
— Я тоже хочу путешествовать, — решительно заявляет Маняша.
Мария Александровна привлекла её к себе:
— Тебе надо ещё немножко подрасти… и нам с папой будет очень скучно.
Саша отдаёт команду:
— Сниматься с якоря! Приготовиться к поднятию парусов!
— Маняша! Мамочка! Папа! Ого-го-го! — кричит Володя.
— До свида-а-нья! — машут платками девочки.
Мальчишки поднимают паруса. Весёлый гомон затихает. Лодки отчаливают.
— Счастливого плавания! — разносится над рекой бас Ильи Николаевича.
— В добрый час! — напутствует детей Мария Александровна. — Итак, дети отправились в путь, — с лёгкой грустью говорит она. — Даже мне захотелось пуститься вместе с ними.
— И мне, — признается Маняша.
Илья Николаевич поднимает дочку на плечо. Лодки, как белые лебеди, проплывают под парусами мимо утёса. Возникает песня — мальчишеская, звонкая, задорная. Разносится по реке и удаляется вместе с лодками.
На берегу наступает непривычная тишина. Становится чуть грустно, что умолк гомон ребячьих голосов, угасла песня.
— Уже волнуешься? — спрашивает Илья Николаевич, поглядывая на жену.
— Немножко.
— А я совершенно спокоен. — Илья Николаевич, прищурившись, всматривается в голубое марево, где скрылись лодки. — Саша очень тщательно подготовился к путешествию, продумал все до мелочей. Я рад, что он немножко отдохнёт от своих книг и кольчатых. Хорошо, что он решил идти вместе со всеми, а не пустился один на своей душегубке. — Илья Николаевич улыбнулся своим мыслям. — Саша у нас на верном пути. Слышишь, Машенька, сын у нас будет учёным.
— Ты доволен?
— Я горд.
Мария Александровна раскрыла тетрадь, пробежала её глазами.
— Слушай, Илюша, какие стихи написала Аня:
— Хорошие мысли… верные мысли… — Илья Николаевич одобрительно кивнул головой.
Мария Александровна села на пенёк в тень, продолжала читать.
— Аня у нас будет писательницей. Я часто думаю, кем будет у нас Оленька. Музыкантом или филологом?
— Оля талантлива, весьма талантлива, — задумчиво говорит Илья Николаевич.
Маняша, которая внимательно рассматривала муравьиную кучу, заинтересованно спросила:
— А что такое «талантлива»? Это хорошо?
— Хорошо, — смеётся отец. — Это значит — умеет много и усердно трудиться.
Маняшино внимание привлекла большая стрекоза с янтарными крыльями, и она помчалась за ней.
— Беспокоит меня Володя. Горяч, упрям, насмешлив.
— У него хорошее, доброе сердце. Он очень способный мальчик, — горячо защищает Мария Александровна сына. — Ты его редко хвалишь.
— Боюсь, Машенька, боюсь. То, чего Оля добивается упорным трудом, он делает шутя. Ему многое дано, с него надо больше спрашивать… Вот Митя, он в вас, в Бланков, он будет врачом.
— Да он и лицом всё больше походит на деда, — соглашается Мария Александровна. — Какое большое счастье, что у нас столько детей! Выводить в жизнь мальчиков будешь ты, девочек — я.
— Вместе, Машенька, вместе, всю жизнь вместе. Мы оба им очень нужны, и ты и я.
— А кем буду я? — вдруг неожиданно появляется Маняша.
— А кем ты хочешь быть? — спрашивает отец.
— Я хочу быть путешественником и ещё кататься на лодке, — отвечает Маняша.
— Почему бы нам действительно не прогуляться по Волге? — Илья Николаевич поднимает на руки дочку.
— Ура! — кричит Маняша. — Мы тоже поедем путешествовать, далеко-далеко!
Спускаются по косогору вниз. Илья Николаевич отвязывает лодку, раскачивает её сильным движением и стаскивает с песка в воду.
Маняша хлопает в ладоши, радуется, что у неё такой сильный папа. Она занимает место рядом с мамой. Илья Николаевич садится на вёсла.
— Ты помнишь, Машенька, двадцать лет назад мы также катались на лодке и я пел тебе песни?
— Мы тогда были молоды, а сейчас нам вдвоём уже сто лет! — смеётся Мария Александровна.
— Неужели сто? Да. Тебе — сорок восемь, мне — пятьдесят два. Но тогда мы были с тобой вдвоём, а сейчас нас восемь человек, восемь, Машенька! И в среднем на каждого приходится… Сколько же приходится? — Илья Николаевич быстро подсчитал: — Нам в среднем по двадцать два года каждому. Совсем немного. Мы ещё молоды, очень молоды.
Сильными взмахами вёсел Илья Николаевич выводит лодку на середину реки. Положил вёсла на борт, светлые струи бахромой стекают в воду, и он, обхватив руками колени и глядя на сидящих перед ним двух Машенек, поёт задушевно и молодо.
ОРДЕН СВЯТОГО СТАНИСЛАВА
Под Новый, 1886 год в семье Ульяновых, как всегда, устроили бал-маскарад. Илья Николаевич вывернул мехом наверх шубу, прицепил к бороде длинные льняные пряди. Мария Александровна смастерила из ваты шапку, и он сидел возле ёлки, как настоящий Дед Мороз, только под наклеенными бровями поблёскивали молодые, с огоньком глаза.
Гостиная наполнилась шуршанием роскошных костюмов из гофрированной разноцветной бумаги. Прекрасная испанка с веером, сверкая чёрными глазами из-под маски, ни на шаг не отходила от Кота в сапогах, который больше смахивал на д'Артаньяна. И никто, конечно, не узнавал в этой паре Олю и Володю. А Красная Шапочка — Маняша узнавала всех. В барышне-крестьянке она сразу угадала Олину подружку Сашу Щербо, в Дон Кихоте — Митиного приятеля Алёшу Яковлева и, конечно, узнала в маленьком гноме пятилетнего Сашу, сына директора гимназии. Только спутала сначала маму с Аней. Две тоненькие ёлочки, закутанные в зелёную бахрому, танцевали лучше всех, но у мамы-ёлочки из-под зелёной шляпы выбилась белая прядь волос.
Кот в сапогах был неистощим на выдумки. Он был и актёром и режиссёром, придумывал весёлые шарады и первый запевал ломающимся голосом.
— Я совсем погибаю, милый друг… — пел Кот в сапогах подруге-испанке и, сорвавшись на высокой ноте, смеялся звонко, вытирал лапой в белой варежке слёзы под маской и признавался: — Вот видишь, младая испанка, совсем погиб я…
До самого утра светились окна в доме Ульяновых. Два раза меняли свечи на ёлке. Кружились, изнемогая от смеха и веселья, пары. Без устали играла мама-ёлочка на рояле то нежные вальсы, то задорную плясовую. А сколько песен было спето!..
Спать расходились усталые, счастливые. Впереди была ещё целая неделя весёлых каникул…
…Но кончились каникулы.
Утром Володя, Оля, Митя и Маняша, вскинув за плечи ранцы, отправились в гимназию, Илья Николаевич пошёл к себе в кабинет заканчивать годовой отчёт. Мария Александровна с Аней разбирали ёлку, аккуратно укладывали самодельные игрушки в коробки из-под ботинок и вполголоса обсуждали, как там Саша в Петербурге, так ли весело он провёл свои каникулы. Аня собиралась возвращаться в Петербург на курсы.
Ёлка опустела. Дождём сыпалась с неё хвоя, на ветках поблёскивали осенней паутиной ниточки канители, под ногами хрустела бертолетова соль, изображавшая снег.
Аня понесла коробки с ёлочными игрушками на чердак. Мария Александровна взяла в передней с полки «ёжик» и стала чистить стёкла на лампах. Мягко ступая, зашла в кабинет Ильи Николаевича. Он сидел за письменным столом прямой, развернув плечи, так же, как учил сидеть за партой учеников, и ручку легко сжимал пальцами, и лист бумаги лежал перед ним чуть повёрнутым влево. Он сам делал всегда так, как учил детей.
Мария Александровна сняла с лампы стекло, подышала в него, прочистила «ёжиком», подровняла ножницами фитиль в лампе. За окном вьюжило, надвигались ранние зимние сумерки.
Илья Николаевич откинулся на спинку стула.
— Не зажигай пока лампу. Посумерничаем.
— Тебе пора отдохнуть, — сказала Мария Александровна.
— Я не устал, и осталось совсем немного.
Илья Николаевич перебирал на столе листы, исписанные красивым, чётким почерком.
— Помнишь, Машенька, шестнадцать лет назад, когда мы с тобой приехали в Симбирск, я насчитал тогда по всей губернии…
— …восемьдесят девять школ, — подхватила Мария Александровна.
— А сколько учеников в них было? — тоном экзаменатора шутливо спросил Илья Николаевич.
О, она очень хорошо помнит: две тысячи учащихся на всю губернию.
— А сейчас, Машенька, в губернии четыреста тридцать четыре школы, и учеников в них более двадцати тысяч.
В голосе Ильи Николаевича звучала гордость.
— А девочек сколько?
— Три тысячи с лишним. Маловато ещё.
Мария Александровна вспомнила, как огорчало Илью Николаевича, что в школах вовсе нет девочек, и как он воевал с крестьянами, уговаривая их посылать дочерей учиться.
— Подумай, Машенька, в деревне стало в десять раз больше грамотных. А ты говоришь — «не следует ли отдохнуть». Душа радуется, когда смотришь на эти цифры. Но ой-ой-ой, сколько ещё надо сделать! Дожить бы до такого дня, когда всё население губернии будет грамотным. А?.. Доживём?
— Конечно, доживём.
— Придётся выдержать большую борьбу против похода на земские школы. Если школы превратят в церковноприходские, отдадут их под власть попов — беда, будут они выпускать полуграмотных невежд.
В передней кто-то стучал промёрзшими сапогами, обивая с них снег.
В кабинет вошёл вестовой Михеич, привёз почту.
Мария Александровна зажгла лампу, подождала, пока огонёк расползётся по всей кромке фитиля, надела стекло и сверху зелёный абажур.
— Из Казани какое-то важное письмо. — Илья Николаевич вскрыл пакет, вынул толстый лист бумаги, украшенный гербом Российской империи, пробежал его глазами и тихо охнул. — Машенька, — сказал он упавшим голосом, — наградили меня… орденом Святого Станислава первой степени.
— Поздравляю…
Мария Александровна взглянула на побледневшее лицо мужа и осеклась. Пошарила рукой стул, опустилась на него.
— Это конец, Машенька. Это третий звонок. Ведь это означает — пожалуйте в отставку, господин Ульянов. В отставку! — Илья Николаевич прислушался к этому странно и по-чужому звучащему слову. Встал и, заложив руки за спину, зашагал по комнате.
Только теперь до сознания Марии Александровны дошёл страшный смысл этих слов. Она помнит, что первым звонком Илья Николаевич назвал орден Анны, которым он был награждён за двадцать лет службы; вторым был орден Святого Владимира, за двадцать пять лет службы, и тогда волновался, что уволят.
А теперь, после тридцатилетней работы, отправляют на пенсию, на покой.
— Неужели это мой последний годовой отчёт? — Илья Николаевич посмотрел на бумаги, лежащие на столе. — Что же дальше? В пятьдесят четыре года надеть шлафрок, комнатные туфли и наблюдать жизнь через окно? И это называется покой? Это же смерти подобно!
Никогда не видела Мария Александровна своего мужа таким растерянным и поникшим.
— Может быть, можно ходатайствовать? — неуверенно сказала Мария Александровна.
— Нет, бесполезно. Закон есть закон. Я старался о нём не думать, смотрел только вперёд, надеялся на какое-то чудо. Но чуда не произошло… В отставку!.. А у нас с тобой дети ещё на ноги не поставлены. Как мы, восемь душ, проживём на одну пенсию?
— Об этом не печалься, — ласково сказала Мария Александровна. — Продадим дом, снимем маленькую квартиру, я сумею экономно вести хозяйство, а там и дети закончат образование.
— Но у меня так много неисполненных планов! — горько воскликнул Илья Николаевич. — Четыреста тридцать четыре школы! А их должно быть тысяча. Сотни новых светлых школ, грамотный народ, просвещённый край. Вот о чём мечтал я. И вместо этого орден, золотой крест на широкой красной ленте с двойной белой каймой, серебряная восьмилучевая звезда. Нарядно! Помпезно! На оборотной стороне звезды выгравировано по-латыни: «Премиандо инцитат!», что означает: «Награждая, поощряет!» Какое лицемерие! «Поощряет»! На что? На какие дела? Лишают возможности трудиться и называют это поощрением.
Крупные капли пота выступили на его высоком лбу.
Мария Александровна сидела подавленная. Слёзы сжимали ей горло. Чем она могла помочь ему, чем утешить?
— Илюша, ты всегда будешь желанным гостем в школах…
— Гостем? — Илья Николаевич расстегнул ворот косоворотки. — А поставить преподавание так, как я это понимаю, мне дозволят? А новые школы разрешат строить?.. «Премиандо инцитат»! — сквозь зубы, как бранные слова, произнёс Илья Николаевич.
— Не может быть, чтобы человека в расцвете его деятельности отстранили от работы. Будешь хлопотать, будешь добиваться. Тебя ценят.
— Ты видишь, как меня ценят, — усмехнулся Илья Николаевич.
— Мы найдём какой-нибудь выход, найдём. Всё уладится. Ты отдохнёшь, и, кстати, надо оформить дворянское звание. Ведь ты уже третий раз получаешь на него право.
— Что мне оно даст? Право на работу?
— Это звание нужно детям, оно облегчит им поступление в университет, поможет в жизни.
— Успеем, успеем.
— Так ты уже откладываешь четыре года, — с лёгким укором сказала Мария Александровна.
Она пыталась отвлечь Илью Николаевича, но он думал о своём. Его, привыкшего с малых лет к труду, к общению с большим коллективом людей, лишали работы, отстраняли от любимого дела…
Весть о награждении директора народных училищ орденом Станислава быстро распространилась по Симбирску.
В дом потянулись визитёры: сослуживцы, друзья, знакомые — поздравляли с высочайше пожалованной наградой.
Приехал инспектор Иван Владимирович Ишерский. Он искренне радовался. Илья Николаевич благодарил, — не хотел разочаровывать преданного друга, да и знал, что Иван Владимирович не поймёт его. Многие ведь считают, что чины и ордена украшают человека больше, чем его дела. Но эти шумные поздравления угнетали Илью Николаевича, он вдруг стал мнительным, ему чудилось в этих поздравлениях прощание с ним.
На третий день, 10 января, Илья Николаевич пожаловался жене:
— Что-то тошнит меня от этих поздравлений и голова болит нещадно. Не пускай ко мне никого.
Мария Александровна помогла мужу прилечь на диван, положила на голову мокрое полотенце.
— Тише, дети, папе нездоровится, — сказала она и, отозвав Володю в сторону, попросила его сбегать за врачом.
Врач не нашёл ничего тревожного. Очевидно, лёгкое отравление и усталость. Прописал капли Иноземцева и уехал.
Мария Александровна не сомкнула глаз всю ночь. И днём металась по дому, как птица с поломанным крылом, не находя покоя.
12 января Илья Николаевич почувствовал себя лучше и снова уселся за отчёт.
В этот день мела сильная метель. Дети вернулись из гимназии, прошли в кабинет отца, увидели, что он углублён в работу, — значит, здоров. Но, видно, непогода давала себя знать. Маняша и Митя капризничали, были взъерошенные, как воробьи, не могли спокойно играть, и Мария Александровна отпустила Митю к Алёше Яковлеву, а Маняшу Аня забрала к себе наверх, где они уютно устроились с Олей и Володей. Аня рассказывала им о красивейшем в мире городе Петербурге, о перламутровом отсвете белых ночей на Неве, о Саше, который работает над дипломом и отказался поехать домой на каникулы, считая, что вдвоём с Аней это будет стоить слишком дорого. На будущий год Володя и Оля кончат гимназию и тоже поедут учиться в Петербург. В семье будет четыре студента.
— Страшно ехать на поезде? — спросила Оля. Кроме Саши и Ани, никто из детей Ульяновых не ездил по железной дороге.
— Нет, вовсе не страшно, — уверяла Аня, — только очень тесно и душно.
— И никакой палубы нет? — поинтересовалась Маняша.
— И палубы нет. На пароходе путешествовать куда приятнее.
— Мы каждый вечер вчетвером будем гулять по набережной Невы. — Оля прижалась к сестре.
Но Володя предупредил, что он будет пропадать в библиотеке.
Мария Александровна сидела в столовой, бралась то за шитьё, то за вязанье, но работа валилась из рук. «Что это со мной? Почему так тревожно на сердце? Ведь доктор сказал, что ничего опасного. Может быть, стосковалась по Саше? Но от него вчера было письмо, бодрое, ласковое. Может быть, вьюга нагоняет тоску?»
Она отложила шитьё, накинула платок и вышла в сад. Ходила по скрипучим от мороза дорожкам. Яблони, покрытые пушистым снегом, стояли словно в цвету. Тронула рукой ветку — снег осыпался, оголились тёмные узловатые сучки.
Вернулась в дом, осторожно приоткрыла дверь в кабинет Ильи Николаевича. Он сидел за письменным столом, оглянулся. «Очень плохо выглядит», — больно кольнуло в сердце. И снова тоска, отчаянная, до слёз. Вышел к обеду в столовую, старался шутить, даже предложил Володе сыграть партию в шахматы, но раздумал, пошёл к себе.
Мария Александровна заглянула в кабинет.
Илья Николаевич лежал на широком кожаном диване съёжившись, словно ему было холодно.
— Илюша! — окликнула она мужа. — Илюша, что с тобой? — присела на край дивана, провела ладонью по высокому холодному лбу… — А-а-а!.. — разнёсся вдруг вопль по комнатам.
Первый раз в жизни услышали дети этот отчаянный, полный ужаса крик матери.
Сбежали вниз. Мама стояла у дверей кабинета.
— Папа не умер! Нет! Он не умер! Он не может умереть!..
…В доме необычно тихо. Дети сидят в столовой, тесно прижавшись друг к другу, учат уроки. Аня, закутавшись в платок, прислонилась к тёплой печке. Оля шёпотом учит французские глаголы, смахивает слёзы с ресниц. Володя вполголоса объясняет Мите задачу. Маняша старательно выводит буквы.
В доме словно ничего не изменилось. Мама, как всегда, встаёт раньше всех, кормит детей завтраком, отправляет их в гимназию. По возвращении спрашивает про отметки. Но дом стал пустой и гулкий. Нет папы. Он отсутствовал часто и раньше, разъезжая по своим школам. Но тогда все жили в счастливом ожидании. Зимним вечером, заслышав фырканье лошадей под окном, всей семьёй бежали в переднюю, распахивали скрипучую, промёрзшую дверь. На пороге появлялся в своей большой серой шубе с пушистым заснеженным воротником папа, стряхивал с усов и бороды светлые льдинки, подставлял холодную румяную щёку для поцелуя и нетерпеливо спрашивал: «В доме всё благополучно? Все здоровы?..» И вот никогда-никогда этого больше не будет. Дверь в папин кабинет закрыта. По вечерам там всегда сидит мама. Дети чувствуют, что она не с ними. Они знают, что утром, как только закрывается за ними дверь, она отправляется на кладбище, на могилу папы. По вечерам не звучит больше колыбельная песня. Рояль затянут парусиновым чехлом.
Сейчас Мария Александровна сидит в кабинете Ильи Николаевича, в его кресле, за его столом, и о чём-то думает, думает…
На столе рядом с портретом Ильи Николаевича лежат его часы, старые мозеровские часы. Он купил их перед свадьбой и никогда не забывал заводить. И вот теперь они остановились. Мария Александровна взяла часы и осторожно завела их ключиком. Стальное сердце забилось мерно и чётко. Время продолжало свой бег. Теперь Мария Александровна будет носить эти часы до конца своей жизни.
— Я пойду погуляю, — сказала она детям, заглядывая в столовую.
Мимоходом погладила Маняшу по голове, поправила косо лежавшую тетрадь у Мити.
— Мамочка, приходили Вера Васильевна и Иван Владимирович. У него какое-то важное дело, но мы решили тебя не беспокоить, — сказала Аня. — Он придёт попозже.
— Да, хорошо.
— Можно мне с тобой? — спросила Аня и подняла на мать большие печальные глаза.
— Нет, ты простужена. Я скоро вернусь.
Дети переглянулись. Ничто не радовало маму, даже друзья, даже сердечная и добрая Вера Васильевна Кашкадамова.
Володя выждал, пока хлопнет дверь, быстро встал, набросил шинель и пошёл следом за мамой. Нельзя оставлять её одну.
Она шла вверх по Московской улице, освещённой луной и редкими газовыми фонарями.
Вот дом, в котором они жили двенадцать лет назад. Теперь там живут другие.
С Московской она свернула на Стрелецкую. Сюда, в этот дом, они приехали из Нижнего Новгорода шестнадцать лет назад. Здесь родились Володя, Оля, Митя.
Вышла на Старый Венец.
Володя как тень следовал за матерью.
Мария Александровна остановилась над спуском к Волге. Перед ней — застывшая ледяная пустыня. Метёт позёмка. Затуманенная луна висит над Волгой, как одинокий газовый фонарь.
Совсем недавно они всей семьёй спускались по этому откосу, шли провожать детей в далёкое интересное путешествие. «Всю жизнь, Машенька, вместе, всю жизнь», — говорил тогда Илья Николаевич. «Сто лет на двоих не так уж много», — шутил он. А теперь все сто лет легли на неё одну.
Володя чувствует, какие думы одолевают маму, понимает, что ей нужно побыть одной, что он не должен быть свидетелем её горестных дум. Он отходит за угол дома, сквозь голые кусты акаций смотрит во двор, на маленький флигель в три окна, где он родился. Здесь прошло его раннее детство. Он всегда был средним в семье, а теперь, после смерти отца и когда Саша в Петербурге, он стал старшим и самым сильным. Как помочь маме? Ей тяжелее всех.
— Как же дальше, Илюша? — шепчут губы матери. — Ты стоял рядом, как утёс. Было спокойно, солнечно. Мы все надеялись на твою мудрость, а теперь?..
Шестеро детей… Шесть дорог…
Много дорог проложено через Волгу. Далеко за рекой мерцают слабые огоньки деревень. А где она, дорога её детей?
Когда дети были маленькие, она затевала с ними бесхитростную увлекательную игру — путешествие в страну Добра и Радости. Змея Горыныча изображал рояль… Всё было легко и просто. А как в этой жизни выбрать правильный путь?
Метёт позёмка по Волге, заметает дороги, путает их. Луна исчезла в облаках. Ветер развевает полы мантильи. Мария Александровна не замечает ни колющего ветра, ни холода, ни ночи.
— Что делать? Как быть? — шепчут губы. — Выдержит ли сердце?
— Мамочка! — тихо окликнул её Володя.
— Ты что, Володюшка, случилось что-нибудь? — встревожилась мать.
— Нет, мамочка, дома всё в порядке. Все ждут тебя, и я пошёл к тебе навстречу.
Он взял мать под руку, взял крепко по-мужски и нежно по-сыновьи.
Мария Александровна глубоко вздохнула, словно очнулась от тяжёлого сна. Дети ждут. Она ушла от них в своё горе. Но и они горюют не меньше её. Она нужна, она очень нужна им.
— Скорее пойдём домой, — торопила Мария Александровна.
Дома ждал Иван Владимирович Ишерский.
— Я принёс вам добрые вести, дорогая Мария Александровна. Может быть, это явится для вас некоторым утешением в вашем горе. Казанское попечительство сообщило, что вам предоставлена честь получить орденские знаки Святого Станислава, пожалованные вашему покойному супругу.
Мария Александровна побледнела и, взглянув на детей, пригласила Ивана Владимировича пройти с ней в кабинет.
— Я их не намерена получать, — сказала она, опускаясь на стул.
Ишерский изумлённо поднял брови.
— Но почему? Такая высокая награда. Может быть, вас смущает то, что за пожалованный орден вам надлежит внести на богоугодные дела сто пятьдесят рублей?
— Сто пятьдесят рублей? — удивилась Мария Александровна. — Как я могу отдать полуторамесячную пенсию, которую я получаю на семь человек?
— Эта недоимка числится за покойным Ильёй Николаевичем, и, если не будет на то вашего доброго согласия, казна удержит эту сумму из пенсии. А орденские знаки, любезная Мария Александровна, надо принять. Большая честь, а за честь надо платить… — В голосе Ивана Владимировича зазвучали холодные нотки. Он не понимал Марию Александровну, так же как не мог никогда понять, почему Илья Николаевич откладывал оформление потомственного дворянства своей семьи. — Я уверен, дорогая Мария Александровна, что вы измените своё решение. И ещё я хотел посоветовать вам начать хлопоты о внесении вас и ваших детей в дворянскую родословную книгу.
Конечно, Ишерский желал добра ей и её детям. Но как она может объяснить, что орден Святого Станислава вторгся в их жизнь как мрачное предзнаменование, что Илья Николаевич не мог смириться с необходимостью оставить любимое дело и, может быть, это и явилось главной причиной его смерти.
— Вы правы, Иван Владимирович, я завтра же напишу прошение о присвоении нам дворянского звания, а что касается орденских знаков…
— Надеюсь, что вы не заставите меня писать Казанскому попечительству о том, что вы отказались от их получения? — Ишерский нервно теребил бородку. — Что подумают о вас, о семье всеми уважаемого Ильи Николаевича. А платить на богоугодные дела вас всё равно принудят.
— Что я могу поделать против насилия! — горько усмехнулась Мария Александровна. — Прошу вас сообщить куда надлежит, Иван Владимирович, что вдова действительного статского советника Мария Ульянова не пожелала принять орденские знаки Святого Станислава.
«Как горе ожесточает человека», — подумал Ишерский.
Мария Александровна стояла, комкая в руке платок. Сердце её стремилось к детям, оно стосковалось по ним.
ПИСЬМО
Володя подошёл к дому, взялся за ручку двери и медлил повернуть. Из гостиной доносились приглушённые звуки музыки. Играла мама. Совсем недавно сняла она траурный чехол с рояля, и в дом вернулись музыка и песни. По вечерам снова слышалась колыбельная, хотя в колыбели давно уже никто не лежал и самой младшей, Маняше, шёл десятый год. Все в семье любили эту песню, и с ней так же трудно было расстаться, как со счастливым детством. А сейчас мама играет что-то своё, импровизирует, словно думает вслух.
Как тяжело Володе было открыть дверь и преодолеть восемь ступенек на террасу! Он остановился у окна. Настенная лампа в гостиной освещала раскрытый рояль, белую голову матери, её чёткий профиль. Какая мама тоненькая и хрупкая, в лице ни кровиночки, даже губы совсем бледные, и только в ярких карих глазах живость, и доброта, и затаённая грусть. Над клавишами летают мамины руки. Пальцы едва касаются клавиш, а струны звучат, как оркестр. Они так близки, мамины руки, что, если бы не было оконного стекла, Володя мог бы до них дотронуться. Чего бы только он не совершил, чтобы оградить маму от новых бед и несчастий!
Он сжал письмо. «Может быть, порвать — скрыть от мамы страшное известие?.. Нет, это невозможно, она узнает по глазам».
Он продолжал стоять у окна. Продлить хоть на несколько минут отдых матери, её покой. Никогда он ещё так нежно не любил мать, как теперь, после смерти отца. Володя видел, с каким мужеством она затаила в себе горе, сделала все, чтобы дети меньше ощущали потерю отца, чтобы в доме не чувствовалось гнетущего траура. Он понимал, каких душевных сил ей это стоило.
И вот снова…
В гостиную вбежала Маняша. Мама что-то у неё спрашивает, вынула из-за корсажа часы и покачала головой. Видно, тревожится, что так долго нет его, Володи. Нет, он не зайдёт в дом, пока она не кончит играть.
Мария Александровна пробежалась пальцами по клавишам и медленно опустила крышку рояля.
Володя вошёл в переднюю.
— Это ты, Володюшка? Что так поздно? — окликнула его Мария Александровна.
— Я был у Веры Васильевны, мамочка, — говорит он скороговоркой, проходя в гостиную и приглаживая обеими руками непослушные кудри на голове.
— Почему ты решил заглянуть к ней? Она же вчера вечером была у нас.
— Мы беседовали о петербургских арестах. В столице раскрыто покушение на царя.
— Опять покушение? — спросила Мария Александровна, вспомнив, что шесть лет назад в симбирских церквах целый день колокола били в набат по случаю убийства Александра II. — Но почему ты решил говорить об этом с Верой Васильевной?
— Она беспокоится, как там Саша и Аня.
— При чём тут они? — И смутная тревога возникает в сердце матери.
— Среди студентов идут аресты. Сашу и Аню могли захватить заодно.
— Что это тебе пришло в голову? Не могут же арестовать всех студентов?.. Володя, ты что-то знаешь? — обеспокоенно спрашивает Мария Александровна.
Володя молчит, потупив глаза, стиснув пальцы.
Мать положила руки на плечи сына:
— Володя, говори, ты не умеешь лгать.
— Мамочка, ничего страшного не произошло. Но Вера Васильевна получила от Песковских сообщение, что Саша и Аня арестованы. Я уверен, что это недоразумение, — поспешил добавить Володя, видя, как побледнела мать. Сам он понимал, что это дело для Саши может окончиться очень плохо.
— Саша и Аня в тюрьме?.. Возможно ли это? Они так далеки от всех этих дел. Саша увлечён естественными науками. Он мечтает о профессорской кафедре. Непостижимо!
— Мамочка, я поеду в Петербург.
— Нет, у тебя скоро экзамены, Володя, выпускные экзамены. В Петербург поеду я, и немедленно. Ты останешься дома с младшими. Сходи за Верой Васильевной, надо посоветоваться с ней. Я пойду к Ивану Владимировичу, он поможет.
— Вера Васильевна сама обещала прийти, а к Ишерскому я пойду вместе с тобой.
…Они шли молча. По прерывистому, тяжёлому дыханию матери Володя видел, как ей тяжело. Мария Александровна не замечала прохожих. Володя отвечал на приветствия за мать и за себя вежливым поклоном.
Ишерский сам открыл дверь.
— Мария Александровна, какими судьбами? Добро пожаловать! Лена, — крикнул он жене, — гости к нам, готовь чай!
Мария Александровна опустилась на стул, сдвинула на затылок платок.
— Горе у нас, дорогой Иван Владимирович. Сашу и Аню арестовали в Петербурге. Научите, посоветуйте, что делать, к кому обратиться. Как спасти детей моих?
— Это не в связи с покушением на его императорское величество? — испуганно перекрестился Ишерский.
— Да. Песковский пишет, что в связи с этим. Но мои дети не могли стать террористами — вы их знаете. Родной Иван Владимирович, помогите!
Хозяин дома знаком руки показал жене, чтобы она не входила в комнату.
— К сожалению, я здесь не помощник, — произнёс он и, сев за стол, нетерпеливо забарабанил пальцами. — Суд разберётся: если они не виновны, их освободят, а если задумали поднять руку на священную особу… Будем надеяться на лучшее. Да поможет вам господь бог!
Володя стоял за спиной матери, обняв её за плечи.
— Мамочка решила ехать в Петербург, хлопотать. Куда вы посоветуете ей обратиться? — спросил он, прямо глядя в глаза Ишерскому.
— Не могу знать, не могу знать…
— Можете вы, по крайней мере, дать лошадь, чтобы мамочка могла добраться до Сызрани? — спросил Володя.
Ишерский встал.
— С превеликим удовольствием, но я уже отпустил кучера, — пробормотал Ишерский, избегая сверкающего взгляда юноши.
Мария Александровна тяжело поднялась со стула.
Хозяин спешил открыть двери.
— Уповайте на милость божью, на суд праведный.
Мария Александровна медленно спускалась по ступенькам, словно несла на себе новый тяжёлый груз.
— И это называется прогрессивно мыслящая личность! — гневно и пылко вырвалось у Володи.
Всё внутри него бушевало, протестовало.
— У него семья, Володюшка. Он опасается за её благополучие… Ступай, Володюшка, на постоялый двор, на почту, найми ямщика, а я пойду домой. К знакомым не заходи, не надо их ставить в тяжёлое положение.
Мария Александровна понимала теперь, что бороться за своих детей предстояло ей одной. В глазах симбирского общества она уже не вдова действительного статского советника, а мать государственных преступников. Но для неё, матери, её дети не могли быть преступниками. Чистый, благородный Саша, справедливый во всём, он не мог пойти на преступление, стать террористом. Хрупкая, нежная Аня, всегда болезненная, мечтательная, увлечённая изящной литературой, — и… террористка? Нет, это немыслимо.
Может быть, Иван Владимирович прав: суд разберётся, освободит их.
И вдруг в памяти Марии Александровны возник вечер в Кокушкине, когда Саша, Аня и Володя, стоя на крыльце, разгорячённые, потрясая сжатыми в кулак руками, громко, как клятву, повторяли:
«Сберегите эти слова в сердце своём», — посоветовала она тогда детям. Вспомнилось гимназическое сочинение Саши. «Служба царю не входит в программу моей жизни…»
«Нет, нет, это невозможно», — отгоняла она от себя мрачные мысли. Саша не мог состоять в тайной организации, он сказал бы об этом отцу. Аня поделилась бы с ней, с матерью. У детей не было от родителей тайн.
Нельзя, чтобы глаза застилали слёзы, чтобы горе туманило рассудок. Предстоит борьба. Нужно очень много сил. От её душевной стойкости сейчас зависит всё.
Дома её ждала Вера Васильевна.
Мария Александровна пытливо заглянула ей в глаза. Может быть, и она… Нет, это настоящий друг, это настоящие слёзы.
Молодая учительница прильнула к Марии Александровне.
— Что бы ни случилось, я всегда с вами. Да, да, поезжайте в Петербург, хлопочите, действуйте. За дом не беспокойтесь: я каждый день буду здесь.
— Спасибо, спасибо. Я уверена, что всё обойдётся, всё кончится благополучно.
Вера Васильевна уже поведала детям — Оле, Мите и Маняше, — какая грозная опасность нависла над их старшим братом и сестрой. Завтра они об этом узнают в гимназии, надо было их подготовить.
Дети ни на шаг не отходили от матери. Первый раз в жизни уезжает она от них в далёкий Петербург. Их доверчивые сердца полны надежды, что маме удастся высвободить Сашу и Аню из тюрьмы и они вернутся домой.
Володя весь вечер ходил от трактира к трактиру, от постоялого двора к почте, наведывался к чиновникам, купцам, которые часто ездили в Сызрань и никогда раньше не отказывались прихватить с собой кого-либо из семьи Ульяновых.
Но весть о покушении на царя и аресте детей Ульяновых уже облетела весь Симбирск, и ни у кого не оказывалось в санях места для Марии Александровны.
Одни, отводя глаза в сторону, бормотали что-то несвязное, другие грубо отвечали, что для Ульяновых нет места не только в санях, но и на православной земле.
Трусость, животный страх видел Володя в глазах симбирских обывателей. Даже те, которые любили при случае поиграть словами «свобода, равенство и братство», не прочь были рассказать анекдот о тупости и невежестве Александра III, поплакать над горькой долей русского мужика, теперь всячески подчёркивали свои верноподданнические чувства.
Уже отчаявшись найти сани, Володя вдруг вспомнил, что у его приятеля Гриши отец занимается извозом.
Поздно ночью он постучался в окно деревянного домика.
Гриша, заспанный, взлохмаченный, прижав нос к стеклу, вгляделся в темноту и, узнав Володю Ульянова, накинул полушубок и выбежал во двор.
Выслушав Володю, вздохнул:
— Уламывать отца придётся, но ты знай себе да помалкивай. Поворчит, поломается, а поедет. Человек же он!
На рассвете Володя усадил мать в сани, крепко поцеловал её, заботливо подоткнул со всех сторон плед. Глаза у Марии Александровны были сухи, губы решительно сжаты.
Володя с Верой Васильевной долго стояли на крыльце, прислушиваясь к дребезжанию бубенчика.
Мария Александровна отправилась в долгий и нелёгкий путь.
СУД
Время перевалило за полдень. Солнце заглянуло в окно и опустило в зал Сената светлую завесу, отделив скамьи подсудимых от судей, сословных представителей, обер-прокурора, свидетелей обвинения. Суд витиевато именовался особым присутствием Правительствующего Сената.
Александр Ильич поднял кудрявую голову и, прищурившись, ласково и задумчиво посмотрел на солнечный луч.
У стола перед судьями подсудимый Канчер. Он жалко, трусливо лепечет:
— Несчастный случай свёл меня с ними, — и кивает головой в сторону подсудимых. — Я не революционер. Нет, нет, я не революционер. Я всегда был верным подданным его императорского величества… Поэтому я припадаю к стопам…
Брезгливая гримаса исказила спокойное лицо Александра Ильича.
— Негодяй! — сжимая кулаки, бросает в лицо предателя сидящий рядом с Ульяновым Шевырёв.
Председатель суда, или, как его здесь величают, первоприсутствующий сенатор Дейер, звонит в колокольчик. Его надменное лицо краснеет от гнева.
— Продолжайте, — говорит он по-отечески Канчеру.
— Я припадаю к стопам его императорского величества и всеподданнейше прошу даровать мне жизнь.
Тучка заслонила солнце, и светлая завеса исчезла. В зале потемнело. Канчер сел на место. Подсудимые раздвинулись в стороны. Предатель поглядел направо, налево и сжался в комок. Ему стало страшно от презрительных, негодующих взглядов его недавних товарищей. Он ёрзал на скамейке и не чувствовал локтя ни с одной, ни с другой стороны.
Пройдёт несколько лет, и Канчер сам наденет себе петлю на шею и повесится.
Но сейчас идёт заседание суда. У дверей выстроились жандармы. На скамьях для публики чиновники, околоточные надзиратели, приставы. Их лица угодливо отражают движение каждого мускула на лице первоприсутствующего. Дейер благосклонно кивнул головой в сторону Канчера, и они кивают. Дейер с раздражением глянул на Шевырёва, и они готовы вскочить и растерзать крамольника.
Дубовые двери медленно раскрылись, и в зал заседания вошла Мария Александровна.
Она идёт по проходу, ищет глазами на скамье подсудимых сына… Нашла… Боль исказила её лицо. Он тоже её заметил, вскочил с места, улыбнулся…
Резкий звонок, и скрипучий голос Дейера прервал последнее слово Шевырёва:
— Подсудимый Ульянов, сядьте!
Александр Ильич стоит и смотрит на мать спокойно и грустно, нежно и ободряюще… Опускается на скамью только тогда, когда садится мать.
В открытую форточку влетела вместе с солнечным лучом ласточка и заметалась под потолком. Подсудимые следят за птицей. В солнечной полосе светлая голова матери, умное, печальное лицо её.
— Генералов, — дребезжит голос Дейера, — ваше слово.
Юноша встаёт и подходит к столу:
— В своё оправдание я могу сказать только то, что я поступал согласно своим убеждениям, согласно со своей совестью.
Садится рядом с Александром. Они сомкнули руки.
— Подсудимый Андреюшкин. Что вы можете сказать в своё оправдание?
Александр Ильич шепчет ему:
— Говори всё на меня, прошу тебя.
Андреюшкин звонким юношеским голосом отчеканивает каждое слово:
— Я заранее отказываюсь от всяких просьб о снисхождении, потому что такую просьбу считаю позором тому знамени, которому я служил.
Сел на место, шепнул Александру:
— Спасибо, друг.
Дейер вызывает Ульянова.
Александр Ильич не торопясь встаёт, окидывает взглядом товарищей, подходит к столу. Долго молча смотрит на мать. Мария Александровна, судорожно вцепившись пальцами в ридикюль, старается улыбнуться.
— Я отказался от защитника, и моё право защиты сводится к праву рассказать о том умственном процессе, который привёл меня к необходимости совершить это «преступление».
Мария Александровна понимает, что эти слова сына обращены к ней, обращены к молодёжи, что заполнила улицы вокруг здания суда.
— Я могу отнести к своей ранней молодости, — продолжает Александр Ильич, — то смутное чувство недовольства общим строем, которое, всё более и более проникая в сознание, привело меня к убеждениям, которые руководили мною в настоящем случае…
— «Случае!..» — зло выкрикивает чиновник из публики, — поднял руку на его императорское величество и называет это «случаем»!
— Но только после изучения общественных и экономических наук это убеждение в ненормальности существующего строя вполне во мне укрепилось, и смутные мечтания о свободе, равенстве и братстве вылились для меня в строго научные и именно социалистические формы. Я понял, что изменение общественного строя не только возможно, но даже неизбежно…
«Почему же всё скрыл от меня? Почему не доверил?» — с горечью думает Мария Александровна.
— Короче! — кричит Дейер. — Здесь не студенческая сходка… Вы забываете, что должны защищать себя…
Александр Ильич спокойно отвечает:
— Я защищаю свои убеждения… Я убедился, что единственный правильный путь воздействия на общественную жизнь есть путь пропаганды пером и словом… Но жизнь показала, что при существующих условиях таким путём идти невозможно…
Александр Ильич смотрит на мать.
— Невозможно! — повторяет он, как бы оправдывая себя перед ней. — Если мне удалось доказать, что террор есть естественный продукт существующего строя, то он будет продолжаться…
Мария Александровна с болью смотрит на сына.
«Сашенька, прав ли ты, друг мой?» — говорят её глаза.
Александр Ильич с убеждённостью продолжает:
— Среди русского народа всегда найдётся десяток людей, которые настолько преданны своим идеям и настолько горячо сочувствуют несчастью своей родины, что для них не составляет жертвы умереть за своё дело…
Дейер вскакивает с места и изо всех сил звонит в колокольчик. Обер-прокурор пронзительно смотрит на мать.
— Каков сынок? — спрашивает он ехидно.
Мария Александровна гордо поднимает голову, только слеза блестит на щеке.
— Повесить охальника! — кричат околоточные надзиратели, чиновники. — Повесить террориста!
— Смерть! Виселица! — беснуются жандармы, полицейские в зале.
Вокруг белой головы матери мелькают усы, похожие на пики, глаза, как свинцовые пули, шнуры аксельбантов, как петли виселиц…
«Не пощадят… Убьют… Не помилуют…»
Она встаёт. Сын не должен видеть её слёз. Она не сможет выслушать приговор о смерти сына.
Александр Ильич видит, как белая голова его матери мелькает над напомаженными шевелюрами, лоснящимися лысинами. Вверху под потолком мечется ласточка… Мария Александровна, задыхаясь, остановилась у дверей, смотрит на сына. Саша долго и скорбно глядит на мать.
— Прости! — чуть слышно шепчет он.
И мать услышала и еле заметно кивнула ему.
— Таких людей нельзя ничем запугать! — несётся вслед уверенный голос её сына.
Она выходит на улицу.
— Таких людей нельзя ничем запугать, — слышит она голос студента.
— Это герои, — говорит другой.
По улице ходят студенты в одиночку, парами. Полицейские строго следят за тем, чтобы молодые люди не собирались вместе.
— Мать! — восклицает студент, провожая Марию Александровну взглядом.
— Мать одного из тех, — шепчут вокруг.
Девушка-курсистка подбежала к Марии Александровне, схватила её руку, целует.
Студенты срывают с голов фуражки.
Улицы сдвинулись… Душно… Дома падают… давят. Солнце сморщилось, потемнело.
Мать идёт по улице.
НОЧЬ
Митя и Маняша спали в детской наверху, они ещё ничего не знали.
Мама была там, в Петербурге, она узнала обо всём раньше всех.
В столовой догорала лампа, отбрасывая широкий светлый круг на стол, на разложенные на нём «Симбирские губернские ведомости».
Оля, обхватив голову обеими руками, покачивалась из стороны в сторону, изнемогая от слёз.
Володя не сводил глаз со страшных строк:
«…Приговор особого присутствия Правительствующего Сената о смертной казни через повешение над осуждёнными Генераловым, Андреюшкиным, Осипановым, Шевырёвым и Ульяновым приведён в исполнение 8-го сего мая 1887 года».
Володя провёл ладонью по газете, словно хотел смахнуть, стереть эти строки, и никак не мог заставить себя осознать зловещий и чудовищный их смысл.
Как это может быть, чтобы Саша больше не существовал? Возможно ли, чтобы умного, светлого, справедливого Сашу казнили?..
От отчаяния и душевного протеста Володе хотелось кричать, немедленно бежать куда-то, найти убийц и уничтожить их.
И у Оли был такой же взрыв отчаяния. Володя долго готовил её к этому известию, а когда сказал, она упала на пол и кричала, что убьёт царя.
Володя сухими глазами смотрел на газету и сквозь строки видел Сашу, своего любимого брата.
Как всё это могло случиться?..
Бывало, они, уединившись с братом на чердаке, горячо обсуждали прочитанные книги. Обоих увлекала героическая борьба народов всех времён. Саша много читал о французской революции и Парижской коммуне. Рассказывая Володе о судьбе коммунаров, он говорил, что настанет время, и в России будет коммуна, которая победит. «Саша обязательно будет революционером», — думал тогда Володя.
А в последний приезд на каникулы Саша был особенно молчалив, не отрывал глаз от микроскопа и был увлечён своей дипломной работой. Наблюдая за ним, Володя с разочарованием подумал, что нет, не получится из Саши революционера.
Как-то Володя застал брата одиноко сидящим в беседке. Сцепив пальцы на колене, он сосредоточенно думал. В глубоких глазах горел мрачный огонь. Володя вопросительно посмотрел на него. Саша завёл разговор о маме, сёстрах, просил их очень беречь и никогда ничем не огорчать. Ведь с тех пор как Саша и Аня стали учиться в Петербурге, Володя стал самым старшим…
Запустив пальцы в кудри, Володя смотрел в тёмный провал окна и думал, думал. И боль, жгучая, нестерпимая, оттого что не стало Саши и что он погиб такой страшной смертью, лишала сил.
Ночную тишину нарушила грубая брань на улице. Раздался громкий треск, посыпались стёкла, затрепетала на ветру занавеска, по полу покатился булыжник.
Володя вскочил со стула, заслонил собою сестру.
В разбитое окно пьяный голос кричал:
— Цареубийцы!.. Каторжники!..
Сверху послышался плач Маняши. Звон разбитого стекла, крики разбудили её. Володя отвёл Олю в тёмную гостиную, погасил лампу в столовой и побежал в детскую.
— Почему так страшно? — Полусонная Маняша обняла за шею брата. — Не уходи от меня.
— Успокойся, ветром выбило стекло. Спи…
Маняша улеглась, не выпуская из тёплых ладоней руки брата.
Володя поглаживал её по плечу, прислушивался к сонному бормотанию Мити и впервые ясно осознал свою роль старшего. И спокойный сон Маняши, и здоровье мамы, и благополучие сестёр теперь зависит от него, от его мужества.
Маняша выпустила руку Володи. Уснула.
Оля лежала в гостиной на диване. Володя зажёг спичку. В колеблющемся свете огонька лицо сестры было мертвенно бледно. На миг ему показалось, что она умерла.
— Оля, Оленька, открой глаза. — Володя приподнял ей голову.
Оля застонала и, уткнувшись лицом в грудь брата, разразилась слезами.
— Что мы будем делать без Саши? Что будет с мамочкой? О, если бы жив был папа…
— Я не знаю, как перенёс бы всё это папа, — сказал как бы про себя Володя.
Сквозь рубашку он чувствовал жаркое дыхание сестры, её горячие слёзы. Он ещё крепче прижал к себе Олю и молчал.
— Володенька, почему ты молчишь? О чём всё время думаешь?
— О Саше… о маме… о том, как жить дальше.
Луна поднималась всё выше, и чёрные тени сгущались, отползали к окну.
Обессилевшая от слез, Оля задремала. Володя осторожно подложил под голову диванную подушку и поднялся наверх в Сашину комнату.
На столе поблёскивали пробирки, колбы. Хрупкое стекло, все Сашины вещи продолжали свою жизнь, а его самого нет.
Володя распахнул окно на балкон. Расстегнул ворот рубашки, глотнул свежего воздуха.
Мысли вихрем неслись в голове.
Что делать? Убить царя? Отомстить за Сашу и пойти его путём?.. Какую пользу принесёт это народу? Шесть лет назад народоволец Гриневицкий убил царя. Вместо Александра II на престол сел Александр III. Стало ещё хуже, народная нужда ещё тяжелее; душится всё передовое, честное. Закрываются папины школы, которые он создавал с таким трудом.
Каждый вечер, бывало, мама пела детям колыбельную песню.
И сейчас в ушах звучат её слова:
Подарить человеку новую силу. Для борьбы. Но в чём эта сила? Где она? Как уничтожить несправедливость, гнёт? Нет, одному это не под силу, и сотне самых отважных героев тоже. Здесь нужна воля миллионов. А как сплотить миллионы единой волей?
«Саша… Я принимаю от тебя факел борьбы. Я пойду к той же цели, к которой стремился ты, но буду искать иной путь, чтобы победить. Саша! Вся жизнь, всего себя я отдам делу, которому служил ты…»
Свежий предутренний ветер доносил из сада запах цветущих деревьев.
Володя вспомнил, как мама в запущенном пустыре, когда они пришли в этот дом впервые, сумела разглядеть будущий сад, в котором теперь нет ни одной мёртвой ветки и всё цветёт.
Всходило солнце. Вишнёвые заросли порозовели, стволы вязов отливали медью.
Послышался скрип телеги, фырканье лошадей.
Володя поспешил вниз, открыл входную дверь… и Аня почти упала ему на руки. Мама откинула вуаль, сняла шляпку и медленно-медленно стала подниматься по скрипучим ступенькам наверх. Она шла в Сашину комнату.
— Мама с Аней приехали! — тормошил Володя Олю. — Приведи себя в порядок, умойся, освежи лицо. Мама не должна видеть наши слёзы… Быстро вставайте! — забежал он в детскую. Помог Мите одеться, пытался даже заплести косу Маняше, но справиться с этим ему не удалось. — Пойдёмте к мамочке!
Дети остановились у дверей в Сашину комнату. Мама лежала на кровати, уткнув лицо в подушку.
«Смерть, скорее бы пришла смерть!» — думала она.
— Мамочка! — тихо позвал её Володя.
Мария Александровна не откликнулась. Володя подтолкнул Маняшу. Она взобралась на кровать, обняла мать за шею.
— Мамочка, повернись ко мне.
Мария Александровна присела на кровати, обвела взглядом детей: что-то похожее на тень улыбки скользнуло по её лицу.
Все дети стояли у дверей и смотрели на неё — в глазах отчаяние и любовь, и эти глаза говорили: «Ты нам очень нужна. И мы тебе нужны».
— Пойдёмте завтракать, — сказала Мария Александровна детям, сказала так, как говорила всегда.
ДОМ ПРОДАН
Все двери распахнуты. Во двор выносят мебель. На яркой зелени травы в солнечном свете столы, стулья, комоды выглядят ветхими.
Симбирские обыватели заходят в раскрытые настежь ворота, оглядывают, ощупывают вещи, покупают по дешёвке домашнюю утварь. Пользуются случаем, что дом продан и обитатели его уезжают.
На подводу погрузили широкий кожаный диван, что столько лет стоял в кабинете Ильи Николаевича. Мария Александровна с детьми наблюдает с крыльца, как диван, вздрагивая на телеге, выезжает за ворота.
С этим диваном связаны дорогие воспоминания. На нём дети вместе с матерью слушали рассказы Ильи Николаевича, когда он возвращался из поездок по губернии, в зимние вечера распевали песни, учили наизусть запрещённые стихи Некрасова, Минаева, Плещеева, Курочкина, записанные Ильёй Николаевичем аккуратным почерком в маленькую тетрадь.
На этом диване умер Илья Николаевич, умер за работой, за своим последним годовым отчётом…
Подводы выезжали со двора одна за другой.
Книжные полки никто не купил, и они стояли у зарослей акации, сложенные одна на другую, зияя пустыми провалами.
Володя с Олей и Гришей принялись упаковывать книги. Митя и Маняша заворачивали в старые газеты посуду, помогали Вере Васильевне укладывать её в ящики.
Мария Александровна прошлась по комнатам.
Гулко звучали шаги в пустом доме. Чужими и неуютными стали комнаты. В детской на полу, как на поле брани, валялись измятые бумажные солдатики. В Володиной комнате на обоях выделялся светлый квадрат — след географической карты. В Сашиной комнате на окне лежала разбитая колба.
Мария Александровна ходила из комнаты в комнату, еле держась на ногах от нахлынувших воспоминаний.
В гостиной остался рояль, у окна — пышные цветы в кадках, в углу — икона.
Мария Александровна взглянула на почерневший лик девы Марии и остановилась. В детстве и юности она свято верила, что богоматерь является заступницей от всех бед, несправедливостей. Маленькой девочкой горячо молилась, просила оставить ей мать… Мама умерла… И ещё одну молитву помнит Мария Александровна: когда тяжело заболел её третий младенец, Коленька, она обратилась за помощью к матери бога. Всю ночь молилась. К утру Коленька умер.
Постепенно угасала вера. Не уберегли иконы от преждевременной смерти Илью Николаевича, не спасли от казни Сашу. Исчезла потребность в дни горести и печали прибегать к молитве.
В гостиную зашёл Володя и хотел было повернуть обратно, но увидел, что мама не молилась, нет, она стояла и о чём-то раздумывала. Володя бросил взгляд на икону. Круглые детские глаза богоматери и толстощёкий младенец с глазами старца. А перед иконой стоит его мать — земная, прекрасная и сильная, нежная и мудрая. Нет, она не молилась, она размышляла…
Володя вопрос о религии решил для себя два года назад.
Это решение пришло к нему с познанием мира, чтением книг, изучением таких наук, как астрономия, физика, химия.
Перед началом учения и экзаменами в гимназии служили молебен. Священник внушал гимназистам, что горячая молитва их всегда дойдёт до бога, поможет избежать коварных двоек, умудрит, прибавит знаний, а богохульников накажет.
Володя накануне экзамена снял с себя крест и забросил в заросли крапивы. Утром, по обыкновению, мылся в передней в тазу до пояса. Мария Александровна заметила, что на шее у него нет цепочки с крестом. Внимательно посмотрела на сына, ничего не сказала. Молча согласилась. Все экзамены Володя сдал на круглые пятёрки…
Мария Александровна отвела глаза от иконы, заметила Володю.
— Володюшка, я решила не брать с собой иконы. Думаю отдать их в монастырь. Не нужны они нам. Если продавать — поднимется шум в городе. Хватит и того, что бьют стёкла в нашем доме, что все бывшие приятели переходят на другую сторону улицы при встрече.
— Ты правильно решила, мамочка.
В тот же день к Ульяновым пришёл старый монах. Он со знанием дела повертел в руках сложенные на ящиках иконы, осмотрел пробы на ризах — серебряные ли, колупнул ногтем лик девы Марии — захотел проверить, писаная икона или печатная, ловко завернул стопку икон в тряпицу и обвёл взглядом углы комнат.
— А себе-то оставили что? — осведомился он. — Молиться вам надо о спасении души великого грешника Александра.
— Мы о себе не забыли, — ответил за мать Володя. — Мы отдаём лишнее.
Монах покосился на молодого человека, не зная, как понять его слова.
Потом пришли за Красавкой. Новый хозяин повёл её на верёвке. Красавка мычала, упиралась всеми четырьмя ногами, мотала головой, протестовала против петли на шее. На прощание собрала мягкими губами корки хлеба с ладоней детей. Девочки и Митя с грустью прощались со своей любимицей.
Всей семьёй упаковывали рояль: обвязали его тюфяками, обшили рогожей. Это был мамочкин рояль. Это был большой источник радости. Мама должна к нему вернуться, и Оле нужно закончить музыкальное образование. Это была самая большая драгоценность в семье.
И ещё швейная машинка.
Она служила маме больше двадцати лет. Сколько на ней было подрублено пелёнок, сшито распашонок, рубашек, штанишек, платьев и сколько ещё будет сшито, переделано, перелицовано, починено…
Машинка была старая и громко стучала, даже на улице было слышно. Дробный стук её достигал самых дальних углов дома. Поэтому мама работала на ней только днём, когда дети были в гимназии, а Илья Николаевич в отъезде.
На этой машинке мама научила шить Аню, Олю и Маняшу.
Володя особенно тщательно упаковывал швейную машинку.
Обедали в этот день на ящиках с книгами. Маняша и Митя нашли, что так вкуснее и интереснее, чем за покрытым скатертью столом. После обеда пошли прощаться с садом.
Во дворе трава была помята и местами вытоптана. Обрывки шпагата, мочалы, бумаг кружились по ветру. Дети заглянули в каретный сарай, в пустой хлев. Уныло висели гигантские шаги, чуть поскрипывали кольца на качелях, словно приглашали покачаться в последний раз, но никто к ним не подошёл.
Только сада не коснулись сборы. Яблоки на деревьях стали светлее листьев и висели как фонарики. Ветви отяжелели, и их поддерживали со всех сторон подпорки. Урожай обещал быть богатым. У беседки доцветал большой куст жасмина, и опавшие лепестки лежали на траве, как снег. Клумбы настурций жаркими кострами горели между яблонь. Малинник был увешан начинающими розоветь ягодами. Посыпанные свежим песком дорожки придавали саду праздничный вид.
Володя зашёл в беседку. Здесь они любили уединяться с Сашей. Оля обняла шершавый ствол вяза, прижалась к нему щекой. Митя с Маняшей, взявшись за руки, бродили по дорожкам.
Мария Александровна в чёрном платье казалась меньше своих детей — так истаяла она за эти пять недель со дня гибели Саши. Глубоко затаив своё горе, она понимала, что дети, даже девятилетняя Маняша и тринадцатилетний Митя, прощались сейчас со своим детством.
Дальше оставаться в Симбирске было нельзя. Мария Александровна спешила к старшей дочери в Кокушкино, где Аня начала отбывать свою пятилетнюю ссылку. Тюрьма, казнь брата надломили её, и ей так была нужна поддержка матери. Володя будет учиться в Казанском университете. Оля должна закончить музыкальное училище. Мать не пустит теперь детей одних. Будет всегда с ними.
— Мамочка, можно срезать розы? — спросила Маняша.
Розы в этом году цвели особенно обильно и, нагретые солнцем, распространяли свой нежный аромат.
— Нет, оставим сад во всей красе. Не тронем здесь ничего. Пусть он принесёт людям радость.
Мимоходом, по привычке, Мария Александровна оборвала с яблонь несколько больных листьев, сунула их в жестяную банку с керосином, стоявшую у изгороди.
Последним из сада вышел Володя. Он повернул щеколду в калитке, облокотился на изгородь и долгим взглядом окинул сад, стараясь запомнить его на всю жизнь.
К вечеру от Свияги к Волге по булыжной мостовой тянулись подводы. На передней лежал зашитый в рогожи рояль. Рядом шёл Володя и уговаривал ломового извозчика ехать тише — рояль вздрагивал на телеге и глухо звенел.
Мария Александровна шла с Верой Васильевной. За Володей шагали Гриша, Ваня Зайцев и Никифор Михайлович Охотников. Саша Щербо помахала Оле из переулка. Все дети Ульяновы оставляли здесь своих друзей по гимназии, по играм, но осторожные родители не разрешали им провожать крамольную семью.
По обеим сторонам Московской улицы деревянные домишки крепко связались друг с другом высокими заборами, прочными замками на калитках. Но в этот час все окна были распахнуты, и обитатели домов тайком выглядывали из-за кисейных занавесок, оценивали имущество на подводах, качали головами: мол, вот им и горе нипочём, все вещи, даже столы со стульями распродали, а рояль везут с собой. Уж какие там теперь рояли…
Семья Ульяновых покидала Симбирск.
Позади, внизу, на спуске к Свияге, остался пустой дом с цветами на окнах и праздничный, цветущий сад.
ЛУННАЯ ТЕНЬ
Из распахнутого окна тянуло свежей сыростью, запахом цветущего табака, спелых яблок. Володя сидел за столом, читал и делал выписки в тетрадь. Иногда он отрывался от книги, прислушивался, как в саду стрекочут кузнечики, сонно попискивает какая-то пичужка. Вокруг лампы вьются мошки, комары, ночные бабочки обжигают о стекло крылья, падают на стол, оставляя на бумаге пепельный след пыльцы. А на смену им летят другие. Яркий пузырь керосиновой лампы притягивает их, как солнце, они летят, танцуют, обжигаются, гибнут…
Вот уже второй месяц Ульяновы живут в Кокушкине. В позапрошлом году приезжали всей семьёй. Это было самое весёлое и последнее беззаботное лето… В прошлом году приехали без Ильи Николаевича, через пять месяцев после его смерти. Вся деревня вышла тогда на тракт встречать осиротевшую семью, чтобы выразить сочувствие тяжкому горю. Илью Николаевича любили и почитали, а Марию Александровну старухи по привычке называли Машенькой: она выросла на их глазах. Здесь вышла замуж и свадьбу справляли в Кокушкине, а затем привозила сюда летом одного за другим всех своих детей. Дети вырастали, водили дружбу с деревенскими сверстниками — русскими и татарами. Мария Александровна была в деревне и лекарем, и советчиком, и крёстной матерью многих детей…
А вот в это лето никто не вышел навстречу. Даже деревенские ребятишки не прибежали за гостинцами. Ульяновы приехали на этот раз без Саши. Через семь недель после его страшной гибели, казни. И Аня прибыла в Кокушкино не отдыхать, а отбывать свою пятилетнюю ссылку. Опальная семья… Непривычно тихо стало в усадьбе. Один только урядник наведывался каждый день, чтобы удостовериться, что его «подопечная» Анна Ульянова на месте. Зачастил в деревню и становой пристав из Лаишевского уезда. Большой, рыжий, он приезжал, развалясь в тарантасе, пинком сапога распахивал дверь в избу и, гремя саблей, усаживался в передний угол. Зыркал злыми зелёными глазками, устрашающе вопрошал: «Ну, как перед богом, докладывайте, кто приезжал к Ульяновым, кто носил им землянику, пошто приходят они к вам в деревню, о чём говорят?» Крестьяне божились, что ничего не видели, никто в усадьбу из крестьян не ходит и сами Ульяновы деревню не навещают. «Смотрите вы у меня. Мне всё известно! — многозначительно произносил пристав. — Не забывайте, что Ульяновы опасные государственные преступники».
Так между усадьбой и деревней усилиями полицейских была воздвигнута стена…
Стрекочут кузнечики. Вьются вокруг лампы ночные бабочки… Всё как прежде. И всё иначе…
Володя смахнул с бумаги мошкару, разгладил рукой книгу и заставил себя вчитываться в строчки «Юридической энциклопедии». Через три недели с небольшим он станет студентом юридического факультета Казанского университета. И уже сейчас старается включить себя в ритм студенческой жизни. Он должен явиться в аудиторию не раздавленным горем потери старшего брата, а собранным и стойким.
В саду послышались чьи-то тяжёлые шаги. Володя поднялся со стула. Кто это мог быть? Наверно, урядник увидел освещённое окно и захотел проверить, что здесь происходит. Володя подошёл к окну, чтобы закрыть его, но перед ним возникла фигура Карпея.
— Здравия желаем, Володимер Ильич. — Старик снял картуз и поклонился.
— Здравствуйте, дедушка Карпей. Что вас привело в такой поздний час?
— Беда привела, Володимер Ильич. Я понимаю, у вас своё лихое горе…
— Я сейчас выйду, дедушка Карпей.
Володя накинул на плечи гимназическую тужурку и вышел на крыльцо. Над вязами сверкали яркие звёзды.
— Присядем, — сказал Володя.
Карпей, кряхтя, тяжело опустился на ступеньку.
— Что за беда? Что случилось, дедушка Карпей?
— Светопреставления люди ждут в пятницу. Прихода антихриста. Земля, говорят, разверзнется, скот и избы в тартарары провалятся, люди в геенне огненной сгорят.
— Кто говорит-то?
— Все говорят. Гуртовщики сказывали, которые скотину намедни гнали на убой в Казань. Юродивые люди приходили, говорили, что в пятницу конец света будет. Закупщики из городу приезжали, скот закупать. Яков Феклин согласился свою лошадь за четверть цены продать, всё равно погибнет.
Володя встал:
— Вот, вот, вот! На лунной тени толстосумы наживаются. Сами-то они грамотные, понимают, что никакого светопреставления не будет, а людскую темноту используют. Но скажите, дедушка Карпей, если всё погибнет и провалится в тартарары, зачем им скот покупать, на тот свет его с собой не возьмёшь?
— Нет, зачем он там? — согласился дедушка Карпей. — Но ведь все говорят. А дыма без огня не бывает.
— Не бывает, — согласился Володя. — Вы разумный человек. Не верьте разным слухам. Седьмого августа, в пятницу, будет солнечное затмение. Об этом давно уже во всех газетах пишут. Скотопромышленники газеты читают и решили на этом поживиться. Уговорите, дедушка Карпей, людей не разоряться. Пусть они этих закупщиков вон гонят и скотину не продают за бесценок.
— Не поверят мне. Может быть, вы сами в деревню пойдёте да мужикам всё объясните?
Володя ответил не сразу.
— Нет. Наше появление сейчас в деревне может быть неправильно истолковано. Запугали ведь полицейские крестьян. А рано утром в пятницу мы придём в деревню. Я и Оля.
— А Марья Александровна? Она ведь для наших баб что мать родная. Сорок лет, поди, она вместе с ними.
— Я не хотел бы причинить маме лишнюю боль. Аня болеет, никак не может оправиться после тюрьмы и гибели брата.
— Да, да. Понимаю. Вы теперь, Володимер Ильич, за старшого. Коли моя помощь в чём нужна, я завсегда готов… если живы будем. А это, — Карпей пододвинул Володе плетёную корзиночку, прикрытую лопухом, — это малина лесная для Марьи Александровны. Пусть не побрезгует.
Карпей ушёл.
Володя стоял на крыльце и думал. «Старшой!» — сказал Карпей.
— Старший, — повторил Володя вслух, словно взвешивая это слово и постигая его значимость.
Старший — стало быть, ответственный за всё: за судьбу всей семьи, за здоровье мамы и Ани, за будущее Оли, Мити и Маняши. И за судьбу деревни Кокушкино тоже. Нет, не только Кокушкина. Отец, Илья Николаевич, считал своим долгом сделать Симбирскую губернию сплошь грамотной, просвещённой, Саша думал о судьбе всего народа и считал себя лично ответственным за его будущее… Лично ответственным.
Лёгкая рука легла на плечо Владимира.
— Володюшка!
— Мамочка! Я тебя разбудил?
— Нет. Я не спала и всё слышала. Я тоже пойду в деревню. Людям будет спокойнее, если мы будем рядом. Постараемся им объяснить, успокоить.
Ночью с четверга на пятницу Ульяновы отправились в деревню. Мария Александровна, Володя и Оля. Анна осталась дома с младшими. В избах светились огоньки. Никто в эту ночь не ложился спать. Люди сидели семьями на крылечках, одетые, обутые, собравшиеся в дальний путь. Малыши спали на руках матерей. Во всех избах горели перед иконами лампадки, и старики, стоя на коленях, клали земные поклоны, молились о спасении души, об отпущении грехов.
Мария Александровна присела на скамеечку у крайней избы рядом с хозяйкой Настасьей, — знала её давно, была на её свадьбе. Три девочки жались к матери. Настасья, распознав в темноте Марию Александровну, припала ей на грудь, расплакалась.
— Что ж ты младшеньких-то бросила? Как они без тебя на тот свет отправятся? Всем вместе надобно, — причитала Настасья.
— Полно, полно тебе, Настасья. Ничего плохого не произойдёт. Поверь ты мне. Будет солнечное затмение.
— Вот так и юродивый говорил: поначалу погаснет солнце, потом затрясётся земля, разверзнется…
— Не будет никакого землетрясения.
— Ой ли? — с сомнением покачала головой Настасья. — Откуда тебе воля божья известна?
— Да учёные давно всё объяснили. Много веков назад…
В другой избе Оля установила на столе теллурий, который принесла с собой, и объясняла ребятишкам, как Земля вращается вокруг Солнца и вокруг своей оси, а Луна оборачивается вокруг Земли и сегодня на некоторое время окажется между Землёй и Солнцем. Тень от неё упадёт на Землю.
— Что ты неправду говоришь, — возразил Оле татарский мальчик Мустафа. — Солнце большой, луна маленький.
— Окно больше твоей руки? — спросила его Оля.
— Ну и что?
— А вот ты прищурь один глаз, а перед другим выставь ладонь, и ты будто заслонишь ладонью окно.
Мустафа и другие ребятишки щурились, вытягивали ладони.
— А я рукой соседнюю избу закрыл, — радостно сообщил Васятка, сын бурлака.
Владимир беседовал с мужиками.
Старый мельник, который перед тем рассказывал, как выглядит антихрист — главный чёрт, с рогами и копытами, с длинным хвостом, изо рта огненный язык высовывается, — описывал так, будто с ним лично знакомство водил, а выслушав Ульянова, схватил свой картуз и, бормоча себе что-то под нос, вышел вон.
Вскоре явился урядник.
— Богохульствовать, господин Ульянов, я запрещаю, — сказал он, входя в избу.
— Я не богохульствую, — с достоинством ответил Владимир, — я объясняю, как будет проходить солнечное затмение и что никакого вреда это людям не принесёт.
— Люди перед светопреставлением должны молиться об отпущении грехов, а вы им тут всякие сказки рассказываете, от беседы с господом богом отвлекаете.
— Ну, тогда вы, господин урядник, которому всё доподлинно известно, расскажите, как будет происходить это светопреставление.
Мужики притихли.
Урядник поскрёб большим пальцем бороду.
— Как полагается. Солнце, значит, погаснет, будет земли трясение, потом появится антихрист в своём страшном обличье и всех нас в преисподнюю скинет.
— А я утверждаю, что землетрясения не будет. Никто никуда не провалится. Должен вас огорчить, что антихрист если и явится, то только к вам во сне.
Урядник перекрестился и плюнул через левое плечо.
— Луна на время закроет Солнце, — продолжал Владимир. — Темно будет не более двадцати минут. На время затмения похолодает, поэтому я советую всем одеться потеплее. Скот на пастбище не выгоняйте, потому что животные во время затмения ведут себя беспокойно, хотя и не собираются проваливаться в тартарары, просто для них это непривычно.
— Вы народ не мутите! С толку не сбивайте! — грозно сказал урядник. — Люди с жизнью прощаются.
— О том, кто сбивает народ с толку, мы узнаем через несколько часов. За вашу драгоценную жизнь я спокоен, господин урядник… Пока спокоен.
— О вашем дерзком поведении я доложу господину становому приставу.
— Тогда торопитесь. До светопреставления остаётся всего часа два. Начинает светать.
— Мы теперь перед богом все равны, — примирительно сказал Яков Фёклин, стоявший рядом. — А вы, Володимер Ильич, не берите лишнего греха на душу.
— Всё будет так, как я сказал, — твёрдо ответил Владимир. — Солнечное затмение очень интересное явление. Закоптите кусочки стёкол, чтобы наблюдать, как Луна постепенно начнёт закрывать Солнце.
Рассвело. На востоке по горизонту лежали тучи, плотные, как войлок, выше неслись облака. Люди вышли на улицу. Мальчишки взобрались на крыши домов, у каждого в руке было закопчённое стекло. Об этом позаботилась Оля. Бабы сбились вокруг Марии Александровны.
— Солнце напоследок словно в одеялку закуталось, — раздался чей-то жалостливый голос.
Оля стояла рядом с Володей.
— Ужасно обидно будет, если тучи закроют всё небо и люди не увидят всех фаз затмения, — сказала Оля. — Ты знаешь, я чувствую себя сейчас режиссёром этого светопреставления.
— Да, недаром ты у нас считаешься главным астрономом.
Оля подбежала к Марии Александровне:
— Мамочка, дай мне, пожалуйста, твои… — Оля запнулась, — папины часы. Я буду рассказывать по минутам, чтобы люди поверили в силу науки.
Мария Александровна вынула из-за пояса тяжёлые часы Ильи Николаевича и, отстегнув их от шнурка, протянула дочери.
— Затмение начнётся через полчаса… Затмение начнётся через полчаса, — говорила Оля, перебегая от группы к группе.
В хлевах стали жалобно мычать коровы, лошади били копытами о деревянный настил и отчаянно ржали. Тревожно прокричал петух. Куры хором закудахтали и мгновенно смолкли.
— Петух беду кличет… Скотина свою смертушку чует… — раздавались голоса.
— Скот чувствует приближение затмения и будет беспокоиться ещё больше. Обратите внимание, — говорила Оля, — что во время затмения закроются все цветы, которые закрываются на ночь. Птицы замолкнут. Но пусть вас это не пугает. Кончится затмение, и цветы раскроются, птицы запоют.
Облака редели. Солнце словно оттесняло и плавило их и поднималось величественно.
— Затмение начнётся через пять минут. Через пять минут, — звучал звонкий голос Оли.
— Тише ты, тише, — шептали и крестились бабы.
— Смотрите в стёкла, сейчас вверху справа на Солнце появится ущербинка и будет всё больше закрывать его.
Люди боязливо подносили к глазам закопчённые стёкла.
— Началось. Люди, будьте спокойны.
На Солнце словно надвигалась чёрная круглая заслонка.
Ребята скатывались с крыш и жались к матерям.
Солнце светило по-прежнему ярко, но уже половину его закрыла тень Луны. А затем день начал бледнеть. Постепенно гасли краски, небо линяло на глазах и из голубого делалось зеленовато-бутылочного цвета, зелень травы меркла. Поднялся ветер, холодный, пронизывающий. Луна закрыла Солнце, и из-под круглого чёрного пятна стали выбиваться огненные языки, словно Солнце раздавили. Все вокруг стало пепельного цвета. Загорелись звёзды.
Бабы взвыли и рухнули на колени.
— Господи, прости все прегрешения наши! Господи, спаси и помилуй!
Лошади дико ржали, били копытами, готовые разнести сараи, коровы утробно мычали, выли собаки.
Оля стояла рядом с Володей.
— Тебе страшно? — спросил он и обхватил сестру за плечи.
Оля дрожала.
— Мне холодно и очень неуютно. Это не похоже на сумерки, не похоже на ночь. Это какой-то мёртвый полусвет. Ты совсем зелёный, как пришелец с другой планеты. Просто призрачный.
Володя неотрывно смотрел на круглое чёрное пятно, из-под которого выбивались протуберанцы, но эти языкастые и щёткообразные пульсирующие огни не освещали землю, а лишь подчёркивали мёртвый мрак.
— О чём ты думаешь? — спросила Оля.
— Думаю о том, как люди плохо понимают, что живут в таком мраке даже при солнечном свете. И где эта сила, которая бы открыла народу солнечный диск Свободы? Саша пытался сдвинуть этот круг с горсточкой людей. А нам нужна огромная сила, воля миллионов. Земля летит вокруг Солнца с непостижимой скоростью…
— Два с половиной миллиона километров в день, — уточнила Оля.
— А мы так медленно идём по этой стремительной планете. Если мне дано прожить столько же, сколько папе, то я уже прожил почти треть жизни и ничего ещё не сделал, — с горечью произнёс Володя. — Ровным счётом ничего. Если бы поспеть за нашей планетой! Всё это, конечно, из области фантастики, но жить надо так же стремительно, чтобы ни одна секунда не пропала даром.
Оля глянула на часы.
— Смотрите, смотрите, сейчас начнёт появляться Солнце! Справа, сверху заблестит и начнёт открываться, сейчас начнёт светать. Смотрите в стёкла! Показался серп Солнца. — Оля бегала, поднимала с колен людей.
Серп Солнца увеличивался, наливался светом. Светлело и на земле. По небу с юга на север словно кто-то стягивал пепельную траурную шаль. Небо начинало наливаться синевой, облака освобождались от пепла. На Солнце уже нельзя было смотреть без стекла. Чёрная тень Луны соскользнула, и траурная вуаль, мрачно полыхнув крылом, свернулась на севере за горизонтом.
Солнце светило нестерпимо ярко, празднично, победно. Лёгкие белые облака летели по синему небу, трава налилась зеленью, зазолотились поля пшеницы. В небо взметнулись несколько жаворонков и запели приветную песнь солнцу. Прохладный воздух наливался теплом, благоуханием трав. Зазвенели комары и стали плести в воздухе тонкое замысловатое кружево. Коровы мычали не тревожно, а просились на волю. Весело и призывно прокричал петух, и ему ответили хлопотливым кудахтаньем куры.
Люди любовались синевой неба, зеленью травы. Стаскивали с себя полушалки, пиджаки. Стало тепло. На пруду раскрывали атласные белые и золотые венчики кувшинки, табаки в палисадниках смыкали свои лепестки.
Люди, щурясь, из-под ладоней смотрели на солнце.
— Голубушка ты наша, снова светишь, снова греешь. Слава всевышнему!
Женщины плакали от счастья снова видеть солнце, свет. И впервые, сбросив с себя давящую так много дней тяжесть, обратились к Марии Александровне. Она стояла прямая, строгая, её тёмные глаза светились печалью и нежностью. И тут только заметили бабы, что волосы у Марии Александровны белые, как облако. А ещё в прошлом лете они были золотисто-рыжеватые. Женщины окружили её, и каждой хотелось приголубить, утешить взглядом, лёгким прикосновением. Слова были лишние.
Дед Карпей ходил гоголем и спрашивал то одного, то другого мужика:
— Ну как, доволен теперь, что корову не продал? Пригодится на этом свете.
К Владимиру подошёл Яков Фёклин, низко поклонился ему:
— Спасибо вам, Володимер Ильич. Ежели вам понадобится лошадь в Казань ехать, милости просим, я всегда готов.
— Малина поспела. Урожай на неё богатый нынче. Ребятишки насобирают, принесут, — сказала Настасья. — Спасибо, голубушка наша, Марья Александровна.
Урядник стоял в стороне от всех, крутил самокрутку и не смел поднять глаза.
Лунная тень исчезла.
ОЛЯ
Оля держит на раскрытой ладони свою золотую медаль. «За благонравие и успехи в науках», — начертано полукругом, и богиня мудрости изображена на ней.
— Наука, медицина, химия, физика, математика — всё это женского рода, а вот университет мужского, — пытается улыбнуться она.
— И вовсе не мужского, а среднего, — откликнулся Володя, оторвавшись от книги. — Я мужчина, а учиться тоже не имею права. Царизму нужно, чтобы каждое существо, переступая порог российского университета, было безлико, безъязыко, бездумно и, главное, верноподданно.
Володя распахнул студенческую куртку, словно ему было душно. Только три месяца ходил он в этой куртке в Казанский университет. А потом — участие в студенческой сходке, арест, ссылка.
Володя взглянул на мать. Уронив шитьё на колени, прищурившись, она о чём-то думала. Он понимал её мысли, чувства.
Мария Александровна в молодости мечтала получить образование, много читала, изучала иностранные языки, а смогла добиться лишь звания домашней учительницы. Только теперь, в свои семнадцать лет, Володя впервые понял, какие таланты были заглушены у матери. Она одарённый музыкант, прирождённый литератор, переводчик, но всё это осталось оценённым только в кругу семьи.
Старшая сестра Аня — поэт по призванию — искала путь в литературу, чтобы быть полезной обществу. А теперь перед ней захлопнулись все двери. Ни в чём не повинная, она должна отбывать пятилетнюю ссылку в глухой деревне.
Больше всего обидно за Олю. Вот она сидит и в отчаянии накручивает чёрный локон косы на палец. Кто ещё может так трудиться, как она? Оля не работает только тогда, когда спит. Ей всё под силу. В пятнадцать лет окончила гимназию с золотой медалью. «Наша краса и гордость», — твердили преподавательницы. А что же дальше? Талантлива, но… девушка. Трудолюбива, как пчела, но… не мужчина.
Год назад царское правительство закрыло все женские высшие учебные заведения в России. «Ни к чему женщине образование», — решили тупые царские слуги.
— Быть образованной женщиной в самодержавной России считается преступлением, — негодовал Володя. — Софья Ковалевская вынуждена бежать из России только потому, что талантлива. Любая знахарка у нас более почитаема, чем высокообразованная женщина.
— А в Швеции Ковалевская ведёт кафедру механики в университете! — добавила Аня. — Может быть, нашей Оленьке поехать учиться в Стокгольм?
Мария Александровна тяжело вздохнула:
— Как Олюшка в шестнадцать лет поедет одна в Швецию?
И для учёбы за границей нужны деньги, и не малые. А где их взять? На мамину пенсию живут шестеро. Маняше и Мите здесь, в Кокушкине, учиться негде, надо ехать в Казань, но Ане и Володе не разрешают там жить. И вот все шестеро сидят в маленьком холодном флигеле, занесённом сугробами. Аня и Володя взялись обучать младших.
Оля горячо обняла мать:
— Не горюй, мамочка. Я поеду в Казань, найду себе уроки, заработаю много-много денег и отправлюсь учиться за границу.
И, как ни грустно было, все рассмеялись этой наивной мечте.
— Мы что-нибудь придумаем, всё уладится, всё будет хорошо! — старалась успокоить мать своих детей, а сама уж и не знала, что ей предпринять.
Володя шагал по комнате, поглядывая на мать и сестёр, думал об их судьбе. Три талантливые женщины! А сколько на Руси загублено женских талантов!
Оля села писать письмо своей подружке Саше Щербо в Симбирск.
Дорогая Саша! Поздравляю с Новым годом…
Она смотрит в залепленное снегом окно, кутается зябко в платок, вспоминает, как они с подругой мечтали о необыкновенно красивой и полезной жизни, которая их ждёт по окончании гимназии. Детские мечты!
Я, собственно, не признаю праздника Нового года, — пишет Оля, — он никому ничего не даёт, кроме признаков. Вот если бы с него можно было начать новую жизнь, бросить всё старое, бесполезное, дурное, тогда бы это был праздник, а то знаешь, что впереди ждёт тебя всё то же, такая же скучная и бесполезная жизнь, так чему же радоваться…
— Оленька, пойдём на лыжах пройдёмся, хватит тебе писать, — предложил Володя.
Брат с сестрой пробежались на лыжах по парку. За калиткой в холодных лучах зимнего солнца сверкали поля, покрытые снежным настом. Лыжи сами несли вперёд к чернеющей кромке леса. Володя прокладывал лыжню. Оля легко скользила за ним.
Миновали деревню Кокушкино. Убогие избы закопались по окна в сугробы, нахлобучили белые шапки снега. Из труб столбом валил желтоватый дым: избы топили соломой и навозом. Одинокие вётлы уныло раскачивали голыми ветвями, щетинилось сухое жнивьё из-под снега.
Володя поджидал Олю у опушки. Воткнув палки в снег, он смотрел на избы, в которых притаилась невесёлая жизнь.
Оля подбежала к брату, запыхавшись, затормозила и, всё ещё углублённая в свои мысли, стала чертить палкой по снегу. Потом взглянула прищуренными глазами на большое красноватое солнце, клонившееся к западу.
— Вот мы вместе с Землёй завершаем очередной путь вокруг Солнца, — сказала она задумчиво, — и, глупые, надеемся, что следующий круг принесёт нам счастье. Земля крутится, крутится вокруг Солнца, как клубок, а счастья людям нет.
Володя молчал.
— Скажи, Володя, — повернула она лицо к брату, — будет ли настоящий Новый год, такой праздничный день, с которого у людей начиналось бы счастье, когда все беды останутся позади?
— Должен быть, — ответил Володя. — Я сам после смерти Саши не перестаю думать над этим, и кажется… кажется…
— Ты что-то знаешь? — схватила Оля за рукав брата. — Скажи!
— Нет, ещё не совсем знаю… Но я привёз из Казани книги Карла Маркса, удивительные книги! В них с математической точностью доказывается, что человечество найдёт себе путь к счастью.
— А кто этот Карл Маркс?
— Великий учёный. Он умер пять лет назад, но жив его друг Фридрих Энгельс, который работал вместе с ним. Осталось его учение. Я пока прочитал только одну книгу — «Коммунистический Манифест» и читаю вторую — «Капитал». А написано им очень много.
— Давай изучать вместе! — горячо воскликнула Оля.
— Только изучать мало. Будем знать ты да я, а что мы вдвоём можем сделать? Карл Маркс учит, что самый передовой класс человечества — пролетариат. Но нужно, чтобы рабочие поняли свою силу, объединились, и тогда они смогут сокрушить старый мир. «Коммунистический Манифест» завершается словами: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Ах, как много надо знать и уметь, чтобы применить это учение в жизни! — вздохнул Володя.
— Ты мне дашь эту книгу?
— Да, только… — Володя приложил палец к губам. — Эти книги запрещённые. В Казани есть кружки, где их читают, обсуждают. Хорошо бы перебраться в Казань… — Володя помрачнел. — Но это невозможно.
Багровое солнце наполовину скрылось за горизонтом. Галки с криком носились над деревней, собираясь на ночлег.
— Пора домой, — спохватился Володя, — мамочка, наверно, волнуется. Мы с тобой совсем загулялись, хотя прошли не больше двух вёрст.
— Нет, мы сегодня прошли с тобой очень много, — ответила Оля.
Мария Александровна не спала всю ночь. Как помочь детям получить образование, выбраться на дорогу?
Она стала всё чаще уезжать в Казань. Писала прошения, просиживала многие часы в приёмных губернатора, попечителя Казанского учебного округа, жандармского управления. Просила, требовала, чтобы детям разрешили переехать в Казань, жить вместе с ней, матерью.
Однажды в осенний день вернулась в Кокушкино усталая и счастливая: получено разрешение на переезд всей семьёй в Казань.
Володя с утра до вечера сидел теперь в своей комнате-кухне за книгами. Столом ему служила плита, застеленная газетами. Иногда к нему пристраивалась и Оля. По вечерам Володя уходил в библиотеку и нередко возвращался домой далеко за полночь взволнованный и словно светился изнутри.
Мария Александровна не спрашивала, где был, только иногда, обняв его за плечи, тихо говорила ему:
— Будь осторожен. Будь осторожен во всём.
Однажды он вернулся из библиотеки раньше времени, схватил Олю за руки и закружил по комнате.
— Ты будешь учиться, будешь!
— Где? — спросила оторопевшая от радости сестра.
— В Гельсингфорсском университете. Туда принимают и женщин, но… для этого надо изучить шведский язык.
Немецкий, французский, английский и латынь Оля знала. Она готова была немедленно приняться и за шведский, но где найти учебники или преподавателя?
Стали искать в Казани шведа, хотя и мало надеялись на успех.
Вскоре нашёлся финский студент. Он изучал в Казани родственные финскому языки — мордовский и марийский и, как все финские студенты, владел шведским.
— Я буду готовиться на медицинский факультет, — решила Оля.
И началась упорная работа.
Оля блистательно сдала экзамены за музыкальное училище и с головой ушла в изучение шведского языка.
— Я уже по-шведски сны вижу, — призналась как-то она.
Оля и спала со шведским учебником под подушкой. На руке у неё всегда висела связка карточек со шведскими словами, которые она, даже гуляя, перебирала, как чётки, и проверяла свои знания.
Финский студент был поражён. Ему казалось, что эта маленькая русская девочка с озорными и умными глазами стремительно ведёт его за собой в гору. Студенту часто приходилось засиживаться за книгами до глубокой ночи, чтобы найти ответы на вопросы любознательной Оли. Через полгода она уже увлекалась сказками Сельмы Лагерлёф, затем принялась за Августа Стриндберга.
Весной 1889 года твёрдо заявила:
— Я могу слушать лекции на шведском языке. Можно посылать прошение в Гельсингфорс.
— Наконец-то наша Оля будет студенткой! — радовались братья и сёстры.
Но ответное письмо из Гельсингфорса принесло разочарование: для поступления в университет необходимо было знать не только шведский, но и финский.
Учить шестой язык? Потерять ещё не меньше двух лет? Что ж! Оля готова на всё. Лишь бы получить высшее образование, стать полезной людям. Но и здесь её ждала неудача.
Казанская полиция уже разглядела во Владимире Ульянове опасного вожака молодёжи и решила, что пребывание семьи Ульяновых, один из членов которой казнён за покушение на царя, нежелательно в университетском городе.
Пришлось переезжать всей семьёй в деревню Алакаевку под Самарой. Найти здесь учителя финского языка было невозможно.
Володя занимался с рассвета до позднего вечера. Уходил с кипой книг в свой лесной «кабинет» в зарослях орешника, читал, конспектировал, думал. На ночь книги прятал в большую корзину в чулане, покрывал полотенцем и сверху засыпал картошкой.
«Запрещённые книги», — понимала Мария Александровна.
Она продолжала упорно и терпеливо добиваться разрешения для Володи учиться в университете или сдавать экзамены экстерном. Два с половиной года писала прошения. Писал их и сам Володя. И на всех прошениях чиновники выводили резолюции: «Объявить об отказе министра», «В пользу Ульянова ничего не может быть сделано», «Отказать».
В 1889 году газеты сообщили отрадную весть. Передовые люди России добились наконец, чтобы царское правительство вновь разрешило высшие женские учебные заведения.
Мария Александровна мечтала о том, чтобы Оля поехала учиться в Петербург вместе с Володей.
— Я решила написать прошение директору департамента полиции, — сказала как-то сыну Мария Александровна. — Ведь они, в конце концов, решают, допустить тебя к экзаменам или нет. Читай, что я написала.
Володя пробежал глазами прошение.
…Я утверждаю, что как во всю доуниверситетскую его жизнь, так и за два с половиной года после исключения из университета, он (Владимир Ильич. — Примеч. авт.) вёл почти изолированную домашнюю жизнь, вполне безукоризненную в политическом отношении, не обнаруживая притом решительно никакого даже интереса к чему бы то ни было предосудительному в каком-либо отношении…
Володя поднял глаза на мать.
— Мамочка, ты права, у меня абсолютно никакого интереса нет к чему-либо предосудительному, — и продолжал читать:
…Я тем настойчивее прошу Ваше превосходительство снять с моего сына так долго лежащую на нём кару, что кара эта вообще не позволяет ему найти какое бы то ни было даже частное занятие, не позволяет ни к чему приложить свои силы.
— Да, здесь я действительно ни к чему не могу приложить свои силы. Ты хорошо написала.
— И такое же заявление я пошлю министру народного просвещения. Впрочем, нет, не пошлю, а поеду в Петербург сама…
И какой же это был радостный день, запомнившийся в семье Ульяновых на всю жизнь, — день 20 мая 1890 года, когда пришёл ответ из министерства народного просвещения, разрешавший Владимиру Ульянову «подвергнуться в качестве экстерна испытаниям на звание кандидата прав в одном из университетов…»
— В Петербург! Только в Петербург! За год я пройду всю университетскую программу, — твёрдо сказал Володя. — А Оля будет учиться там на Бестужевских курсах.
— Но теперь я пойду на физико-математический факультет, — заявила Оля. — Я решила стать физиком…
Счастье всегда улыбается упорным, смелым, трудоспособным!
НАВСЕГДА!
Старый парк окутан зелёным сумраком. По траве скачут весёлые солнечные зайчики. Ветер раздвинул кроны лип, выплеснул поток света на дорожку и смел зайчишек. Сомкнулись кроны, и снова засуетились, запрыгали светлые пятна по траве, кустам боярышника, по замшелым пенькам.
Аня едва ступает по дорожке, не идёт, а летит, прижав обеими руками к груди книгу, силится утихомирить радостное волнение в сердце.
Почему сегодня так хорошо и празднично вокруг, как давно-давно не было? Каждое дерево, каждая травинка в парке сегодня заодно с Аней. Клён на пригорке стоял недвижим, но вдруг встрепенулся и заиграл всеми своими растопыренными ладошками-листьями, и на берёзе разом затанцевали все листья. Как это Аня до сих пор не видела красавицы ёлки, словно выточенной из цельного куска чудо-камня малахита? Ведь, наверно, и раньше всё это было — и солнечные зайцы, и трепещущие листья, и игра светотеней.
Но ничего этого Аня не замечала. В ту весну, когда погиб Саша и она вышла из тюрьмы, для неё померкли все краски на земле, она ни разу не слышала с тех пор, чтобы в парке или в лесу пели птицы, а сегодня…
«Тьюить, тьюить…» — раздаётся над её головой.
— Ля-ля! Ля-ля-ля! — звонко пропела Аня в ответ малиновке.
«Где она, малиновка?» Аня вглядывается в кусты боярышника, примечает маленькую круглоголовую птичку с белым брюшком и выпуклой рыжей грудкой. Малиновка вертится на длинной игле боярышника и продолжает своё «тьюить».
Аня присела на пенёк, расправила наглаженное ситцевое платье, раскрыла книгу. Солнечный зайчик прыгнул на страницу, и сразу зарябило в глазах. Она рассмеялась, тряхнула локонами. Нет, сегодня не читается. Хочется петь, перекликаться с малиновкой. А птичка исчезла.
Закуковала кукушка.
— Кукушка, кукушка, скажи мне: «да» или «нет»? — спрашивает Аня.
«Ку-ку!»
— Да! — прислушивается она.
«Ку-ку!»
— Нет!
«Ку-ку!»
— Да!.. — Аня ждёт, кукушка молчит. — Неужели «да»? А может быть, «нет»?
Кукушка молчит.
Аня пытается читать, но мешают медовые запахи, солнечные блики, малиновки. Как научиться сосредоточиваться так, как это умеет делать Володя? Он сидит поблизости в своём лесном «кабинете» и упорно работает, отрывается от книги только затем, чтобы размяться на трапеции. Ничто не может его отвлечь. А Аня… «Да, Саша был прав». Однажды она спросила брата, какой, по его мнению, у неё самый большой недостаток. «Неровность характера», — не задумываясь, ответил Саша. Как выработать ровный, невозмутимый характер, какой был у Саши, какой вырабатывает в себе Володя? «Прочитаю десять страниц и только тогда пойду домой», — решает она. Читает «Былое и думы» — эту книгу рекомендовал Володя. Но поверх герценовских строчек бегут другие, бегут строчки телеграммы, поразившей её два года назад. Телеграмма была адресована не ей, а царю. Аня сидела тогда в тюрьме. Уже знала о страшной гибели брата. Целыми днями стояла, прислонившись к холодной стене камеры, и единственным желанием было поскорее умереть. Впереди предстояла пятилетняя одинокая ссылка в Восточной Сибири. В двадцать два года кончалась и её жизнь. Впереди ничего светлого. Тьма… Пришла мама на свидание к ней в тюрьму, протянула листок бумаги: «Вот, смотри, какую телеграмму Марк послал царю». Аня сначала и не поняла. «Какой Марк? Ах да, Елизаров… студент, товарищ Саши. Такой большой и застенчивый…» Танцевала с ним на студенческой вечеринке… Очень неловкий. В сутолоке обронил очки, и Ане пришлось вести его на место. Без очков он был совсем беспомощный. Какую телеграмму он мог послать царю сейчас, когда Саши уже нет в живых? Равнодушными глазами пробежала исписанный листок.
Марк Тимофеевич телеграфировал в комиссию прошений царского двора.
Ваше превосходительство!
Умоляю исходатайствовать перед его императорским величеством государем императором не высылать мою невесту Анну Ильиничну Ульянову в Сибирь, дозволить ей поселиться при мне. Пожалейте меня и её мать. Освободите её для нас. Не разрывайте невидимо связанных сердец.
Действительный студент Елизаров.
«Мамочка, зачем эта ложь? — разрыдалась тогда Аня. — Какая же я невеста Марку Тимофеевичу? Мне не нужны его жертвы. Ведь он никогда мне не говорил о своей любви». — «Не успел», — убеждала мать.
Марк Тимофеевич сам пришёл к Марии Александровне, пришёл после казни Саши, когда не только знакомые, но и родственники закрыли для семьи Ульяновых двери своих домов. Он поведал матери о своей любви, о которой не успел и не осмелился сказать Ане лично. Тогда, в тюрьме, до сознания Ани не доходило, что это настоящая любовь. Слишком велико было потрясение гибелью Саши.
Хлопоты матери и телеграмма Марка Тимофеевича имели свои результаты. Ссылка в Восточную Сибирь была заменена Анне Ильиничне пятилетней ссылкой в деревню. Марк Тимофеевич остался в Петербурге — заканчивать университет. Писал почти ежедневно хорошие дружеские письма. Два года ни о чём не спрашивал Анну Ильиничну. На лето приезжал в деревню, но больше занимался с меньшими — Митей и Маняшей, которые всем сердцем привязались к этому сильному, доброму человеку. А вот теперь спросил Аню. И она ответила: «Да, согласна». Отправила письмо, и вдруг одолели сомнения. Хорошо ли сделала? Имела ли на это право?.. Кого спросить? С кем посоветоваться, пока не поздно? С мамой? Но так не хочется её огорчать. С Володей?..
Аня собрала в горсть рассыпавшиеся по спине локоны, связала их лентой на затылке и побежала к зарослям орешника.
На дощатом столе разложены книги в бумажных жёлтых и серых обложках. Поверх них — камешки, чтобы озорной ветер не взъерошил страницы, не помял их. Подперев левой рукой голову и засунув пальцы в светлые кудри, Володя читает. Прищурил левый глаз. Поднял лицо, покачал отрицательно головой. «Нет, нет, маэстро Гегель, по-моему, вы здесь неправы. Интересно, что по этому поводу говорят Маркс и Энгельс».
Каждое утро, подтянутый и немножко торжественный, отправляется он с пачкой книг в лесной «кабинет», боясь опоздать даже на минутку. Он раскладывает на столе книги — это его учителя. Их много: Кант и Гегель, Дарвин, Чернышевский и Добролюбов и, конечно, Маркс и Энгельс. Не со всеми своими учителями и не во всём согласен Володя Ульянов, а когда не может решить сам, обращается снова к Марксу и Энгельсу, ищет у них ответа, не буквального, не лобового — ищет правильный путь к ответу. Два года после исключения из Казанского университета добивался Володя Ульянов права учиться. На каждое прошение получал отказ. А теперь готовится к сдаче экзаменов экстерном. Устроил себе университет в зарослях орешника. Студент в этой аудитории один, учителей много, и все они строги, требовательны.
Аня раздвинула кусты. Володя, упрямо закусив нижнюю губу, наносит карандашом еле заметные мелкие значки на полях книги. Быстро мелькает остро отточенный карандаш: то пригвоздит мысль восклицательным, то разворошит её вопросительным знаком, то, как точным скальпелем, вспорет остроумной репликой. Жаркий разговор ведёт девятнадцатилетний Володя Ульянов со своими учителями. Здесь, в этом лесном «кабинете», всегда оживлённо.
Володя откинулся на скамейке, прислонился к стволу рябины, постукивает победно карандашом по столу, довольно улыбается. И Аня понимает: преодолена ещё какая-то ступенька в его жадном стремлении познать явления жизни. Вытер ладонью вспотевший лоб, заметил кружевную косынку паутины, которую рядом с ним усердно выткал серый паучок. Один конец паутины прикреплён к столу, два других — к рябине. Володя поднял руку, хотел было стряхнуть и паука и блестящую на солнце серебряную паутину, но пожалел искусное творение труженика, осторожно подвинулся в сторону и тут же забыл о пауке, углубился в свою работу.
Аня заколебалась. Войти к нему в «кабинет» — значило бы ворваться в огромную аудиторию, прервать интересный, жгучий разговор, отвлечь на себя внимание. А вопрос у неё очень личный.
Володя занёс карандаш над книгой. Аня осторожно сдвинула ветви орешника и пошла к дому.
Навстречу по дорожке мчалась Оля.
— Анечка, куда же ты пропала? Скоро приедет Марк, мы все пойдём встречать его за околицу. И Володю надо позвать.
— Нет, нет, не мешай ему. Пусть занимается. Есть ещё время.
Оля, не скрывая восхищения, смотрела на сестру. Аня тоненькая и прямая и от этого кажется высокой. Локоны, подхваченные лентой, оттеняют бледное лицо и яркие карие глаза с золотыми точечками, как у мамы. А у Оли глаза круглые, в густых, дремучих ресницах.
Для Оли старшая сестра — идеал женской красоты и изящества. Оля старается во всём походить на Аню, но с огорчением отмечает, что не может сдержать стремительности в движениях, в походке. Аня даже книгу перелистывает каким-то неуловимо грациозным движением. Оля пробовала — не выходит. И стихи Аня пишет певучие, нежные. Оля пыталась и стихи сочинять, но они получались у неё озорные, насмешливые. Бросила.
И мечтать Оля не умеет. В ярких, буйных красках осени Оле чудятся языки пламени, которые вырываются из недр, охватывают поля и леса, и Оля даже слышит, как гудит огнём земля, отдавая собранные за лето солнечные лучи. А Аня осенью грустит. В метель Оле хочется кружиться вместе со снежинками, её всегда одолевает буйное веселье, а Аня зябко кутается в платок и об одной-единственной снежинке может написать целую поэму…
Оля вздыхает. Нет, никогда ей, видно, не стать такой величавой, прелестной и умной, как Аня.
И ещё у Ани есть жених. Марк. Самый замечательный человек на свете. Если бы у Оли был жених и она любила бы его так же, как любит Аня, она радовалась бы с утра до ночи, работала бы по двадцать часов в день, каждому рассказывала бы, какой у неё чудесный жених. А Аня грустит, и книга часто праздно лежит у неё на коленях. И письма от Марка прячет. До сих пор между братьями и сёстрами не было никаких тайн. Все письма читали сообща. Но конверты, на которых крупным, размашистым почерком написано: «Мадемуазель Анне Ильиничне Ульяновой», — неприкосновенны. Правда, все знают, что вести в них хорошие. После каждого письма улыбка долго не сходит с Аниных губ.
Марк приедет совсем скоро, сегодня, а лицо у Ани встревоженное, какая-то боль щемит её сердце. «Неужели, когда любишь, могут быть причины для страданий? — недоумевает Оля. — Неужели такой добрый, чудный Марк может вызывать какие-то грустные чувства?»
Оля шагает рядом с сестрой, поглядывает на неё. Почему Аня не поделится с ней своей тревогой? Правда, Оля почти на семь лет моложе сестры, ей только семнадцать, и в тюрьме ей не довелось сидеть, и даже в Петербурге ни разу не была. Мало видела в жизни. Но если бы Аня рассказала ей о своих терзаниях, Оля постаралась бы понять и, может быть, в чём-нибудь помогла.
Аня увидела вдали маму и ускорила шаг. «Надо оставить их вдвоём», — подумала Оля.
— Я побегу за Володей! — уже на ходу крикнула она.
Мария Александровна срезала цветы, готовила букет на стол к обеду в честь милого гостя.
— Мамочка! — Аня обвила руками шею матери, прижалась к ней. — Что я наделала? Почему я дала согласие? — с отчаянием прошептала она.
Мария Александровна не на шутку встревожилась. Долго и терпеливо выхаживала она свою старшую дочь после страшных дней в тюрьме. Потрясённая казнью Саши, Аня тяжело болела и угасала на глазах матери. Но молодость взяла своё. Дочь поправилась, снова стала весела и, как матери казалось, счастлива в своей любви. И вот снова взрыв отчаяния.
— Анечка, голубушка, что с тобой, скажи мне! — Мария Александровна повела дочь к скамейке села рядом, обняла за плечи.
— Мамочка, я не должна была давать согласия Марку Тимофеевичу.
Мария Александровна взяла в ладони голову дочери, заглянула ей в глаза:
— Любишь?
— Да, — чуть слышно ответила Аня.
— Значит, поступила правильно.
— Но ведь Марк должен будет со мной отбывать добровольную ссылку в деревне, а он всю жизнь мечтал о Петербурге. Он всегда говорил мне и… — Аня осеклась. Вот уже два года, как в присутствии матери дети не произносили имени погибшего брата, боясь разбередить её рану. — И другим говорил, — поправилась Аня, — что никогда больше не вернётся в деревню, будет жить в Петербурге. Я эгоистка, думаю только о своём счастье.
— …и о счастье Марка, — поправила мать. — Скажи, пожалуйста, а если бы ты была на его месте, разве ты отказалась бы от него только потому, что он вынужден жить в деревне, а не в Петербурге?
— Конечно, нет! — горячо воскликнула Аня. — Я пошла бы за ним всюду, даже на каторгу.
— Так зачем же так дурно думать о Марке Тимофеевиче? Он идёт за тобой в ссылку, потому что любит. Эта любовь прошла тяжёлые испытания и не погасла. — Мария Александровна сидела, прищурив глаза, словно что-то видела там, в далёком прошлом… — Да, любовь — самая большая драгоценность в жизни. Поступай так, как подсказывает тебе твоё сердце. Вы оба молоды и не всю жизнь будете жить в деревне, не всю жизнь… — вздохнула Мария Александровна.
Аня прижалась плечом к матери.
Сомнения улетучивались, на сердце снова становилось ясно и радостно. Конечно, не всю жизнь они с Марком будут жить здесь, в Алакаевке. Кончится срок ссылки, и оба поедут в Петербург, оба отдадут свои силы, знания, всю молодую энергию делу революции, которому оба поклялись служить.
Аня поцеловала седую мудрую голову матери.
…Лес, прохладный, душистый, расступился, и открылось ржаное, вызолоченное солнцем поле. За ним виднелись крыши деревни и тёмная зелень парка.
Марк Тимофеевич соскочил с телеги, перекинул пиджак через плечо и, чтобы сократить путь, пошёл напрямик по узенькой кочковатой меже. Ветер гнал навстречу тёплое дыхание ржаного хлеба. Марк Тимофеевич сорвал колосок, растёр на ладони, сдул полову и ссыпал сизо-жёлтые зёрна в рот, со вкусом разжевал их. «Косить пора», — подумал. И знакомое с детства беспокойство пахаря, дождавшегося урожая, проснулось в нём. Окинул взглядом поле. Урожай для здешних мест был неплохой, лишь кое-где качались на ветру прямые и надменные пустые колоски. «Сам-шест», — прикинул он. Снял очки и сразу стал похож на могучего русского богатыря. Из-под русых усов сверкнули крупные белые зубы, густые волосы и бороду разметало ветром, и только светлая, не тронутая загаром кожа выдавала городского жителя.
Тёплое дыхание земли, прохладная синева неба и радость предстоящей встречи захлестнули сердце, и сама собой полилась песня.
Вблизи закуковала кукушка. За ней вторая, третья.
Марк Тимофеевич остановился.
Откуда в поле взялись кукушки? Осмотрелся вокруг. Из ржи, как из морской пучины, вынырнули Володя, Оля, Митя и Маняша. Окружили, повисли на шее, теребят, смеются.
Марк Тимофеевич, смущённый тем, что оказались свидетели его душевного порыва, отвечал невпопад и все смотрел поверх, искал глазами. Увидел… Аня оставила руку матери и, подхватив подол длинного платья, бежала навстречу, размахивая васильками. Марк Тимофеевич поспешно надел пиджак, заправил за уши очки.
— Марк Тимофеевич, миленький, ну скажите, надолго вы к нам приехали? — допытывалась Маняша.
Он шагнул вперёд и, не отрывая глаз, смотрел на Аню.
— Я приехал к вам навсегда! Правда ведь: навсегда? — спросил он Анну Ильиничну, протягивая ей обе руки.
ПРЕКРАСНЫЕ КНИГИ
Тарахтит старая швейная машинка, тонкие пальцы умело направляют под стальную лапку куски материи. Больше четверти века служит машинка Марии Александровне. Платьица и рубашки снашивались, а швы никогда не расползались. Отличная машинка, хоть и стучит очень громко.
За стуком машинки Мария Александровна не слышала, как в комнату вошёл Митя, остановился за спиной матери, в смущении накручивает на палец кудрявый вихор, не решается прервать её работу. Ждёт, пока она сама его заметит.
— Ты что, Митенька? — оглянулась Мария Александровна и, увидев огорчённое лицо сына, забеспокоилась: — Случилось что-нибудь в гимназии?
— Нет, мамочка, я ничего плохого не сделал. — Митя смотрит прямо в глаза матери. — Но тебя вызывает директор гимназии. Сказал, чтобы ты пришла к нему тотчас.
Мать пригладила рукой кудри сына.
— Не беспокойся. Я тебе верю. Иди обедай, а я пойду к директору.
— Наверно, ему наш классный воспитатель господин Кочкин что-нибудь наговорил. Он вчера был у меня, перерыл весь стол, просмотрел все книги, — сказал Митя.
— Не будем гадать. Пойду и выясню…
Директор Соколов, видно, ждал.
— Госпожа Ульянова, — начал он торжественно, — мы, то есть дирекция Самарской мужской гимназии, учителя и классные наставники, прилагаем всё наше усердие, чтобы оградить вас от новых бедствий.
Мария Александровна внимательно слушала.
— Нам известно, что ваш старший сын Александр…
— Речь, по-видимому, идёт о моём младшем сыне? — перебила его Мария Александровна и чуть приметным движением оттянула воротник от горла.
— Да, да, речь идёт о Дмитрии Ульянове, гимназисте пятого класса. Но я хочу сказать, что ваш второй сын, Владимир, тоже не отличался примерным поведением. Нам известно о его участии в студенческих беспорядках в Казани. Ваша старшая дочь, Анна, находится под гласным полицейским наблюдением. Неужели вам мало страданий от старших детей, чтобы пускать и третьего вашего сына по весьма опасному пути?..
— Я вас не понимаю, господин директор, — снова прервала его Мария Александровна. — Митя плохо ведёт себя? Ленится?
— Это было бы поправимо. Дело гораздо хуже, — продолжал директор. — Мы надеемся видеть в вашем младшем сыне образованного молодого человека, способного верой и правдой служить царю и нашему любезному отечеству. Но я с прискорбием должен отметить, что воспитание, которое он получает в гимназии, непоправимо разрушается дома.
— Но что же случилось, господин директор?
Соколов выдвинул ящик стола, вынул большую книгу в сером переплёте, тиснённом золотыми колосьями, и Мария Александровна узнала том сочинений Помяловского.
— Эта книга из нашей домашней библиотеки, — всё ещё недоумевая, заметила мать.
— Вот именно, — словно обрадовался директор, — эту книгу изъял из стола вашего сына наш классный наставник господин Кочкин. Весьма опытный педагог, должен заметить, пекущийся о нравственном облике своих воспитанников.
Мария Александровна поняла теперь истинную цель регулярных посещений их дома Кочкиным: за её пятнадцатилетним сыном тоже велась полицейская слежка.
— Известно ли вам, сударыня, что сочинения господина Помяловского признаны весьма вредными для юного возраста? Это запре-щённая цензурой книга! — веско сказал директор и протянул её матери.
Мария Александровна откинула переплёт, прищурила глаза и прочитала вслух:
— «Знаете ли вы, что значит честно мыслить…»
— Что, что? — переспросил директор.
Мать закрыла книгу.
— Я прочитала первые слова на первой странице.
Директор снял пенсне и пронзительно посмотрел на Марию Александровну. Её лицо было спокойно и непроницаемо.
— Я настоятельно прошу вас, сударыня, просмотреть вашу домашнюю библиотеку, изъять из неё вредные книги, чтобы оградить ваших детей от пагубного влияния запрещённой литературы. Вы образованная женщина и мать, и вы должны позаботиться о том, чтобы ваши дети читали только полезные книги.
— Хорошо, господин директор, я просмотрю нашу библиотеку и позабочусь о том, чтобы мои дети читали действительно прекрасные книги, — сказала Мария Александровна.
Директор проводил мать недобрым взглядом. Водрузив на нос пенсне и обмакнув перо в чернильницу, стал писать донесение попечителю Казанского учебного округа:
…Инспектор усмотрел на столе том сочинений Помяловского, признанных вредными для юношеского возраста и запрещённых. Это сочинение было взято из домашней библиотеки…
По поводу этого случая я беседовал с матерью о вреде книг отрицательного направления для юношеского возраста и просил её закрыть своему сыну доступ в домашнюю библиотеку…
Дома Мария Александровна ещё раз просмотрела книгу Помяловского.
— «Знаете ли вы, что значит честно мыслить…» — прошептала она и подошла к книжному шкафу. На полках аккуратными рядами стояли книги, и из них выглядывали синие, красные, белые закладки. Вынула наугад книгу Чернышевского, по закладке раскрыла её. Наверно, отчеркнул Володя. Он очень любит эту книгу — «Что делать?». Любит образ Рахметова.
Велика масса честных и добрых людей, таких людей (как Рахметов. — Примеч. авт.) мало; но они в ней — теин в чаю, букет в благородном вине; от них её сила и аромат; это цвет лучших людей, это двигатели двигателей, это соль соли земли.
Мария Александровна поставила книгу на место. Вот книга с закладкой Саши. Это он делал такие красные закладки. Рылеев. «Иван Сусанин». Саша подчеркнул:
Саше было восемь лет, когда он выучил наизусть это стихотворение и, обычно стеснительный в выражении своих чувств, с особым жаром и глубоким проникновением в высокий смысл слов декламировал его в кругу семьи.
Мария Александровна перебирала книги Писарева, Добролюбова, Пушкина, Некрасова… Во всех закладки её детей.
Поставила книги на место, прикрыла дверцу шкафа.
Ни одна хорошая книга не миновала семьи Ульяновых. Всё самое ценное, что создала русская и мировая литература, было прочитано в этой семье, и прежде всего матерью. Книги и рояль всегда путешествовали с ними в их долголетней скитальческой жизни. В доме не было ни одной картины. Произведения талантливых мастеров были не по средствам, а к плохоньким, дешёвым произведениям не лежала душа. Предпочитали голые чистые стены и книжные шкафы, полные книг.
Мария Александровна оглянулась. В дверях стоял Митя и вопросительно смотрел на неё.
— Мамочка, зачем вызывал тебя директор?
Мать привлекла к себе сына:
— Он говорил со мной о вреде чтения плохих книг, и я обещала ему позаботиться о том, чтобы мои дети читали только прекрасные книги. Здесь, — показала она на книжный шкаф, — все книги прекрасны.
И снова застучала машинка, из-под стальной лапки пополз шов, и разрозненные куски материи превращались в рукава, воротники, соединялись в ночную рубашку.
ДЕЛО ВСЕГО НАРОДА
Судебное заседание закончилось в 3 часа 10 минут.
Владимир Ильич со стеснённым сердцем проводил глазами своего подзащитного Муренкова. Вобрав голову в плечи, крестьянин понуро шёл к выходу. Длинный, грязный армяк болтался на худом теле, как на кладбищенском кресте, на спине выпирали острые лопатки. Два года просидел он в тюрьме в ожидании судебного разбирательства, обвинялся в мелких кражах.
С великим тщанием молодой адвокат доказывал непричастность Муренкова к кражам, очищая честь человека от налипших на него обвинений. Муренков получил свободу. Но что это была за свобода? В тюрьме ему не давали умереть с голоду. На воле его ждали мучительные скитания в поисках работы, ждала угроза голодной смерти.
Муренков остановился у открытой настежь двери, боязливо оглянулся и быстро шмыгнул на улицу, словно опасаясь, что его снова могут задержать.
Владимир Ильич тяжело вздохнул.
Перед этим, на утреннем заседании, рассматривалось дело группы крестьян — Уждина, Зайцева и Красильникова. Они обвинялись в том, что проникли с целью грабежа в хлебный амбар богатея Коньякова.
Но красть они были не мастера и попались, едва только запустили руки в мешки с зерном, от одного запаха которого кружилась голова и немилосердно сосало под ложечкой. Уждин успел сунуть в рот горсть пахучих зёрен, но и их заставили выплюнуть.
«Голод одолел, — говорил он на суде, — мочи моей больше не было глядеть на голодных ребятишек». «Голодовал больно, вот и пошёл на воровство», — сказал Красильников в своё оправдание. «Работы нет, хлебушка давно не видел», — объяснил свой поступок Зайцев.
В глазах присяжных заседателей и судей трое голодных крестьян были шайкой грабителей; для помощника присяжного поверенного Ульянова это были впавшие в нищенство крестьяне, потянувшиеся голодными руками к зерну, которое они сами взрастили, собрали и которое ссыпал в свой амбар кулак Коньяков.
Если бы можно было здесь, на суде, всё это высказать! Но должность адвоката требовала строго в рамках закона разобрать виновность подсудимых и найти смягчающие их вину обстоятельства.
Горячая речь помощника адвоката Ульянова была встречена судом хмурым молчанием. Присяжные заседатели стали на защиту своего собрата Коньякова. Удалившись на совещание, они единогласно решили, что крестьяне Уждин, Зайцев и Красильников виновны — «виновны в попытке присвоить чужое добро». Барышник Коньяков в плисовых шароварах и синем кафтане с видом обиженного дитяти поглаживал бороду. «Господь видит, что виновны», — всхлипывал он.
Но убедительность речи молодого адвоката была столь велика, что крестьянам вынесли самый «мягкий» приговор, на который только был способен царский суд.
При выходе из залы Владимира Ильича нагнал присяжный поверенный Хардин.
— Поздравляю, — потряс Андрей Николаевич руку своему помощнику. — Великолепная речь. Железная логика. Суд даже с требованием прокурора не посчитался, дал минимус…
— «Минимус»! — с иронией повторил Владимир Ильич. — Людей, которые погибают от голода, объявляют ворами, а настоящего вора — кулака Коньякова считают потерпевшим. Нищих лишают прав и состояния. Как вам нравится — голого, нищего человека лишить состояния! А?
Хардин положил широкую ладонь на плечо своего помощника.
— Не так горячо, побольше холодного рассудка, — говорил он по-отечески. — Вы своими молниеносными репликами, неопровержимыми доводами припёрли суд к стенке, сделали, как мы, шахматисты, говорим, шах и мат. Теперь я могу спокойно умирать — Самара будет иметь талантливого адвоката.
Владимир Ильич рассеянно слушал похвалы шефа, он думал о своём и только произносил: «Гм… гм… да… да…»
У выхода из здания суда распрощались. Владимир Ильич сощурился от яркого апрельского солнца. По утрам ещё морозило, но на пригорках солнце растопило снег, обнажилась бурая земля, сугробы почернели и осели, на южной стороне с крыш свешивались бахромой сосульки, звенела капель.
У здания суда Владимира Ильича ждали Мария Александровна, Митя и Маняша. Митя последний год носил гимназическую шинель. Маняша в свои четырнадцать лет сочетала в себе жизнерадостность подростка с девической застенчивостью и раздумьем взрослого человека.
Митя первый заметил брата, шагнул к нему и, пытливо глядя в глаза, спросил, удалось ли выиграть дело.
— Почти… — устало ответил Владимир Ильич.
Маняша хотела знать все подробности. Радостно охнула, когда узнала, что крестьянин, который обвинялся в мелких кражах, освобождён.
— Ну, а бедняков, которые хлеб у этого самого Водкина, что ли, хотели отобрать, оправдали? — допытывалась она.
— Не Водкина, а Коньякова, — поправил Владимир Ильич сестру и нахмурился. — Нет, их осудили на три года арестантских рот.
— Значит, каторга? — уточнила Маняша. Голос у неё дрожал.
— Да, каторжные работы, — ответил Владимир Ильич, глядя прямо в широко открытые, требовательные глаза сестры.
Мария Александровна понимала состояние сына и не задавала вопросов.
— Волга тронулась, — сказала она. — Пойдём посмотрим ледоход.
— А где Аня? — спросил Владимир Ильич.
— Анечка пошла по домам выявлять больных холерой, — вздохнула мать. Она очень опасалась за хрупкое здоровье старшей дочери.
Все трое выждали, пока по дороге пройдёт подвода. Лошадь с трудом тащила по оголившейся мостовой гружённые верхом сани. Из-под рогожи торчали голые ноги, худые, жёлтые и неестественно прямые.
— Люди под рогожей! — воскликнула Маняша.
— Мёртвые! — ахнул Митя.
Владимир Ильич снял шапку, Митя сдёрнул с головы фуражку. Горькая складка залегла у губ Марии Александровны. Прижав к себе Маняшу, она скорбными глазами провожала сани со страшной поклажей.
Это были жертвы голода. Летом 1891 года Самарскую губернию, как и всё Поволжье, охватила засуха. К весне 1892 года голод принял ужасающие размеры. За ним потянулись его страшные спутники — тиф, цинга, приползла холера. Обезумевшие от голода крестьяне подались в город в надежде найти работу, пропитание. Но работы не было. Голод и болезни косили людей. Смерть настигала их на трактах, на вокзалах, на постоялых дворах.
— Около миллиона людей находятся сейчас под угрозой голодной смерти. Около миллиона в одной Самарской губернии. — Владимир Ильич стиснул зубы, вытер платком взмокший лоб.
Маняша ухватила под руку старшего брата, крепко прижалась к нему. Митя, забыв надеть фуражку, шагал рядом…
Вышли на высокий берег реки.
Разбуженная солнцем Волга взломала на себе ледяной саван. По необъятному простору неслись ледяные поля с отрезками бурых дорог, наползали друг на друга, дыбились, громоздились, кружились на месте и рушились в воду. Над Волгой стоял грохот и скрежет ломающихся льдин.
Недалеко от берега на льдине с пробитыми лунками плыл шалаш, возле которого на привязи металась собака. Она то садилась на задние лапы и, подняв морду, видно, выла, то снова пыталась сорваться с верёвки. Из лунок фонтанами выбивалась вода.
Как рассыпанные спички, неслись и кувыркались брёвна, плыли вывороченные с корнем деревья, куски раздавленной лодки. От стремительного движения льдин и грохота кружилась голова. Казалось, что внизу неподвижная река, а ты летишь над ней с захватывающей дух быстротой, и только ветер свистит в ушах.
Вода на глазах заливала низины; на пригорке, постепенно скрывающемся под водой, столпились берёзы, и кружевная тень от них плясала на воде.
Владимир Ильич не отрывая глаз смотрел на безбрежные могучие и живые воды реки, которые праздно несли в себе огромную энергию, способную напоить все засушливые земли России, превратить их в сочные пастбища и плодородные поля, накормить досыта людей; воды, играючи переворачивающие тысячепудовые льдины, могли крутить лопасти огромных турбин, дать человеку тепло и свет. И эта силища пропадала зря. На берегах великого водного бассейна посевы превращались в пепел, люди из года в год умирали мучительной голодной смертью.
— Обуздать бы эту стихию, взять бы в упряжку эти миллионы лошадиных сил… — сказал как бы про себя Владимир Ильич.
Видно, и Марию Александровну одолевали те же мысли. Горе матери, потерявшей год назад дочь, отодвинулось перед народным горем, заслонило личное.
И перед глазами Маняши всё ещё плыли по воздуху худые ноги со скрюченными пальцами.
— Отдали бы богатеи всё зерно голодающим. Неужели у них сердца нет? — спросила Маняша.
— Как бы не так! Отдали! — возразил Митя.
— Миллионеры Шихабалов, Субботин, Арханов «помогают голодающим»: продают по бешеной цене гнилую муку. Это борьба не с голодом, а с голодающими, — заметил Владимир Ильич, вспомнив сегодняшнее заседание суда. — Надо бороться с причинами, которые порождают голод… Надо решать дело всего народа!
Мать посмотрела внимательно на сына. «Дело всего народа», — повторила она мысленно. Как же это она до сих пор могла думать, что Володя нашёл себя — нашёл в деле присяжного поверенного. Она гордилась тем, что её сын защищает бедных на суде, радовалась, когда ему удавалось выигрывать дело. Но у него совсем другие мысли, другие планы. Он стремится выиграть дело всего народа. Вот почему он сидит и пишет по ночам, вот о чём спорит с товарищами, запершись у себя в комнате.
Над Волгой плыли подсвеченные закатом облака. Река погружалась во мрак, над её чёрной бездной стремительно неслись льдины, зловеще грохотали в темноте.
Вернувшись домой, Владимир Ильич закрылся в своей комнате и работал до самого утра.
Зимним вечером вся семья собралась в столовой, и Владимир Ильич никуда не пошёл. Он спешил закончить перевод «Манифеста Коммунистической партии» Карла Маркса.
Митя пришёл в столовую готовить уроки, заглянул через плечо брата в книгу.
«Пролетариер аллер лендер, ферейнигт эйх», — прочитал он и вслух перевёл: — Пролетарии всех стран, объединяйтесь!
Владимир Ильич повернул голову к брату:
— Нет, не «объединяйтесь», а «соединяйтесь».
— Смысл один и тот же, — возразил Митя.
— «Объединить» — это собрать вместе, а «соединить» — значит слить воедино. Ведь так, мамочка? Если бы Маркс хотел сказать «объединяйтесь», он употребил бы немецкий глагол «фербинден».
— Совершенно верно, — подтвердила мать.
Она была первой учительницей немецкого языка всех своих детей и научила их любви к точному, живому слову в переводе, и до сих пор Володя и Аня в затруднительных случаях обращались к ней.
Аня сидела над переводом пьесы Гауптмана «Ткачи». «Очень нужная книга для русских рабочих, она познакомит их с положением рабочего класса на Западе», — одобрил Владимир Ильич работу сестры.
Тут же, в столовой, расположились Марк Тимофеевич с газетами и Маняша с уроками.
Мария Александровна любила эти вечера, когда дети собирались вместе за столом, эту атмосферу напряжённой работы мысли. Сама она сидела с журналом «Исторические записки», за которым внимательно следила, и часто рассказывала о прочитанном детям или советовала прочитать самим, что заслуживало их внимания.
Подходил час ужина. Мария Александровна отложила журнал в сторону и пошла на кухню.
Тишина в столовой прервалась разговором, сначала тихим, затем всё более оживлённым. Мать прислушалась.
Володя объяснял Мите:
— Революцию призван совершить рабочий класс. Питерские рабочие объединяются в марксистские кружки, готовятся к бою. Они думают и болеют за судьбу самарских и других крестьян по-настоящему, не так, как шихабаловы, и не так, как народники михайловские и иже с ними. Там, в Питере, зреет революция.
Аня что-то тихо говорила.
— Да, да, только в Петербург! — воскликнул Владимир Ильич. — Я чувствую себя здесь, в Самаре, как в палате номер шесть.
— «Как в палате номер шесть», — прошептала Мария Александровна, присела на табуретку, скомкала в руках полотенце. — Володя стремится в Петербург.
Петербург! Пять лет назад в Петербурге был казнён Саша… Где его могила? Весь Петербург был для матери огромной мрачной могилой её сына… В Петербурге сидела в тюрьме Аня и чуть не погибла там… Год назад в Петербурге умерла Оля…
Никогда матери не забыть дождливого майского утра, когда умирала в горячечном бреду Оля. Брюшной тиф осложнился рожистым воспалением. Володя не сообщил матери о болезни сестры. Взял всё бремя на себя. Он отвёз её в больницу и просиживал там дни и ночи, отлучаясь только затем, чтобы сдать очередной экзамен в университете. Как мог он выдержать такое? В дни суда и казни Саши он сдавал экзамены за гимназию. В дни, когда умирала Оля, он нашёл в себе силы, чтобы сдать экзамены за университет. Оля лежала без сознания. Чёрные яркие глаза подёрнулись перламутровой поволокой. Володя понимал — уходит из жизни талантливая, весёлая сестрёнка Оля.
Послал телеграмму матери.
Телеграмма пришла вслед за Олиным письмом, где она писала матери, чтобы не беспокоилась о здоровье Володи, а о себе сообщала, что 8 мая приедет домой на каникулы.
Оля умерла 8 мая 1891 года, в день четвёртой годовщины казни Александра.
В серый питерский день вёл Володя за гробом сестры мать. Она сразу стала старенькой, у неё дрожала голова.
И с ещё большей силой, чем после гибели Саши, уцепилась она всем своим материнским сердцем — любящим и эгоистическим — за своих детей, не хотела никуда отпускать от себя: её дети гибли, когда отрывались от неё, уезжали в этот страшный Петербург. Она не могла тогда допустить, чтобы Володя остался в огромном мрачном городе, который поглотит и его, Володю.
Володя понимал отчаяние матери и сказал тогда о своём решении ехать работать в Самару: его приглашал туда в качестве своего помощника присяжный поверенный Хардин. В Самаре продолжала отбывать свою ссылку Аня, там же учились в гимназии Митя и Маняша.
Мать утешала себя мыслью, что Володя нашёл своё призвание в адвокатской практике. В прошлом году на берегу Волги она поняла, что ошиблась. Сын решил посвятить себя делу всего народа… И ещё одно поняла она теперь: это дело решать можно только в Петербурге, в рабочем центре. Вот почему стремится туда Володя, вот почему ему так душно в Самаре.
Ради неё, матери, поехал он в Самару и сидит здесь. Имеет ли она право задерживать сына при себе? Её горе, горе матери, потерявшей двух детей, останется с ней на всю жизнь, но она не должна перекладывать своё бремя на детей, не должна мешать им идти избранной дорогой…
Самовар сердито плескался и фыркал, на полу растекалась дымящаяся лужа.
Мария Александровна сняла с самовара трубу и, стараясь побороть волнение, казаться спокойной, понесла посуду в столовую.
Дети принялись убирать со стола бумаги.
Мария Александровна разливала чай и, против обыкновения, не подавала стаканы, а раздвигала их: она боялась, что дрожащие руки выдадут её.
— Подумайте, как быстро бежит время! — сказала она с улыбкой. — Через несколько месяцев Митя сдаст экзамены. Надо подумать об университете. Лучше всего, я думаю, ему учиться в Петербурге.
Владимир Ильич зорко посмотрел на мать. Задумав ехать в Петербург, он не хотел, чтобы мать ехала вместе с ним. В Петербурге он ринется в революционную работу, будет вынужден скрываться от полиции, вести конспиративную жизнь революционера. Зачем подвергать мать новым волнениям? Об этом он не раз говорил с Аней, и они решили, что, когда кончится срок её ссылки, она с мужем, мамой, Митей и Маняшей поедет в Москву, а Владимир Ильич — в Петербург. Знал об этих планах и Митя.
— О нет! Я мечтаю о Московском университете, об университете, где учился Ломоносов, — твёрдо сказал он.
— Мы с Марком тоже хотели бы жить в Москве, — подтвердила Аня. — Марку там легче устроиться на работу, чем в столице.
— А Володе адвокатскую практику легче найти в Петербурге, чем в Москве, — подхватила мать.
Владимир Ильич сидел, помешивая ложечкой чай. Щёки его горели. Он давно ждал этого разговора и опасался его.
— Да, да, — убеждённо сказала Мария Александровна, — пора нам распрощаться с Самарой, и московский климат для меня подойдёт больше, чем самарский, и врачи там лучше. Как всё хорошо складывается! — обвела она глазами детей.
ЖЁЛТЫЙ ЧЕМОДАН
— Что-то давно от Володи нет писем. Последнее было от пятого декабря, а сегодня уже двадцать третье. Завтра сочельник, через неделю наступит тысяча восемьсот девяносто шестой год. — Мария Александровна сняла очки, отложила книгу и вопросительно посмотрела на дочь.
Анна Ильинична давно уже заметила, что мать держит раскрытую книгу перед глазами, но не читает, не переворачивает страницы, о чём-то думает.
— Напрасно ты, мамочка, беспокоишься. Мы сами спутали ему все карты: написали, что ты собираешься к тёте Ане, а ты ехать раздумала. Уверена, что в Казани тебя ждёт письмо.
Неуютно было на сердце матери последние дни. И к сестре в Казань отказалась ехать из-за какого-то чувства беспокойства, и здесь, в Москве, себе места не находила. Такое состояние у неё было весной, когда Володя заболел воспалением лёгких. Беда никогда не застигала мать врасплох, приближение её она чувствовала издали. Однажды только обманулась. Саша в Петербурге заболел тифом, а сердце ей ничего не подсказало. Может быть, потому, что болезнь он перенёс легко и заминки в письмах не было. Увидев, что Аня побледнела, подосадовала на себя — нельзя было выказывать своей тревоги. Теперь Аня будет переживать вдвойне: и за Володю, и за неё, мать. В шестьдесят лет матери надо уметь уединяться и со своим горем и недугами и прикрыть панцирем сердечные раны. Иначе жизнь молодых станет невыносимой. А у них всё впереди — и радости и кручины.
— Да, Анечка, ты права. Конечно, Володя послал мне письмо в Казань, а за это время переменил квартиру и письма моего не получил. Как это я раньше не додумалась. Иди-ка поставь самовар, а я почитаю, уж больно книжка интересная попалась. — Мария Александровна протёрла очки, раскрыла книжку.
Аня пошла хлопотать по хозяйству. Сама она волновалась за судьбу брата не меньше матери. Владимир Ильич в последнем письме к матери писал, что «комнатой не очень доволен — во-первых, из-за придирчивости хозяйки; во-вторых, оказалось, что соседняя комната отделяется тоненькой перегородкой, так что всё слышно и приходится иногда убегать от балалайки, которой над ухом забавляется сосед… Останусь ли я тут ещё на месяц или нет, — пока не знаю…»
Мария Александровна всё поняла буквально. Сетовала на Володину хозяйку — чем может досаждать ей такой деликатный, во всём аккуратный и скромный квартирант, негодовала на соседа-балалаечника.
Для Ани же это было условное сообщение. И «придирчивая хозяйка» и «сосед-балалаечник» означали, что полицейская слежка за Владимиром идёт отчаянная и долго ли он продержится на свободе, неизвестно. И вот после этого письма уже больше двух недель никаких известий.
Третий год живёт Владимир Ильич в Петербурге. О том, какую огромную работу он ведёт там по собиранию, просвещению и организации революционных сил, знает только сестра Аня. Мария Александровна догадывается. Не зовёт же он мать к себе в гости. Иногда сам появляется в Москве на короткое время и здесь постоянно чем-то занят. Летом пять месяцев был за границей. Приехал оттуда полный впечатлений, деятельный и чем-то озабоченный. Славно они провели тогда несколько вечеров на даче под Москвой. Всем Володя привёз подарки: Мите — астрономический атлас, Маняше — французские книги, а ей, матери, — кружевную наколку на волосы.
Чего она, право, нагоняет на себя страх? Надо пойти выпить ландышевых капель.
Звонок в дверь.
Кто это мог быть? Митя — в университете, Маняша — в гимназии, Марк Тимофеевич — на работе. Рано им ещё. Наверно, почтальон.
— Аня, Анечка, скорей открой дверь!
Анна Ильинична побежала вниз по лестнице. Отодвинула задвижку, распахнула дверь и радостно ахнула:
— Надежда Константиновна! Какими судьбами? Почему не предупредили — мы бы вас встретили.
Надя приложила палец к губам.
— Владимир Ильич арестован, — только и успела шепнуть она.
Мария Александровна стоит на площадке лестницы, смотрит вниз.
— Кто это там, Аня?
— Надежда Константиновна к нам в гости припожаловала, — и, целуя Надю в щёку, шепчет: — Не говорите маме.
— Какая неожиданная радость! — откликается Мария Александровна. — Добро пожаловать! — И, видя, что в руках Нади только ридикюль, спрашивает: — Что это вы так налегке, где же ваш чемодан?
— Приехала на один день. Сегодня же вечером обратно в Петербург. И, кстати, куплю здесь чемодан жёлтый, с красивыми застёжками, — это она говорит уже для Ани.
— Неужто в Петербурге чемоданов нет? — недоверчиво смотрит на Надю Мария Александровна. — Раздевайтесь. Рассказывайте. Как здоровье вашей матушки? Как там Володя? Давно ли его видели?
— Последний раз видела восьмого декабря, — отвечает Надя.
И это правда. Руководители петербургских социал-демократов собрались вечером восьмого декабря, чтобы смонтировать и окончательно отредактировать первый номер первой рабочей газеты в России. В ту же ночь Владимир Ильич и многие товарищи из руководства социал-демократической организации в Петербурге были арестованы.
— Как Володя выглядит? Он не болен? — допытывалась мать.
— Нет, нет. Выглядел отлично и совершенно здоров. — Наде трудно было под пытливым взглядом Марии Александровны. — Где у вас можно помыть руки? Проводите меня, пожалуйста, — попросила она Анну Ильиничну.
На кухне Надя моет руки и шепчет Ане, стоящей рядом с полотенцем в руках:
— Владимир Ильич сидит в «предварилке» на Шпалерной… Получила от него шифрованное письмо. Позавчера был первый допрос. Следователь потребовал предъявить чемодан, с которым он вернулся из-за границы. Он дал показания, что чемодан оставил в Москве у матери. Жёлтый чемодан с какими-то замысловатыми застёжками… Его надо немедленно купить. Полиция может к вам явиться с минуты на минуту. Если чемодан не будет предъявлен, Владимир Ильич будет считаться арестованным. Всё дело, пишет он, в этом чемодане… Надо срочно ехать в магазин.
— Нет-нет, — шепчет Аня. — Выпейте чаю. И маму подготовим. Она должна узнать это от нас, а не от полиции.
Мария Александровна ждала их за столом.
— Что же вы, Надежда Константиновна, на один день приехали? Я думала, вы у нас погостите.
— Я приехала по делам. По поручению Владимира Ильича, — отвечает Надя. — Я должна купить для него жёлтый чемодан, с которым он приехал из-за границы. На всякий случай. Он считает, что им может заинтересоваться полиция, а чемодан он кому-то отдал.
Мария Александровна горько усмехнулась:
— Он его не отдал, а разрезал на куски и сжёг в печке. В этом чемодане было двойное дно, в котором он привёз нелегальную литературу. Прости, Анечка, но я нечаянно услышала твой разговор с Володей на даче.
Этот чемодан волновал Владимира Ильича с момента переезда границы. Таможенный чиновник вынул все вещи из чемодана, перевернул его вверх дном и щёлкнул по нему пальцем.
«Ну, думаю, влетел», — рассказывал сестре Владимир Ильич.
Таможенник не спеша аккуратно уложил все вещи в том же порядке и сказал: «Вы свободны». Владимир Ильич решил, что полиция предпочла проследить его связи и «взять» не одного его.
…Аня наливала чай. От взора матери не укрылось, что носик чайника мелко-мелко бьётся о край чашки и что их гостья уж очень сосредоточенно рассматривает узор на скатерти.
— Володя арестован, — не столько вопросительно, сколько утвердительно прозвучал голос матери, заставляя Надю поднять глаза.
Аня выскочила из-за стола. Она не могла сдержать слёзы.
Тревожное томление матери обернулось бедой. А в беде она всегда сильна, сильнее всех её близких.
— Он не арестован, он временно задержан, — выдавливает наконец из себя Надя. — Всё дело в этом злосчастном чемодане. Мы его купим, вы его предъявите полиции, и всё обойдётся.
— Всё обойдётся, — машинально повторяет мать, «Всё обойдётся», — говорила она, когда внезапно занемог Илья Николаевич. «Всё обойдётся», — твердила она детям, когда получила сообщение об аресте Саши… «Всё обойдётся», — когда заболела Оля.
Мария Александровна вынула из-под пояса часы Ильи Николаевича, глянула на них, щёлкнула крышкой, засунула обратно.
Наде показалось, что это щёлкнуло сердце матери, закрылось на замок.
— Аня, вам надо спешить. Чай вы допьёте после. Немедленно идите в магазин и без чемодана не возвращайтесь. Пойдите на Кузнецкий мост, там найдёте что нужно. А я поеду в банк за деньгами. Надо действовать… Нанять адвоката… Попытаться взять Володю на поруки под залог… Всё обойдётся, всё обойдётся…
«ВЕСЬМА ВАЖНО»
Солнце над Петербургом поднималось ясное, яркое, и с первыми лучами его возникли и поползли по улицам тени. На Шпалерной мрачная тень тюрьмы покрыла и толпу женщин у кованых ворот, и девчонок, чертивших мелком на панели «классы», и мальчишек, пускавших в канавке свои первые кораблики из спичечных коробок.
Женщины, молодые и старые, в шляпках и платочках, все с узелками в руках, выстраивались в очередь. Скоро откроется окошко в толстой тюремной стене, и чиновник начнёт принимать передачи для заключённых.
Мария Александровна примкнула к очереди. Впереди неё стояли три девушки. Одна — пышноволосая, с красивым русским лицом, другая — тоненькая, бледная, настоящая петербургская курсистка, и третья — брюнетка с искромётными глазами, — все разные, но что-то очень хорошее, чистое объединяло их, и лица у всех трёх радостные, воодушевлённые.
Распахнулась дверца в стене. Тюремщик из глубины лениво буркнул:
— Подавайте, кто там!
Женщины протягивали пакеты, бутылки с молоком, называли фамилии заключённых и молча расходились, одолеваемые тяжёлыми думами.
— Кому? — задал обычный вопрос чиновник пышноволосой девушке.
— Кржижановскому Глебу Максимилиановичу.
— Кем приходитесь?
— Невеста я. — Девушка протянула узелок.
— Старкову Василию Васильевичу, от невесты…
— Ванееву Анатолию Алексеевичу, от невесты…
Мария Александровна поняла теперь, почему и в этом горестном месте у девушек светятся счастьем глаза, и ей стало немножко грустно, что нет такой славкой девушки, которая бы сказала: «Ульянову Владимиру Ильичу, от невесты».
— Следующий, — прервал мысли матери возглас чиновника.
Мария Александровна подала бутылку с молоком и пакет с сухарями.
— Ульянову Владимиру Ильичу, от матери, — сказала она и отошла от окна.
В тени, у тюремной стены, заметила девичью фигурку в длинной чёрной юбке, в узком жакете с пышными рукавами. Из-под маленькой неказистой шляпки на мать глядели приветливые глаза.
Мария Александровна сразу узнала её — это Надежда Константиновна.
Надя подошла, поздоровалась.
— Мария Александровна, я получила от Владимира Ильича загадочное письмо. Он просит, чтобы я позаимствовала у вас волшебную лампу Аладдина. Это говорит вам что-нибудь?
— Нет, — недоумённо пожала плечами Мария Александровна. — Что это ему пришло в голову?
— Пожалуйста, вспомните всё, что связано с этой сказкой, или с лампой, или с Аладдином. Судя по тону письма, это очень, очень важно для Владимира Ильича.
Мария Александровна потёрла ладонью лоб.
— Волшебная лампа Аладдина… Лампа Аладдина… — шептала она. И вдруг улыбнулась: — Это настольная лампа, что стояла в кабинете Ильи Николаевича, ко мы давно её продали… когда покидали Симбирск.
— Но что с нею связано, почему она волшебная? — допытывалась Надежда Константиновна, взяв под руку Марию Александровну.
Обе женщины медленно пошли вдоль тротуара.
Надежда Константиновна продолжала настойчиво допрашивать:
— Очевидно, с этой лампой связаны какие-то события. Вспомните, пожалуйста, вспомните.
И Мария Александровна вспомнила.
В далёком прошлом, когда ещё был жив Илья Николаевич, зимними вечерами мать затевала с детьми игры в шарады, загадки.
Однажды Мария Александровна положила на стол листок бумаги и предложила детям прочитать на нём известное четверостишие Пушкина.
Дети по очереди вертели в руках чистый листок, просматривали его на свет, приставляли к зеркалу, но на бумаге не было никаких следов.
Володя унёс листок в другую комнату и, вернувшись, сказал:
— Я прочитал в темноте, здесь написано! «Зима! крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь…»
— Не хитри, — погрозила пальцем мать.
— «Я помню чудное мгновенье: передо мной явилась ты…» — стала декламировать Аня.
Саша сидел и, запустив пальцы в кудри, пытался разгадать мамину хитрую загадку.
— Ну что, сдаётесь? — спросила она весело.
— Сдаёмся! — хором закричали дети.
— На этом листке написано четверостишие из «Руслана и Людмилы», — торжественно объявила мать.
— Но это надо ещё доказать! — возразил Володя.
— Изволь, — согласилась Мария Александровна. — Для этого мне нужна волшебная лампа Аладдина. Принесите её из папиного кабинета.
Саша принёс лампу под зелёным абажуром и поставил её на ломберный стол. Аня спустила лампу-молнию, погасила её. Глаза матери лукаво щурились. Она подняла двумя пальцами листок, поводила его над лампой и, сделав таинственное лицо, прошептала:
— Появитесь, волшебные строки!
Дети, затаив дыхание, следили за руками матери.
— Раз, два, три… — Мария Александровна медленно опустила листок на стол, провела по нему ладонью, дунула и перевернула.
Дети ахнули.
На чуть опалённом листке ярко проступали коричневые строчки:
— Химические чернила! — восхищённо воскликнул Саша. — Но чем ты писала?
После долгих уговоров мама наконец согласилась открыть секрет.
— …Таинственными чернилами было простое молоко. Дети весь вечер играли в почту-загадку и перепалили над лампой изрядное количество бумаги, хорошо развлеклись, — заключила свой рассказ Мария Александровна.
Надежда Константиновна неожиданно пылко обняла Марию Александровну и покрыла её лицо поцелуями.
— Спасибо, спасибо! Я теперь всё понимаю. Спасибо за чудесный подарок!
— Но я ничего не понимаю, — пожала плечами Мария Александровна.
— Это нужно ему для работы. В следующий раз я принесу ему сырое молоко.
Мария Александровна встревожилась:
— Но ему нельзя пить сырое молоко, у него больной желудок.
— Я знаю, — улыбнулась Надежда Константиновна. — Он его пить не будет. Это нужно для работы.
— Уж очень много Володя работает, — посетовала Мария Александровна, — целые дни сидит в камере за книгами. Я боюсь, он подорвёт своё здоровье…
— Владимир Ильич каждое утро и вечер занимается гимнастикой, делает по сто земных поклонов, вышагивает по камере тысячу шагов. Письма пишет весёлые, бодрые… товарищам по работе пишет, — поспешила добавить Надя.
Мать вздохнула:
— Чем всё это кончится? Я подавала прошение в департамент полиции, просила отпустить его мне на поруки под денежный залог. Сослалась на его плохое здоровье, даже схитрила, — улыбнулась Мария Александровна, — написала, что от рождения рос хилым и слабым ребёнком.
Девушка звонко рассмеялась. Хилость и слабость так не вязались с образом живого, неутомимого Владимира Ильича!
— Была я на личном приёме в департаменте полиции, — продолжала Мария Александровна, — мне ответили, что «ввиду упорного запирательства Ульянова» в моей просьбе отказано. Дали понять, что, если он признается, зачем ездил за границу, сообщит фамилии членов «Союза борьбы», тогда к моему прошению отнесутся более благосклонно. Я заверила, что за границу он ездил лечиться по совету врачей и моему настоянию. Не поверили. Что будет? Что будет?
— Уверяю вас, ничего страшного. — Девушка понимала тревогу матери, уже потерявшей одного сына. — Им и в голову не приходит, — кивнула она на тюрьму, — что книги Владимира Ильича для них опаснее бомб, что он организует поход не только против царя, но и против всего старого мира. Я уверена, что ему дадут несколько лет ссылки.
— Несколько лет ссылки! — повторила Мария Александровна. — Легко сказать! Загонят в глухую сибирскую деревню, обрекут на полное одиночество.
— О, у него на случай ссылки грандиозные планы. Он там скучать не будет. Большую работу задумал — написать книгу о развитии капитализма в России. Владимир Ильич не знает, что такое скука, уныние. А как он умеет мечтать! — с жаром воскликнула Надя.
Мать жадно слушала. Она готова была слушать о своём сыне без конца. И Наде очень нужно было, просто необходимо, поделиться своими мыслями с родным Владимиру Ильичу человеком.
Они остановились на углу улицы.
— Мы часто ходили с ним по ночному Петербургу, мечтали вслух. Дома я всегда заставала его за письменным столом. «Вот посмотрите, — говорил он и показывал таблицу, всю испещрённую цифрами, показывал, как художник своё произведение. — Вот она какая, Россия-то! Обратите внимание, как бурно развивается промышленность, как растёт пролетариат». И я уже не видела цифр, а видела этого нового хозяина мира — класс, призванный совершить великое дело. Только один Владимир Ильич умеет так много видеть за скучными цифрами, заставить мечтать так, что дух захватывает.
Мать с нежностью смотрела на девушку, на её чистый профиль, на потемневшие и ставшие совсем синими глаза.
— Я видела, как этот класс-гигант встаёт, разрывает цепи, крушит гнилое, старое, утверждает на земле высокие идеалы. И тогда мы, взявшись за руки, шли с ним по набережной Невы и говорили о будущем. Нам никогда не хватало времени, чтобы обо всём переговорить… Но что я, право, заболталась, — спохватилась Надя и, зардевшись, взглянула на Марию Александровну, встретила её добрую, ясную улыбку и заторопилась: — Сейчас их поведут гулять. Давайте встанем вот здесь. Я несколько дней стояла чуть правее, и Владимир Ильич не видел меня. Такая досада!
Надя точно примерилась, где ей встать.
— Посмотрите, окно на третьем этаже, оно выходит из коридора. Когда их поведут на прогулку, он увидит этот кусок улицы. Встаньте рядом со мной.
Надя поправила бантик на блузке, быстро пробежалась тонкими пальцами по волосам и, подняв голову и чуть прикрыв глаза пушистыми ресницами, словно боясь расплескать радость, всматривалась в зарешечённое окно.
— Наверно, в этот момент их ведут, — прошептала она, взяла под руку Марию Александровну и замерла.
Мария Александровна едва заметно кивнула — украдкой здоровалась с сыном.
— Ну, а теперь можно идти, — словно очнулась Надя и, вконец смущённая, пожала плечами. — И зачем понадобилось Владимиру Ильичу, чтобы я каждый день приходила на этот угол? Право, не понимаю!
«А я, кажется, понимаю, кажется, понимаю». — Сердце матери наполнилось радостью. Она уверенно оперлась на руку Нади.
Был субботний день, когда заключённым передавались книги и получались от них прочитанные.
Теперь у тюремного окошка встречались две матери: Мария Александровна и Елизавета Васильевна Крупская.
Надежда Константиновна в августе 1896 года тоже была арестована по делу «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». Елизавета Васильевна очень беспокоилась за единственную дочь, с которой никогда не расставалась.
— Чем всё это кончится? Какой приговор ждёт Надю? — тревожилась она…
Мария Александровна успокаивала, утверждая, что обоим дадут по нескольку лет ссылки, и что в ссылке можно отлично работать, и что такие люди, как Володя и Надя, унывать не умеют. Обе матери решили ехать в ссылку вместе со своими детьми. Мария Александровна делилась с Елизаветой Васильевной своим богатым опытом — и как обмануть бдительность тюремщиков и передать зашифрованную записку, и как обнаружить в книге условные знаки и тайнопись, — советовала, чтобы Елизавета Васильевна передала дочери «Гимнастику Мюллера», и что для сохранения здоровья необходимо делать тысячу шагов по камере и по сто низких поклонов. Елизавета Васильевна внимательно прислушивалась к её советам…
Заскрежетали ржавые петли, открылось окошко.
Мария Александровна передала книги для Владимира Ильича и получила от него прочитанную. Обе матери отошли в сторону, чтобы незаметно для тюремщика просмотреть книгу.
— Есть условный знак, означающий «весьма важно», — сказала Мария Александровна, листая страницы, — и второй знак, что книгу надо передать Наде.
— Как хорошо, что мы с вами здесь встречаемся и можем немедленно выполнять поручения наших детей! — Елизавета Васильевна подошла к окошку, протянула книгу и с замиранием сердца следила, как тюремщик перелистывал страницу за страницей.
Затем он небрежно кинул книгу на стол, и у матери отлегло от сердца.
Обе матери постояли, посмотрели на тюремные стены, словно видели сквозь них своих детей, и пошли на набережную Невы. Можно было вдоволь наговориться, не таясь высказать тревоги и предположения. Мария Александровна и Елизавета Васильевна хорошо понимали друг друга и за эти дни стали большими друзьями.
Надежда Константиновна поминутно смотрела на часы и с нетерпением ждала, когда в камеру принесут чай. Сидела, перелистывала книгу и очень волновалась. «Какое-то важное сообщение. Неужели ещё кто-то арестован? Или, может быть, Владимиру Ильичу объявили приговор?» — думала она и поглядывала на дверь.
Загремел засов, вошла надзирательница. Надежда Константиновна подставила жестяную кружку и с радостью почувствовала, как нагревается ручка: из чайника лился крутой кипяток.
Едва надзирательница закрыла за собой дверь, Надежда Константиновна схватила книгу… Сообщение на странице двадцать пятой… Вот она, эта страница. Надо спешить, пока не остыла вода. Осторожно вырвала из книги лист, оторвала от него сверху поперечную полоску, опустила в кипяток. Вынула — пусто. Оторвала ещё одну полоску. Долго держала в кипятке и — вот досада! — порвала так, что на полоске проявились только верхние кончики букв. Опустила в кружку третью полоску, а чай уж остывает, молочные чернила плохо завариваются. Вдруг не проявятся? Нет, вылезли нижние кончики букв.
На этих двух полосках — всего одна строчка. Значит, сообщение ещё впереди. Рвёт полоски, опускает в кружку, вынимает, подносит ко рту, стараясь горячим дыханием проявить тайнопись. Больше ничего нет. Важное сообщение — в одной строчке.
«Что же это может означать?» — с нарастающей тревогой думает Надежда Константиновна, соединяет обе полоски, восстанавливает разорванную строчку. Вглядывается близорукими глазами в бледные буквы…
— Неужели правда? — шепчет она почти испуганно.
Чётким, крупным почерком тщательно и твёрдо выведено: «Я Вас люблю!»
— «Я вас люблю», — повторяет она. Ещё и ещё раз читает, беззвучно смеётся. Долго сидит, подняв голову, приложив ладони к пылающим щекам.
Под потолком, из глубокого проёма окна, виднеется нестерпимо яркий кусочек неба, и, когда смотришь на него, не замечаешь ни шершавых грязных стен камеры, ни ржавой решётки, забываешь, что сидишь в тюрьме.
В ССЫЛКУ
Февральская метелица гудела и посвистывала по питерским улицам, наметала косые синие сугробы на панелях, обдавала снежной пылью, перехватывала дыхание.
Мария Александровна прохаживалась вдоль тюремной стены и не отрывала глаз от зелёного квадрата дверцы. Каждый раз, когда скрежетал ключ в замке и громыхал засов, она подавалась вперёд, вытягивала голову — вся в нетерпении, в ожидании.
Дверца распахивалась, над высоким железным порогом сначала появлялась нога в сапоге, а за ней вываливалась фигура жандарма в голубоватой шинели. Мария Александровна снова втягивала голову в плечи и опять шагала. Порой она останавливалась, с тревогой поглядывала на свои руки в вязаных нитяных перчатках и, разведя их в стороны, смотрела под ноги, словно что-то обронила. Нет, ничего не обронила, но пальцы не ощущали привычной тяжести узелка с передачей. Сегодня она пришла к тюрьме с пустыми руками, без связки книг, без бутылок с молоком, даже не взяла с собой ридикюля, чтобы вот этими свободными от ноши руками обнять сына.
Сегодня его должны выпустить из тюрьмы на свободу. Мария Александровна грустно улыбнулась. На свободу… чтобы отправить в ссылку. Сколько он пробудет дома? Нет, не дома, а в кругу семьи. Никакого дома нет, дом был, а сейчас случайные меблирашки, хозяйские неуютные квартиры. Но разве в этом счастье? Дом там, где семья. А всем вместе, кажется, быть не суждено. Она, мать, поедет вместе с Владимиром в Сибирь, он не будет в ссылке один. Разрешение на её поездку уже получено, но Володя об этом ещё ничего не знает.
Лучики-морщинки разбежались от уголков засветившихся глаз матери. Он, конечно, будет возражать и всё равно обрадуется…
Уже много раз с визгом распахивалась дверца в тюремной стене, а его всё нет. Метелица запушила белым мехом ротонду, превратила козий воротник в горностай.
Более четырнадцати месяцев ходила Мария Александровна к этим воротам, протягивала в окошко узелок с передачей, четырнадцать месяцев не было и часу покоя. Чем кончится дело? Засудят на каторгу? А может быть… Как бы ни заверяли её дети и друзья, что дело кончится ссылкой, а вот десять лет пульсирует в сердце рана. Десять лет назад она ехала с передачей к старшему сыну и ещё не знала, что Саше уже не нужно молоко, что его повесили в ту ночь… И сейчас, пока не прижмёт к себе Владимира, не услышит, как бьётся его сердце, ничему не поверит, не успокоится.
Почему его так долго нет? А впрочем, часы не назначены, просто объявили, что выпустят из тюрьмы 14 февраля.
Прюнелевые ботинки вытаптывают ёлочкой тропинку вдоль тюремной стены, и, как бы ни заметала следы метелица, тропинка становится всё глубже, всё явственнее.
«Как это я раньше не догадалась, что мне тоже нужны валенки, в прюнелевых башмаках в сибирской деревне не обойдёшься. Всё ли я подготовила для сына?» — перебирает в памяти мать. Валенки есть, и тёплое бельё припасла, и отцовская шуба будет хорошей защитой от сибирских морозов. Не одну сотню вёрст исколесил в этой шубе по Симбирской губернии Илья Николаевич и не думал, не гадал, что она пригодится среднему сыну в ссылке; и никогда отцу не приходила в голову мысль, что так страшно оборвётся жизнь его старшего сына Александра…
Снова заскрежетал засов, и в тёмном проёме вдруг неожиданно появился он, Володя, появился весь сразу, перемахнул через порог, широко распахнул руки и озорно засмеялся. Мать подалась вперёд, а ноги словно пристыли, не двигаются, рванулась раз, другой, схватила за руку сына и потащила его прочь от тюремных ворот, от этих стен…
— Скорее, скорее домой, — торопила Мария Александровна. — Аня ждёт.
Владимир Ильич обнял мать, стряхивает с её плеч снег, и мать слышит стук сердца, его сердца.
— Нам надо взять извозчика, — разомкнул наконец руки Владимир Ильич.
— Нет, нет, пойдём пешком, Сергиевская всего в полутора кварталах отсюда.
— Но мне нужен по крайней мере ломовой извозчик, — смеётся Владимир Ильич. — Столько книг накопилось в камере.
Надзиратель, согнувшись под тяжестью перевязанных шпагатом тюков, протискивался через дверцу. Владимир Ильич окликнул проезжавшего мимо легкового извозчика, пересчитал тюки, уложил их в санки и протянул надзирателю монету.
— Премного благодарен, ваше высокоблагородие, — низко кланялся надзиратель. — Премного благодарен.
Владимир Ильич взял под руку мать:
— Вот видишь, только перешагнул порог тюрьмы и сразу стал высокоблагородием.
— И этот титул стоит пятиалтынный, — улыбнулась Мария Александровна.
Они шагали следом за извозчиком, санки доверху были нагружены книгами.
— Я хорошо поработал, — с удовольствием потёр руки Владимир Ильич. — Когда в камере делали обыск, у жандармов не хватало терпения перебирать все книги.
Извозчик повернул со Шпалерной на Литейный проспект, прямая широкая стрелка которого терялась в затуманенной вьюжной дали.
— Какой простор! — воскликнул Владимир Ильич. — Мне кажется, что Литейный стал за это время в десять раз шире и длиннее. И как оглушительно шумно, и какая весёлая метелица!
— Всё было бы отлично, если бы впереди не было Сибири! — заметила с грустью мать.
— Впереди жизнь, свобода, впереди уйма дел, мамочка, и так много прекрасного впереди! — горячо откликнулся Владимир Ильич.
Извозчик въехал во двор дома на Сергиевской улице. Владимир Ильич отметил: двор проходной и из него выход на три улицы. Отлично. Всё учтено, квартира выбрана по всем правилам конспирации.
Анна Ильинична, закутавшись в пуховой платок, сбежала с крыльца. Перетащили тюки. Владимир Ильич старательно отряхнул с них снег, сложил их в углу комнаты.
— А теперь — здравствуйте! — сказал он весело.
И вот уже гремит на кухне рукомойник. Владимир Ильич кидает пригоршни воды в лицо, мать стоит рядом с полотенцем, сестра держит свежую рубашку, а потом все трое ходят друг за другом по комнатам.
— Прелестно, замечательно! — говорит Владимир Ильич.
— Тебе нравится наша квартира? — удивляется Анна Ильинична.
— Мне нравятся окна без решёток, мне нравятся эти чудо-двери, которые распахиваются, едва к ним притронешься, двери без железных засовов и глазков. Глазки в дверях — это мерзость. Мне всё нравится, что распахивается в жизнь, в мир — большой, просторный, незарешеченный.
Наконец мать уговорила сесть за стол.
— Всё чудо, великолепное чудо! — восхищался Владимир Ильич. — Рядом мамочка, Анюта, вот бы сюда Маняшу, Митю и Марка. И можно говорить простым человеческим языком, не опасаясь надзирателей. Вилка, нож — это чудо цивилизации, белая фарфоровая чашка — тоже чудо.
Разговор вперебой, обо всём, и все трое обходят главный вопрос: когда отправляться в ссылку.
— Четыреста тридцать три дня ты просидел в одиночке, — говорит мать.
— Ты считаешь, много? По-моему, маловато, — отвечает Владимир Ильич почти всерьёз. — Не успел закончить работу над книгой о рынках. Сначала ужасно раздражал глазок, а потом я приноровился не смотреть на него, а только слышать, как надзиратель отодвигает задвижку, и он, наверно, страшно удивлялся, что я всё время жую, а я жевал хлебные чернильницы… Кстати, Анюта, вам хорошо удалось разобрать объяснение программы партии?
— Отдельные страницы слабо проявились, надо, чтобы ты проверил.
— Это у меня молоко скисло. Ужасно досадовал.
— Как ты вырос, Володя! — с невольным уважением сказала Анна Ильинична.
— Это просто у меня лысина увеличилась, — отшутился Владимир Ильич.
— Нет, я о программе и объяснении к ней. Замечательный документ!
Переписывая с Надей проявленные горячим утюгом строчки объяснения программы партии, Анна Ильинична по-иному увидела брата. Это был уже не тот юноша в Кокушкине, который со страстью накинулся на марксистскую литературу, и не тот, который, работая в Самаре, в нелегальных кружках, разбирался сам и помогал другим разобраться в русском народничестве и овладеть марксизмом. Перед ней предстал убеждённый марксист, руководитель, видевший далеко вперёд.
— Я представляю, как полиция с ног сбилась: руководство «Союза борьбы» арестовано, а листовки от его имени издаются, рабочие обучаются, как вести борьбу, организовывать стачки.
— Вот-вот, это и нужно было показать — что организация существует, действует. И знаешь, Анюта, кого мы должны благодарить за всё это? Мамочку!
Мария Александровна не на шутку рассердилась:
— Ну что ты говоришь, Володя, при чём тут я?
— А молоко?
— Да, но молоко тебе носили и Анюта, и Маня, и Надежда Константиновна.
— Мамочка, а ты не помнишь, что секрету молочных чернил обучила нас ты?
— Но это была простая детская игра, — пожала плечами мать.
— Весьма полезная игра, — серьёзно сказал сын.
…Когда Владимира Ильича втолкнули в одиночную камеру и за ним загремел засов, мысль стала напряжённо работать над тем, как наладить связь с волей, чтобы рабочие знали, что «Союз борьбы» живёт и действует. Надо было заполнить время напряжённой работой, сделать всё, что было задумано на воле: разработать программу революционной социал-демократической партии, написать давно задуманную книгу о развитии капитализма в России, чтобы завершить идейный разгром народничества. Надо, наконец, переписываться с товарищами, оставшимися на воле. Но как это сделать? Эзоповским языком листовку не напишешь. Надёжные шифры разработать не успели. Владимир Ильич шагал по камере и мучительно думал. Думал о товарищах, думал о родных и, как бы разматывая клубок жизни, незаметно переселился в детство и вдруг вспомнил «волшебную лампу Аладдина» на ломберном столе, и мамины руки над зелёным абажуром, и коричневые строки: «У лукоморья дуб зелёный…» Его охватило счастливое волнение. Молоко! Да, это было настоящее открытие. Написал домашним, чтобы принесли сырое молоко и мягкий чёрный хлеб. И мама, та самая мама, которая научила этому волшебному письму, вдруг запротивилась: «Сырое молоко и чёрный хлеб. Ни за что. Опять обострится гастрит». Списался с Надеждой Константиновной, чтобы она взяла у его матери «волшебную лампу Аладдина». И Надежда Константиновна, умевшая, как никто, понимать Владимира Ильича, попросила Марию Александровну вспомнить всё, что связано с «лампой Аладдина». Мать вспомнила. Теперь секретом расшифровки тайнописи овладели товарищи на воле. Завязалась переписка и внутри тюрьмы. Больше ста писем написал Владимир Ильич тайнописью; два печатных листа программы социал-демократической партии и объяснительной записки к ней. Основные положения и выводы новой книги были написаны молоком, и первомайская листовка, и брошюра о стачках.
Когда Надежда Константиновна была арестована и тоже очутилась в камере на Шпалерной, Владимир Ильич написал ей тайнописью самое сокровенное. И всё это молоком. И всему этому научила мама.
— Да здравствует молоко! — поднял Владимир Ильич стакан и залпом осушил его.
Мать наконец решилась спросить о главном:
— А когда тебе ехать в ссылку, Володя?
Владимир Ильич вздохнул:
— Сегодня вечером.
— Но это невозможно! — воскликнули Мария Александровна и Анна Ильинична.
— Да, я тоже считаю, что это невозможно. Мне позарез надо встретиться с товарищами, разработать план действий, выяснить, как жили и работали без нас молодые, что-то похоже, что они решили идти по лёгкой дорожке, хотят свернуть движение на экономическую борьбу. Надо вырвать разрешение пробыть в Питере три дня, за три дня я всё успею.
— Ну что же, — сказала мать, — для этого не нужно волшебной лампы Аладдина. Я напишу прошение и сейчас же поеду в департамент полиции. Уверена, что мне не откажут. Аня, достань визитное платье. Володя, дай чернила, только не молочные.
Мария Александровна раздвинула тарелки на столе и, обмакнув перо в чернильницу, лукаво взглянула на сына:
— Не диктуйте и не мешайте, я знаю, что надо писать.
Директору департамента полиции, — вывела она тонким почерком. — Сын мой Владимир Ульянов, приговорённый к ссылке, выпущен только сейчас из заключения и явился ко мне с известием, что его обязали выехать из Петербурга сегодня же вечером. Но вследствие того, что мне невозможно собрать его в несколько часов (меня не предупредили о дне высылки его), у него нет даже тёплого белья на дорогу…
Сын и дочь стояли за спиной матери и следили за бегающим пером. Анна Ильинична, прочитав последнюю строку, рассмеялась:
— Ты посмотри, Володя, сколько мама припасла тебе белья, и папину шубу, и валенки.
— Полиции это знать не обязательно, — резонно возразила Мария Александровна и продолжала писать:
…и деньги, необходимые нам на дальнюю дорогу, я могу получить только завтра в банке…
— Мамочка, — прервал её Владимир Ильич, — почему ты пишешь «нам», надо писать «ему».
— Погоди, я потом объясню.
…к тому же мне необходимо быть с ним завтра у врача, я имею честь покорнейше просить Ваше превосходительство разрешить сыну остаться в Петербурге до вечера 17-го. Я умоляю Ваше превосходительство не отказать мне в этой просьбе.
Мария Ульянова.
Мария Александровна осторожно приложила розовый лист промокательной бумаги и аккуратно провела по нему ладонью.
— В добрый час! — сказала она. — А теперь я объясню, почему я написала, что деньги нужны на дорогу «нам». Я еду с тобой в Сибирь и уже получила разрешение.
Владимир Ильич протестующе поднял руку.
— Да, Володюшка, это дело решённое. И поедем мы не по этапу. Говорят, это мучительная процедура — тащиться от одной пересыльной тюрьмы до другой, поедем за свой счёт. В департаменте полиции приняли во внимание, что я стара, чтобы таскаться по этапам, и мы едем вместе.
Владимир Ильич смотрел на мать с чувством обожания и какой-то неосознанной вины.
— Мамочка, — сказал он решительно, — ты не можешь ехать со мной в ссылку, ты нужна здесь, а я должен следовать по этапу вместе с товарищами, я не имею права на привилегированное положение.
— Это дело решённое, — повторила мать тоном, каким говорила в детстве и который означал, что никакие разговоры по этому вопросу недопустимы. — Ты не можешь быть там один.
— А я и не буду один! Я надеюсь быть там с Надеждой Константиновной. Думаю, что её дело тоже скоро закончится и она приедет ко мне как невеста… как жена, — произнёс он тихо и нежно.
Мать почувствовала, что её оставляют силы, что-то больно задело за сердце. Ведь она ждала и радовалась мысли, что у Володи будет жена, семья, догадывалась о любви сына к Надюше, и всё же… Радость за счастье сына и горечь его потери, потери для себя. Извечная трагедия матери. Как сложно устроено материнское сердце… Но, как всегда, Мария Александровна сумела укрыть где-то в недоступном уголке души эгоистическое чувство, взглянув в глаза сыну, сказала:
— Твоё счастье, Володя, — это моё счастье.
Владимир Ильич острым взглядом подметил душевное смятение матери и, когда она спросила его, может ли он выполнить её просьбу и ехать не по этапу, понял, что это нужно ей, нужно для её душевного покоя, что он не может огорчить её, и твёрдо ответил:
— Хорошо, я поеду за свой счёт.
Мать с благодарностью провела рукой по щеке сына, тоже поняла, что он поступился своими принципами ради неё.
— Надюша — прелестная девушка, умница и товарищ отличный, — ликовала Анна Ильинична. — Маняша будет в восторге, она всегда предсказывала, что вы поженитесь.
— Да, да, Надюша будет отличной подругой, лучшей жены и желать нельзя, — искренне сказала Мария Александровна и, спохватившись, заторопилась — присутственные часы в департаменте подходили к концу.
Владимир Ильич вызвался проводить её.
К департаменту подъехали за несколько минут до конца приёма.
Мария Александровна легко взбежала на второй этаж и подала дежурному офицеру визитную карточку.
— «Вдова действительного статского советника Мария Ульянова», — прочитал офицер и, откозыряв, проскользнул за дубовую дверь. — Пожалуйста, не задерживайте его превосходительство, — предупредил офицер, распахнув дверь в кабинет.
— Ваше превосходительство, — обратилась Мария Александровна к генералу, — только очень спешное дело заставило меня ещё раз беспокоить вас. Вы были столь любезны и разрешили мне следовать в ссылку за моим сыном Владимиром Ульяновым. Но ему приказано выехать из Петербурга сегодня, и для меня это было полной неожиданностью, я не собралась и не купила в дорогу самое неообходимое. — Она протянула прошение.
Сановник взял двумя пальцами бумагу, пробежал её глазами и вздохнул, раздумывая.
— Ваше превосходительство, только три дня! — умоляюще воскликнула Мария Александровна.
— Хорошо, хорошо, — с раздражением ответил генерал и, передав стоявшему рядом адъютанту прошение, продиктовал: — «Ввиду отъезда с матерью, разрешить. Упомянуть об этом в бумаге градоначальнику».
Подписывая резолюцию, генерал ворчливо заметил:
— Напрасно, напрасно в ваши годы вы отправляетесь в Сибирь. Не советовал бы. Пусть сын сам несёт наказание за содеянное, не стоит баловать.
— Сердечно благодарю, ваше превосходительство, — ответила Мария Александровна, думая о своём.
Владимир Ильич, едва взглянув на мать, по её сияющим глазам понял, что разрешение получено. Три дня в Питере. Это победа, можно многое успеть, протянуть ниточки связей в далёкую Сибирь, успеть поспорить, отстоять принципы, посмотреть на молодых, которым суждено продолжать их общее дело здесь, в Питере.
Владимир Ильич бережно усадил мать в санки, пристегнул полость.
— Сегодняшний вечер мы проведём вместе? — спросила мать.
— Мамочка, — шепнул Владимир Ильич, — мне необходимо сегодня же повидаться с товарищами, и мне удобнее сойти по дороге. Если филёры и следят за мной, то дежурят возле дома, а не ждут меня здесь, у полицейского департамента.
Мария Александровна подавила вздох:
— Делай как лучше, тебе виднее. Только очень прошу, не задерживайся слишком поздно. Мы с Аней будем тебя ждать. Ты ведь и пообедать как следует не успел.
Снежная пыль мела в лицо, санки переваливались по ухабам, темнело, один за другим зажигались газовые фонари, и вокруг них роились тучи белых комаров-снежинок, загорались фонари у подъездов домов, в их свете искрились инеем гранитные цоколи. Невский выглядел торжественно и празднично в сияющем фейерверке снегов.
Поворачивая на Садовую, извозчик чуть придержал лошадей. Владимир Ильич прижал к губам руку матери, откинул полость и соскочил с подножки. Мария Александровна следила, как её сын, подняв воротник пальто, словно растворился в косматой метелице…
500 РУБЛЕЙ
— Вы являетесь членом преступного сообщества, возмущаете умы рабочих. У вас, неимущего студента, обнаружено пятьсот рублей, — перечисляет следователь «преступления» студента Московского университета Дмитрия Ильича Ульянова.
Дмитрий Ильич молчит.
— Сознайтесь, на какие преступные цели и от кого вы получили эти деньги? — продолжает допытывать следователь.
Дмитрий Ильич молчит.
Да, он действительно состоит в тайном студенческом марксистском кружке, ведёт занятия с рабочими на заводе Гужона, разъясняет им, кто повинен в их тяжкой доле, организует их на борьбу за свои права, за свободу. Даже состав членов кружка лежит перед следователем, записанный в студенческой тетради Дмитрия Ильича. Но фамилии записаны невидимыми чернилами между строчек лекции по анатомии. А пятьсот рублей студенты и рабочие собрали на организацию подпольной типографии. Утратить эти деньги нельзя. Типография должна действовать. А как их спасти, когда они уже в руках полиции?
— Кто вам дал эти деньги? — уже кричит следователь.
Дмитрий Ильич молчит и будет молчать до тех пор, пока не придумает выход из положения.
Взбешённый следователь велит увести заключённого в камеру. Не сегодня, так завтра он заставит заговорить этого студента, заставит сознаться.
«Надо написать письмо маме, — решает Дмитрий Ильич, — она выручит». Письмо будет тщательно просматриваться в тюремной канцелярии. Его надо зашифровать. Как же мама узнает, что письмо содержит шифр?
Подумав, Дмитрий Ильич садится за письмо. Пишет долго, много, пишет всё, что приходит в голову. Следит только за тем, в каком слове сделать грамматическую ошибку. «Нелегко писать с ошибками! Просто невероятно трудно», — усмехается про себя Дмитрий Ильич.
Письмо послано.
Теперь он уверен, что мама выручит.
«Что за странное письмо?» — перелистывает Мария Александровна исписанные листки. Две бессонные ночи провела она после ареста Мити — и вот это письмо. О чём только он не пишет: и о сердечных болезнях — это то, что они проходят сейчас на медицинском факультете, и воспоминания из детства, и о корове Красавке. Подробно излагает содержание книги Жюля Верна «Дети капитана Гранта». Огромное письмо, а о себе только в конце сообщает, что здоров и надеется скоро быть дома. Пишет словно не из тюрьмы, а с прогулки во время каникул. И так много ошибок, это непохоже на Митю, с огорчением думает Мария Александровна. Уж не заболел ли он? Что за нелепая фраза:
Мария Александровна подчёркивает ошибки, всматривается в слова и вдруг видит, что из ошибок составилось: «В углу мышь седит на мення глядит. Бяда!» «У меня…» Письмо, видно, не простое, а шифрованное.
Мария Александровна тщательно выписывает ошибки и читает подчёркнутые ею буквы. Получилось новое письмо:
«У меня отобрали пятьсот рублей. Три ассигнации по сто, четыре по пятьдесят. Предупреди Марка, что эти деньги он дал мне на обзаведение хозяйством. Пусть получит обратно».
Мария Александровна поспешно одевается и едет к Марку Тимофеевичу.
…На третий день следователь вырвал «признание» у арестованного. Дмитрий Ильич сообщил, что деньги его личные и что он получил их взаймы от мужа сестры Марка Тимофеевича Елизарова. «Признался», — сердце сжалось. А что, если мама не сумела раскрыть шифр или письмо задержали в тюремной канцелярии?
Следователь вызвал Елизарова.
— Какими средствами располагает Дмитрий Ульянов? — спросил он.
— Какие средства могут быть у студента? Никаких… — Марк Тимофеевич пожал плечами.
— Так-с, никаких, — обрадовался следователь. — Вот это нам и нужно было знать.
— Поэтому я и ссудил Дмитрию Ульянову пятьсот рублей на обзаведение хозяйством. Он студент четвёртого курса. Я полагал, что он кончит университет, станет работать врачом и вернёт мне деньги.
— Ульянов из университета исключён, — отрезал следователь.
— Значит, зря я ему давал, — вздохнул Елизаров. — Он, наверно, успел их истратить?
— Нет, — ответил следователь, — деньги отобраны при обыске.
— Тогда прошу вернуть их мне.
— А не помните ли вы, сколько ассигнаций вы ему дали, какого достоинства?
— Три ассигнации по сто рублей и четыре по пятьдесят, — отвечает Марк Тимофеевич, вспомнив записку, переданную ему Марией Александровной.
— Совершенно верно, — вздыхает следователь. — За получением их обратитесь в тюремную кассу.
ЦВЕТЫ В КАМЕРЕ
Мария Ильинична, сцепив руки за спиной, ходит по камере, отсчитывает тысячу утренних шагов. В последнем письме мама просила не засиживаться за вязанием, спрашивала, сколько шагов в длину её камера, и очень просила побольше маршировать.
— Восемьсот двадцать… восемьсот тридцать… — отсчитывает Мария Ильинична шаги десятками. Отсчитывает и знает, что мама недаром спрашивала, сколько шагов в камере.
Она тоже утром делает тысячу шагов по комнате, занимается гимнастикой, делает холодные обтирания, чтобы сохранить силы, которые так нужны её детям. Милая мамочка! С какой готовностью она пошла бы в тюрьму вместо каждого из своих детей, так же, как добровольно решила идти в ссылку с ней, дочерью.
— Восемьсот девяносто… девятьсот… — считает Мария Ильинична и ходит, ходит, нахмурив тёмные брови, сцепив пальцы.
Кто придумал тюрьму? Кто-то очень жестокий, с чёрным, волчьим сердцем. Нет тяжелее доли для революционера, чем заключение в тюрьме. И заключают его в тюрьму за то, что он очень любит свободу и к этой свободе зовёт людей.
Осенью Мария Ильинична должна была ехать в Брюссель, заканчивать университет. Каникулы проводила в Москве и, конечно, не могла сидеть сложа руки: включилась в работу Московской партийной организации, стала ходить в рабочие кружки и попалась в лапы полиции. Заграничный паспорт у неё отобрали. Двери университета захлопнулись. А в московской охранке в деле Марии Ульяновой появилась следующая запись:
Мария Ульянова несомненно поддерживает революционные традиции своей семьи, все члены коей отличаются крайне вредными направлениями. Так, брат её Александр казнён в 1887 году за участие в террористическом заговоре; Владимир сослан в Сибирь за государственное преступление, и Дмитрий недавно подчинён гласному надзору полиции за пропаганду социал-демократических идей, а сестра Анна, состоящая, как и муж её Марк Тимофеевич Елизаров, под гласным надзором полиции, ведёт постоянные сношения с заграничными деятелями.
— Девятьсот сорок… девятьсот пятьдесят…
Приоткрывается форточка в двери, и надзирательница бросает в камеру письмо.
Мария Ильинична поднимает с пола узкий конверт.
— От мамочки! — кладёт письмо на стол и продолжает ходить.
Надо обязательно вышагать эту тысячу. Мама спросит, и обмануть её нельзя. «В последнее свидание я заметила сильную одутловатость на лице твоём», — писала Мария Александровна в предыдущем письме. Одутловатости быть не должно. И Мария Ильинична шагает.
— Тысяча! Наконец-то! — облегчённо вздыхает она, берёт письмо и торопится оторвать кромку конверта.
Листок почтовой бумаги обезображен коричневыми полосами с угла на угол, вдоль и поперёк. Это следы ядовитой кислоты, которой выявляют тайнопись. Сквозь ржавые полосы ещё ярче проглядывают строки письма — мамин изящный ровный почерк.
Мария Ильинична с жадностью читает письмо.
Нагулялись досыта, набрали по большому букету полевых цветов. Хотелось мне очень отвезти свой тебе, но, к сожалению, там не берут цветов…
Эти строчки сплошь залиты кислотой. Вот здесь-то, наверно, решил полицейский чиновник, за этими цветами, и скрывается тайный смысл. К чему иначе писать в тюрьму о цветах.
Будь здорова, моя дорогая, так желает очень твоя мама.
М.Ульянова.
Мария Ильинична перечитала ещё раз дорогие строки и задумчиво смотрит на столик в камере — грубо сколоченные три доски, почерневшие от времени. И в её воображении на столе возникает большой жёлтый обливной кувшин, любимый кувшин мамы, и в нём цветы. Как красиво подобран букет… Так умеет только мама. Вот клейкая полевая гвоздика, которую в поле и не заметишь, сиреневые левкои, жёлтый львиный зев, и чудится: в раструбе цветка копошится пчела, вытягивая хоботком сладкий нектар, кукушкины слёзки дрожат на тоненьких волосках, даже красные метёлки щавеля украшают букет. И как много в нём васильков — любимых цветов Марии Ильиничны. И вот уже не букет перед нею, а освещённый солнцем луг с травой по колено, и в траве цветы, цветы, а над лугом опрокинут океан воздуха, и какой это воздух! Вкус и аромат особенно умеют ценить люди, посидевшие в тюрьме. Так пахнет свобода, так благоухает сама жизнь.
Мама понимает это.
Сестра Аня понимает. «Я по сравнению с тобой прямо миллиардерша какая-то относительно воздуха. Да нет, ещё богаче», — писала ей недавно Аня.
В дверях камеры визжит ключ.
— На допрос! — сонным голосом говорит надзирательница.
Мария Ильинична щурит глаза — перед нею всё ещё поле и солнце, жужжат пчёлы, тёплый ветер касается щёк…
— Назовите членов преступной социал-демократической организации, в которой вы состоите, — начинает допрос следователь.
— Не знаю, — коротко отвечает Мария Ильинична. — Не знаю, — повторяет она, и в глазах играют отсветы солнца.
Следователя от неё заслоняет мамин букет — васильки, львиный зев, гвоздика. Полицейского и революционерку разделяет огромное поле, освещённое солнцем, и трава по колено, и океан воздуха.
Ничего этого не видит следователь. Не понять его жандармской душе, что простые слова матери в письме к дочери, желание послать ей в камеру букет цветов и с ними воздух полей так же сильны, как сильна вера революционерки в правоту своего дела, вера в победное завершение борьбы ради того, чтобы все люди могли наслаждаться и воздухом, и цветами, и самой свободой.
Следователь бессилен перешагнуть это поле. Он пристально смотрит на Марию Ульянову и не видит следов уныния. Что-то очень важное сообщили ей сегодня в письме, думает он, что-то очень хитро зашифрованное, отчего она так уверенно держит себя на допросе и так безмятежен её вид, словно она на прогулке, на воле, а не в тюрьме перед ним, следователем.
— Уведите, — приказывает он надзирательнице.
КОСТРЫ
Дождь лил не переставая третий день. Цветы на клумбах полегли, в лужах плавали мелкие зелёные яблоки, сбитые ветром. Примолкли птицы. Река вздулась от дождей и плескалась у самой изгороди.
Ненастье и тревога полонили маленький бревенчатый домик. А ещё недавно стояли жаркие июньские дни и в доме было светло и празднично. Вся семья Ульяновых ждала дорогого гостя — Владимира Ильича.
Мария Александровна сняла этот жёлтый домик в живописном месте Подмосковья, на берегу реки Пахры. Три окна смотрят на дорогу. Позади дома небольшой фруктовый сад, у крыльца развесистые ивы. В углу сада беседка, и перед ней крокетная площадка.
«Всё здесь напомнит Володе детство», — думала Мария Александровна. И комнату Владимиру Ильичу приготовили в мезонине. Она такая же крохотная, какой была его комната в Симбирске.
Для себя Мария Александровна облюбовала комнату, как и всегда, окном на дорогу, на переднем крае, чтобы видеть, когда дети возвращаются домой, и хоть на несколько минут сократить ожидание, и чтобы ночью первой услышать хруст гравия под тяжёлыми полицейскими сапогами и суметь предупредить детей и первой встретить опасность.
Ещё десять дней назад матери казалось, что все беды миновали, дети на свободе, Владимир Ильич вернулся из трёхлетней сибирской ссылки. Полиция запретила жить Ленину в промышленных центрах, и он поселился в Пскове, чтобы быть ближе к революционному Питеру. Из старинного русского города стал протягивать во все концы России нити связей с рабочими кружками, с революционерами, готовил создание общерусской партийной газеты.
В начале июня обещал приехать погостить в Подольск. Но вот пришла тревожная весть: Владимир Ильич снова арестован в Петербурге, уже вторую неделю сидит в тюрьме. Мария Александровна не вынесла нового испытания — слегла. Оттого пасмурно и неуютно стало в маленьком доме и так беспокойно у всех на сердце. Даже собака Фридка приуныла, лежит у ног Дмитрия Ильича, вздрагивает чутким ухом, посматривает умным глазом на хозяина, понимает, что не до неё теперь.
В комнате у Марии Александровны врач.
Анна Ильинична, Мария Ильинична и Дмитрий Ильич сидят в столовой, ждут, что скажет доктор, вполголоса обсуждают, как выручить брата из тюрьмы. Дмитрий Ильич перелистывает медицинский учебник — ищет способ помочь маме справиться с болезнью. Арест Владимира Ильича — огромная беда для всех, крушение планов по созданию революционной газеты. Но сёстры и брат ничем помочь не могут: Мария Ильинична и Дмитрий Ильич сами недавно освободились из тюрьмы, Анна Ильинична и её муж Марк Тимофеевич тоже находятся под наблюдением полиции…
За окном шумит дождь, по стёклам хрустальными спиралями стекают струи, листья мокрыми ладошками стучат в окна, квохчет курица под крыльцом, уговаривает глупых цыплят посидеть спокойно под тёплым крылом, подождать, пока кончится несносный дождь.
Доктор Левицкий вышел из комнаты Марии Александровны. Все трое поднялись ему навстречу.
— Что вы находите, Вячеслав Александрович? — обеспокоенно спросила Анна Ильинична. — Какое лечение?
— Ничего страшного, ничего страшного. А лечение — свежий воздух, прогулки и волнения только радостные.
— Но у мамы больное сердце, ей столько пришлось пережить, — говорит Мария Ильинична.
— И шестьдесят пять лет дают о себе знать, — добавил Дмитрий Ильич.
Доктор пощипал бородку, внимательно посмотрел на книгу, которую Дмитрий Ильич держал в руках.
— Дорогой коллега, — сказал он, — не ищите! Сердце матери ещё ни в одном медицинском учебнике не описано, тайны его могущества не раскрыты. А хорошая доза радости для неё самое лучшее лекарство… Да-с. Я разрешил вашей матушке вставать. Завтра снова наведаюсь. Честь имею кланяться!
Дмитрий Ильич пошёл проводить доктора. Левицкий был его большим другом. Когда Дмитрий Ильич приехал в Подольск отбывать свою ссылку, никто не хотел брать на работу крамольного студента, исключённого за революционную деятельность из университета. А Левицкий согласился взять его к себе помощником и сам потянулся всем сердцем к семье Ульяновых.
Сёстры направились в комнату матери, но она сама шла им навстречу — одетая, причёсанная.
— Мамочка! Как ты себя чувствуешь?
— Лучше, — ответила Мария Александровна. Она старалась держаться бодро, только чуть вздрагивала голова. — И сегодня я еду в Петербург.
— Но ты же больна. Нельзя тебе! — воскликнули с отчаянием сестры.
— Не могу я бездеятельно сидеть и ждать. Может быть, мне и удастся облегчить участь Володи. Подам прошение в жандармское управление… Митенька, — обратилась она к сыну, — сходи, пожалуйста, на станцию, купи мне билет третьего класса до Петербурга. Да оденься получше, главное — не промочи ноги. Такой унылый, нескончаемый дождь.
Все трое понимали, что отговаривать маму от поездки бесполезно; они пытались только убедить её ехать во втором классе.
— Нет, нет, — возражала Мария Александровна, — деньги надо беречь. Может быть, Володе потребуется адвокат. Анечка, приведи в порядок моё визитное платье, а мы с Маняшей соберём саквояж.
Дмитрий Ильич надел плащ, прицепил поводок к ошейнику Фридки и отправился на вокзал. Анна Ильинична вынула из гардероба чёрное платье и стала прилаживать к нему свежий воротничок.
«Славный мамочкин боевой мундир», — подумала она с нежностью.
Не для праздных визитов было сшито это платье, а для посещений приёмных жандармских управлений, генерал-губернаторов. Каждый раз, когда с кем-нибудь из детей случалась беда, мать вступала в тяжёлую, упорную и терпеливую борьбу. Только платье знает, как тревожно билось сердце, а затем и вовсе замирало, слыша жестокое, холодное: «В вашей просьбе отказано». Сколько раз бросали матери упрёк, раня её в самое сердце: «Ваш старший сын повешен». Но она никогда не складывала рук, не приходила в отчаяние, а, сжав тонкими пальцами перо, вновь и вновь писала прошения, писала так, как принято было писать: «Милостивый государь! Честь имею покорнейше просить…» Сколько таких прошений хранится в архивах жандармских управлений! Сколько раз, придя домой из присутствия, мать на пороге дома засовывала взмокший от слёз платок в глубокий карман платья…
…Шумит за окном дождь. Квохчет под крыльцом курица. Стучатся мокрые листья в окно.
В равномерный унылый шум врывается звон колокольчика, в передней и в комнатах словно закружился весёлый летний ветер.
— Мамочка! Володя приехал! Мамочка!
— Володюшка! Володюшка! — спешит мать навстречу сыну. — Здоров? Свободен?
— Архиздоров, совершенно свободен и счастлив безмерно. — Владимир Ильич скинул мокрое пальто и обнял мать.
— По дороге на станцию встретил! — кричит восторженно Дмитрий Ильич. — Вижу, кто-то спешит, шагает, не разбирая луж. Кто это может так спешить в нашем Подольске? Пригляделся — Володя!
— Володенька, братик, скажи, что я не сплю и что всё это на самом деле, — теребит брата Мария Ильинична.
— Анечка, убери скорей моё визитное платье, — просит Мария Александровна. — Теперь оно мне не понадобится.
— С превеликим удовольствием, мамочка! — Анна Ильинична водворяет платье на место. Плотно-плотно закрывает шкаф, словно опасаясь, что чёрное платье может снова вторгнуться в их счастливую жизнь. — Дай-ка я тебя ещё раз поцелую, — обнимает она брата.
Сёстры собирают на стол. Дмитрий Ильич раздувает самовар, Фридка, высунув розовый язык, косится по комнатам, ластится к новому другу, трётся круглой мохнатой головой, будто понимает, что тот был в большой опасности. Фридка — породистый сенбернар — не даст в обиду своего хозяина и его друзей. Она умеет помочь путешественнику, попавшему под снежный обвал в горах. В метель и стужу с сумкой красного креста на шее она бесстрашно пробирается по кручам над бездной, сильными лапами откапывает пострадавшего. Часто рискует жизнью, чтобы защитить своего друга — человека.
— Ладно, ладно, — гладит Владимир Ильич по голове Фридку, — иди на место, дай знать, если сюда жандармы вздумают припожаловать.
И Фридка, словно понимает, идёт в переднюю, ложится у порога, поднимает насторожённое ухо.
Радость, смех снова вернулись в маленький дом.
Владимир Ильич бережно усадил Марию Александровну на диван и сел рядом с ней.
— До чего ж хорошо дома, просто прелесть! Представляю, как здесь красиво в солнечную погоду.
— Здесь даже в ненастье уютно, — уверяет счастливая мать. — Посмотри, какой светлый дождь за окном.
— Ну, расскажи, Володёк, как тебе удалось выбраться из тюрьмы и как ты попался, — просит Анна Ильинична.
Мария Александровна садится к самовару, разливает чай.
— Приехал в Питер и… подцепил «хвост», — смеётся Владимир Ильич. — Когда жандармы меня схватили, первой мыслью было: как бы освободить карманы. Но куда там! Два дюжих фараона закрутили мне руки назад, а третий зорко следил, чтобы я что-нибудь не сжевал. А в карманах у меня просто сейф: две тысячи рублей получил от Калмыковой на газету, большое письмо Плеханову с подробным планом организации газеты, зашифрованные записи явок, адреса конспиративных квартир.
— Умереть можно от страха! — поёживается Мария Ильинична.
— Но, — поднимает палец Владимир Ильич, — всё это было записано молоком, лимонной кислотой и разной прочей снедью, записано между строчек на всяких счетах и квитанциях. Сижу в камере и раздумываю: догадаются жандармы все эти счета утюгом прогладить или нет?
— Уверен, что не догадались! — воскликнул Дмитрий Ильич. — Когда меня арестовали, у меня в кармане был список членов кружка на заводе Гужона. Молоком записал, а проявить они не догадались.
Владимир Ильич серьёзно посмотрел на брата:
— Учти, что жандармы будут умнеть вместе с ростом нашей организации. Надеяться на их тупость легкомысленно, и нам надо подумать о стойких химических чернилах, об искусной конспирации…
— Ну, а потом что было? — нетерпеливо спрашивает Мария Ильинична.
— Через десять дней меня вызвали и строго предупредили о том, что в Петербург и ещё в другие шестьдесят городов мне въезд запрещён и чтобы из Пскова я никуда не отлучался. Вернули мне в целости и сохранности все бумажки, счета и деньги. Я просто глазам своим не поверил. «Вот олухи царя небесного!» — подумал я и тут же вежливо попросил разрешения поехать к вам в гости.
Одного Владимира Ильича не пустили. Приставили чиновника охранного отделения, который привёз его в Подольск и сдал местному полицейскому исправнику.
Здесь ждало новое испытание. Исправник потребовал заграничный паспорт Владимира Ильича, повертел его в руках и неожиданно сунул к себе в стол. «Нечего вам по заграницам ездить, — сказал он, — паспорт останется у меня».
— Вот тут я страшно разозлился, — продолжает Владимир Ильич. — Я понял, что этот старый плут и мошенник запер в свой мерзкий стол все наши планы по созданию газеты. Возмущённый донельзя, я крикнул: «Буду жаловаться на ваши незаконные действия начальству!» Крикнул так свирепо и угрожающе, что перепугал старикашку. Он живо отпер стол и, видя, что я собираюсь уходить, стал просить меня забрать паспорт и никому не жаловаться.
Последние слова Владимир Ильич произнёс сквозь смех и, откинувшись на спинку дивана, смеялся взахлёб, до слёз.
Ему вторил звонкий смех Марии Ильиничны.
— Ты получил заграничный паспорт? — спросила Мария Александровна, стараясь не выдать своего огорчения.
— Да, мамочка! Я должен ехать в Германию. — Владимир Ильич встал и, по привычке конспиратора, накинул на двери крючок, плотнее закрыл окно и тихо продолжал: — Мы задумали большое дело — решили издавать газету.
Владимир Ильич с увлечением стал рассказывать о своих сокровенных планах. Рабочие поднимаются на борьбу. Нужен главный штаб, который бы направлял борьбу против царизма. Нужна общерусская газета, которая объяснит миллионам рабочих и крестьян их задачи, выработает единую программу действий, подготовит создание революционной партии пролетариата. План организации газеты продуман, но издавать в России её нельзя из-за полицейских преследований. Поэтому решено печатать её за границей. Тайными путями газета будет доставляться в Россию и здесь через верных людей распространяться среди рабочих.
Владимир Ильич успел уже побывать в Риге, Смоленске, Петербурге, Москве и везде создал опорные пункты для газеты, условился с товарищами о способах связи, пересылке корреспонденции.
— Как решили назвать газету? — спрашивает Анна Ильинична.
— «Искра». «Из искры возгорится пламя». Помните?
— Да, да, — говорит Мария Ильинична, это из ответа декабристов Пушкину.
Мария Александровна слушает детей и понимает, что задумано важное дело.
— В добрый час! В добрый час! — шепчет она.
— И, кстати, я покушаюсь на тебя, Анюта, — говорит Владимир Ильич. — Тебе придётся ехать вслед за мной в Германию, помочь в организации газеты. Кончится срок ссылки у Надюши, и она приедет к нам.
— Вот когда Анины литературные таланты пригодятся, — замечает Мария Александровна.
Анна Ильинична даже вспыхнула от радости. Она всегда рвалась к литературной работе, писала рассказы для детей, переводила книги с итальянского, английского, немецкого языков. А теперь такое важное и почётное дело — издавать газету для рабочих.
— Вот бы съездить на Волгу — в Самару, в Нижний, по пути завернуть в Сызрань, затем проехаться к Надюше.
— Соскучился? — сочувственно спросила мать.
— Очень! — искренне вырвалось у Владимира Ильича. — Это первая наша разлука. И связи Надюша там успела завести среди революционеров. Очень хотелось бы с ними встретиться. Разложить везде костры. Рабочие рвутся к борьбе. Горючего в России становится всё больше. Вот «Искра» и должна будет их зажечь.
— А если тебе попросить разрешения у полиции? — спросила Мария Александровна.
— Уже просил, и не единожды. Наотрез отказали.
Мария Александровна задумалась.
— Пойдём, я покажу тебе твою комнату.
По скрипучим ступенькам поднялись наверх.
— Как в Симбирске! — воскликнул Владимир Ильич, поднял руку и коснулся пальцами потолка.
Налево у стены железная кровать, покрытая клетчатым пледом, направо окно и дверь на балкон. У окна небольшой письменный стол и лампа под зелёным абажуром, и на этажерке любимые книги: Чернышевский, Добролюбов, Лермонтов, Пушкин.
— Отдохну здесь всласть, — говорит Владимир Ильич, — и поработаю отлично. Я вызвал сюда товарищей, надо с ними посоветоваться. А пока они приедут, я буду проводить всё время с тобой.
Владимир Ильич вышел на балкон. Дождь перестал. Из сада потянуло запахом цветов. Птицы, обрадовавшись солнцу, запели на все голоса.
— Пойдём, мамочка, посмотрим сад, — предложил Владимир Ильич. — Только надень пальто и, главное, галоши, чтобы, как ты нас учила, не промочить ноги.
Мария Александровна взглянула на сына сияющими глазами:
— Знаешь, Володюшка, я, кажется, придумала, как тебе поехать к Надюше и по твоим «кострам» на Волге.
— Мамочка!
— Да, да. Я должна познакомиться со своей невесткой, — продолжала Мария Александровна, и лучики-морщинки разбежались вокруг глаз.
— С Надей? Ты же с ней знакома.
— Но охранке об этом неизвестно. Женился ты в ссылке, домой жену не довёз…
— Полиция не разрешила: ещё полгода ей отбывать свою ссылку.
— Так вот, я должна познакомиться с твоей женой. Это моё материнское право, и отказать мне в этом не могут. Я поеду в Петербург и буду просить разрешения.
— Ты можешь ехать в Уфу и без всякого разрешения.
— Не могу же я ехать одна. Мне шестьдесят пять лет. У меня больное сердце… На самом деле оно у меня совершенно здоровое, — поспешила добавить она. — Представить матери свою жену должен сын. Ты, Володюшка! Завтра же я поеду в Петербург.
Владимир Ильич молча обнял мать.
По лестнице поднималась Анна Ильинична.
— Ну, как тебе здесь нравится, Володёк? Наконец-то мамочка дождалась тебя.
Владимир Ильич только развёл руками. Вид у него был радостный и чем-то смущённый.
— Анечка, — ласково сказала Мария Александровна, — я еду в Петербург. Придётся опять вынуть моё визитное платье, и пусть Митя сходит на станцию. Теперь я могу ехать вторым классом.
Утром пришёл доктор Левицкий.
— Я нашёл вашу матушку в отличном состоянии, — сказал он Дмитрию Ильичу.
— Вы правы, дорогой Вячеслав Александрович, хорошая доза радости оказалась наилучшим лекарством для неё.
Дмитрий Ильич пригласил доктора в сад.
— Я познакомлю вас со своим братом.
Левицкий слышал о Владимире Ильиче как о революционере и учёном и ожидал встретить пожилого человека в очках и с тросточкой, чинно гуляющего по дорожкам сада. Он был очень удивлён, увидев коренастого молодого человека с крокетным молотком на плече. Владимир Ильич, прищурив левый глаз, с живым интересом следил, удастся ли Маняше прогнать свой шар сквозь двойные ворота.
— Ловко! Молодец! — с восторгом воскликнул он.
Переложив на левое плечо молоток, он дружески протянул Левицкому руку и тут же пригласил его принять участие в игре. Владимир Ильич бросил на доктора быстрый, острый взгляд. Вячеслав Александрович был года на два моложе. Густая каштановая борода и мягкая шевелюра обрамляли красивое лицо с правильными чертами. Глубоко сидящие серые глаза говорили об уме и твёрдости характера, и вместе с тем во всём облике доктора было что-то юношески чистое, доброе.
Дмитрий Ильич видел, что брат и доктор понравились друг другу. День был воскресный, и Владимир Ильич предложил доктору покататься на лодке.
Вячеслав Александрович чувствовал себя удивительно легко с новым знакомым. Ему очень нравились эти люди с широкими интересами, высокой культурой, весёлые и общительные, и он понял, что теперь вся его жизнь будет связана с этой семьёй.
Владимир Ильич сел на вёсла, лёгкими взмахами вёл лодку вниз по Пахре и подробно расспрашивал доктора, почему это в Подольском уезде такая высокая смертность среди детей и большой процент забракованных по болезни новобранцев.
— Виноваты в этом, Владимир Ильич, знаменитые фетровые подольские шляпы.
Владимир Ильич вскинул брови.
— Как это понимать?
— Я изучаю сейчас физическое развитие населения Подольского уезда, — объяснил Левицкий, — и установил, что здоровье населения подтачивается постоянным ртутным отравлением. Местные фабриканты при обработке кроличьего пуха, из которого выделываются шляпы, применяют ртуть. Я протестую против такого варварского способа, но фабрикант остаётся фабрикантом. Раз это приносит ему прибыль, ему наплевать на здоровье рабочих.
— Совершенно верно, — ответил Владимир Ильич. — Что же вы думаете делать дальше?
— Я прочитал в одном французском журнале, что во Франции нашли способ безртутного производства шляп. Там вместо ртути применяют едкий калий.
— Знают ли сами рабочие, что они систематически отравляются?
— Я объясняю это не только фабрикантам, кустарям, но и самим рабочим. Но не могут же они бросить работу и умирать с голоду.
— И многим рабочим вы это объяснили?
— Десяткам, многим десяткам.
— А об этом должны знать рабочие всей России. Так же как и подольские рабочие должны знать об ужасающей эксплуатации в шахтах на Дону, на текстильных фабриках в Иваново-Вознесенске, на Ленских золотых приисках.
— Но как это сделать?
— Надо об этом оповещать всех рабочих через газету и, мало этого, показать им путь к освобождению, научить их организованно бороться с фабрикантами.
Вячеслав Александрович невесело усмехнулся:
— Какая же газета напечатает такое?
— Я знаю такую газету, — твёрдо сказал Владимир Ильич. — Она называется «Искра». Напишите об этом статью и передайте брату Дмитрию: он знает, куда её послать.
Владимир Ильич опустил вёсла и загляделся на берег Пахры.
У воды густые розовые заросли иван-чая, за ними поляна, покрытая ромашками, тёмным шатром раскинулась ива, процеживая сквозь зелёные пряди солнечные лучи.
— Какая красота вокруг, океан воздуха, а люди в этом здоровом краю умирают от отравления, дети обречены на тяжёлый рахит. Газета научит рабочих, как им стать хозяевами своей судьбы…
— Вы правы. И если действительно такая газета есть…
— Она будет, непременно будет, дорогой Вячеслав Александрович.
Вернувшись домой, Владимир Ильич шагал по комнатам, с довольным видом потирал руки и наконец сказал брату:
— Интересный человек твой доктор! Он очень дельный. Ты его расшевеливай, заставляй писать корреспонденции в «Искру». Дай ему почитать Маркса… Очень дельный и хороший человек!
…Вечером проводили Марию Александровну в Петербург.
— Мамочка совершенно напрасно поехала, — сказала Анна Ильинична, глядя на удаляющийся поезд. — Не дадут ей такого разрешения.
— Но она будет спокойна, что сделала всё, что могла. А уж если мамочка что задумала, отговаривать её бесполезно, — ответила Мария Ильинична.
— Пока она вернётся, мы должны очень многое сделать, чтобы потом было больше свободного времени для неё, — сказал Владимир Ильич.
Он попросил брата подобрать подходящую «записную книжку». Дмитрий Ильич предложил только что полученный пятый номер журнала «Научное обозрение». Этот толстый журнал пришёлся по вкусу Владимиру Ильичу. Полистав его, он остановился на статье С.Чугунова «Шейное ребро у человека с точки зрения теории эволюции».
— Вполне подходяще, — сказал Владимир Ильич. — Сюда мы запишем проект программы Российской социал-демократической партии, и в таком виде его можно будет провезти через границу.
Мария Ильинична налила в чашку молока, вставила новое перо в ручку и принялась аккуратно вписывать молоком между строчек «Шейного ребра» проект программы. Её сменил Дмитрий Ильич.
В субботу из Москвы с работы приехал Марк Тимофеевич, Владимир Ильич посвятил и его в свои планы, и они целую ночь просидели над изобретением «хитрого столика», который должен был хранить партийные документы и быть недоступным для полицейских ищеек.
Марк Тимофеевич закончил чертёж, когда утренние лучи солнца заглянули в комнату на антресолях.
Наверно, английский изобретатель Уатт не работал с таким усердием над изобретением первого универсального парового двигателя, как работали Владимир Ильич и Марк Тимофеевич над этим партийным хранилищем.
Это был шахматный столик в сто клеток для игры вчетвером. Круглая тумба опирается на три изогнутые ножки, на тумбе — целое архитектурное сооружение из выдвижных ящичков, и их венчает крышка, отделанная филёнкой. Стоит вынуть гвоздик из филёнки, и крышка легко отодвинется, как в пенале. Под крышкой — вместительное углубление.
— Полицейских будут интересовать прежде всего ящики. Толщину крышки замаскирует филёнка. Отличное изобретение! — радовался Владимир Ильич. — Теперь дело за мастером. Нужен очень опытный краснодеревщик, а главное — абсолютно верный человек.
— Есть у меня на примете такой умелец, — сказал Марк Тимофеевич. — За верность его я ручаюсь.
Сейчас мы знаем имя этого умельца. Хитрый столик соорудил рабочий завода Михельсона — краснодеревщик Семён Петрович Шепелёв. Творение его рук позволило партии в течение семнадцати лет, до победы Октябрьской революции, хранить в нём важнейшие партийные документы. Сколько раз при обысках столик ощупывали, выстукивали, опрокидывали опытные полицейские ищейки. Столик ни разу не выдал тайны. Вот почему и сегодня он занимает почётное место в Центральном музее Владимира Ильича Ленина. Его, верного ветерана партии, бережно хранят под стеклянным колпаком…
Переписка с товарищами, остающимися в России, будет контролироваться охранкой. Надо придумать хитрые шифры, хорошо запоминающиеся ключи к ним, которые бы не могли раскрыть опытные знатоки конспиративных шифров в охранке. Владимир Ильич придумывал шифры, выверял их, работал с точностью математика и вдохновением поэта. Нужно было подумать и над тем, как сохранить здоровье и бодрый дух товарищей на случай их ареста.
— Ты скоро будешь врачом, — сказал Владимир Ильич брату. — Я хочу получить у тебя медицинские советы. Как следует держать себя в смысле личной гигиены, если попадёшь в каторжную тюрьму? Когда я сидел в «предварилке», я никогда не упускал случая натирать полы в камере и коридорах. Устраивал себе такую славную гимнастику. Но этого мало. Надо научно разработать режим, который бы помог сохранить силы, укрепить волю.
Дмитрий Ильич с удивлением посмотрел на брата.
— Почему ты думаешь о каторге? Ведь ты едешь за границу?
— Всякое может быть, — ответил Владимир Ильич. — Не навек же я туда еду. Эти советы надо широко распространить среди наших товарищей, чтобы каждый был подготовлен и знал, как вести себя в тюрьме.
Наконец приехали муж и жена Шестернины с Тамбовщины и вслед за ними товарищ Владимира Ильича по сибирской ссылке Пантелеймон Николаевич Лепешинский.
Домик на Пахре стал походить на штаб. Когда молодые люди собирались в столовой и начинали вполголоса разговаривать, Фридка шла в переднюю и ложилась у порога. Зато когда все выходили с крокетными молотками в сад, Фридка могла вдоволь бегать по дорожкам, хватать в зубы закатившийся в траву шар, а по утрам, когда все обитатели дома бежали на Пахру купаться, Фридка сидела на берегу и беспокойно водила глазами, следя за пловцами. Больше всего беспокойства ей доставлял Владимир Ильич. Вот он плывёт саженками, выбрасывая поочерёдно вперёд руки, и вдруг скрылся под водой. Фридка встаёт на четыре лапы, вытягивает вперёд морду. Пропал человек, нет его. Фридка с размаху кидается в реку, а Владимир Ильич вынырнул на противоположном берегу, выбрался на песок и звонко смеётся.
— Что, испугалась? Думала, утону? — похлопывал он Фридку по мокрой голове.
Вечером к хозяйке дома Кедровой пришёл исправник. Он подробно расспрашивал хозяйку, чем занимаются Ульяновы, что за гости к ним приехали, не таятся ли они, не готовят ли заговор против государя императора. Хозяйка с недоумением посмотрела на старика и пригласила его выйти на крыльцо. Из-за забора доносились взрывы весёлого смеха, слышался стук крокетных шаров, синий дымок от самовара вился над забором. Приятный тенор запел:
— Кто это поёт? — спросил исправник.
— Старший сын Ульяновых, Владимир Ильич, — ответила Кедрова.
— Тот самый, который прибыл из сибирской ссылки?
— Вам лучше знать, откуда он прибыл. Но он смеётся звонче всех и всегда насвистывает или напевает. По утрам вперегонки с подольскими мальчишками плавает в Пахре. Наговаривают вам на него. Разве революционеры умеют так веселиться? Это вполне благопристойные молодые люди, — уверенно заключила хозяйка.
Поверх забора показалась огромная голова Фридки. Увидев полицейскую форму, она оскалила зубы, глаза её грозно засверкали, и исправник поспешил уйти в дом.
…На третий день вернулась Мария Александровна.
Все дети встречали её на станции, и никто не задал вопроса, удачно ли она съездила. И она ничего не сказала. Но, приехав домой, она вынула из ридикюля казённую бумагу с печатями и протянула её Владимиру Ильичу:
— Вот тебе подарок.
— Разрешили? — просиял Владимир Ильич и крепко прижал к себе мать. — Ты не представляешь, дорогая мамочка, какой это замечательный подарок!..
В последний вечер перед отъездом в Уфу решили покататься на лодках. На живописной лужайке под шатром ивы устроили весёлый пикник: пели песни, играли в горелки. Мария Александровна сидела в тени на пенёчке и с улыбкой наблюдала, как веселится молодёжь.
К вечеру, освежённые прогулкой, с охапками незабудок и ромашек возвращались домой. Выбрались на берег. Над Пахрой поднималась голубоватая дымка. Солнце село, и стало быстро темнеть. Острее запахло свежескошенным сеном, и, словно по мановению дирижёрской палочки, застрекотали кузнечики. Плеснулась рыба в притихшей Пахре, испуганно квакнула лягушка, в прибрежных кустах отчётливо и звонко чокнул соловей раз, другой и замолк. По скошенному лугу промчались на неосёдланных лохматых лошадёнках мальчишки в ночное и скрылись в лощине. И снова тишина наполнилась стрёкотом кузнечиков. В небе загорелись первые звёзды.
Никому не хотелось уходить в дом. Уселись у стога и молчали. Владимир Ильич, облокотившись на охапку сена, жадно вдыхал душистый воздух, ощущал тепло ещё не остывшей после дневного зноя земли. Завтра всем предстояло разъехаться в разные стороны. Шестернины возвращались на Тамбовщину. Лепешинский ехал в Псков. Владимир Ильич с Марией Александровной и Анной Ильиничной — на Волгу. Доктор Левицкий стал не просто доктором, а корреспондентом газеты «Искра», а Мария Ильинична и Дмитрий Ильич отныне являлись агентами «Искры». Все сидели и думали о трудном и прекрасном пути, на который вступили многие честные русские люди.
— Давайте споём, — нарушил тишину Владимир Ильич, — нашу любимую.
Эту песню перевёл с польского языка в сибирской ссылке Глеб Максимилианович Кржижановский, и её часто пели они в Шушенском.
Товарищи тихо, почти шёпотом подхватили:
С противоположного берега потянуло дымком и запахом печёной картошки. Это ребята в ночном развели костёр в ложбине, в горячих углях ворошили картошку. Неподалёку вспыхнул и взметнулся высоко в небо другой костёр, и на фоне пламени возникли мальчишеские фигуры.
— Костры! — задумчиво сказал Владимир Ильич. — Мы с вами, товарищи, тоже раскладываем костры по всей России, и они загорятся от нашей «Искры».
— И кто знает, — откликнулся Пантелеймон Николаевич, — может быть, всем этим мальчишкам будет суждено зажечь огонь революции.
На опушке леса вспыхивали всё новые огни. Мальчишки подкидывали сухой валежник, ворошили угли, и в небо взлетали мириады искр и становились звёздами.
На земле стрекотали невидимые кузнечики, над ухом тонко звенели комары, предвещая хорошую погоду.
ХИТРЫЙ СТОЛИК
Мария Александровна шла по Крещатику, щурилась от яркого зимнего солнца и наслаждалась морозным пахучим воздухом, сказочной красотой города. Зима, словно соревнуясь с летом, разукрасила скверы и сады Киева, опушила каждую ветку, превратила заснувшие почки в пышные цветы, выстелила улицы белым ковром. Пирамидальные тополи, кудрявые каштаны выстроились по обеим сторонам улицы торжественно неподвижные, красуясь на солнце своим роскошным, но непрочным нарядом.
Владимирская горка белым прибоем вскипала на фоне голубого неба.
Большие зеркальные витрины зима задёрнула тончайшим тюлем, разрисованным диковинными тропическими цветами и листьями. Даже фонарные столбы и гранитные цоколи зданий были покрыты сверкающей изморозью.
Вздымая снежную пыль, проносились лёгкие возки, лошади с заиндевевшими холками весело позванивали бубенчиками; в сквере молодые люди затеяли игру в снежки, освежая после новогодней ночи разгоревшиеся от вина и танцев лица.
На сердце у Марии Александровны было солнечно и отрадно. За несколько месяцев Киев стал для неё родным городом: здесь были её дети, и все они на свободе.
Судьба, которая теперь и для Марии Александровны стала означать большевистскую партию, забросила в этот город её детей — Анну, Марию, Дмитрия и его молодую жену Антонину. Ну, а где дети, там и мать. Было бы совсем хорошо, если бы и Володя с Надей жили поблизости, а не в далёкой Женеве, и Марк не в Питере, а здесь, но главное — все здоровы, все на свободе.
И легко дышится, и морозец такой славный, бодрящий, и сегодня ночью все вместе встретили Новый, 1904 год! Хорошо встретили! Когда часы стали бить полночь, Мария Александровна, по обычаю, с каждым боем высказала про себя двенадцать желаний. Семеро детей у неё сейчас. Каждому пожелать здоровья, счастья. Уже семь ударов, и ещё удачи их общему делу. А потом её материнские сокровенные желания: чтобы появились у неё внучата, и чтобы весь этот 1904 год она не разлучалась с детьми, и чтобы хватило у неё сил идти с ними дальше…
Мария Александровна вынула из кармашка муфты большие часы Ильи Николаевича, с которыми она не расставалась, и заторопилась домой: скоро придут товарищи к её детям, и она, мать, должна быть на своём посту.
На Лабораторной улице было пустынно. Только сверху вниз по крутому спуску катилась ватага мальчишек на санках.
Ничего подозрительного опытный глаз Марии Александровны не приметил.
Анна, Мария и Дмитрий сидели в столовой, ждали Глеба Максимилиановича Кржижановского и его жену Зинаиду Павловну. На шахматном столике поблёскивала украшениями ёлка, во всех комнатах весело потрескивали дрова в печках. Было по-домашнему уютно и тихо. Шум с улицы не доносился сюда, в маленькую квартиру во дворе.
Через несколько минут раздался условный звонок.
Дверь пошла открывать, как всегда, Мария Александровна. И друзей, и врагов она встречала первой. И комната у неё, как всегда, помещалась на переднем крае, поближе к входной двери.
— С Новым годом! С новым счастьем! С новым здоровьем! — приветствовали молодые люди Марию Александровну.
Зина прижалась к ней, целовала её щёки, белые волосы.
— Вы так похожи на мою мамочку, хотя она совсем, совсем другая, — говорила Зина.
— Наверно, все мамы чем-то похожи друг на друга, — ласково отозвалась Мария Александровна.
— А я вам новогодний привет привёз от Владимира Ильича, — сказал Глеб Максимилианович. — Только что получил от него письмо.
— Как они там? Что-то не балуют меня последнее время письмами. Здоровы ли?
— Живы, здоровы. У Владимира Ильича сейчас горячая пора, и он как на поле брани.
Дмитрий Ильич уже откупоривал бутылку вина — отметить Новый год с друзьями.
— Выпьем за старый год, — предложил он.
— Тысяча девятьсот третий был славный год, — отозвалась Мария Ильинична. — Подумайте только, товарищи, создана партия. Есть программа — ясная цель для всего рабочего класса.
— Выпьем за наши успехи в наступающем году, — предложил Глеб Максимилианович, — выпьем за здоровье дорогого Владимира Ильича. Он дерётся за нашу партию, как барс. Трудно ему приходится.
— Товарищи, дорогие, — восклицает Анна, — что же это творится? Меньшевики каждое собрание превращают в сущий ад. Они забыли, что у нас есть общие враги, они избрали мишенью нас, большевиков.
— Владимир Ильич прислал статью «Почему я вышел из «Искры». — Глеб Максимилианович вынул из нагрудного кармана письмо. — Меньшевики, подлым путём захватившие «Искру», разумеется, отказались его напечатать. Нам надо распространить письмо здесь, напечатать в подпольных типографиях. Прошу, Мария Ильинична, организуйте это дело. Драгоценное письмо. Пока надо спрятать его подальше.
Мария Александровна зажгла свечи на ёлке; все уселись вокруг, смотрели на мерцающие огоньки, и всем вспомнилось детство.
Глеб Максимилианович затянул:
Ему стали подпевать. Кржижановский очень любил петь и сам сочинял революционные песни или переводил их с польского, французского. Но никто не знал, какой у него голос: революционные песни всегда пели вполголоса, почти шёпотом, и звучали они от этого задушевнее.
Снова раздался условный звонок.
— Это Юрий, — сказал Глеб Максимилианович.
Мария Александровна пошла открывать дверь.
Молодой человек учтиво поздоровался с ней.
— Шсский… — произнёс он нарочито невнятно свою фамилию. — Добрый вечер, товарищ Клэр, — протянул он руку Кржижановскому, — добрый вечер, Ольга, — назвал он по партийной кличке Зинаиду Павловну, — вашу лапку, товарищ Медведь, — приветствовал он Марию Ильиничну, — моё почтение, товарищ Андреевский, — поздоровался с Дмитрием Ильичом.
Мария Александровна ушла в свою комнату.
— В письме Владимир Ильич пишет… — начал было Глеб Максимилианович.
Но Юрий перебил его:
— Вы хотите сказать, Старик пишет.
— Да, да, совершенно верно. Старик пишет, что мартовцы захватили «Искру» и подбираются к Центральному Комитету партии. Захватывают партийные деньги и открыто говорят: «Ждём провала большевиков в России, тогда наша возьмёт».
— Вот до чего докатились, — возмущалась Зинаида Павловна. — Ждут нашего ареста! Это же предательство!
— А что же предлагает Старик? — живо поинтересовался Юрий.
— Старик считает необходимым, — продолжал Кржижановский, — чтобы мы, работники ЦК, объездили всю Россию и завоевали на нашу сторону местные комитеты, где засели меньшевики. Это в первую очередь относится к нашему Киеву…
— Не так страшен меньшевистский чёрт, как его представляет Старик в своей Женеве, — мрачно бросил Юрий и затянулся папиросой.
— Я просил бы вас не курить, — серьёзно заметил Дмитрий Ильич, — мамочка не выносит табачного дыма.
— Но вы сами, насколько я знаю, курите.
— В квартире, где она находится, — никогда!
Юрий погасил папиросу.
— К стыду нашему, должен признаться, — ответил Глеб Максимилианович, — что Старик осведомлён о положении в России и даже в Киеве значительно лучше, чем мы с вами. У него великолепная информация.
— А я думаю, что нам на месте виднее. Впрочем, хватит нам выяснять отношения. Меньшевики и большевики — члены единой партии. Можно не обращать внимания на оттенки.
Мария Ильинична вскочила, возмущённая:
— «Оттенки»! Хороши оттенки! Меньшевики не верят в наше дело, не верят в победу. На съезде большинство пошло за Лениным. Что же, мы должны это большинство потерять?
— История нас рассудит, — заключил Юрий.
— Завтра мы тронемся в путь по комитетам, — сказал Кржижановский, не желая разжигать ссору.
— Вы увидите, — убеждённо добавил Дмитрий Ильич, — какие резолюции будут приняты рабочими в поддержку Ленина. Влияние Ленина в партии огромно, — я убедился на съезде и убеждаюсь каждый день, встречаясь с рабочими!
— Не Ленина, а Старика, — язвительно поправил Юрий. — И, кстати, сам Старик указывал в каком-то из последних писем, что полагаться на ваши речи о влиянии имени Ленина — ребячество.
— Вот по этому вопросу я нахожусь в оппозиции и считаю, что Ленин — наше самое сильное оружие. Не на ваш же авторитет мне ссылаться.
— Митя, не горячись, — успокаивала брата Анна Ильинична.
— Ленин… Митя… Маняша… Что это за конспирация? Семейственное согласие здесь неуместно.
— Это согласие партийное, принципиальное, — отрезал Глеб Максимилианович.
— Кстати, вам бы не грех познакомить меня с последним письмом Старика, — заметил Юрий.
— Оно сейчас спрятано, — отвечает Мария Ильинична.
— Где? — поинтересовался Юрий.
— Ни один партийный конспиратор не задаст такого бестактного вопроса, — напомнила ему Зинаида Павловна.
— Тогда мне здесь делать нечего. — Юрий встал и демонстративно ушёл, не попрощавшись.
Вскоре ушли и Кржижановские.
Мария Александровна зашла в столовую.
— Дети, вы так громко разговаривали и спорили. Между вами нет согласия? — спросила мать.
— Нет, мамочка, между нами согласие полное. Но здесь был один чудак, и Митя погорячился, — ответила Анна Ильинична.
— Чудак ли это? — задумчиво произнесла Мария Ильинична. — Это примиренец, если не готовый меньшевик.
— Я как медик полагаю, что процесс у него необратимый, — сердито заметил Дмитрий Ильич. — Он всецело на стороне меньшевиков, и его поведение мне явно не нравится… Итак, завтра мы разъедемся по комитетам. Я пошёл домой: Тоня, наверно, волнуется.
— А кто останется с мамочкой? — спросила Мария Ильинична.
— Я останусь, — ответила Анна Ильинична.
— Ни в коем случае, — возразила Мария Александровна. — Дело прежде всего, а я уж не такая хворая и старая, чтобы при мне оставался кто-нибудь. Раз нужно — поезжайте все.
— С тобой останется Тонечка. — Дмитрий Ильич нежно поцеловал мать и ушёл.
— А теперь спать, спать, — решительно сказала Мария Александровна и погасила свечи на ёлке. Медовый запах воска распространился по комнате.
Мария Александровна проверила, хорошо ли заперта дверь, и легла. Лежала и думала о трудной судьбе своих детей.
Человек с шипящей фамилией чем-то взволновал их. Очень неприятный человек, и глаза у него нечистые, и любезность не от сердца.
Громкий стук в дверь прервал её мысли.
Сердце заколотилось. Нащупала ногами ночные туфли, накинула халат, неслышно прошла через столовую в спальню.
— Полиция, — предупредила она дочерей и пошла открывать.
И снова всё перевёрнуто в квартире, ёлка, словно забившись в угол, тускло поблёскивает украшениями, шахматный столик опрокинут, ящики из него выдвинуты, шахматы раскиданы по полу. Даже золу выгребли из печей, и горячие угли на поддоне покрылись летучим серым пеплом.
Полицейские увели обеих дочерей…
Мария Александровна осталась одна.
В окно брезжит рассвет. «Надо предупредить Митю, — думает Мария Александровна. — И, наверно, придётся переехать жить к нему, пока всё уладится. Немедленно написать письмо Володе…»
Подходя к дому, Мария Александровна ещё издали увидела, что в подъезде толпятся люди. Почувствовала что-то неладное.
— Заарестовали их, — сообщил дворник, когда она подняла руку, чтобы позвонить в квартиру Дмитрия Ильича.
Итак, арестованы все четверо.
«Пойти к Кржижановскому? Нет. Нельзя. Могу притащить за собой «хвост».
Еле передвигая ноги, она пошла на Лабораторную. И сразу спина согнулась, словно на неё взвалили тяжёлую ношу.
На углу сквера неожиданно возник Глеб Максимилианович.
— Дорогая Мария Александровна, не волнуйтесь. Их арестовали заодно со всеми. Была массовая операция, Зину схватили на улице. Я ухожу в подполье. Партийный архив передайте человеку, который предъявит вам вторую половину этого листка. И больше никому.
Глеб Максимилианович сунул Марии Александровне в руки обрывок календарного листка и исчез.
Мария Александровна спрятала листок в муфту.
…Ах, какая высокая и крутая лестница домой!.. Плохо слушаются ноги. Отперла квартиру, вошла к себе в комнату и без сил опустилась на стул. С портрета на неё смотрели строгие глаза Ильи Николаевича.
«Илюша, ты неодобрительно смотришь на меня. Я написала Володе очень грустное письмо. Плохо сделала, друг мой, плохо, проявила слабость. Они ведь мне ничем оттуда помочь не могут. Напрасно их растревожила. Что ждёт коих детей? Куда пойти? Киев теперь чужой, незнакомый город. Ни одной родной души».
Мария Александровна принялась за уборку. Надо было чем-то отвлечься.
У дверей тихонько задребезжал звонок. Один, два, три раза. Свои… Кто же это?
Мария Александровна открыла дверь.
У порога стоял человек с шипящей фамилией.
«Неужели это тот человек, которому я должна передать партийный архив?»
— Здравствуйте, дорогая Мария Александровна! — Юрий говорил ласково и вкрадчиво. — Очень сочувствую вашему горю. Но будем надеяться, что всё уладится. Я пришёл за документами. Как хорошо, что я успел познакомиться с вами!
— Все документы забраны при обыске, — после секундного колебания ответила Мария Александровна и отчуждённо посмотрела на молодого человека.
— Но последнее письмо Владимира Ильича, я надеюсь, не попало в руки полиции?
— Забрали всё, — ответила она холодно.
— Не может быть, чтобы забрали! — воскликнул Юрий. — Мария Ильинична его хорошо спрятала. Это драгоценное письмо! Может, поискать?
— Полиция уже тщательно всё обыскала. Ничем не могу помочь.
Юрий с холодной вежливостью откланялся.
— Прошу прощения. Если понадобится моя помощь — я к вашим услугам. Есть ли у вас деньги?
— Да, я получаю пенсию и смогу обойтись, — поблагодарила она.
Дверь за Юрием захлопнулась.
«Неужели это он предал?» — подумала Мария Александровна, и холодок омерзения пробежал по спине.
Мысли снова обратились к детям. Нужно действовать: идти в жандармское управление, хлопотать. А она не может уйти, пока важные документы не переданы в надёжные руки.
В полдень явилась девушка, румяная от мороза, улыбчивая. Она сразу расположила к себе сердце матери.
— Здравствуйте, Мария Александровна! Я по поручению Глеба Максимилиановича. У меня есть письмецо. — Девушка протянула кусочек листка.
Мария Александровна вынула из глубокого кармана платья вторую половинку. Сложила вместе. Половинки сошлись.
— Обождите, пожалуйста, в моей комнате. Сейчас я вам принесу.
Мария Александровна прошла в столовую, плотнее задёрнула на окнах занавески. С трудом перевернула опрокинутый шахматный столик, вынула из филёнки гвоздик и потянула к себе крышку. В углублении лежали материалы партийного съезда, газеты «Искра», письмо Владимира Ильича. Мария Александровна вынула документы, задвинула крышку, вставила на место гвоздик. Ласково погладила блестящую поверхность столика и поставила на него вазу с цветами.
Девушка аккуратно уложила документы в специальные внутренние карманы, вшитые в подкладку жакета.
— Теперь я не замёрзну. — И она улыбнулась, да так хорошо и светло, что Мария Александровна с облегчением вздохнула: документы были в надёжных руках.
Мария Александровна присела к окну, провожая девушку взглядом, пока она шла по двору. Перед глазами стояло её лицо. «Как украшает человека благородное дело!» — подумала мать. Она знала многих товарищей своих детей, и все они для неё были один красивее другого. Особенно хороши у них глаза, зажжённые большой мыслью, не затуманенные корыстью, завистью, злобой. Много видела Мария Александровна и полицейских, жандармов, чиновников и их начальников. И не могла вспомнить ни одного красивого. Может быть, и были среди них люди с правильными чертами лица, стройные, холёные, с изнеженными руками, но красивого не было. И глаза у них другие: видела она умные и тупые, злые и равнодушные, надменные и угодливые, а искры большого внутреннего огня ни разу в них не приметила.
Она оделась и отправилась в жандармское управление. Просила освободить одну из дочерей для ухода за ней, старой и больной матерью. Отказали… Получила разрешение на свидание с Аней. И то хорошо…
Мрачная большая комната для свиданий разделена двойной железной решёткой. С одной стороны — заключённые, с другой — толпа родственников.
В комнате стоял невообразимый галдёж. Женщины помоложе и мужчины заняли первый ряд у решётки. Мария Александровна вытягивала голову, становилась на цыпочки, чтобы увидеть свою дочь.
— Мамочка, здесь я! Как ты себя чувствуешь? — кричала Анна Ильинична.
— Хорошо. Я совершенно здорова! — Но слабенький голос матери тонул в галдёже. Пыталась объясниться жестами, но за широкими спинами стоящих впереди Аня поминутно теряла мать из виду. — Береги здоровье, Анечка! Я хлопочу, хлопочу!
Аня разводила руками и прикладывала ладонь к уху, что-то отвечала, но, как ни старалась мать выделить из общего людского гула голос своей дочери, она могла уловить только отдельные слова. Марию Александровну толкали, оттирали назад, сдавливали со всех сторон. От крика и напряжённого стояния на цыпочках заболело сердце, сорвался голос.
Вконец измучившись, она взглянула на дочь ещё раз, приветливо помахала ей рукой.
Анна Ильинична с отчаянием в глазах видела, как голова матери в маленькой потёртой шляпке то показывалась, то исчезала, как в волнах, в людской толпе.
…Проходили дни… недели… месяцы…
Каждое утро, захватив с собой четыре узелка, ехала Мария Александровна на конке в другой конец Киева, в лукьяновскую тюрьму.
Без устали писала прошения, просиживала часами в приёмных жандармского управления, генерал-губернатора, суда, прокуратуры, добивалась личного приёма.
Семнадцать лет назад, когда её детей, Сашу и Аню, впервые заключили в тюрьму и над сыном нависла смертельная опасность, она ещё верила в монаршую милость, наивно полагала, что можно тронуть сердце царицы-матери. Она писала:
Вашему Величеству, как матери, вполне понятен весь ужас моего положения, то горе и отчаяние, которое невозможно выплакать слезами, рассказать словами… заступитесь… помогите…
Императрица не отозвалась. Не помогла. Не заступилась. У неё было сердце волчицы.
С тех пор прошло много лет. Мать потеряла веру в бога, в монаршую милость, в справедливость царских законов. Она верила теперь, свято верила в дело своих детей, ради которого они отказались от благополучной жизни, подвергались заключению в тюрьмы, шли в ссылку. Вместе со своими детьми мать прошла великую школу борьбы.
Она теперь хорошо знала: рассчитывать на сочувствие к ней жандармов, на уважение их к заслугам покойного мужа и даже к дворянскому сословию не приходится. Только борьба, умная, терпеливая, только знание законов, только хитрые и убедительные доводы могут облегчить положение её детей.
Стараниями Марии Александровны через полгода Анна Ильинична и Мария Ильинична были освобождены. Улик против них не было. И на этот раз выручил хитрый столик.
Но Дмитрий Ильич с женой оставались в тюрьме. При обыске у них была обнаружена программа занятий в рабочих кружках. В программе были перечислены труды Маркса и Энгельса, произведения Ленина.
После освобождения из тюрьмы дочерей Мария Александровна энергично принялась хлопотать об освобождении сына и его жены.
Она писала киевскому прокурору:
У сына при обыске отобрана писанная кем-то и данная ему на хранение программа занятий с рабочими.
Полагаю, что семимесячным заключением, полтора месяца из них он был даже продержан в крепости, сын мой достаточно уже наказан за имение при себе этого листка…
Не могу не высказать глубокого убеждения своего, что дети мои были арестованы единственно вследствие предубеждённого взгляда на семью нашу, как это было три года назад, в Москве, когда во время беспорядков в городе забрали семейных моих, а потом отчислили их от дела.
Убеждение это подтверждается замечанием, сделанным мне в Киевском жандармском управлении, куда я явилась тотчас после ареста детей и где мне указали на старшего сына, прибавив, что он сильно скомпрометирован.
Старший сын мой живёт уже более 10 лет отдельно от семьи и несколько лет за границей, и если он действительно скомпрометирован, то я не думаю, чтобы сёстры и брат его должны были отвечать за его поступки.
Упорный, мудрый и настойчивый ходатай по делам своих детей, она и на этот раз сумела вырвать из тюрьмы сына Дмитрия.
«Жена моего сына тяжело больна, дальнейшее заключение её в тюрьме может кончиться её гибелью, и в этой смерти будут повинны тюремное начальство и жандармы. Спасти её жизнь может только освобождение из тюрьмы» — вот смысл её ходатайства за жену сына.
И Тоня была вырвана из тюрьмы.
Дети снова на свободе. И ласково звучит голос матери:
«Будьте осторожны! Будьте очень осторожны!»
И ни слова упрёка, ни слова о своих бессонных ночах, о своих больных ногах, которые столько выстояли, столько тропинок протоптали…
НА ОТДЫХ К МАМЕ
К вечеру ливень прекратился. Далеко за лесом изредка погромыхивал гром. По светлому небу неслись дымные облака.
В наступившей после дождя тишине особенно звонко журчали ручьи. Ветер стряхивал с цветущих лип вороха мокрых душистых цветков.
Пронёсся поезд, сверкнул вереницей огней, и в лесу стало ещё сумрачнее.
— Липы-то как пахнут! — вдохнул полной грудью Владимир Ильич.
— Словно по густому мёду идёшь, а не по грязи, — отозвалась Надежда Константиновна, с трудом вытаскивая из раскисшего чернозёма ноги.
Мария Ильинична поскользнулась, уцепилась за рукав брата и весело рассмеялась:
— Ну и грязь! Чуть было не увязла в этом меду, как муха!
Ветер распахнул ветви кустарника, и вдалеке мелькнуло освещённое окно.
— Мамочка нас ждёт. Наш дорогой маяк, — задушевно произнёс Владимир Ильич. — Страсть как люблю это освещённое окно! Как бы темно ни было и как бы поздно ни приехал, тебе всегда светит это окно и дверь непременно откроет мамочка…
Владимир Ильич осторожно толкнул набухшую калитку; она заскрипела, как простуженная. В матовом свете белой ночи нежной пастелью проглядывал цветник. Гуськом пробирались по узкой тропинке, задевая руками влажные цветы. Едва ступили на скрипучие ступеньки, из сеней распахнулась дверь, и на крыльце, кутаясь в платок, появилась Мария Александровна.
— Мамочка, иди в дом, простудишься! — воскликнул Владимир Ильич.
На пороге сняли мокрые ботинки и нырнули в освещённый, празднично убранный дом.
— Наконец-то, — обнимала детей Мария Александровна. — Последний поезд давно прошёл, а вас всё нет и нет. Я уж думала, опять что-то задержало.
В столовой мурлыкал самовар, на конфорке грелись бублики, стол был накрыт к ужину.
Прислушиваясь к смеху своих детей, обступивших на кухне рукомойник, Мария Александровна разливала чай. Как хорошо, когда в доме звенят весёлые голоса!
Надежда Константиновна и Мария Ильинична уселись за стол и нацелились на сладкие булочки.
Владимир Ильич расхаживал по комнате, рассматривал полевые цветы, в изобилии заполнившие вазы на столе, пианино, потрогал руками пальму, чему-то улыбнулся, далёкому…
— Хорошо, очень хорошо, — потирая руки, сказал он. — Отдохнём всласть.
— Садись к столу, Володюшка, — позвала мать.
— В Симбирске у нас такая же пальма была, в гостиной против рояля стояла, — задумчиво сказал Владимир Ильич. — Когда мы уезжали оттуда, последнее, что мне запомнилось, — это пальма в окне.
— Как дела, Володюшка? — внимательно посмотрела мать на сына. — По газетам всё как-то мрачно выходит. Все в один голос утверждают, что революция погибла, а вот ваше «Эхо»…
— Наше «Эхо» — эхо рабочих голосов, пролетариат не намерен сдаваться. И я буду последний, кто скажет, что революция потерпела поражение.
— Ты знаешь, Володя, я сегодня выступала у работниц на Невской бумагопрядильне, — начала было Мария Ильинична.
Но Надежда Константиновна угрожающе на неё зашикала.
— Володя! Мы приехали отдыхать, ты же обещал… — Надежда Константиновна погрозила пальцем. — Нет, товарищи, так не годится. Володя вконец умаялся. За два только месяца выступал пятнадцать раз, написал около сорока статей, большую брошюру. А вчера пришёл с совещания, поднял обе руки кверху и говорит: «Сдаюсь, надо передохнуть». Дал мне торжественное обещание все восемь дней быть неграмотным, обещал ходить по грибы, купаться, собирать роскошные букеты водяных лилий.
— Ну что ж, — пожимает плечами Владимир Ильич, — я готов быть даже глухонемым. Только последний вопрос: что пишут Аня, Марк и Митя, как у них идут дела?
— Письма коротенькие, — ответила Мария Александровна, — пишут, что здоровы, много работают. Завтра дам почитать, а сейчас пора спать.
Все послушно расходятся по комнатам.
Мария Александровна ещё долго сидит у себя в спальне; ей хочется продлить ночь, чтобы дети выспались, набрались сил.
В прошлом, 1905 году всю страну охватил пожар революции. Рабочие объявили всеобщую забастовку, остановили станки, погасили топки, с оружием в руках вступили в бой с царизмом за дело всего народа. За рабочими восстали крестьяне. По всей стране запылали помещичьи усадьбы, заколебалась армия. Никогда ещё не было такого. И все дети Марии Александровны — в этой борьбе, в самой гуще событий. Митя в родном Симбирске организует рабочих и крестьян. Марка за участие в организации всеобщей железнодорожной забастовки сослали в ссылку в Самару, но он и там вместе с революционными рабочими. Маняша ведёт работу на питерских фабриках. У неё талант разговаривать с женщинами, вести их за собой. Аня работает в большевистском издательстве. На днях поехала к мужу в Самару, повезла указания Центрального Комитета.
Читая ежедневно «Эхо», Мария Александровна узнает руку своего сына Владимира, понимает, что судьба революции — дело его жизни. Надежда Константиновна — его верный помощник, большой друг, заботливая жена. «Как же хорошо, что они выбрались отдохнуть! Зачем только мне понадобилось затеять разговор о том, что пишут газеты?» — досадует на себя Мария Александровна.
…В окружении высоких сосен стоит дача Елизаровых в Саблине.
Взошло солнце и опрокинуло на землю тени от деревьев. Проснулись птицы, зазвенел лес.
Тихо открылась дверь, и на крыльцо вышел Владимир Ильич.
Прошёлся по саду, сделал несколько гимнастических упражнений, поднял голову и загляделся на скворечник.
Старый скворец, сидя на крыше, уговаривал птенца соскользнуть с площадки, испробовать крылья. А птенец не решался. Тогда скворец расправил крылья, плавно всплыл вверх, облетел скворечник, опустился на крышу и снова принялся уговаривать малыша, рассыпая самые убедительные трели. И скворчиха, высунув голову в круглое окошечко, подбадривала своё детище. Наконец птенец решился, сорвался с площадки и, судорожно, быстро взмахивая крыльями, пища от страха, опустился на ветку рябины. Отец летал вокруг него — то падал вниз, то взмывал вверх. Птенец повертелся на ветке и перелетел к матери. И они весело заверещали. Птенцу уже не сиделось.
Он делал круги всё шире и шире и наконец вовсе скрылся из виду.
Владимир Ильич покачал головой, усмехнулся, вынул из кармана сложённую вдвое тетрадь и карандаш, уселся на крылечке и принялся писать…
Мария Александровна долго не решалась выйти из комнаты, боялась, скрипнет половица — разбудит детей. Наконец, осторожно ступая в мягких туфлях, вышла в сени. Дверь в сад была полуоткрыта. «Как же это я забыла запереть на ночь дверь?» — мелькнула беспокойная мысль.
На ступеньках сидел Владимир Ильич. Держа тетрадь на коленях, он быстро писал. Мать положила ему на голову руку.
— Мамочка! — вскочил Владимир Ильич и спрятал за спину тетрадь.
Мария Александровна рассмеялась.
— Я просто решил некоторые мысли записать, пока вы спите. Пойдём прогуляемся по саду.
Владимир Ильич увидел огуречную грядку, раздвинул шершавые листья, сорвал огурец, смахнул ладонью колючую щетинку и с наслаждением стал грызть.
— Вкусно!
Из дома послышалось пение.
— Слышишь, Надюша с Маняшей поют жестокие романсы, — усмехнулся Владимир Ильич.
В ситцевых светлых платьях, с туго заплетёнными по-девичьи косами, они выбежали в сад и походили на беспечных девушек — обе смешливые, жизнерадостные.
— С солнечным утром! С началом чудесного отдыха! — кричали они. — Пошли купаться!
— Иди, иди, Володюшка, а я тем временем приготовлю завтрак в беседке. — Мария Александровна сорвала несколько молодых огурчиков и протянула сыну: — Вам на дорогу.
…Вернулись с Тосны с букетами ромашек.
— Ой, какие мы голодные!.. — смеялась Мария Ильинична. — Мамочка, Володя так нырял и отмахивал саженками, что всё саблинское мальчишеское племя решило, что он знаменитый моряк.
— А где же Володя? — спросила мать.
Мария Ильинична и Надежда Константиновна оглянулись с недоумением.
— Странно. Он всё время шёл позади нас и насвистывал, а потом попросил нас спеть. Куда же он исчез?
— Я, кажется, догадываюсь, — вздохнула Надежда Константиновна. — Наш романс ему потребовался для того, чтобы улизнуть на станцию за газетой. Не так-то легко ему быть неграмотным… А вот и он, и, конечно, с пачкой газет.
Надежда Константиновна и Мария Ильинична со смехом побежали навстречу Владимиру Ильичу с намерением отобрать газеты, но, взглянув на его помрачневшее лицо, остановились.
— Володя, что случилось? — спросила обеспокоенная Надежда Константиновна.
— Дума разогнана, — ответил Владимир Ильич. — Я так и предполагал. Этого надо было ожидать… Итак, царь переходит в наступление. Нужно немедленно собрать товарищей, посоветоваться о тактике партии. — Владимир Ильич развернул газету.
Надежда Константиновна прочитала набранные большими чёрными буквами слова:
Мария Александровна молчала. Она поняла, что отдых кончился.
Владимир Ильич взглянул на её огорчённое лицо.
— Мамочка, ты понимаешь, мы должны немедленно ехать. — Он вынул из кармана часы. — Поезд из Питера только что прошёл, значит, обратно будет через час. Мы ещё успеем позавтракать.
Сидели молча, поглядывая на сосредоточенное лицо Владимира Ильича.
— Маняша, ты поедешь на Выборгскую сторону по известным тебе адресам. Соберёмся у Менжинского. Надя поедет на Лиговку.
Владимир Ильич одной рукой помешивал ложечкой чай, другой перелистывал газету.
Скрипнула калитка. Мария Александровна вышла из беседки. У калитки стоял мальчик лет четырнадцати-пятнадцати и в смущении теребил картуз.
— Ты к кому? — спросила Мария Александровна.
— Мне Владимира Ильича.
Мария Александровна насторожилась:
— Здесь такой не живёт.
— Ну, если его нельзя, тогда Надежду Константиновну. Скажите, Ромка пришёл по важному делу.
Вид у парнишки был решительный, глаза смотрели прямо и серьёзно, и только пальцы, вцепившиеся в картуз, выдавали волнение.
Встревоженная Мария Александровна позвала Надежду Константиновну. Увидев парнишку, Надежда Константиновна протянула ему руки как старому знакомому. Мария Александровна успокоилась и вернулась в беседку.
— Беда, Надежда Константиновна, — сказал Ромка не мешкая. — Ефим Петрович просил передать, — он понизил голос, — полиция ищет Владимира Ильича. Я был на станции, там полно шпиков и жандармов.
Надежда Константиновна побледнела.
— Спасибо, Ромушка. Как в Питере сейчас, спокойно?
— Не-е, какое там. Царь Думу разогнал. Народ возмущается.
— Как обратно добираться будешь?
— Мне што, я и зайцем проскочу…
Стараясь казаться беспечной и весёлой, Надежда Константиновна вернулась к столу. Мария Александровна пытливо посмотрела на неё.
— Кто это приходил, Наденька?
— Мальчишка знакомый, землянику продавал, да больно дорого просил, я не взяла.
— Я что-то не приметила у него в руках корзины с земляникой. Едва ли из Питера на дачу землянику возят.
Надежда Константиновна с виноватым видом посмотрела на Марию Александровну:
— Мальчишка приехал сказать, что Дума разогнана. Больше ничего.
Владимир Ильич понял, что получено какое-то тревожное сообщение.
— Надюша, пойдём вещи уложим, а то ты забудешь что-нибудь самое необходимое.
— Да поешьте вы что-нибудь! — взмолилась Мария Александровна.
— Мы сейчас же вернёмся, — заверила Надежда Константиновна.
Владимир Ильич выслушал сообщение спокойно.
— Ты не волнуйся, Надюша. Я пойду отсюда пешком до следующей станции и там дождусь поезда. В Поповке искать меня уж никак не могут. Но идти туда надо немедленно, иначе пропущу поезд.
— Володя, — положила руки на плечи мужа Надежда Константиновна, — мне очень хочется сказать тебе, чтобы ты был осторожен.
Владимир Ильич поцеловал жену.
— Будь совершенно спокойна. Заверяю тебя, что поймать им меня не удастся. Никогда. Слышишь — никогда. Вот что нам сказать мамочке?.. Придётся поплотнее позавтракать, и это её успокоит.
— Но у тебя считанные минуты!
Владимир Ильич уселся за стол, выпил залпом остывший чай.
— Ещё стаканчик, — протянул он стакан матери. — Проголодался ужасно. — Один за другим съел три пирожка, запивая горячим чаем. — Ну, теперь я должен идти. По дороге мне надо навестить одного товарища, — сказал Владимир Ильич весело. — Маняша и Надюша будут ждать меня на станции. Обратно мне не имеет смысла возвращаться. До свидания, дорогая мамочка. Мы обязательно приедем к тебе отдыхать, и тогда уж надолго.
Мария Александровна проводила сына до калитки. Он пошёл по лесной дороге, устремлённый вперёд, энергично помахивая рукой.
Мать смотрела ему вслед, пока он не скрылся за поворотом дороги. На душе у неё было тревожно…
ДРАГОЦЕННОСТЬ
Подошёл поезд, и тотчас раздался второй звонок.
Вячеслав Александрович помог старушке с большой поклажей подняться в вагон, а сам задержался на подножке.
Третий звонок, поезд снова застучал колёсами, и доктор Левицкий спокойно прошёл в вагон. «Хвоста» не было. Кроме этой бабки, на станции в Подольске никто в поезд не сел.
Левицкий встал у окна. Сквозь забрызганные серой грязью стекла мелькали семафоры, полустанки, почерневшие от осенних дождей избы. При подходе к станции поезд резко тормозил, и тогда доктор балансировал, опирался ладонями о стены, чтобы удержаться на ногах.
— Чего ты, мил человек, из стороны в сторону шарахаешься? — спросила его бабка, расположившаяся у окна. — Сел бы. В ногах правды нет.
— Благодарю, — пробормотал Вячеслав Александрович и продолжал стоять.
— И одет-то по-чудному, — рассматривала его старушка, — сам в летнем, а на голову и ноги уже зимнее напялил.
— По погоде, бабушка, и оделся, — ответил доктор. — Видишь, снег с дождём перемешался, ни зима, ни осень. Плащ мне в самую пору.
По раскисшей дороге вдоль железнодорожного полотна шла колонна арестованных. Люди с трудом вытаскивали ноги из густой грязи.
— И сколько их гонют! — пригорюнилась бабка. — Почитай, уже три года на каторгу людей гонют, и конца-краю не видать.
— Всю Россию на каторгу не угонишь, — вырвалось у Левицкого.
— Вот-вот, и я говорю — не угонют. Моего внучка Павлушку тоже угнали. «Ладно, — сказал он на прощанье, — придёт опять пятый год, так мы им покажем».
По вагону шёл жандарм, придерживая рукой шашку. Он посматривал по сторонам, прислушивался к глухому ропоту людей.
— Правильно говоришь, мать, — ответил доктор, завидев жандарма. — Царю надо воздать должное. Верой и правдой служить надо, — сказал и поперхнулся, словно что-то несвежее проглотил.
Жандарм с почтением посмотрел на солидную фигуру мужчины, окинул подозрительным взглядом старую женщину.
— А я-то думала, что ты настоящий человек, а ты вон кто! — плюнула бабка в сторону Левицкого и пересела на другую скамейку, продолжая ворчать. — Ты и стоишь-то, наверно, из почтения к жандармам, всю дорогу навытяжку. Вернётся мой Павлушка с каторги, мы вам покажем…
Левицкий сморщился, как от боли, но промолчал.
Поезд подходил к московскому вокзалу.
На площади доктор вскочил в трамвай. Осмотрелся и с облегчением вздохнул: все места были заняты. Можно постоять. Ухватился за ремень и стоял, раскачиваясь из стороны в сторону. Сидящий рядом студент, взглянув на осанистую бороду и усы солидного господина, встал с места:
— Садитесь, пожалуйста.
— Спасибо, я сейчас выхожу. — Левицкий недружелюбным взглядом окинул студента.
На первой остановке сошёл и, подняв воротник плаща, с осторожкой зашагал по скользкому тротуару.
В гостях у Ульяновых сидит Григорий Степанович. Самовар на столе допевает свою песенку, в окна шлёпаются мокрые комья снега и тяжело сползают вниз по стеклу.
Анна Ильинична угощает гостя чаем, Мария Александровна в кресле-качалке, закутанная пледом, зябко поёживается. Углы комнаты, обставленной тяжёлой хозяйской мебелью, тонут в полумраке.
— Уж я и счёт потеряла, сколько раз мы после Симбирска переезжали с места на место, — рассказывает Мария Александровна.
Анна Ильинична сняла эти две небольшие комнаты в меблирашках на Божедомке в октябре 1908 года. Предстояла большая и важная работа по изданию книги Владимира Ильича. Нужно было затеряться в большой Москве, поменьше встречаться с людьми, чтобы не привлечь внимания полиции, не поставить под удар книгу, которую всё с таким нетерпением ждали.
Но близкие друзья находили их и здесь. Григорий Степанович — земляк, из Симбирска. Работает сейчас в Саратове. Был рабочий паренёк — Гриша, но за эти годы успел закончить техническое училище, поработать агентом «Искры», быть хозяином подпольной партийной типографии, познакомиться с тюрьмой, бежать за границу и там, не теряя даром времени, сдать экстерном экзамен за технологический институт.
— Я сейчас важная персона, — смеётся Григорий Степанович, — получил место баулейтера — производителя работ в крупной немецкой фирме, строю трубочный завод под Саратовом. В кабинете у меня теле фон, сейф, к которому никакие специалисты из полиции не смогут подобрать ключ. Есть где хранить нелегальную литературу.
Григорий Степанович расправил свои роскошные усы и помотал головой, чтобы освободить шею от высокого, туго накрахмаленного воротничка.
— Вот к этой штуке, — показал на воротничок, — никак привыкнуть не могу.
Высокий, синеглазый, с гладко выбритым подбородком, одетый в модный тёмный костюм, он никак не походил на потомственного рабочего, и, уж конечно, никакой жандармский глаз не смог бы в нём заподозрить большевика.
Сидели и вспоминали симбирские годы, волжские просторы.
— Самую главную новость я припас на закуску, — сказал Григорий Степанович. — Я еду в Париж, к Владимиру Ильичу.
— Вы увидите Володюшку! — всплеснула руками Мария Александровна.
— Да, меня посылают наши посоветоваться с Владимиром Ильичем, как быть с меньшевиками. Туманят они мозги рабочим, сами ни во что хорошее не верят, зовут приспосабливаться к царским законам, придумывают разные учения, доказывают, что революция погибла. А у нас знаний не хватает, чтобы разбить их доводы.
— Да, здесь нужно сильное оружие против всех этих лжеучений, которые выросли как ядовитые грибы, — ответила Анна Ильинична. — И Владимир Ильич отлично это знает. Он написал книгу по философии. Она очень поможет всем нам положить конец путанице и блужданиям в рабочем движении. — Анна Ильинична вздохнула. — Рукопись этой книги Владимир Ильич уже отправил в Москву, и вот она где-то задержалась. А может быть, попала в руки полиции?
— Вы не рассказывайте Владимиру Ильичу о моей болезни, — предупредила Мария Александровна, — не тревожьте его. Скажите, что чувствую себя хорошо, не болею. Присмотритесь, как они там живут, не нуждаются ли в чём.
— А о московских делах передайте Владимиру Ильичу следующее… — сказала Анна Ильинична.
— Я пойду к себе, отдохну, вы занимайтесь своими делами.
Анна Ильинична провела мать в спальню, усадила её в кресле, закутала больные ноги пледом.
Разговор Анны Ильиничны с Григорием Степановичем прервал звонок в передней.
Григорий Степанович вынул из жилетного кармана визитную карточку баулейтера фирмы «Вейсман и К°» и положил на стол.
Анна Ильинична пошла открывать дверь.
— Здравствуйте, доктор, — приветствовала она Левицкого. — Как вы кстати, мамочка себя очень плохо чувствует.
Вячеслав Александрович снял шапку, плащ и беспомощно посмотрел на ботики.
— Вам подать стул? — спросила Анна Ильинична доктора.
— Нет, нет. Если разрешите, я останусь в ботиках. Мне трудно нагибаться.
Левицкому не было ещё и сорока лет, и Анна Ильинична посмотрела на него с сожалением.
— Познакомьтесь, — сказала она и провела его в комнату.
Григорий Степанович пододвинул доктору стул. Анна Ильинична налила стакан крепкого чаю.
— Присаживайтесь, — пригласила она Вячеслава Александровича.
— Благодарю. Я с детства привык к «а-ля фуршет» — пить чай стоя, — пошутил доктор, искоса посмотрел на визитную карточку, перевёл взгляд на фетровую шляпу Григория Степановича. — Вредная шляпа, — сказал он резко.
— Вы как доктор полагаете, что в шляпе ходить сейчас не по сезону? — любезно откликнулся Григорий Степанович. — Но я по делам фирмы еду за границу, а там меховых шапок не носят.
— Разрешите, я пройду к больной, — сказал Вячеслав Александрович.
Присутствие Григория Степановича, которого доктор принял за немца, его обеспокоило.
Анна Ильинична открыла дверь в спальню.
— Здравствуйте! Какие жалобы? — нарочито громко сказал доктор, чтобы не выдать себя за старого знакомого перед немцем.
Он тщательно прикрыл дверь.
— Здравствуйте, дорогой Вячеслав Александрович. Как давно я вас не видела и как вы кстати пришли!
— Я вам привёз клад, драгоценности, — прошептал Вячеслав Александрович, наклонившись к Марии Александровне.
— Какой клад? Откуда? — несказанно удивилась она.
— От Владимира Ильича.
— От Володюшки? Вы его видели?
— Шесть лет назад в Цюрихе. Я тогда ездил во Францию изучать шляпное производство и завернул к нему. Видите ли, русский фетр делают с применением ртути. Масса отравлений среди рабочих, а во Франции нашли новый метод… Но об этом после. Сядьте, пожалуйста, спиной ко мне.
Мария Александровна, всё ещё недоумевая, поднялась с кресла, плед соскользнул с колен и свалился на пол.
— Не беспокойтесь, я подниму плед через пять минут. А пока я должен снять пиджак.
Мария Александровна недоумевала: что это случилось с Вячеславом Александровичем, обычно таким серьёзным и простым? Его чудачества сегодня были непонятны.
— Я ещё тогда, в Цюрихе, сказал Владимиру Ильичу, чтобы он располагал мною, и вот я счастлив доложить, что он оказал мне высокое доверие…
Вячеслав Александрович снял пиджак. Грудь его была тщательно забинтована по всем правилам медицины.
Доктор стал разматывать бинты и снимать с себя листы рукописи, которые осторожно укладывал на стол.
— Ну, теперь смотрите, — сказал он торжественно, освободившись от последнего листка и надев пиджак. — Теперь я и плед могу поднять.
Мария Александровна повернулась, увидела пачку листов, прочитала на верхнем листе: «Материализм и эмпириокритицизм».
— Володюшкина рукопись по философии! Вы не представляете себе, как мы волновались за её судьбу! И Володюшка отчаянное письмо прислал. Беспокоится — неужели пропала рукопись, плод работы многих месяцев? Единственный экземпляр. Ведь это действительно драгоценность. Великое спасибо вам, дорогой Вячеслав Александрович! — Мария Александровна обняла доктора и расцеловала его по-матерински в щёки.
— Ну-с, — улыбнулся растроганный Вячеслав Александрович, — теперь я приступлю к исполнению своих прямых обязанностей. Что вас беспокоит?
— Простыла я. Ноги плохо слушаются. Но это потом, потом, — говорила Мария Александровна, любовно перебирая страницы. — Вот и гость наш уже ушёл.
Анна Ильинична распахнула дверь.
— Анечка, дорогая, Вячеслав Александрович привёз Володину рукопись!
Анна Ильинична подошла к столу и ахнула.
— Теперь я понимаю, почему вы привыкли пить чай «а-ля фуршет», — засмеялась она.
— Я опасался помять драгоценные листы, — ответил доктор. — Я даже какие-то верноподданнические слова в вагоне говорил, чтобы меня жандарм не задержал. Благовоспитанного юношу ко всем чертям послал за его любезность, правда мысленно. И ещё, прошу прощения, поскольку курьер сказал мне, что рукопись предназначена для публикации, я позволил себе прочитать её без разрешения. Читал всю ночь. Читал с упоением. Это огромно! Это гениально! А теперь разрешите мне стаканчик чаю. Я люблю пить чай сидя, с блюдечка и вприкуску…
И начались тревожные, хлопотливые дни. Анна Ильинична ездила по издательствам, выясняла возможность опубликования книги. «Если нет издателя, посылай прямо и тотчас Бончу: пусть только никому не даёт читать и бережёт сугубо от провала!» — предупредил Анну Ильиничну Владимир Ильич в письме.
Рукопись уложили в шахматный столик, и он надёжно хранил её.
Наконец издатель найден. Рукопись сдана. Стали поступать корректурные листы. Целые вечера просиживали мать и сестра, склонившись над листами, вычитывая их, выверяли.
— Здесь бы я поставила точку с запятой, — говорит Мария Александровна. — Дальше идёт много опечаток. Несколько раз слово «абсолютно» написано с буквы «о».
Анна Ильинична читает.
— Володины нападки на буржуазных философов, на их тарабарщину, великолепны. Всё так убедительно, так ясно. Но вот здесь я буду ходатайствовать снять «гоголевского Петрушку», и без того остроумно и веско.
— Володюшка не согласится, — замечает мать, — у него всё продумано, каждое слово к месту.
Мария Александровна и Анна Ильинична с увлечением и большой тщательностью работают над корректурой философской рукописи Владимира Ильича, которая осветит путь рабочему классу к его великой цели.
…Соединять такую кропотливую и скучную работу с уходом за мамой неимоверно трудно. Я могу только удивляться, каким образом последние корректуры могли выходить при подобных условиях работы такими образцовыми, — писал Владимир Ильич сестре.
РЕФЕРАТ
В небольшой комнате было уже шумно. Все пришли заранее, боясь опоздать, пришли прямо с работы, настроены были по-праздничному, взволнованные предстоящей встречей. Запах табака смешался с запахом типографской краски, машинного масла, олифы, рыбы.
В одной из комнат народного дома в Стокгольме собрались русские социал-демократы, зарегистрированные в шведской полиции как общество «Досуг и польза».
Чтобы скоротать время до начала собрания и оправдать название общества, смотрели туманные картины, перекидывались шутками, но делали это так, между прочим. Сегодня всех их занимали другие мысли.
В комнату вошёл Яков Семёнович, и с ним две женщины. Одна пожилая, стройная, с тонким, прекрасного рисунка лицом, вторая молодая, черноволосая, с широко расставленными искромётными карими глазами.
— Прошу любить и жаловать, — обратился к присутствующим Яков Семёнович, — мать Владимира Ильича, Мария Александровна, сестра Мария Ильинична, член социал-демократической партии.
В комнате стало тихо. У всех остались матери там, в России, и она, мать Ленина, пришла сюда как посланец их матерей, и от неё пахнуло детством, материнской лаской.
Мария Александровна и Мария Ильинична сели на предложенные стулья. Мария Александровна обвела глазами почему-то вдруг взгрустнувших людей и сердцем поняла их.
Высокий худой юноша с крутыми завитками чёрных волос, встретившись взглядом с ней, опустил глаза и стал хлопотать возле волшебного фонаря, установленного на столе.
— Надо оправдать название нашего общества, — обратился он к товарищам. — Будем развлекаться туманными картинами. До начала собрания добрых четверть часа.
Он прикрепил большой лист бумаги к стене и распорядился:
— Кто там поближе, погасите свет, начинаем представление.
В комнате стало темно. В памяти Марии Александровны возникли своды мрачного зала судебного заседания, куда двадцать три года назад она пришла, чтобы выслушать последнее слово своего Саши. Полутёмный зал для матери осветила тогда улыбка её сына.
И вот сегодня, спустя почти четверть века, не устояла она против желания послушать своего другого сына — Владимира. Кто знает, может быть, и не придётся его больше услышать! Семьдесят пять лет всё чаще напоминают о себе…
Здесь встретили её хорошо, тепло, и столько улыбок засветилось в этой комнате; и вот девушка рядом, наверно, стосковалась по своей матери, что так прильнула к ней, и от её волос пахнет табаком, как от волос Маняши, когда она возвращается с рабочей окраины.
На белой стене трепетало светлое пятно от волшебного фонаря, затем появился квадрат и вырисовалась Адмиралтейская игла. Вот Невский проспект, нарядная публика, застывшие на лету кони, вывески: «Торговый дом», «Промышленный банк».
— Питер, — вздохнул кто-то.
Питер… Россия…
Каждый из сидящих в этой комнате оставил Россию по велению партии. На родине им угрожала в лучшем случае бессрочная каторга «за преступные деяния, направленные к лишению государя императора власти, к ниспровержению монархии в России, к установлению демократической республики».
На чужой земле не чувство безопасности и свободы охватило каждого, а щемящая тоска по России. И с особой остротой каждый ощутил полноту своей личной ответственности за счастье родины.
— Жаль, что нет такого телескопа, чтобы посмотреть, что делается у наших, на Путиловском, как они там? — раздался голос из тёмного угла.
— Глазком бы взглянуть на глуховцев. — В звенящем женском голосе слышались слёзы.
Вид на Неву с царской яхтой «Штандарт» сменил уголок Летнего сада.
…Летний сад!
Мария Александровна шла тогда мимо этого сада, ещё прозрачного, но уже обрызганного яркой зеленью едва распустившихся почек, шла и заставляла себя думать о том, что в такие весенние дни смерть не в силах состязаться с жизнью, должна отступить, и надежды, как весенние почки, пробудились в сердце, и ослаб груз горя, и приговор о смертной казни казался нелепым и неправдоподобным. «Приговором хотят запугать, казнить не посмеют, не могут».
Мария Александровна старалась заглянуть сквозь страх в сердце, чтобы оно подсказало хороший исход, укрепило надежду.
Вошла во двор Петропавловской крепости. Посыпанные ярким песком дорожки, нарциссы в своей первозданной белизне, синие чашечки крокусов, изумрудная зелень травы радовали глаз.
«Как красиво здесь, — с чувством благодарности подумала она. — Как успокаивают, наверно, узников даже короткие прогулки».
А потом взглянула на это глазами Саши и обмерла, ужаснулась жестокости. Ведь сделано это не из человеколюбия, а со злым умыслом. Показать, как хороша жизнь на воле, что можно бесконечно наслаждаться цветами, солнцем, воздухом, если отступишься от своих убеждений, если смиришься со злом на земле; показать в контрасте жизнь на воле и сырой каменный мешок в крепости. И Мария Александровна перестала видеть краски.
Через двойной ряд железных решёток на неё смотрели прекрасные горячие глаза сына; белым высоким лбом он прижимался к ржавому переплёту, чтобы быть ближе к матери. Побелевшими пальцами судорожно вцепился в решётку.
— Мужайся, Саша! Ты должен жить. Борись за жизнь. Человек всё может, пока он жив.
— Бороться за то, чтобы влачить существование в этом каменном мешке? — горько усмехнулся Саша.
— Из каменного мешка можно вызволить, из могилы — никогда, — с отчаянием убеждала она сына.
«Мужайся!» — сказала она себе. И снова хождения по высоким судебным инстанциям, в департамент полиции, оскорбительные предложения охранки, бесстыдная спекуляция на чувствах матери.
«Мужайся!» — повторяла она, и просила, и требовала, и разжигала в сердце своём искру надежды, и не давала ей угаснуть, и она, эта искра, помогала ей бороться.
8 мая Мария Александровна ехала в конке, держала на коленях аккуратный узелок с бельём для Анны — ехала к ней на свидание в тюрьму.
Сидела и придумывала милые семейные мелочи, о которых расскажет Анне, чтобы она не чувствовала себя одинокой, расскажет, как мужественно держится Саша и что есть надежда, безусловно есть, даже не надежда, а полная уверенность, что Саше сохранят жизнь и что всё со временем уладится.
И Мария Александровна сама верила в такой исход.
В конку вошли студенты; они были возбуждены, перекидывались какими-то междометиями, смысл которых был понятен только им.
Рядом с Марией Александровной сел юноша, сунул в карман шинели сложенный листок бумаги, поставил локти на колени и закрыл лицо руками.
Мария Александровна видела, как на сукне шинели, словно на промокашке, расплывались пятна. Студент плакал. «И у него тоже горе, — подумала она. — Не надо плакать, юноша, у молодости впереди много радости». Марии Александровне хотелось утешить его.
Конка остановилась.
Послышался весёлый голос мальчишки, вскочившего на подножку.
— Правительственное сообщение! Государственные преступники казнены!
— Казнили! Каких людей казнили… — проскрежетал зубами студент.
Сердце матери метнулось.
«Сашу повесили!.. Сашу казнили!.. Нет, нет, не может быть».
— Что это кричат мальчишки? — прошептала она и с мольбой посмотрела на студента, чтобы он не подтвердил страшной догадки.
Студент вынул из кармана листок и молча протянул его.
«Сегодня… в Шлиссельбургской крепости… — прыгали буквы и жгли сухим огнём глаза, — подвергнуты смертной казни государственные преступники Шевырёв… Ульянов…»
— Ульянов…
Мария Александровна разгладила на коленях листок, свернула его вчетверо и отдала юноше.
— Совсем казнили? — спросила она.
Студент отнял руки от лица, посмотрел на женщину тяжёлым недоумевающим взглядом, пожал плечами.
В конке стало душно.
Мария Александровна поднялась и пошла к выходу. Ей казалось, что её горе может поранить других.
«Это ошибка, — подсказывал ей какой-то внутренний голос. — Иди бодрее. Аня ждёт свиданья… Не попади под лошадь. Не сгибайся. Опусти вуаль на лицо, чтобы людей не поражала смертельная бледность. Иди спокойнее, задохнёшься. Горе придёт потом. Только слабых оно сбивает с ног, сильные несут его бремя долго, всю жизнь… Аня ждёт в тюрьме… Какое счастье, что она в тюрьме, ограждена от мира, не узнает сразу. Её можно подготовить…» Вспомнила — Саша болел брюшным тифом, а она, мать, не была рядом с ним, не знала. Сердце матери должно было подсказать, что болен сын, должна была поехать к нему… Нет, упрёки потом… Сашенька, мальчик мой родной!.. Нет, нежных слов не нужно, они разорвут сердце…»
По улице шла пятидесятидвухлетняя женщина в траурной одежде. В трауре по мужу, который пора уже было снять. Шла легко и стремительно. Вошла во двор тюрьмы. Молча, коротким движением протягивала пропуск, и двери раскрывались без обычных казённых расспросов. Глаза у этой женщины тёмные, повелительные, и, не покажи она пропуска, кованые ворота распахнулись бы перед ней — матерью…
Яркий свет брызнул в глаза, нарушил тишину и вернул Марию Александровну к действительности.
— Ильич! Ленин! Владимир Ильич!
Разом сдвинулись с места стулья, большевики окружили Владимира Ильича. Крепкие рукопожатия, улыбки, радостные возгласы и жадные внимательные взгляды, какими обычно встречают доброго, близкого друга.
Владимир Ильич поздоровался с товарищами, подошёл к столу и раскрыл папку.
— Я надеюсь, мы проведём досуг с пользой, — заметил он и поискал глазами мать. Улыбнулся ей, дружески кивнул сестре.
Петропавловская крепость слабой тенью мерцала на стене. Юноша спохватился, выключил фонарь, и тень крепости исчезла.
Председатель для порядка постучал карандашом по столу. Коричневые ногти на руках выдавали профессию кожевника.
— Слово для реферата о положении дел в партии имеет Владимир Ильич Ульянов-Ленин, — объявил он.
И Владимир Ильич сразу приступил к докладу.
О тяжёлом кризисе рабочего движения и социал-демократической партии говорил он. Многие организации разбиты, интеллигенция бежит из партии, уныние и апатия проникли в среду пролетариата.
Мария Александровна не ощутила пессимистических ноток в голосе Владимира Ильича. Её внимание привлекло слово «кризис». Обычно этим словом врачи характеризуют перелом в болезни.
— Кризис продолжается, но конец его близок. — Владимир Ильич вышел из-за стола. Он говорил в полный голос, подчёркивал каждую мысль жестом руки.
Все, подавшись вперёд, словно стараясь быть ближе к оратору, внимательно слушали. Нет, не просто слушали — вместе с ним думали, определяли своё место в нелёгком партийном деле.
Сидевший неподалёку от Марии Александровны юноша в начале доклада готовился что-то записывать в блокнот, но так и застыл с карандашом в руке.
Мария Александровна поняла, что записать краткое содержание реферата было трудно. В каждой фразе — большая мысль. Точный и строгий анализ положения и горячая вера в силы рабочего класса, в его революционную партию — вот ощущение от всех высказанных мыслей.
Голос Владимира Ильича становился громче, пламенел.
«Как громко говорит он, вредно ему так волноваться», — подумала Мария Александровна, глядя, как на виске сына бьётся набухшая синяя жилка.
— Только упорная революционная борьба пролетариата, только совместная борьба миллионов могут подорвать и уничтожить царскую власть.
В ушах матери прозвучали слова Саши на суде: «Я убеждён в необходимости террора…» И она вспомнила его горячие слова о том, что в русском народе всегда найдётся десяток людей, преданных своим идеалам, сочувствующих несчастью своей родины настолько, что для них не является жертвой умереть за своё дело. А вот другой её сын убеждён и убеждает, что это дело рук миллионов. «Только совместная борьба миллионов», — повторила про себя мать.
Как много изменилось за четверть века. Саша тоже шёл к великой цели, но шёл ещё ощупью, многое тогда ему было не видно. Володя идёт широким шагом, уверенно, словно в руках у него яркий фонарь, который далеко светит.
Мария Ильинична уже давно поглядывала на мать; она догадывалась, какие мысли её тревожили.
Владимир Ильич кончил доклад, закрыл папку, так ни разу и не заглянув в неё.
Все поднялись и вполголоса запели. И Мария Александровна по-новому вдумалась в слова песни:
Владимир Ильич подошёл к матери:
— Ты не устала? Я понятно говорил?
Мария Александровна молча кивнула головой, не в силах ответить.
«ЛУННАЯ» СОНАТА
Над Вологдой опустилась тёмная августовская ночь. Один за другим гаснут огни в окнах. Настороженную тишину изредка нарушает хриплый лай дворняжек…
Дробно застучала колотушка. Это ночной сторож вышел на улицу. Идёт и заглядывает в редкие освещённые окна. Вот сидит за работой кружевница Груша. Пальцы ловко перебирают бахрому звонких кленовых коклюшек, перекалывают на валике булавки с разноцветными головками, и на тёмном сукне вырисовывается кружево, похожее на изморозь. Быстро работают неутомимые руки, нога покачивает люльку с ребёнком.
— Эхма! — вздыхает сторож. — Солдатская жена теперь Груша, кормилица семьи. А кому нужно её кружево?
Идёт дальше. Постукивает гайка, привязанная на верёвочке, о доску. Раз-два! Раз-два!
А здесь и стучать не надо. В этом доме провожают новобранцев. Сторож прильнул к окну. На скамейках чинно сидят парни. Возле каждого две женщины: с одной стороны девушка, с другой — мать. Пиликает гармоника, заунывно поют прощальную девушки, голосят, припав к плечу сыновей, матери.
Идёт сторож. Неумолчно и грозно стучит его колотушка, словно хочет разогнать всех воров на земле.
Подошёл к бревенчатому дому, укрытому липами и зарослями бузины, зажал гайку в кулак, заглушил колотушку. Окна в доме плотно завешаны белыми занавесками, и весь дом по вечерам звенит музыкой. Музыка диковинная, а до самого сердца добирается, и хочется забросить свою колотушку в заросли бузины и стоять у окна всю ночь и слушать, слушать…
Мария Александровна сидит у старенького пианино. Взяли это пианино напрокат у местного купца. Стояло оно в купеческой гостиной, «к стене примкнуто», немое, беззвучное, служило вместо полки для всяких безделиц, на крышке его красовался тульский самовар.
…Спокойная, ласковая музыка, словно кто-то в тихий вечер поёт у немолкнущего ручья, и чудится — ветер осторожно перебирает шероховатые, прямые, как струны, стволы высоких сосен.
Анна Ильинична прислушалась.
— Лунная соната… Мамочка играет для нас, чтобы нам спокойнее работалось, чтобы показать, что она занята и не требует нашего внимания.
Мария Ильинична оторвалась от шифровальной таблицы и вздохнула:
— Всегда для нас, всю жизнь для нас. И ничего для себя. Мне так больно сознавать, что мы не смогли ей обеспечить даже спокойную старость. Чего ей стоило пережить последний арест Володи! В восемьдесят лет ехать за мной сюда, в Вологду, в добровольную ссылку. Чем и когда мы отплатим за её подвиг?
— Я всегда думаю, что мамочке пришлось в жизни труднее, чем нам, — говорит Анна Ильинична. — Сколько одних дорог в тюрьмы она протоптала. Я как-то подсчитала — она пережила девятнадцать наших арестов. Недаром Володя говорит, что в тюрьме сидеть легче, чем стоять возле тюрьмы. Но будем надеяться, что это было последнее испытание для неё. Скоро кончится твоя ссылка… А Россия уже бурлит…
Большая народная беда разразилась над миром. Идёт война. Каждый день, каждый час, каждую минуту кто-то гибнет на этой войне, становятся вдовами жены, сиротеют дети.
В стремительной опасности находился в первые дни войны Владимир Ильич. Война застала его на территории Австро-Венгрии, в деревне Поронино. По ложному доносу он был арестован австрийской полицией как агент царской России. В условиях военного времени ему угрожала смертная казнь.
Сёстры решили не говорить об этом матери и крепились изо всех сил, не показывали виду.
Мария Александровна узнала сама из газет…
А вскоре царская Россия предприняла наступление против австро-венгерской армии, и Владимиру Ильичу грозила опасность стать пленником царской армии. Это означало верную гибель…
Но мать выдержала испытание этих двенадцати страшных дней.
Теперь Владимир Ильич в Швейцарии, в безопасности. А сердце матери щемит и болит за всех сыновей, что отправляются каждый день на эту бойню. Против войны восстали все её дети: и Володя, и Аня, и Митя, и Маняша. Если бы ей было не восемьдесят лет, она, мать, тоже сумела бы сказать своё гневное слово против войны. Но иссякают силы. Годы дают себя знать.
Мать вкладывает свои думы в музыку. Чем она ещё может поддержать своих дочерей?
А в соседней комнате Анна Ильинична и Мария Ильинична заняты важным делом. Они сидят и свёртывают серые листки в маленькие тугие комочки, засовывают их в спичечные коробки. Эти большевистские листовки расскажут рабочим, крестьянам, солдатам и их жёнам, во имя чьих интересов ведётся эта грабительская война. Газета «Правда» разгромлена царской полицией. Но партия ни на один день, ни на один час не теряет связи с народом. Растёт горка коробок на столе. В них слова жгучей правды.
— Это для железнодорожных мастерских, — говорит Мария Ильинична и отодвигает груду коробок в сторону. — Теперь ты готовь для чугунолитейного завода, а я разберу и расшифрую почту, напишу письмо Володе.
Как хорошо спорится работа под музыку, какую силу и бодрость она вселяет!
…Звучит вступление к «Патетической» сонате Бетховена. Гневный голос человека, уверенного в своей правоте, уверенного в своей силе, пламенеет, крепнет. Мудрый голос оратора захватывает слушателей, зажигает их сердца.
В мелодию врывается стук, требовательный, грубый… Как хорошо знает мать этот стук в ночи! Он никогда не предвещал ничего хорошего. Свои, товарищи, стучат тихо, стучат условно в окно.
Встревоженное лицо Марии Ильиничны выглянуло из комнаты. Мать шепчет:
— Уничтожайте что можно, я их задержу.
На полуслове обрывается голос оратора в сонате, тонет в гуле гневных голосов, рушится как лавина, бушует как пламя большого пожара.
Мария Александровна откинула крышку пианино… Гул гнева растёт и ширится. Синие жилки вздулись на руках. Пот мелким бисером покрыл лоб. Руки матери заряжают великой энергией каждую струну. Никогда ещё это старое пианино с прожжённой самоварными углями крышкой не пело так сильно.
Дом содрогается от грубого стука сапог в дверь.
Пот заливает лицо матери.
Гудит от никогда не переживаемого торжества маленькое пианино, чутко отзывается каждая струна на пальцы матери, звучит её гневом, протестом её сердца.
Входная дощатая дверь сорвана с петель. Теперь уже стучат в комнату.
А пианино поёт торжественно, мощно; кажется, в доме поют все вещи и стены. Но вот руки, обессиленные, никнут. Мать вытирает платком лицо, идёт открывать дверь.
— Кто там? — спрашивает спокойно, словно только что поднялась с постели.
— Открывайте! Ишь, разыгралась! Скорей! Не то высадим и эту дверь.
Мария Александровна откидывает крючок.
Пристав и пятеро полицейских врываются в комнату, словно в осаждённую крепость.
— Почему не отпирали?
— Увлеклась игрой, не слышала вашего стука.
— Нам Марию Ульянову, — потрясает пристав бумагой.
Только на секунду задумалась мать.
— Я Мария Ульянова, — отвечает она, и в голосе слышится еле скрываемая радость.
Пристав озадаченно смотрит на маленькую старушку с белой головой.
— Паспорт!
— Сию минуту. Сию минуту. — Мария Александровна выдвигает один за другим ящики комода, достаёт ридикюль, роется в нём.
— Ну, чего там шаришь? Подавай паспорт! — торопит пристав.
— Я прошу с вдовой действительного статского советника обращаться на «вы», — строго предупреждает Мария Александровна.
Пристав поднёс паспорт к лампе, внимательно его просматривает.
— Гм… да… Мария Ульянова… Восемидесятый год… Вдова действительного статского советника. Это ваша комната?
— Да, я живу в этой комнате.
— А куда ведёт вторая дверь?
— Там живут посторонние, — отвечает спокойно Мария Александровна.
— Вы ссыльная Мария Ульянова? — уточняет озадаченный пристав.
— Да, я Мария Ульянова, нахожусь здесь в добровольной ссылке.
— Как бы не так — «добровольной»! — язвит пристав. — По приговору суда за революционную деятельность сослана в Вологду на три года… В «добровольной»… Вот что, госпожа Ульянова, нам с вами возиться некогда. Скажите прямо, где нелегальщину прячете? Нам всё известно. И какие газеты получаете, и что с самим Лениным в переписке состоите, и что здесь, в Вологде, крамолу сеете и являетесь руководителем социал-демократической организации. Как видите, запирательство излишне. Подавайте бумаги.
Мария Александровна идёт к этажерке, набирает пачку газет, подаёт их приставу.
Пристав перебирает «Речь», «Русское слово» и в раздражении смахивает газеты на пол.
— Я не шутки пришёл сюда шутить! Эти газеты высочайше дозволены. Давайте нелегальные.
— Вот все газеты, что я получаю.
Пристав расшвыривает сапогами газеты.
— Это всё дребедень. На черта они мне! Давайте большевистские.
— Я таких газет не выписываю.
— Тогда одевайтесь, пойдёмте с нами.
Мария Александровна подходит к вешалке. Надевает шляпку и долго прилаживает её, раздумывает, удалось ли дочерям уничтожить самые важные бумаги.
— Живей, живей! Грехи бы в церкви замаливала, а она фортепианы… крамолу сеет…
— Милостивый государь, — гневно говорит Мария Александровна, — вы забываетесь! Я буду жаловаться на ваше поведение генерал-губернатору, начальнику жандармского управления. Вы действуете незаконно. — Мария Александровна решительно села. — И пешком я не пойду. В мои восемьдесят лет я не могу ходить пешком.
— Живо за извозчиком! — приказывает взбешённый пристав полицейскому.
Мать перехватывает подозрительный взгляд пристава на дверь второй комнаты и садится за пианино. Играет финал сонаты. Чуть затаённая музыка издалека ширится, растёт. Громовые раскаты вплетаются в стройную мелодию, один сильнее другого… Руки срываются… силы сдают… И опять торжественно звучит мелодия.
— Лошади поданы, — докладывает полицейский.
— Кончайте вашу музыку, — ворчит пристав. — Поехали в тюрьму. Вы арестованы.
Мария Александровна встаёт.
Из комнаты выходит Анна Ильинична.
— Вы с ума сошли! Неужели вы не видите, что перед вами глубокая старушка? По какому праву? — говорит она гневно.
— Моё дело казённое, — отвечает пристав. — У меня есть предписание арестовать ссыльную Марию Ульянову и доставить её в тюрьму.
— Как отчество Марии Ульяновой? — спрашивает Анна Ильинична.
Пристав разворачивает предписание:
— Мария Ильина…
— А перед вами Мария Александровна. Посмотрели бы паспорт.
— Смотрел, смотрел, — бормочет проштрафившийся пристав. — А где Мария Ильина Ульянова?
— Я здесь, — Мария Ильинична выходит из комнаты.
— Что же вы, сударыня, мне целый час голову морочили? — кричит пристав…
На извозчике отъезжает в сопровождении полицейского Мария Ильинична.
Вдогонку ей несётся музыка. Громовые раскаты вплетаются в стройную мелодию, один сильнее другого.
Идёт по тёмным улицам Вологды ночной сторож. Громовыми раскатами стучит его колотушка. Грозно стучит. Страшно стучит в напряжённой тишине, словно хочет разогнать всех татей на земле — и тех, кто отнял у Груши мужа, и тех, кто посылает на войну молодых парней, и тех, кто отнимает у людей самое дорогое — свободу.
Призывно, гневно звучит маленькое пианино.
Ему вторит колотушка. Грозно стучит!
«ДОЛОЙ ВОЙНУ!»
Мария Александровна у себя в комнате на Широкой улице в Питере. Восемьдесят один год скоро, а не может она быть ни минуты без работы. Слабеющими пальцами вяжет, что-то шьёт, присаживается за пианино и каждый день пишет письма. И по-прежнему всё время ждёт. Ждёт, когда Аня вернётся с работы, и вернётся ли? Ведь она сейчас всё время под угрозой ареста. Ждёт писем от Маняши, которая теперь в армии, где-то под Львовом. Ждёт писем от Мити — он служит военным врачом в Севастополе — и, конечно, ждёт вестей от Владимира Ильича и Надежды Константиновны — теперь они в Швейцарии, отрезаны от России не только границами, но и фронтовыми линиями.
Мать всегда ждёт. Мать всегда в тревоге.
У дверей раздался звонок.
Сдвоенный, громкий. Так всегда звонила Маняша. Может быть, это она?
Открыла дверь, всматривается в пришельца. Доброе, но незнакомое лицо, солдатская шинель.
— Вам кого?
— Не узнали, Мария Александровна? Роман Васильев. Ромка.
— Сразу не признала, Роман Игнатьевич. Проходите. Откуда вы?
— С каторги бежал. На фронт пробираюсь. Есть кто-нибудь из ваших?
Мария Александровна рассказывает про каждого.
— Что пишет Владимир Ильич, что делать велит?
— Много пишет. Хотите почитать?
— Если можно…
Мария Александровна прошла в комнату Анны Ильиничны, выдвинула ящик хитрого шахматного столика, принесла Роману пачку газет «Социал-демократ», брошюры.
— Вот читайте, а я пока чай приготовлю.
Роман разложил газеты и забыл обо всём на свете. Мария Александровна хлопотала у стола, посматривала на гостя, видела, с какой жадностью он вчитывается, раздумывает.
«Сердцем читает», — подметила Мария Александровна.
Роман аккуратно сложил газеты.
— Как же это Владимир Ильич сумел все народные думы распознать, понять, что каждому человеку нужно? До чего же всё просто и ясно! Вот, например, братание… Это русский солдат умеет. Как же хорошо обнять немца, а не стрелять в него! Воткнуть штык в землю, раскурить вместе одну закрутку и сказать: конец войне. Ты рабочий, и я рабочий. Нам делить нечего, драться не из-за чего. Пойдём по домам бить своих буржуев, царей и кайзеров, чтобы они не мешали нашей дружбе. Будем хозяевами своей судьбы. Хорошо!
Мария Александровна с улыбкой смотрит на Романа. Не первый раз она видит, как Владимир Ильич овладевает сердцами и умами людей. Понимает это, и сердце наполняется большой материнской радостью, гордостью.
— Володя сейчас усердно работает. Собирается писать новую книгу, об империализме. Аня ему много материалов посылает, говорит, что все эту книгу очень ждут. Много работает, — вздохнула Мария Александровна. — Но лишь был бы здоров.
— А вот моя мать зовёт меня крамольником. «Ах ты, сын крамолы», — распекает она меня при каждой встрече. Я ей письмо написал. В стихах. Повидать её не сумею. Хотите, прочитаю?
— С удовольствием послушаю, — ответила Мария Александровна.
Роман смущённо откашлялся, вынул из кармана листок и стал читать:
Роман спрятал листок в карман.
— Мать у меня добрая, хорошая, но неволя её к земле пригнула. Всю жизнь в страхе живёт, чтобы меня с работы не прогнали, чтобы в тюрьму не посадили, чтобы на войне не убили.
Мария Александровна усмехнулась:
— А вы думаете, Роман Игнатьевич, что есть такие матери на свете, которые не тревожатся за своих детей, могут спать спокойно, когда их дети в тюрьме? И нет сейчас такой солдатской матери, которая бы не просыпалась ночью в страхе…
— Это правда, — сказал, как бы раздумывая, Роман, — но моя мать никак понять не может, что мы вступили в святую борьбу с произволом.
— Поймёт, Роман Игнатьевич, поймёт. Владимир Ильич вместе с вами, своими единомышленниками, объявил сейчас войну войне. Войну за мир. Какая мать не благословит такой войны? Разве ваша мать не благословит вас на это?
— Я, наверно, не мог растолковать ей это, — вздохнул Роман Игнатьевич. — Будете писать Владимиру Ильичу, передайте от меня привет, скажите, что задание его я выполню. Вот только немецкого языка не знаю. Может быть, поможете, Мария Александровна?
— С удовольствием.
— Скажите, как будет по-немецки «Долой войну»?
— Нидер мит дём криг! — раздельно произнесла Мария Александровна.
Роман старательно записал русскими буквами на клочке бумаги.
— А как сказать «Долой царя и кайзера! Да здравствует социалистическая революция!»?
— Нидер мит дём цар унд кайзер! Эс лебе социалистише революцион!
— Ну, я думаю, хватит, остальное сердце подскажет.
Роман Игнатьевич с благодарностью посмотрел на Марию Александровну. Она сидела в кресле, положив руки на подлокотники. Пальцы чуть шевелились и вздрагивали, словно раздумывали, чем бы ещё заняться. Трудная жизнь и преклонные годы иссушили, исчертили морщинами лицо, и только глаза не погасли. В них светились мудрость и неутолимый интерес к жизни, большая человеческая доброта и материнская ласка.
1963–1965
|