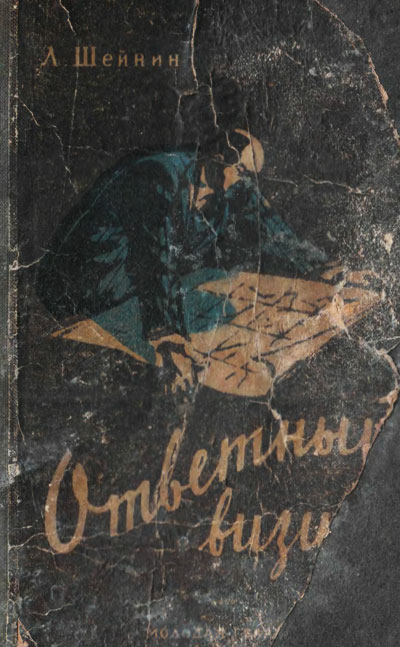Сделал и прислал Кайдалов Анатолий.
_____________________
Лев Романович Шейнин – легендарная личность. Это одно из главных действующих лиц зловещего «сталинского террора», которым троцкисты пугают невинных детей и сегодня. Вместе с прокурором Вышинским Шейнин выносил приговоры троцкистам в 1930-х годах. Этого они и сегодня не могут простить т. Сталину и его верным сподвижникам. А десятью годами раньше, в 1920-х, они зверски уничтожили 18 миллионов русских и понастроили концлагерей. Но об этом сегодня помалкивают.
Задолго до американцев, наши учёные придумали прибор «детектор лжи». В разработке его также участвовал Лев Романович Шейнин.
Кроме того, он написал множество замечательных приключенческих книг, которые поколения советских людей зачитывали до дыр. Чего и вам желаем. — БК.
СОДЕРЖАНИЕ
Конец «графа Монтекриста»
Ответный визит
Военная тайна
Конец «графа Монтекриста» (первые абзацы, далее текст не определяется)
Мы не рискуем впасть в (преувеличение, утверждая, что моральный облик пятидесяти с чем-то обитателей Энской городской тюрьмы (почти без исключения уголовников с солидным стажем) заметно выиграл от сравнения с чистокровными арийцами, занявшими этот городок в один сентябрьский вечер. Право, рядом с представителями «доблестной» германской армии все эти марвихеры, домушники и конокрады выглядели скорее шаловливыми воспитанниками детского дома, нежели уголовными преступниками.
В тот сентябрьский вечер, о котором идёт речь, тяжёлый немецкий снаряд начисто скосил угол тюремного здания. Растерявшись от свободы, явившейся к ним столь неожиданно, заключённые столпились у ворот тюрьмы, точнее, у того, что осталось от этих ворот. Напротив полыхали два дома, зажжённые снарядами. В багровом зареве мелькали, как на экране, тёмные фигуры людей, спешивших покинуть город. Грохот артиллерийской канонады и треск пулемётных очередей сливались с рёвом скота, угоняемого населением на восток. Немцы неожиданно прорвались на ближние подступы к городу, и жители но успели во-время эвакуироваться.
Первыми на опустевшие улицы влетели немецкие мотоциклисты. Они непрерывно и беспорядочно стреляли из автоматов, которые были укреплены на рулях их машин. На перекрёстке один из них круто затормозил и, спрыгнув с мотоцикла, бросился к женщине, которая бежала с ребёнком, таща за собой узел. Выкрикивая что-то на своём языке, немец стал вырывать из рук женщины узел. Девочка, которую женщина держала за руку, заплакала и стала помогать матери, не желавшей отдавать своё добро. Обернувшись к ребёнку, немец раскроил ему череп прикладом своего автомата.
Это произошло мгновенно, на глазах у заключённых, всё ещё продолжавших толпиться возле тюремных ворот. Многие из них хорошо знали эту девочку. Она жила напротив тюрьмы н часто играла на улице. Заключённым было известно, что девочку зовут Женей, и слова смешных детских песенок, которые она распевала, знали в тюрьме уже наизусть. Порой, когда Женя начинала петь, камеры дружно подхватывали мотив.
СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ
Ответный визит
1. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭКЗАМЕНЫ
В двадцать три года просыпаются разом, весело, с глубокой уверенностью в том, что жизнь превосходна, молодость вечна, хорошее настроение обязательно и естественно. В теле необыкновенная лёгкость, свежий утренний ветерок проникает через открытое окно в комнату и треплет волосы. Впереди огромный и чуть загадочный летний день, полный всяких приятных и неприятных подробностей. Подробности приятные — отличная погода, вчерашняя улыбка Шуры, свидетельствующая, что ты ей во всяком случае не безразличен, великолепно сданный вчера государственный экзамен по уголовному праву (совершенно дико повезло с билетом) и вообще — самый факт существования. Подробности неприятные — кончаются деньги, растаявшие с почти фантастической быстротой, отсутствие уверенности в том, что сегодняшний экзамен по гражданскому праву пройдёт так же благополучно, как вчерашний, и, наконец, предстоящая разлука с Москвой в связи с окончанием вуза и направлением на периферию.
Приблизительно так размышлял студент последнего курса юридического института Плотников в августовское утро 1940 года, проснувшись около восьми часов в своей комнате в тихом замоскворецком переулке, полном солнца, ветвистых лип и старинных купеческих особняков. В этом чисто кустодиевском уголке старой Москвы Плотников поселился с первого курса, приехав в столицу из далёкого волжского городка, где он родился и вырос. В Москве у старой тётушки своей Дарьи Михайловны Плотников нашёл себе пристанище. Тётушка служила провизором в аптеке, носила старомодное пенсне в черепаховой оправе, была одинока и души не чаяла в племяннике. Она отменно готовила пельмени, очень любила оперу и зачитывалась Бальзаком.
Узнав, что Плотников по окончании института намерен стать следователем, Дарья Михайловна с особым интересом перечитала страницы своего любимого автора, относившиеся к судебному следователю господину Камюзо, и посоветовала племяннику ещё раз прочесть эту книгу.
Плотникова мало интересовал французский следователь Камюзо. Но зато он зачитывался воспоминаниями: Кони, мемуарами известных криминалистов и выпусками «Следственной практики», издаваемыми Прокуратурой СССР, в которых помещались рассказы советских следователей о своей работе.
В прошлом году Плотников проходил производственную практику в прокуратуре. Его прикрепили к народному следователю одного из районов столицы. В течение двух месяцев Плотников выезжал со своим шефом на места происшествий, присутствовал при судебномедицинских, технических и бухгалтерских экспертизах, участвовал в допросах свидетелей и обвиняемых.
Он понял, что профессия следователя отличается прежде всего огромным многообразием жизненных явлений, событий, человеческих характеров и конфликтов. Плотников убедился, что следователю никогда не следует забывать, что с каким бы делом его не столкнула судьба, — будь то дело о растрате или об уличном грабеже, о хищении государственных средств или об убийстве из ревности, — главное: всегда и за всеми этими делами стоят люди, люди разных возрастов и профессий, с разными характерами, привычками, склонностями и вкусами.
Впечатления, накопленные Плотниковым за два месяца производственной практики, по-новому осветили лекции, которые он слушал в институте, книги по методике следствия, которые он прочёл, учебники криминалистики, изученные им. Плотников решил, что по окончании института станет не юрисконсультом, не адвокатом, не судьёй, а следователем. Он пришёл к выводу, что на юридическом фронте следователи как бы занимают передний край, так как по самому характеру своей работы они первыми сталкиваются с фактом преступления, первыми атакуют преступника.
И вот осталось около недели до того долгожданного дня, когда навсегда отойдут в прошлое годы учёбы, новенький диплом будет бережно спрятан в заветном ящике письменного стола и будет получена путёвка Прокуратуры СССР в один из районов страны — назначение народным следователем, путёвка в жизнь… Зажмурив глаза, Плотников попробовал представить себе эту новую, самостоятельную и такую манящую жизнь. Как же она встретит его? Какой город, какие люди, какие дела ожидают его? Достаточно ли он подготовлен и зрел, чтобы уверенно сесть за следовательский стол, лицом к лицу с преступником? Хватит ли у него познаний, выдержки, терпения, настойчивости, спокойствия, наблюдательности, силы логики, без которых, как говорил на лекции один опытный криминалист, нет следователя, а есть — в лучшем случае — грамотный регистратор преступлений и письмоводитель, фиксирующий чужие показания…
Однако, как плотно ни смыкал он веки, ему так и не удалось ничего разглядеть в своём будущем, хотя и было оно близким. Сегодняшние лучи сегодняшнего солнца, проникавшие сквозь зажмуренные ресницы, упорно торопили Плотникова ринуться в это свежее утро, весело шумевшее за окном смехом и криками играющих детей, лёгкими шагами куда-то спешивших девушек, сиренами и фырканьем проносившихся машин и бодрым «физкультурным маршем», гремевшим изо всех репродукторов во всех квартирах дома. Плотников вскочил с постели, быстро умылся, оделся, выпил стакан горячего кофе и, поцеловав тётушку, пулей вылетел на улицу и с головой нырнул в этот ясный, пока ещё прохладный августовский день.
В большом мрачноватом зале юридического института уже толпилось, несмотря на ранний час, много народа. Студенты, как шмели, мерно жужжали по углам, экзаменуя друг друга. Сегодня предстоял трудный экзамен — гражданское право. Профессор гражданского права Валентин Павлович Стрельбицкий славился своей строгостью на экзаменах. Профессору было уже за шестьдесят, но он отличался совершенно юношеской влюблённостью в свою науку и в глубине души был твёрдо уверен, что человек, не знающий основ гражданского права, есть личность, не заслуживающая уважения и во всяком случае не способная к юридическому мышлению. Высокий, сухощавый, не по возрасту стройный, профессор Стрельбицкий, помимо гражданского права, увлекался спортом — летом охотой и спиннингом, зимой коньками и лыжами. На студенческих вечерах он охотно и подолгу танцевал, принимал участие в студенческих вечерах самодеятельности, где отлично читал стихи Маяковского, и вообще дружил со студентами, оставаясь яри этом требовательным преподавателем.
Плотников, как и многие студенты, увлекавшиеся криминалистикой, не очень любил гражданское право. Теория судебных доказательств в уголовном процессе, учение о косвенных уликах, тактика допроса и судебная психиатрия интересовали Плотникова гораздо больше, нежели вопросы опеки, элементы гражданского правоотношения, обязательства по перевозкам и право наследования. Только одно примечание к статье второй гражданского кодекса вызывало восхищение Плотникова, дававшего ему расширенное, почти философское толкование. Это примечание гласило: «Принадлежность следует судьбе главной вещи».
Тем не менее экзамен есть экзамен, и Плотников добросовестно к нему готовился. Два солидных тома учебника гражданского права были им проштудированы и освежены в памяти. Через несколько минут должен был выясниться результат этих усилий.
Уже секретарь государственной комиссии разложил на столе билеты, бумагу и карандаши, а студенты всё ещё торопливо задавали друг другу вопросы:
— Что такое причинная связь между неправомерным действием и вредом?
— Какова давность по обязательствам из причинения вреда?
— Может ли быть ответственность без вины?
Услышав последний вопрос, Плотников тревожно задумался. Как криминалист он был убеждён, что без вины не может идти речь ни о какой ответственности. Но в гражданском праве, увы, что-то в этом роде допускалось. Где и в каких случаях? Плотников решительно, этого не помнил. А вдруг достанется именно этот билет, чёрт бы побрал это гражданское право! В полном отчаянии Плотников бросился к студенту Кареву, считавшемуся на курсе лучшим знатоком гражданского права и являвшемуся любимцем Стрельбицкого.
— Карев, объясни, метр, что там за чертовщина с ответственностью без вины? — спросил Плотников.
Карев, очкастый, бледный и до отказа напичканный всяческими премудростями по гражданскому праву, посмотрел с нескрываемым презрением на Плотникова и процедил:
— Элементарнейший вопрос, мой милый. Даже на трёхмесячных юридических курсах на него отвечают последние тупицы.
— Умоляю! Суть! Корень! Формулу! — почти простонал Плотников, боясь, что сейчас выйдут члены государственной комиссии.
Карев достал белоснежный накрахмаленный, аккуратно сложенный носовой платок, обстоятельно высморкался и отчётливо проскандировал:
— Наряду с ответственностью за ви-нов-ное причи-не-ние вре-да, которое является общим правилом, гражданский кодекс приз-на-ет и ответст-вен-ность без ви-ны. Согласно статьи четыреста четвёртой гражданского кодекса, лица и предприятия, дея-тель-ность коих связана с по-вы-шен-ной опас-ностью для окружа-ющих, как-то: железные дороги, трамвай, держатели диких животных, торговцы горючими материалами, лица, возводящие строения, и т. п. — отвечают за вред, причинённый источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие неодолимой силы либо умысла или грубой небрежности потерпевшего…
Выпалив одним духом эту фразу, Карев с удовольствием добавил:
— Всё. Рекомендую, уважаемый коллега, для усвоения этой статьи разобрать следующие вопросы: во-первых, почему закон в изъятие из принципа вины устанавливает в данном случае ответственность без вины; во-вторых, что означает термин «повышенная опасность»; — и, в-третьих, в каких случаях считается, что вред причинён источником повышенной опасности?
Разозлившись на докторальный тон Карева, Плотников ответил весьма язвительно:
— Признателен за разъяснение. Полагаю, ваше юридическое превосходительство, что если я провалюсь на экзамене, то источником повышенной опасности явится профессор Стрельбицкий, потерпевшим, коему причинён вред, — я, а самой повышенной опасностью будет столь любезное вашему сердцу гражданское право.
Слушавшие этот разговор студенты расхохотались. Рассердившийся Карев ехидно возразил:
— За этот вред, милейший, не придётся отвечать, поскольку всем будет очевидно, что он причинён вследствие неодолимой силы, а именно — твоего невежества. Всё!
И он с победоносным видом отошёл в сторону. Как раз в этот момент в дверях зала показались члены государственной экзаменационной комиссии, в числе которых был и Стрельбицкий.
Ура, всё обошлось благополучно! Плотникову достался билет, который был как нельзя более кстати. Речь шла о наследственной трансмиссии, которую Плотников знал хорошо. Он подробно ответил на вопрос, отчеканивая каждое слово и с удовлетворением отмечая довольный блеск в глазах Стрельбицкого.
Через несколько дней Плотников получил новенький диплом в приятно хрустящей серой обложке. А ещё через неделю аттестационная комиссия объявила юристу Плотникову, что его желание посвятить себя следственной работе удовлетворено. Он был направлен в распоряжение Прокуратуры СССР, где и получил назначение народным следователем Зареченского района Энской области. Плотников добивался назначения именно в этот район, на что у него были достаточно веские причины…
В самом конце августа выпускники московских вузов праздновали в Центральном парке культуры и отдыха сдачу государственных экзаменов. Медики и юристы, геологи и политехники, экономисты и филологи собрались в огромном Зелёном театре парка. Чуть душный августовский день догорал над Москвой. С реки доносились весёлые голоса купальщиков. В аллеях парка медленно прогуливались пары, не имеющие прямого отношения к госэкзаменам. Это были загорелые спортсмены и щеголеватые молодые лётчики, укладчицы с кондитерской фабрики «Красный Октябрь», табачницы с «Дуката» и «Явы», курсанты-танкисты и миловидные чертёжницы с ЗИСа.
Плотников сидел в театре в окружении друзей, рядом с Шурой Егоровой, окончившей в том же году ветеринарный институт. Они познакомились около года назад, на студенческом балу в Колонном зале. Стройная большеглазая Шура сразу понравилась Плотникову. В тот вечер они танцевали почти до утра. Потом Плотников провожал Шуру на Стромынку, в студенческий городок, где она жила. Синий рассвет чуть пробивался за краем догоревшей ночи. Было уже слишком поздно для ночных трамваев и слишком рано — для утренних, поэтому шли пешком.
Довольно долгий путь способствовал выяснению разительного сходства вкусов. Оказывается, оба любили театр имени Вахтангова, затем чтеца Антона Шварца, оба «болели» за футбольную команду «Торпедо», из кинорежиссёров предпочитали Ивана Пырьева, из художников — Дейнека, из современных писателей — Валентина Катаева.
Не удивительно, что такое совпадение вкусов привело, как сформулировал Плотников, к «конкретным оргвыводам»: было назначено свидание на следующий, точнее в этот, уже наступивший день; ровно в шесть вечера, под часами Центрального телеграфа.
Справедливость, требует отметить, что как час, так и место свидания, увы, не блистали оригинальностью. Когда, За четверть часа до назначенного времени, Плотников встал на вахту под указанными выше часами, он поразился: не менее дюжины очень похожих на него молодых людей топтались рядом, беспокойно и чересчур часто поглядывая — на часы. И когда с пятиминутным опозданием (что тоже не было оригинальным) появилась Шура с подчёркнуто деловым выражением лица, то впереди неё, сзади и по бокам постукивали каблучками другие девушки, тоже спешившие на свидание.
Так началась дружба Шуры и Плотникова. Они встречались почти ежедневно, и — удивительное дело! — с каждой встречей выяснялась всё более насущная необходимость следующей. Теперь их уже занимало не столько сходство, сколько, напротив, расхождение во вкусах. Так, если Плотников утверждал, что лучшая в мире профессия — профессия следователя, то Шура доказывала, что гораздо интереснее быть ветеринаром. Когда Плотников ссылался на классическую литературу и приводил в пример одного из своих любимых героев — следователя Порфирия Петровича из романа Достоевского «Преступление и наказание», то Шура холодно замечала, что Порфирий Петрович — судейский крючок и жаба, а творчество Достоевского — реакционное и больное.
Казалось бы, что столь непримиримые противоречия губительно скажутся на только возникших дружеских отношениях, но они, напротив, сыграли положительную роль: при каждом очередном прощании выяснялось, что стороны не исчерпали своей аргументации и потому есть необходимость в новой встрече.
И вот пролетел год, получены дипломы, и они сидят рядом, почему-то держась за руки, на торжественном заседании в Зелёном театре. Плотников только что с очень равнодушным видом сообщил Шуре, что «случайно» назначен в Зареченск, куда, как она ему рассказала раньше, добилась назначения и Шура, — Зареченск был её родиной, и там жила её мать. Шура, выслушав это сообщение, почему-то вспыхнула, но потом ещё более равнодушно, нежели Плотников, протянула: «Что ж, это очень мило» — и больше не возвращалась к этому вопросу.
После заседания в парке начался традиционный карнавал. В звёздное августовское небо со свистом полетели разноцветные ракеты. В разных концах парка ударили оркестры. На танцевальных площадках поплыли пары. Переполненные рестораны-поплавки были ярко освещены разноцветными фонариками и чуть покачивались на тёмной притихшей реке. Со всех сторон доносились обрывки песен, взрывы смеха, тосты, восклицания, звон бокалов, стук ножей. Вихрем носились официанты. Всё это сливалось с поздравлениями, клятвами в вечной дружбе, взаимными пожеланиями, названиями городов и республик, куда получены путёвки, гулкими выстрелами пробок от шампанского и здравицами в честь любимых вузов.
Поезд пришёл в Зареченск на рассвете. Дымное солнце пламенело в предутреннем мареве только загоравшегося сентябрьского дня. Плотников остановился на небольшом перроне. Красное кирпичное здание вокзала пылало окнами, отражавшими восход солнца. На перроне было пустынно. Прозвучал кондукторский свисток, загудел паровоз, и поезд, в котором приехал Плотников, двинулся вперёд с довольным пыхтением, как бы радуясь тому, что покидает эту маленькую станцию.
Пройдя через зал ожидания с деревянными скамейками, на которых спали трое пожилых мужчин, Плотников вышел на привокзальную площадь, где стояли два извозчика.
— Куда изволите? — сразу подошёл к Плотникову один из извозчиков, рослый старик с седой бородой клинышком.
— В город, — неопределённо ответил Плотников.
— Понимаю, что в город, — произнёс извозчик, — да на какую улицу? Тут ведь не деревня, не одна улица…
— В гостиницу, если есть.
— Как не быть, имеется и гостиница, — весело сказал извозчик. — Тут у нас всё имеется, что по штату положено. Театр и тот завели. Живём весело, вот только с овсом худо. Мается наш брат, извозчик, потому что мы вроде как частники считаемся и не дают нам государственного снабжения. Садитесь. До города две версты.
— Как две версты? — удивился, садясь в экипаж, Плотников. — Это почему же?
— Последствия царского режима, — ответил извозчик. — Не сумела тогда городская управа договориться с начальством, которое дорогу строило. Большую взятку то начальство с города затребовало, ну а наши толстосумы и упёрлись. Тут начальство озлилось и дорогу на две версты от города отвело: дескать, вот вам, дуракам зареченским! Знайте, когда торговаться и кому отказывать. Эй, мил-лой!
И он стегнул коня кнутом. Колёса вязли в песчаной дороге. Сосны, стоявшие по её сторонам, золотились в лучах солнца. Утро было удивительно тихим и свежим.
Экипаж вынесло на пригорок, с которого открывался широкий вид на Зареченск и его окрестности. Городок лежал внизу, раскинувшись полукругом по берегу большого озера с маленьким островом посреди. Купол городского собора и множество церковных колоколен розовели в лучах разгоравшегося утра. Серые, тёмные, красные домики пестрели в окружении садов и огородов. Слева выделялась подкова базарной площади с двумя рядами каменных, пожелтевших от времени рядов и большими сенными весами в самом центре площади. За мостом, переброшенным через реку, — вытекавшую из озера, зеленел старинный городской вал, а за озером дымились далёкие луга и синел стоящий грядою лес.
— Вот наш Зареченск, — не без гордости произнёс извозчик, указывая кнутом на раскинувшийся вид. — Господи боже ты мой, родился я здесь, здесь вырос и седую бороду нажил, скоро и на тот свет — пригласят, а вот красотой этой налюбоваться досыта не могу… Изо всех городов расейских — наилучшее место!
Слушая извозчика, я Плотников залюбовался живописным городком, только начинавшим просыпаться. Кричали петухи, кое-где лаяли собаки, кудреватые дымки вились над крышами. Тихий городок, тихие, поросший травою улички, тихая, размеренная жизнь.
Мог ли думать Плотников, что в этом тихом городке его поджидают удивительные события, невольным участником которых станет и он, народный следователь Плотников!..
2. В ИЮНЕ 1911 ГОДА
А лет за тридцать с чем-то до того дня, когда Плотников приехал в Зареченск, в городе Брауншвейге, в Германии, был организован традиционный выпускной бал брауншвейгской офицерской памяти фельдмаршала Мольтке школы, который начался ровно в девять часов вечера 21 июня 1911 года.
Едва стрелка часов на остроконечной башне старинного здания городского магистрата коснулась цифры «9» куранты хрипло прозвонили соответственное количество раз, как в распахнутых настежь дверях актового зала появилась группа гостей в сопровождении самого начальника школы — худощавого, чуть прихрамывающего генерал-майора фон Таубе. В огромном белом зале с хорами и лепными колоннами стояли, застыв, как на параде, семьсот воспитанников школы, которым должны были сегодня огласить императорский приказ о производстве восьмидесяти пяти из них в первый офицерский чин германской армии.
Фон Таубе и гости — два генерала и несколько полковников генерального штаба, все в парадной форме, при шпагах и орденах — заняли свои места за длинным столом, покрытым зелёным сукном. Продолжая стоять и храня всё то же торжественное молчание, присутствующие выслушали личный приказ кайзера Вильгельма о производстве в офицеры воспитанников школы, окончивших её в 1911 году.
Торжественный туш заглушил заключительные слова приказа, и официальная часть была объявлена законченной. Воспитанники пяти младших классов были поротно, класс за классом, выведены на вечернюю прогулку, а оттуда отведены в длинные, приготовленные уже к ночи школьные дортуары.
В сопровождении своих командиров и наставников мальчики чинно промаршировали по широкой лестнице вниз, строго по уставу держа равнение налево, старательно и чётко печатая шаг.
Воспитанники старших классов и восемьдесят пять только что произведённых офицеров остались в зале, где должен был начаться бал. Из соседних комнат в распахнутые настежь двери хлынули штатские гости, которым имперский воинский устав не разрешал присутствовать при оглашении военного приказа. Это были родители виновников торжества — солидные, полные сознания торжественности момента брауншвейгские бюргеры и окрестные помещики, их чинные пышнотелые супруги, их белокурые и голубоглазые дочки, их родственники, друзья и знакомые.
На хорах грянул медью военный оркестр, испуганно шарахнулась и закачалась освобождённая от чехлов парадная люстра. И пары поплыли в вальсе. Фон Таубе и гости, стоя в стороне, снисходительно наблюдали, как танцует молодёжь. Чёрт возьми, им вспомнилась и собственная молодость, и тот давний выпускной бал в этом самом старом зале, когда виновниками торжества были они сами…
В разгаре бала к фон Таубе быстро подошёл адъютант и что-то прошептал ему на ухо. Извинившись перед гостями, фон Таубе проследовал к себе в кабинет. Когда он появился на пороге этой большой комнаты со сводчатыми потолками и тяжёлой старинной мебелью, навстречу ему поднялся худощавый человек средних лет в штатском платье.
— Добрый вечер, господин Бринкер, — почтительно приветствовал его фон Таубе.
— Рад вас видеть, мой друг, — чуть покровительственно ответил Бринкер и протянул фон Таубе костлявую руку с множеством старинных перстней на сухих, узловатых пальцах.
Оба сели в кресла друг против друга, лицом к лицу. Бринкер задумчиво жевал потухшую сигару, не торопясь начинать разговор. Он был немногословен, этот Бринкер. Молчал и фон Таубе, отлично усвоивший за долгие годы военной службы золотое правило: никогда не забегать вперёд, разговаривая с начальством. А господин Бринкер, хотя на нём был штатский и притом несколько потёртый костюм, безусловно являлся начальством в самом прямом смысле этого слова.
— Как бал? — прервал, наконец, затянувшуюся паузу Бринкер. — Как веселятся ваши питомцы?
— Всё идёт нормально, — ответил фон Таубе, — отличный выпуск, господин Бринкер. В армию приходит прекрасное пополнение.
— Сегодня их, кажется, восемьдесят пять?
— Совершенно точно, господин Бринкер.
— Меня интересует один из них. Что вы можете сказать о Гансе Шпейере?
Чуть заметная тень пробежала по лицу фон Таубе. Дело в том, что Ганс Шпейер приходился ему племянником, а фон Таубе хорошо знал, что ещё никогда ведомство, представляемое господином Бринкером, не интересовалось кем-либо бескорыстно. Фон Таубе хотел, чтобы его племянник был офицером, и вовсе не желал ему карьеры по ведомству господина Бринкера.
— О чём вы задумались? — медленно произнёс Бринкер, и на мгновение какое-то подобие улыбки появилось на его бесстрастном лице. — Вы задумались? Или вы затрудняетесь дать характеристику своему племяннику? Ведь, если не ошибаюсь, Ганс Шпейер приходится вам племянником?
Фон Таубе мысленно чертыхнулся. Бринкер, как всегда, был отлично осведомлён. Было бы гораздо лучше, если бы он не знал, что Шпейер племянник фон Таубе. Но теперь уже не было выхода, тем более что в последних словах Бринкера был явный намёк, звучавший почти как угроза.
— Здоров? — отрывисто спросил Бринкер.
— Да, — ответил фон Таубе, — увлекается спортом, в меру горяч, но не теряет самообладания. Ему сейчас двадцать лет, он одарённый мальчик. Отлично учился и окончил школу одним из первых…
— Воля?
— Мне трудно так подробно ответить на все ваши вопросы, но полагаю, что и с этой стороны всё обстоит вполне благополучно.
— Пьёт? Любит женщин?
— И то и другое в меру. Шпейер мечтает о военной, чисто военной карьере. Чрезвычайно интересуется аэропланами.
— Очень хорошо. Нас тоже интересуют аэропланы. Очень хорошо. Вот что, пришлите его сейчас ко мне.
Фон Таубе вышел из кабинета и остановился на пороге актового зала. Разгорячённые танцем пары вихрем проносились мимо него. Юные лейтенанты в серых парадных мундирах почти поднимали в воздух своих дам. Блистающая на хорах медь оркестра как бы низвергала из широко разинутых труб водопады звуков, волны которых захлёстывали зал.
Но вот в этой пёстрой, быстро плывущей толпе мелькнуло молодое лицо с крепкими скулами, глубоко сидящими глазами и несколько тяжёлым подбородком. Это и был Ганс Шпейер. Уверенно и ловко он кружил свою даму, влюблённо смотревшую на него. Когда они поравнялись с фон Таубе, тот чуть заметно прикоснулся к плечу Шпейера. Шпейер ответил ему лёгким кивком и, извинившись перед своей дамой, покинул её. Подойдя к фон Таубе, юноша щёлкнул каблуками и вытянулся, глядя прямо в глаза своему дяде и начальнику.
— Я слушаю, господин генерал-майор, — произнёс он привычные слова.
— Пройдите в мой кабинет, — тихо сказал фон Таубе. — Там ждёт вас господин, который хочет с вами поговорить. Помните, что, несмотря на штатское платье, это представитель высшего командования.
И, не ожидая ответа, фон Таубе прошёл в буфетную. Он не хотел присутствовать при разговоре своего племянника с господином Бринкером.
А разговор этот затянулся на три с лишним часа. Шпейер, в соответствии с полученными указаниями, держался очень почтительно. Человек в штатском начал с расспросов о детстве Ганса, о его школьных успехах, привычках, интересах и даже шалостях. В ходе разговора наблюдательный Ганс заметил, что почти всё, что он мог рассказать о себе, уже было известно этому спокойному, сухому человеку в штатском, который вот сейчас сидит против него, неторопливо задаёт вопросы, внимательно его разглядывает. Да, у него было странное лицо, у этого человека в штатском. Взгляд холодный и вместе с тем очень пристальный, цепкий. Очень спокойно и почти флегматично задавая вопросы, он в то же время непрерывно облизывал тонкие губы, и было в этой привычке что-то беспокойное, насторожённое и злое. Пытаясь изредка улыбаться, он чисто механически раздвигал свои узкие губы, но глаза при этом не смеялись и сохраняли свой тусклый, рыбий блеск, а лицо оставалось таким, как было: флегматичным и плоским. И тогда становилось очевидным, что улыбка эта не только не имеет никакого отношения к тому, о чём он сейчас думает, что чувствует и чего хочет, а, напротив, имеет своим назначением всё это скрыть от собеседника.
Уже в самом конце разговора господин Бринкер сказал:
— Пора, лейтенант, раскрыть карты. Я — заместитель начальника разведывательного управления генерального штаба. Мы следим за вами с первого класса, с момента вашего зачисления в школу. Нам известно о вас гораздо больше, чем вам самому. Вот приказ о том, что вы откомандированы в моё распоряжение. Завтра утром вы покинете Брауншвейг и поедете в Веленберг. Это маленький городок в долине Рейна. Там наша секретная школа. Ещё два года вы будете учиться, лейтенант. У вас подходящая для будущего амплуа внешность. Дело в том, что вы будете работать в России, эти скулы, этот прямой нос, весь этот славянский облик ещё пригодятся вам, лейтенант. И нам тоже. По русскому языку у вас отличная отметка. Но вы будете работать над ним ещё два года. Вы должны научиться не только превосходно владеть им, но привыкнуть даже и думать по-русски — я хочу сказать, на русском языке. А через два года вы поедете в Россию. Теперь вы понимаете, как высоко мы вас ценим, как серьёзно на вас надеемся и как много от вас ждём…
3. ЧЕРЕЗ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ
До революции Зареченск был глухим городком, стоявшим вдали от железнодорожных узлов, на боковой ветке. В городке этом не было ничего примечательного, кроме большого озера и древней церковки, прославленной тем, что некогда в ней как будто венчался Александр Невский. Когда-то, очень давно, Зареченск стоял на великом торговом пути «из варяг в греки» и бойко торговал льном, рыбой, пушниной и другими товарами. Но потом стремительно возникли новые, гораздо бо́льшие города, открылись иные торговые пути, почти вывелся в окрестных лесах ценный пушной зверь, и городок быстро состарился и заглох.
Уездная жизнь тянулась нудно и размеренно, недели уходили за неделями, привычно сливаясь в месяцы и годы, а зареченцы жили всё в том же сонном покое, занимаясь огородничеством и нехитрыми местными промыслами: бочарным и кожевенным делом, валянием шерстяной обуви и изготовлением расписных извозчичьих дуг.
Воскресными вечерами старики любили собираться на завалинках и пережёвывать примечательные события зареченской хроники. Любили вспоминать о том, как покойный земский начальник Валерьян Павлович Харинский, большой любитель попариться в бане, имел обыкновение прямо с пару выскакивать голым на мороз и в этом виде нырять в снежные сугробы, после чего он незамедлительно возвращался в раскалённую баню и там вновь начинал париться. И о том, как однажды, прикончив в дымном предбаннике жбан домашней «смородиновой», земский начальник выбежал во двор, свалился в сугроб и там, бедняга, заснув, окоченел.
Старожилы любили также вспоминать рассказы дедов о том, как Наполеон Бонапарт, заняв Зареченск в 1812 году, поставил в церкви Николая-угодника, что стоит и поныне за городским валом, своего любимого коня и как конь этот ночью невесть отчего издох, а император после этого пятеро суток не ел, молча сидел на берегу озера и даже хотел отменить поход на Москву.
Одним словом, было о чём посудачить зареченским старожилам.
Революция пришла в Зареченск в лице балтийского матроса Дубяго, прибывшего в город с аршинным мандатом, в пять дней наведшего порядок, ликвидировавшего местную буржуазию, переименовавшего главную улицу — бывшую Миллионную — в улицу Мирового пожара и, между прочим, женившегося на первой городской красавице Зиночке Туфановой.
Несколькими годами позже в Зареченск прибыли инженеры и строители; вокруг города выросли два комбината: деревообделочный и фанерный. За ними возникла большая спичечная фабрика, и старый, тихий Зареченск стал хоть и не слишком крупным, но всё же промышленным городом.
Зареченск сразу как бы ожил и помолодел. Начала издаваться газета. Появился городской клуб. В несколько лет были построены новые, красивые здания. В городе появилось электрическое освещение. На Базарной площади начали строить универмаг.
Одним словом, жизнь приобрела другой характер, другой стиль и размах.
Удивительные события, о которых пойдёт речь дальше, начались в Зареченске 21 июня 1941 года с мирного и, казалось бы, незначительного происшествия: в эту субботу в городе было назначено открытие универмага, выстроенного на Базарной площади.
В два часа дня зареченцы собрались у нового здания, с нетерпением ожидая его открытия. Начальник раймилиции товарищ Петухов убедительно призывал граждан к всемерному спокойствию. Витрины универмага были закрыты полотняными маркизами. Ещё накануне вечером за этими маркизами кипела лихорадочная работа. По замыслу директора универмага, товарища Бессмертного, центральная витрина, отведённая под мебельную секцию, должна была потрясти воображение зареченцев. В этой витрине, получившей наименование «счастье молодожёнов», товарищ Бессмертный поставил роскошную кровать с никелированными шишками, покрытую голубым стёганым одеялом, ночной столик, на котором сияла лампа под розовым абажуром, и полированный древтрестовский шкаф-шифоньер с зеркалом.
И вот по знаку, который подал председатель райисполкома товарищ Максимов, полосатые маркизы медленно поползли вверх, и витрины универмага раскрылись одна за другой. Когда, наконец, дрогнув, как театральный занавес, взвилась вверх маркиза, закрывавшая центральную витрину, толпа разразилась безудержным хохотом: уютно завернувшись в роскошное голубое одеяло и разметав по белоснежной подушке рыжие спутанные кудри, сладко спал на кровати известный всему Зареченску Васька Кузьменко, первый в городе озорник и лучший актёр местного драмкружка.
Увидев эту картину, товарищ Петухов со стоном ринулся в универмаг. Лицо товарища Бессмертного приобрело от естественного волнения неестественный фиолетовый оттенок. Толпа покатывалась со смеху.
Между тем товарищ Петухов, как неизбежный рок, ворвался в «счастье молодожёнов». Схватив Ваську за пятку и стащив его таким образом с кровати, он опустил маркизу, явно не желая посвящать собравшихся граждан в тайны судопроизводства. Впрочем, через несколько минут он вывел Ваську на площадь, лично конвоируя его в милицию. Необходимо отметить, что Васька, по-видимому, не был особенно удручён этим, так как, едва появившись в подъезде универмага, он послал воздушный поцелуй толпе и даже сделал ей приветственный знак рукой.
Прибыв в раймилицию и сдав злоумышленника своему заместителю с кратким, но внушительным указанием «оформить дело по 74-й и до суда не выпускать», Петухов хотел было вернуться на площадь, но в дверях столкнулся с зареченским старожилом, районным землеустроителем Иваном Сергеевичем Шараповым.
Ивана Сергеевича знал и уважал весь город. В Зареченске он появился давно, ещё в 1919 году. Он был лыс, худощав и добродушен. В городе он был популярен как организатор и руководитель местного драмкружка, которому Иван Сергеевич с увлечением отдавал всё своё свободное время.
— Здравствуйте, товарищ Шарапов, — приветствовал его Петухов. — Рад вас видеть, но тороплюсь по делам службы: открытие универмага. Васька Кузьменко, сукин, сын, слыхали, чего натворил?! Нет, каков каналья!..
— Я к вам как раз по этому делу, — произнёс Шарапов. — Вы его сюда привели, и, признаться, опасаюсь, что не зря…
— Арестован по семьдесят четвёртой статье, — коротко разъяснил Петухов. — Хулиганство, то есть озорные действия, сопряжённые с неуважением к обществу, в злостных случаях карается…
— Знаю, батенька, чувствую, что карается, потому и прибыл, — произнёс, волнуясь, Шарапов. — Беспокоюсь, как бы сие юбилей не покарало, вот почему я за вами бежал… Это в мои-то годы, да при моём сердце…
— Какой юбилей? — спросил Петухов.
— Юбилей драмкружка, — ответил Шарапов. — Сегодня, дражайший, ему ровно десять годков стукнуло. В городском клубе будет торжественный вечер. Небось забыли? Новая постановка показывается — «Свадьба Кречинского». Я в ней играю Расплюева, а Вася — Кречинского. Вы уж меня извините, но придётся Васю освободить всенепременно, уважаемый товарищ Петухов. Озорству его не сочувствую, как и вы, поведением Кузьменко возмущён, против законной кары не возражаю, но на освобождении, хотя бы на сегодня, настаиваю.
Товарищ Петухов задумался. Он совсем забыл про сегодняшний юбилей. В городе любили драмкружок, да и сам Петухов, говоря между нами, был большой поклонник сценических искусств. А Васька, хотя и являлся личностью озорной и даже, по глубокому убеждению товарища Петухова, социально-опасной, чувствовал себя на сцене так же просто, как в витрине универмага.
— А заменить его разве нельзя? — неуверенно спросил Петухов.
— Категорически и абсолютно! — с жаром ответил Шарапов. — Роль ответственная, большая. А Вася, злодейская его душа, поверьте — талант! Сумбатов-Южин!..
Товарищ Петухов, услыхав про Южина, не выдержал, вздохнул и отдал распоряжение об изменении меры пресечения. Ваську освободили, взяли с него подписку о невыезде, причём предварительно ему было разъяснено, что если бы не роль Кречинского, сегодняшний юбилей и уважение к Ивану Сергеевичу, то сидел бы он до суда «по всей форме и на законном основании».
— Не усматриваю в действиях своих состава преступления, — нахально ответил Васька. — Нет такого закона, чтобы нельзя было творческому работнику отдохнуть перед выступлением. Я, товарищ Петухов, должен разъяснить вам, что лепить образ — это не протокол составлять… Вы придёте в театр и смеяться будете, а мне, может быть, роль Кречинского в муках далась… Я никого не оскорбил, ничего не украл, старуху не зарезал, я только организованно выспался. И всё!
— Ступайте, обвиняемый. Я не намерен вступать с вами в дискуссии, — холодно ответил товарищ Петухов. — После спектакля мы вернёмся к этому криминальному вопросу. А уж насчёт состава преступления не вам говорить. При вашем образе жизни пора бы уже знать уголовный кодекс наизусть.
— Не понята душа поэта, — туманно выразился Васька и весело вышел из милиции в сопровождении товарища Шарапова.
Выручив таким образом Ваську Кузьменко и напомнив ему о необходимости явиться в городской клуб ровно к девяти часам, Иван Сергеевич направился домой.
Он жил за городским валом, на боковой уличке, обсаженной берёзами и заросшей зелёной высокой травой, на которой играли дети. Его маленький деревянный домик стоял в самом конце этой улицы. Иван Сергеевич жил в нём вдвоём со своей внучкой Тамусей, которая осталась у него после смерти дочери, скончавшейся в 1933 году от туберкулёза. Тамусе исполнилось уже девять лет, она была пионеркой и училась в зареченской школе-десятилетке.
Иван Сергеевич нежно любил свою внучку. Весь город восхищался тем, как внимательно и умело старик воспитывает девочку. И в самом деле, это была трогательная пара — девятилетняя Тамуся и её старый добродушный дедушка.
Придя домой, Иван Сергеевич стал собираться на спектакль. Он очень увлекался драмкружком, в котором одновременно героически нёс обязанности главного режиссёра, заведующего репертуаром, художника и ведущего актёра. В Зареченске не было профессионального театра, и горожане были благодарны Шарапову за его труды. После каждого спектакля его неизменно вызывали и устраивали ему овацию. Иван Сергеевич выходил смущённый от волнения, по-стариковски неловко раскланивался. И было во всём его облике, в этих морщинах на лице, в застенчивой улыбке и в блестящих от волнения глазах, что-то удивительно привлекательное и располагающее.
— Чеховский персонаж, — сказал о нём как-то рецензент местной газеты Рассветов. — И мягкость в нём какая-то чеховская…
По странному стечению обстоятельств торжественный юбилей зареченского драмкружка начался ровно через тридцать лет после описанного нами выше выпускного бала брауншвейгской офицерской школы, в тот самый день и даже в тот самый час — 21 июня 1941 года.
Юбилей начался с короткого заседания, на котором председатель райисполкома товарищ Максимов произнёс речь. Отметив значение драмкружка и личные заслуги в этом деле Ивана Сергеевича, Максимов сказал:
— Мы долго думали, как отметить плодотворную деятельность Ивана Сергеевича на ниве, так сказать, просвещения. И поскольку нам стало известно, что он является страстным радиолюбителем, мы решили преподнести ему радиоприёмник как скромное выражение нашей признательности.
При этих словах товарища Максимова оркестр сыграл туш. Заведующий городским клубом незамедлительно вынес на сцену трехламповый, так называемый «колхозный» приёмник, который и вручил Ивану Сергеевичу под дружные аплодисменты всего зала, Иван Сергеевич произнёс ответную речь. Как всегда, немного сутулясь, он вышел к рампе и взволнованно поблагодарил товарища Максимова и всех собравшихся за оказанное ему внимание.
Потом драмкружок показал «Свадьбу Кречинского», причём Иван Сергеевич отлично исполнил роль Расплюева. В ударе был и Васька Кузьменко — Кречинский. Спектакль прошёл с успехом, публика осталась довольна. После спектакля начались танцы.
Было уже поздно, когда Иван Сергеевич вышел из подъезда клуба. Тихо шелестел тёплый июньский дождь. Из Заречья доносился заливистый собачий лай. Под ногами после недавнего ливня тяжко вздыхали и чавкали лужи. Городок был уже погружён в сон. Тусклый фонарь, качаясь от резких порывов ветра, бросал на мокрую мостовую колеблющиеся пятна света. Иван Сергеевич поднял воротник пальто и, прижав к груди преподнесённый ему приёмник, потихоньку поплёлся к себе домой.
Добравшись до дому, старик открыл своим ключом калитку и тихо, стараясь не разбудить спящую внучку, прошёл в свою комнату. Затем Иван Сергеевич, не зажигая света, сел в кресло и устало вытянул ноги. В темноте четыре раза прокуковали старинные часы. Было ровно четыре часа утра. Спать, однако, не хотелось, и старик продолжал сидеть, перебирая в памяти детали сегодняшнего дня. К нему незаметно подбиралась дремота.
Внезапно страшный грохот ворвался в нагретую домашнюю тишину. Дом дрожал. Иван Сергеевич бросился к окну. Огромное пламя бушевало в стороне зареченского вокзала, расположенного в двух километрах от города. Ещё несколько сильных взрывов донеслось оттуда. По улице, крича, бежали разбуженные люди. Тревожно мычали в хлевах обеспокоенные коровы. Тамуся проснулась и с криком: «Что это, дедушка?» — бросилась к старику.
Но Иван Сергеевич и сам не понимал ещё, что случилось. Он выбежал на улицу и, стоя у своего палисадника, увидел, как всё больше разгорается пламя в районе вокзала. Один за другим раздались ещё несколько взрывов. Вдруг на фоне багрового от пожара неба показался чёрный, костлявый силуэт самолёта, который пикировал на вокзал. Снова взрыв, и снова столб пламени. Сомнений не оставалось — бомбили район вокзала. Война!
Иван Сергеевич бросился к себе и лихорадочно включил свой самодельный старенький приёмник. Все германские радиостанции передавали речь Гитлера, который, сыпля проклятия и угрозы, хрипло кричал о войне.
В эту ночь гитлеровская Германия напала на Советский Союз.
4. ВОЙНА
Никогда не сотрётся в нашей памяти первый день войны. В это воскресенье — 22 июня 1941 года — родина слушала речь Молотова, объявившего о коварном и неожиданном нападении Германии на Советский Союз. На сразу притихших площадях больших городов, на заводских дворах и в парках санаториев, в Москве и на Камчатке, в якутской тундре и в Кахетии десятки миллионов советских людей, затаив дыхание, стояли перед радиорепродукторами. Вставшая в это утро для мирного отдыха страна узнала о начале войны.
Мы никогда не забудем, как в несколько минут изменилось в тот день лицо родины, как сосредоточенны и суровы стали вдруг лица людей, как совершенно по-иному пошла, завертелась жизнь.
И маленький Зареченск, как тысячи других советских городов, как вся страна, не растерялся, не дрогнул. Уже с утра городские жители помогали железнодорожникам восстанавливать разрушенные ночной бомбёжкой пути, вокзальные пакгаузы и депо. В городе и в районе в образцовом порядке проходила срочная мобилизация. Колонны грузовых машин потянулись к военным складам, расположенным за озером. На фанерном и дерево-обделочном комбинатах уже через два дня вступил в действие график военного производства и заработали военные цехи. К вечеру перешли на казарменное положение только что созданные команды ПВО.
Начались военные будни. Радио непрерывно приносило в Зареченск суровые сводки первых дней войны, правительственные указы, международные новости, инструкции противовоздушной и химической обороны.
Зареченск приобрёл особое значение как один из пунктов, в районе которых сосредоточивались военные материалы и запасы для фронта. По железной дороге через Зареченск сплошным потоком пошли к границе военные грузы. Наконец, в районе Зареченска были дислоцированы и людские резервы фронта, ожидавшие направления в действующую армию, на передний край нашей обороны.
Всё это вместе взятое превращало Зареченск в важный с военной и стратегической точки зрения пункт.
Жители города были предупреждены о необходимости строго хранить военную тайну, о возможности выброски вражеских парашютно-диверсионных групп, о повышении бдительности в быту и на работе. Через несколько дней были созданы в городе и районе специальные истребительные отряды для вылавливания шпионов, диверсантов и лазутчиков врага. Вскоре в одном из сельсоветов удалось задержать группу подозрительных лиц, неизвестно откуда и как появившихся в этом районе и проявлявших чрезмерный интерес к местонахождению военных складов. Позднее оказалось, что все эти лица — немецкие парашютисты, выброшенные со специальными заданиями.
Через несколько дней колхозницы Гремяченского сельсовета случайно обнаружили в лесу несколько плохо замаскированных парашютов, владельцы которых успели куда-то скрыться. Организованная для их поимки облава не дала никаких результатов. По-видимому, эта группа парашютистов успела перебраться в соседний район.
В эти же дни на фанерном комбинате ночью был произведён поджог большого склада готовой авиационной фанеры. Благодаря бдительности одной из работниц, заметившей лёгкий дымок, удалось вовремя предотвратить пожар. При этом обнаружилось, что к заднему крыльцу склада чьи-то ловкие руки успели предусмотрительно натаскать охапки соломы, несколько смоляных факелов и шашки тола.
Как всегда бывает в таких случаях, слухи об этих происшествиях распространялись с невероятной быстротой, обрастая всё новыми и подчас совершенно фантастическими подробностями. Зареченцы с волнением обсуждали эти факты.
И как раз в это тревожное время случилась беда с внучкой Ивана Сергеевича. Беда началась с летних школьных экзаменов. Тамуся в течение учебного года отставала по русскому языку. Старушка учительница Анастасия Никитична Егорова, прожившая в Зареченске всю свою жизнь, несколько раз обращала внимание Шарапова на плохие отметки его внучки в последнее время. Иван Сергеевич поговорил с Тамусей, и она обещала ему подтянуться и после летних каникул сдать экзамен по русскому языку.
В тот августовский день, когда был назначен этот экзамен, Ивана Сергеевича вызвали в один из сельсоветов. Тамуся на экзамене провалилась. Анастасия Никитична перед всем классом побранила девочку, сказала, что вопрос о ней будет поставлен в пионерском отряде и что, по всей вероятности, ей придётся снять красный галстук.
Самолюбивая Тамуся заплакала. Когда все дети разошлись по домам, она осталась в школе и, закрывшись одна в классе, начала что-то писать. По-видимому, это было какое-то важное письмо, потому что она несколько раз его переписывала, а затем пошла в школьную сторожку и попросила у сторожа красных чернил.
— Дядя Сеня, — сказала она, — дай, пожалуйста, немного красных чернил. В классе у нас только фиолетовые, и они сильно кляксятся, а мне надо написать очень важное письмо.
— Дома пиши! — заворчал дядя Сеня. — Уже давно все ученики разошлись, а ты всё тут торчишь…
Но чернила он всё же ей дал. Тамуся налила их в чернильницу, снова села за парту и принялась за письмо. Но ей не везло: через две-три минуты она случайно опрокинула чернильницу. Красные чернила залили парту и часть письма. От неожиданности Тамуся вскрикнула. Дядя Сеня, убиравший в соседнем классе, пришёл на крик и увидел залитую чернилами парту. Вдвоём с Тамусей они стали приводить парту в порядок, после чего рассердившийся старик потребовал, чтобы девочка «сей же минут очистила помещение». Захватив испачканное письмо, Тамуся ушла домой.
А на следующий день утром в кабинет районного прокурора Игната Парфентьевича Волкова прибежал Иван Сергеевич. Вид у старика был ужасный, глаза его блуждали. Сотрясаясь от рыданий, он с трудом сообщил прокурору, что Тамуся ночью повесилась, не выдержав оскорблений, публично нанесённых ей учительницей Егоровой.
— Вот и письмо её, — рыдая, сказал Иван Сергеевич. — Вот тут всё написано… Голубка моя!..
Прокурор взял письмо. На большой листе бумаги, залитом с краю красными чернилами, было написано:
«Анастасия Никитична! Вы жестоко обидели и оскорбили меня перед всем классом!.. Я никому не позволю снять с себя красный галстук, и если бы это случилось, я не стала бы больше жить…»
5. СЛЕДОВАТЕЛЬ ПЛОТНИКОВ
Плотников принадлежал к числу начинающих, романтически настроенных следователей, рассматривающих свою профессию как источник неисчерпаемых возможностей распутывания загадочных преступлений и раскрытия сложных конфликтов и человеческих драм. Ещё в институте Плотников мечтал о том, как он, став, наконец, следователем, раскроет десятки «замечательных» дел, проявит изумительное проникновение в тайники человеческой души и прослывёт грозой преступного мира.
И вот Плотников — народный следователь в Зареченске. После шумных улиц Москвы, великолепных театров, после весёлых студенческих вечеринок — маленький, тихий городок, сонное озеро, деревянные домишки, прочно устоявшийся провинциальный быт.
На работе в районной прокуратуре — неизменно спокойный пожилой, добродушный прокурор Игнат Парфентьевич Волков, большой любитель рыбной ловли. Дела — две растраты в сельпо, разбазаривание горючего в МТС, хищение пшеницы на пункте Заготзерна. Всё!
— Где же «настоящие» дела? Где запутанные убийства, дерзкие ограбления, крупные хищения? — уныло спрашивал Плотников у прокурора в первые месяцы своей работы.
— Типун тебе на язык, батенька, — со смехом отвечал Игнат Парфентьевич. — Второй год, как в районе не было ни одного убийства! И прекрасно! Вообще преступность у нас — тьфу, тьфу, не сглазить! — сильно пошла на убыль… Порядок в районе приличный.
— Какой же это порядок, — в искреннем отчаянии восклицал Плотников, — когда нет ни одного хорошего дела? Порадоваться нечему. Одна рыба — мелочь.
Но Игнат Парфентьевич в ответ только добродушно посмеивался, и лишь один раз он рассердился и накричал на Плотникова.
Впрочем, вскоре после своего приезда Плотников ещё крепче подружился с дочерью учительницы Егоровой, молодым ветеринарным врачом Шурой Егоровой. Справедливость требует отметить, что после нескольких лодочных прогулок по озеру в обществе Шуры следователь Плотников заметно повеселел и перестал жаловаться на отсутствие «настоящих» дел.
Районный прокурор, очень внимательно следивший за настроениями и бытом своего следователя, был, конечно, в курсе личных дел Плотникова. Как человек тактичный, он никогда на эту тему не разговаривал и лишь слегка посмеивался себе в усы, когда Плотников по вечерам срочно покидал свой кабинет, ссылаясь на «приступ острой головной боли». Успевший искренне привязаться к молодому следователю, Игнат Парфентьевич считал про себя, что Шура — «девица правильная», и вообще она с Плотниковым пара подходящая.
В Зареченске был только один следователь. И прокурор, отлично понимавший всю щекотливость создавшейся ситуации, всё же скрепя сердце был вынужден поручить дело о самоубийстве Тамуси Плотникову.
— Придётся тебе, — коротко сказал он, делая вид, что не замечает умоляющего взгляда Плотникова. — Больше некому.
— Невозможно это, Игнат Парфентьевич, — произнёс Плотников с отчаянием. — Невозможно это по многим обстоятельствам. Ведь Шарапов обвиняет учительницу Егорову в доведении до самоубийства его внучки!
— Ну и что же? — прикидывался непонимающим прокурор. — Дело как дело.
— Да ведь учительница Егорова — мать Шуры, — с трудом выдавил из себя Плотников.
— Дочь за мать не отвечает, — ответил Игнат Парфентьевич.
— Но как же я могу вести дело о матери своей невесты! — почти закричал Плотников. — Ведь для вас не секрет, что я и Шура…
Волков задумался и отошёл к окну. Потом он посмотрел на Плотникова и тихо сказал:
— Милый мой, я всё знаю, как есть всё. Но выхода нет. Кроме тебя, вести дело больше некому. Виновата старуха — будешь её привлекать. Не виновна — прекратишь дело. Только и всего. В твоей объективности я не сомневаюсь.
— Неэтично. И потом, как я буду смотреть в глаза Шуре?!
— Смотри, как ни в чём не бывало, — ответил прокурор. — Девушка она умная, тактичная. Сама поймёт, что служба — прежде всего. Одним словом, милый, приступай.
И Плотников приступил. Как полагается, он прежде всего осмотрел труп и место происшествия. На худеньком лице мёртвой девочки застыли широко, как бы в ужасе, открытые глаза. Никаких признаков насильственной смерти при наружном осмотре не оказалось. Записка самоубийцы была написана ею собственноручно. Это в дальнейшем подтвердила и графическая экспертиза.
Оставалось произвести судебномедицинское вскрытие трупа. Плотников задумался. Дело в том, что в Зареченске не было судебномедицинского эксперта. Пришлось поручить вскрытие местному хирургу, доктору Осипову.
Врач в присутствии Плотникова произвёл вскрытие и написал заключение, согласно которому:
«Смерть покойной Тамары Шараповой, 9 лет, наступила вследствие асфиксии, последовавшей в результате наложения петли на шею покойной. Отсутствие ран, царапин и иных признаков борьбы и насилия в сочетании с запиской, оставленной покойной, приводят к заключению, что в данном случае имело место самоубийство».
Закончив эти формальности, следователь приступил к допросам. Иван Сергеевич подробно рассказал Плотникову об обстоятельствах, при которых он обнаружил рано утром случившуюся беду. По его словам, ещё накануне ночью, поздно придя с работы, он застал Тамусю в её комнате. Она что-то писала за столом и, когда он вошёл в комнату, быстро перевернула исписанный листок. Он спросил девочку, почему она не спит. Тамуся ответила, что ей надо повторить уроки. Иван Сергеевич сказал, что уже поздно, и приказал Тамусе ложиться спать, а сам пошёл в свою комнату, разделся и лёг в постель. Утром, проснувшись, он зашёл к Тамусе и застал её в петле. Тело девочки уже остыло, и признаки трупного окоченения были налицо. На столе лежала её предсмертная записка.
— Это был тот же листок, который вы видели накануне? — спросил Плотников.
— Да, — ответил Иван Сергеевич, — безусловно, это был тот же листок. Я хорошо запомнил его формат.
— Значит, вы уверены, что Тамуся писала эту записку дома, когда вы её видели в последний раз?
— Безусловно, — ответил Шарапов. — В этом можно не сомневаться. Именно потому она и перевернула записку.
К концу допроса старик разволновался и заплакал.
— Простите меня, товарищ следователь, — говорил он Плотникову, всхлипывая и сморкаясь, — но поймите: ведь я теперь один на белом свете. Один у меня был свет в окне — моя Тамуся… И вот теперь ничего не осталось. Холодная, одинокая, страшная старость… Старость, которую ничем не согреть…
Плотникову было от души его жаль. Иван Сергеевич очень изменился за эти дни. Он как-то сразу поник, осунулся и постарел. Его неизменно добродушное, приветливое лицо потеряло свою обычную жизнерадостность, глаза ввалились, щёки отекли. Во всём облике Ивана Сергеевича, в его потухшем взоре, в скорбных складках его рта, в частых слезах сквозило неподдельное большое горе.
И Плотникову было понятно, почему убитый горем старик с такой настойчивостью — добивался привлечения к ответственности учительницы Егоровой, которую он считал виновницей гибели Тамуси.
Он требовал ареста Егоровой, показательного суда над ней и строгого наказания.
— Это человек в футляре! — взволнованно говорил он Плотникову. — Это она, старая ведьма, довела Тамусю до петли! Она затравила ребёнка! Весь город знает, что Тамуся была здоровой, жизнерадостной девочкой… Я требую суда! Я требую наказания!
— Ну, успокойтесь, Иван Сергеевич, — отвечал Плотников. — Поверьте мне, всё будет объективно исследовано и проверено, всё станет ясно.
И в самом деле, он добросовестно, с полной объективностью продолжал расследование этого дела, которое в его реестре значилось как «Дело № 187 по обвинению гр-ки Егоровой А. Н. в доведении до самоубийства пионерки Тамары Шараповой».
6. ПОХОРОНЫ
Похороны Тамуси состоялись через два дня после патологоанатомического вскрытия. За гробом на кладбище тли Иван Сергеевич и его друзья, школьные товарищи Тамуси и несколько педагогов. Пошёл на похороны и Плотников.
На кладбище, возле могилы, перед тем как гроб опустили в землю, Иван Сергеевич не выдержал и зарыдал. Бросившись на маленький гробик, он судорожно вцепился в него руками. Кто-то из присутствующих с трудом оторвал старика от гроба и отвёл его в сторону. Когда гроб уже был опущен в могилу, в кладбищенских воротах показалась Анастасия Никитична Егорова. Она опоздала на похороны и торопилась, чтобы успеть проститься с Тамусей. Старуха уже знала о том, что Иван Сергеевич обвиняет её в гибели своей внучки. Без конца припоминая подробности своего разговора с Тамусей, Анастасия Никитична никак не могла согласиться с тем, что это могло толкнуть девочку на самоубийство. Анастасия Никитична учительствовала сорок с лишним лет. Она отлично знала детскую душу и хорошо учила своих учеников. Тамуся была здоровой, жизнерадостной, немного ленивой, но безусловно способной девочкой. Выговор, сделанный ей учительницей, по мнению Анастасии Никитичны, никак не мог привести её к самоубийству. Анастасия Никитична любила Тамусю, как и всех своих учеников. Узнав о её похоронах, старушка решила проститься с Тамусей.
Запыхавшись от быстрой ходьбы, учительница подошла к могиле и остановилась неподалёку.
— Убийца!.. Вон отсюда!.. Как вы смели сюда прийти?! — истерически закричал Иван Сергеевич, увидев Егорову. — Это вы довели её до — гроба. Бездушная тварь!..
Иван Сергеевич бросился к Егоровой, но его успели удержать. Учительница скорбно смотрела на старика. Потом она тихо, почти шёпотом, произнесла:
— Вы ошибаетесь, Иван Сергеевич… Я не убийца… Я любила Тамусю и хотела ей только добра. Но я понимаю ваше горе и не обижаюсь на вас… Вам ведь ещё тяжелее, чем мне…
Она повернулась к нему спиной и пошла с кладбища. С минуту после этого стояла тяжёлая тишина. Понурив голову, беззвучно плакал Иван Сергеевич. Взрослые и дети, столпившиеся у могилы, старались не глядеть друг Другу в глаза. Потом комья земли полетели в могилу, с мягким стуком ударяясь о крышку гроба.
Плотников стоял в стороне. Ему было не по себе. Интуиция следователя подсказывала ему, что Егорова не виновна. Внутренне он был убеждён в этом. Смутно догадываясь, что какие-то совсем иные, пока ещё неизвестные причины привели девочку к гибели, Плотников вместе с тем был бессилен это доказать. Формально, с точки зрения всех обстоятельств дела, Анастасия Никитична была причастна к самоубийству Тамуси. С другой стороны, положение Плотникова было крайне щекотливо: он и сам опасался, что его отношение к Шуре невольно влияет на его суждение и выводы.
«Я должен быть объективен, я должен забыть всё то хорошее, что мне известно о её матери», — думал Плотников и незаметно для самого себя как раз и терял эту объективность, настраиваясь против Егоровой. Каждый раз, когда ему в голову приходил довод в пользу Анастасии Никитичны, он придирчиво спрашивал самого себя: «А не потому ли я так думаю, что речь идёт о Шуриной матери?»
И вот теперь Плотников оказался свидетелем тяжёлой сцены, которая разыгралась у свежей могилы. Он жалел Анастасию Никитичну, но понимал и душевное состояние старика.
Когда над могилой вырос свежий холмик, все стали расходиться.
Кладбище опустело. Плотников присел рядом на пень и закурил. Белые кладбищенские берёзы тихо шумели над ним. Плотников думал всё о том же — о смерти Тамуси, о горе её деда, об Анастасии Никитичне и о Шуре, которую он не видел уже несколько дней, о войне, которая разгорается всё шире. Он объяснил девушке, что до окончания следствия им неудобно встречаться, и Шура — согласилась, с ним. Она ни словом не обмолвилась в защиту своей матери, и Плотников вспоминал теперь об этом с гордостью.
Лёгкий кашель привлёк внимание Плотникова. Он обернулся и увидел старика Шарапова, который тоже остался на кладбище. Иван Сергеевич не видел Плотникова, сидевшего за деревьями. И странно — лицо старика показалось вдруг Плотникову почти спокойным. Иван Сергеевич деловито высморкался, неторопливо размял папиросу, спокойно закурил и затянулся.
Плотникова поразило это удивительное спокойствие старика, который всего несколько минут тому назад весь сотрясался от рыданий, едва держался на ногах и был почти невменяем.
Вернувшись с кладбища домой, Плотников продолжал размышлять об этой разительной перемене в облике Шарапова, и какие-то туманные сомнения возникли у него с новой силой.
Графическая экспертиза установила, что предсмертная записка Тамуси была написана её рукой. С этой стороны записка не вызывала никаких сомнений. Но кое-что всё же казалось в ней Плотникову подозрительным. Плотников не имел ещё достаточного следственного опыта, но зато был хорошо подготовлен теоретически. Понимая значение криминалистического опыта в своей работе, Плотников пытался возместить недостаток его, усердно изучая пособия по криминалистике, воспоминания опытных следователей и записки криминалистов. Он понимал, что искусство следователя заключается в умении заметить каждую мелочь, запомнить все детали и, сопоставляя их друг с другом, логически правильно истолковать.
Записка Тамуси была без её подписи. Известно, что девочки Тамусиного возраста если и решаются в силу каких-то исключительных обстоятельств на самоубийство, то стараются обставить его возможно торжественнее.
«Допустим, — думал Плотников, — что Тамуся и в самом деле решила покончить с собой. Разве она не захотела бы прямо упрекнуть в прощальной записке обидчицу, доведшую её до самоубийства, и разве, написав об этом, не подписала бы эту записку? Ну конечно, психология девочки её возраста с повышенной впечатлительностью и некоторой обострённостью рефлексов, хотя бы в силу приближения переходного возраста, должна была продиктовать ей такое письмо. А между тем в записке Тамуси не только нет её подписи, но даже последняя фраза в ней не закончена, а самый текст в записке залит чернилами…»
В результате этих размышлений Плотников пришёл к выводу, что нужно проверить, когда и где именно эта записка была написана и почему она не была закончена.
По показаниям одноклассников Тамуси он точно установил все подробности происшедшего инцидента. Дети припомнили, что по окончании экзамена Тамуся осталась в классе. Тогда Плотников исследовал её парту и обнаружил, что она сравнительно недавно была залита красными чернилами. Между тем во всех чернильницах в этом классе были налиты фиолетовые чернила. Плотников обратился к школьному сторожу, и тот рассказал ему, как Тамуся попросила красных чернил для какого-то важного письма, как она нечаянно залила парту и письмо этими чернилами и ушла после этого домой.
Убедившись таким образом, что записку свою Тамуся написала днём, за много часов до самоубийства, Плотников решил окончательно проверить этот факт и с этой целью без предупреждения зашёл вечером к Ивану Сергеевичу.
— Извините меня, — сказал он старику, отворившему ему дверь, — но мне нужно ещё раз осмотреть комнату, в которой произошло несчастье.
— Пожалуйста, — коротко и сухо произнёс Иван Сергеевич и проводил Плотникова в комнату Тамуси.
Это была самая обычная провинциальная комната с небольшим рабочим столом, кроватью и шкафом, в котором ещё висели платья Тамуси.
Плотников обнаружил, что в чернильнице, которая стояла на столе, были фиолетовые чернила.
— А нет ли у вас в доме красных чернил? — как бы невзначай спросил он Ивана Сергеевича.
— Нет, красных нет, — ответил старик и пытливо взглянул на Плотникова. — А вам, собственно, для чего?
— Дело в том, — ответил Плотников, — что, по вашему утверждению, Тамуся писала свою записку в этой комнате, перед тем как покончить с собой. Между тем записка написана красными чернилами.
Старик ещё раз взглянул на Плотникова и, подумав, сказал:
— Да, пожалуй вы правы. Я не заметил в волнении, что записка написана красными чернилами… Значит, я ошибся. Вероятно, Тамуся писала эту записку в другом месте… Впрочем, какое это имеет значение?
Плотников не ответил на этот вопрос. Но он отлично понимал, какое это имеет значение. Было психологически невероятно, чтобы девочка, написавшая записку днём, то есть несколькими часами раньше самоубийства, за это время не успокоилась и не пришла в себя. Кроме того, открытие следователя опровергало первоначальные показания Шарапова об обстоятельствах, непосредственно предшествовавших самоубийству Тамуси.
Но Плотников ничего не сказал старику. Попрощавшись с ним, он пошёл к себе на работу.
— Ну, как дела? — спросил его Волков, тоже сидевший в прокуратуре. — Когда ты кончишь дело о самоубийстве?
Плотников сел против Игната Парфентьевича и подробно рассказал ему о возникших у него сомнениях, о сцене на кладбище, о чернилах, о записке, — одним словам, обо всём.
Волков внимательно выслушал следователя и после небольшой паузы сказал:
— Что ж, твои сомнения законны и логичны. Но что отсюда следует? Какова твоя версия?
— У меня ещё нет определённой версии, — ответил Плотников, — я ничего пока не могу утверждать. Но я считаю необходимым, чтобы труп Тамуси был эксгумирован и подвергнут повторному судебномедицинскому вскрытию и чтобы вскрытие это производил специалист, опытный судебномедицинский эксперт.
— В городе нет такого специалиста, — сказал Волков.
— Знаю. Надо вызвать из области, — ответил Плотников.
Прокурор долго молчал, как бы взвешивая ещё раз все доводы следователя, а затем коротко сказал:
— Согласен. Давай телеграмму.
7. НОЧНОЙ РАЗГОВОР
Через несколько дней из области приехал судебномедицинский эксперт. Чтобы избежать кривотолков, Волков и Плотников решили произвести эксгумацию трупа ночью. Было уже около трёх часов ночи, когда они пришли на кладбище.
Плотников разыскал могилу Тамуси, и её начали раскапывать. Эксперт готовил к вскрытию инструменты. Волков налаживал переносный электрический фонарь.
Наконец, заступ глухо стукнул о крышку гроба. Плотников спустился в разрытую могилу, обвязал гроб верёвкой и крикнул, чтобы поднимали. При тусклом свете слабого электрического фонаря извлечённый из могилы гроб раскрыли и вынули из него труп девочки. Эксперт приступил к работе. Плотников огляделся вокруг со странным чувством. Ему ещё ни разу не приходилось присутствовать при ночной эксгумации.
Светлый круг фонаря только подчёркивал глубокую темноту, в которую было погружено кладбище. В руках эксперта тускло поблёскивал скальпель, которым он быстро и уверенно работал. Волков стоял в стороне, терпеливо ожидая конца вскрытия. Изредка он поворачивал фонарь, который держал в руках, и тогда луч света вырывал из темноты кладбищенские берёзы и могильные кресты. Было очень тихо, но и самая тишина эта была какая-то тревожная, насторожённая, какая бывает только ночью, на кладбище.
— Нашёл! — воскликнул вдруг эксперт, и Плотников, а за ним и Волков бросились к нему. — Всё теперь ясно…
И эксперт начал показывать и объяснять. Горловые хрящи девочки были сломаны. Это был тот хорошо известный криминалистам типичный перелом, который происходит, когда жертву душат за горло руками. Странгуляционная же борозда на шее Тамуси была выражена очень слабо.
— Ясно, — заключил эксперт, — что девочку сначала душили руками и только потом, когда она уже потеряла сознание, на неё накинули петлю, чтобы инсценировать самоубийство. Случай очень интересный. Убийство путём насильственной асфиксии с последующим инсценированием самоубийства. Аналогичный факт описан у Крюкова…
Уже на рассвете, когда все формальности были закончены и эксперт подписал протокол эксгумации и своё категорическое заключение, Плотников получил санкцию прокурора на производство обыска в квартире Ивана Сергеевича Шарапова. Написав постановление, Плотников взял с собой двух милиционеров и направился к старику. Около семи часов утра он подошёл к домику Шарапова. На стук минут через пять вышел заспанный Иван Сергеевич. Увидев Плотникова и милиционеров, он слегка побледнел.
— Что такое? — спросил он. — Что случилось?
— Ничего не случилось, — ответил Плотников. — Но мне нужно произвести у вас обыск. Вот постановление и санкция районного прокурора.
Обыск уже подходил к концу, но поиски были безрезультатны. Не было найдено решительно ничего такого, что могло бы представлять интерес для дела, что проливало бы хоть немного света на причины гибели Тамуси. Иван Сергеевич молча, злыми глазами наблюдал за тем, как Плотников перелистывал книги, знакомился с документами и старыми фотографиями, рылся в древних сундуках.
Комната Тамуси и смежная с нею столовая были уже обысканы, и сейчас обследовалась личная комната Ивана Сергеевича, в которой стояли его кровать, шкаф с книгами и рабочий стол.
Время от времени Плотников задавал Ивану Сергеевичу вопросы, относящиеся к вещам, обращавшим на себя его внимание. Иван Сергеевич отвечал на эти вопросы коротко и односложно, подчёркивая этим своё возмущение обыском. Однако при этом он был абсолютно спокоен, как человек, уверенный в том, что ему решительно нечего бояться. И только один раз Плотников уловил искру, мелькнувшую в его глазах. Это случилось в ту минуту, когда следователь обнаружил среди кипы старых открыток вид города Брауншвейга.
— Вам приходилось бывать в Брауншвейге? — спросил Плотников.
— Нет, я не бывал за границей, — ответил Иван Сергеевич и тут же добавил: — У меня есть виды и многих других городов: Парижа, Венеции, Рима…
И в самом деле, среди открыток были виды всех этих городов.
В сундуке среди старых документов и журналов Плотников обнаружил вырезанные из «Нивы» фотографии первого русского многомоторного самолёта «Илья Муромец».
— Вы, я вижу, интересовались авиацией? — спросил Плотников.
— Интересовался, — ответил Иван Сергеевич. — В то время все ею интересовались. Впрочем, вы, вероятно, этого не помните.
Наконец, обыск закончился. Плотников присел к рабочему столу Ивана Сергеевича, чтобы написать протокол. Стол был завален гербариями, банками и какими-то жучками, старыми конденсаторными лампами, маленькими аккумуляторами, предохранителями и всякой другой радиорухлядью.
— Вы радиолюбитель? — спросил Плотников.
— До войны увлекался. Потом пришлось сдать приёмник, — всё в том же подчёркнуто сухом и лаконичном тоне ответил Иван Сергеевич.
Сев к столу, Плотников чуть подвинул его, чтобы было удобнее, и заметил, что стол, сдвинувшись одной стороной, остался неподвижен с другой. Сделав вид, что он не обратил на это внимания, Плотников попробовал его сдвинуть. Но левая ножка стола была словно прикреплена к одной точке. Тогда он уже с силою начал двигать стол. Выяснилось, что его левая передняя ножка действительно прикреплена к полу. Плотников приподнял стол и увидел, что через эту ножку под пол пропущен какой-то провод. Иван Сергеевич молча сидел в стороне.
— Что это за провод? — опросил его Плотников.
— От старого приёмника. Заземление, — ответил старик.
Ответ был правдоподобен. Тем не менее Плотников поднял половицу, следуя за проводом. Раскапывая землю, Плотников всё больше обнажал провод и, наконец, обнаружил какой-то сколоченный из досок ящик. Иван Сергеевич продолжал хранить угрюмое молчание.
Достав топор, Плотников оторвал доски от ящика и увидел довольно большой, поблёскивающий никелем и эбонитом радиопередатчик фирмы «Телефункен»…
8. ЭКСКУРСИЯ В ПРОШЛОЕ
Иван Сергеевич сидит перед столом следователя, прямо против него, и не спеша затягивается дымом предложенной ему папиросы, стараясь спокойно отвечать на вопросы. Иногда он делано смеётся, но смех этот горек: старый рот неохотно раздвигается в кривой усмешке, а в глубине зрачков притаился плохо запрятанный ужас, страх перед неизбежным наказанием, досада на своё поражение и — удивительная вещь! — искра надежды. Да, надежды, потому что обвиняемый не перестаёт надеяться даже тогда, когда его планы потерпели полное крушение и рассудок ясно говорит ему, что расплата неизбежна.
Шарапов был слишком умён для того, чтобы после обыска продолжать сопротивление. Он не находил уже в этом смысла и не чувствовал той фанатической одержимости, благодаря которой иногда обвиняемый, вопреки фактам и доказательствам, вопреки собственной выгоде и расчёту на «чистосердечное признание», вопреки всему, коротко говорит «нет», не желая назвать ни одного факта, ни одного имени, ни одного адреса, хотя отлично понимает, что ему не верят и что в его виновности сомнений нет.
Шарапов сразу стал рассказывать всё. Он рассказал о выпускном бале брауншвейгской офицерской школы, о том, как вновь произведённый офицер императорской армии Ганс Шпейер уехал, не простившись ни с кем, в маленький городок на Рейне, где ещё два года проходил обучение в секретной школе германской разведывательной службы; в этой школе он тренировал свою память, изучал чертёжное дело и фотографию, зубрил шифровальные коды, совершенствовался в русском языке и дополнительно ко всему этому овладел профессией землемера.
И вот в августе 1913 года в Гатчинской земской управе появился новый молодой землемер Иван Сергеевич Шарапов. Появился он неожиданно, с назначением из Петербурга, прямо из министерства земледелия, и в управе поговаривали, что новый землемер — лицо влиятельное, с весьма значительными связями. Несмотря на это, он расположил к себе всех своей скромностью, редкостной исполнительностью и примерным образом жизни. Был он очень общителен и отменно воспитан, почтительно относился к старшим, охотно угощал сослуживцев, прекрасно играл в преферанс, умел делать комплименты дамам и весело ухаживать за барышнями. Добавьте к этому приятную наружность, точность и аккуратность, поразительную в этом возрасте солидность — и вы поймёте, почему очень скоро после своего появления в Гатчине Иван Сергеевич стал считаться душою общества и завидным женихом.
И в самом деле, через каких-нибудь пять месяцев Иван Сергеевич сделал предложение очень милой барышне, Маше Онисимовой, дочери гатчинского полицмейстера, получил согласие её и родителей и вступил в законный брак.
После свадьбы он отлично зажил с молодой женой в небольшом домике у парка, полученном в приданое. Он завёл широкие знакомства в среде местных чиновников и офицеров гатчинской военной воздухоплавательной школы. На вечеринках, которые очень любили и отлично, умели устраивать Иван Сергеевич и его молоденькая хорошенькая супруга, было неизменно уютно и весело; молодёжь любила у них собираться, выпивать по маленькой, заложить польский банчок, петь хором под гитару: «Ах, зачем эта ночь так была хороша…», танцевать только входившее тогда в моду «танго смерти», декламировать Бальмонта:
Любили также шумной компанией выезжать в окрестности Гатчины на пикники.
Иван Сергеевич импонировал и своей образованностью; он был аккуратным подписчиком «Нивы» со всеми её приложениями, отличался любознательностью и проявлял, между прочим, большой интерес к воздухоплаванию и авиации — к «аппаратам тяжелее воздуха», как тогда было принято называть самолёты. В те времена увлечение авиацией было широко распространено в России. Со страниц газет не сходили портреты одного из первых русских авиаторов — Сергея Уточкина, лихого одессита, разъезжавшего по стране и показывавшего публике опытные полёты. Гатчинская воздухоплавательная школа являлась центром тогдашней авиационной жизни. В ней обучался знаменитый Пётр Николаевич Нестеров, лётчик, впервые сделавший «мёртвую петлю» и впоследствии геройски погибший на фронте. В мастерских школы секретно строился опытный экземпляр первого в мире многомоторного самолёта «Илья Муромец».
«Илья Муромец» чрезвычайно интересовал немецкую разведку. В самом деле, самолёт этот был по тем временам огромным событием. В Европе досадовали, что именно русские первыми дерзают строить многомоторный самолёт. В Германии предвидели, что в будущей войне, которую тайно подготовлял Берлин, эта машина сыграет немалую роль.
Ганс Шпейер понимал всю серьёзность полученного им задания. Он завёл дружбу со многими офицерами гатчинской школы и часто встречался с ними. Ему удалось точно выяснить, что «Илья Муромец» строится в мастерских школы. Но проникнуть в эти мастерские, а главное — добыть чертежи и расчёты самолёта оказалось делом очень трудным.
В Берлине нервничали и поторапливали «землемера». Все возможные способы получения чертежей самолёта были исчерпаны и не дали должных результатов. Даже в военном министерстве не знали толком, что же будет представлять собой этот загадочный самолёт.
Наступило лето 1914 года, последнее мирное лето. Переполненные поезда привозили по воскресеньям из столицы нарядную публику. В парке щебетали птицы и барышни. Военный оркестр без отдыха исполнял томные вальсы и тягучие танго. Роскошные дамы в огромных шляпах с перьями, похожих на вороньи гнёзда, тонкие, бледные петербургские аристократы, щеголеватые студенты, элегантные купчики в блестящих котелках или соломенных канотье, вертлявые столичные модистки, дорогие кокотки и «звёзды» из столичных кафешантанов, надменные гвардейские офицеры в мундирах с иголочки и лакированных сапогах, картавящие штатские пшюты и перезрелые гимназисты гуляли стаями по аллеям парка, любовались мотоциклетными гонками, толпились в гатчинских кафе и кондитерских, флиртовали, сплетничали и вообще развлекались как могли.
В Берлине кайзер Вильгельм нетерпеливо пощипывал усы, рассматривая последние варианты планов генерального штаба. Германская разведка лихорадочно подводила итоги полученных донесений. Генералы тайно примеряли походные мундиры. Под видом летних манёвров немцы проводили мобилизацию и поспешно сколачивали новые дивизии. Лето стремительно катилось к июлю, к военной катастрофе. А молодой «землемер» так и не мог получить чертежей и расчётов «Ильи Муромца».
— Как же вы объясняли свою бездеятельность начальству? — спросил Плотников, с интересом слушавший подробный рассказ Шарапова.
— Каждую неделю, гражданин следователь, — ответил Шарапов, — повторяю, каждую неделю я докладывал немецкой резидентуре в Петербурге о тщетности своих усилий. Нужно сказать, что моё начальство понимало трудность задания. Ведь чертежи самолётов и до меня старались получить, но не сумели.
— Я знаю, — сказал Плотников.
— Когда началась война, производство самолётов было передано Русско-балтийскому заводу. «Ильи Муромцы» были всё же построены и пущены в дело. На фронте они произвели фурор.
— Всё это известно, — перебил его Плотников, — вы рассказывайте о себе. Что вы делали дальше?
Иван Сергеевич начал опять рассказывать. Он рассказал, как переехал после войны в Петроград, где устроился работать на Русско-балтийском заводе. Ему удалось получить там данные о количестве пущенных в производство самолётов и некоторых других видов вооружения. Его деятельность была одобрена. Несколько позже он выехал в одну из западных губерний, где передал ряд шпионско-диверсионных заданий немецкой агентуре, насаждённой в этих районах под видом колонистов, мельников, хуторян, аптекарей, владельцев небольших пивоваренных заводов, колбасных и т. п.
— Надо сказать, — продолжал Иван Сергеевич, — что в царской России была огромная сеть германской разведки. Не было буквально ни одного города, ни одного уезда, где бы под той или иной личиной, под тем или иным прикрытием не жил немецкий агент. И вот мне был выделен целый район, в котором я встречался с нашей агентурой, передавая ей задания. Так пролетели три года, и пришла революция. Был заключён Брестский мир. Моё начальство внезапно исчезло из Петрограда. Я растерялся и выжидал, не имея определённых инструкций. Так продолжалось до осени тысяча девятьсот восемнадцатого года. Однажды — это было в ноябре — в дверь моей квартиры постучались поздно ночью. Я уже спал. Жена открыла посетителю двери и разбудила меня. Я вышел в переднюю и увидел… господина Бринкера, моего «крёстного папашу». Мы прошли с ним в отдельную комнату. Он поздравил меня с первым Железным крестом и капитанским званием. «Сейчас смутное время, — сказал он. — Германия проиграла войну. Но придёт день, и она возьмёт реванш. Немецкая разведка на время сворачивается, но отнюдь не перестаёт жить. Будем ждать». Бринкер добавил, что Германия не успокоится, пока не возьмёт реванша, и что к этому реваншу надо уже теперь готовиться. Надо заранее насаждать агентуру германской разведки, создавая «опорные точки» для будущей войны. И он предложил мне «законсервироваться» — уехать в какой-нибудь небольшой городишко, не слишком далеко от границы, мирно жить и тихо работать, врасти в быт этого городка и… ждать указаний. Вот и всё. Я приехал в Зареченск и с тех пор живу здесь. Жена вскоре скончалась от тифа. Я остался один с дочерью, Я вырастил дочь, рано выдал её замуж, но неудачно. Она скоро умерла, оставив мне Тамусю, и, поверьте, я любил девочку, И если бы не эта страшная ночь…
— Почему вы убили Тамусю? — спросил Плотников.
— Это случилось внезапно для меня самого. Поздно ночью я пришёл домой из клуба. Тамуся спала одетая. Я прочёл её письмо, которое лежало на столе. Потом я прошёл к себе в комнату и начал работать с передатчиком. Дело в том, что за последний месяц у меня скопился материал для передачи.
— Но вы забыли рассказать, как и когда вы получили этот передатчик, — напомнил Плотников.
— Вы правы. Я немного рассеян, — ответил старик. — Это случилось в тысяча девятьсот тридцать седьмом году. Однажды ко мне приехал человек из Смоленска, которого я совершенно не знал. Он объявил мне, что период консервации кончился и что обо мне помнят. Он передал мне приказ Берлина приступить к работе и вручил передатчик. Он же научил меня, как с ним работать. До сих пор мои функции заключались в том, чтобы передавать по радио получаемые от нескольких точек данные в определённые дни. Передача производилась шифром, по короткой волне. С этого и началась моя новая работа. И вот в эту ночь, передавая очередные сведения, я увлёкся… Может быть, это произошло из-за усталости. Незаметно для самого себя я стал вслух произносить то, что выстукивал ключом. Вдруг я услыхал детский крик: «Дедушка, что ты делаешь?» Обернувшись, я увидел Тамусю. Она стояла на пороге моей комнаты. Я страшно испугался и, не отдавая себе отчёта в происходящем, бросился на неё. Потом вдруг вспомнил об этой записке и решил инсценировать самоубийство. Остальное вы знаете…
Иван Сергеевич замолчал и тупо уставился в угол комнаты. Руки его чуть заметно подрагивали. На виске набухла и трепетно пульсировала старческая фиолетовая жилка. Под глазами отчётливо обозначились набрякшие мешки. Он тяжело дышал. Плотников наблюдал за ним. Некоторое время они молчали, а затем Иван Сергеевич тихо сказал:
— Вот, собственно, и всё. Я сам не знаю, для чего я опять взялся за это. Молодость давно прошла, а вместе с нею ушёл в вечность и Ганс Шпейер. Эти тридцать лет не прошли даром, гражданин следователь! Вы поймите, русским я был больше времени, чем немцем. Я забыл Германию, я не помню, какая она, иногда мне кажется, что я никогда в ней и не был, что всё это сон, чепуха, вымысел… Одним словом, верьте мне, я не могу логически объяснить случившееся. Я уже стар. Впереди у меня нет ничего, кроме могилы. Не думайте, что я хочу вас разжалобить. Это всё — правда. Боже мой, как бессмысленно и нелепо прожита жизнь! Я выкурил её, как дешёвую папиросу, и теперь от неё не осталось ничего, даже дыма…
Шарапов опустил голову на стол и заплакал бессильными, старческими слезами.
— Теперь уже поздно плакать, — произнёс Плотников, — теперь надо отвечать.
— Я знаю, — сказал Шарапов.
— У вас были в течение этого года люди оттуда? — спросил Плотников.
— Нет, — ответил старик, — не были. Но я не хочу вас обманывать и потому должен сказать, что с неделю тому назад я получил открытку, в которой какой-то племянник Миша извещал меня о своём скором посещении. Я понял, что ко мне приедет немецкий агент. По имеющемуся в открытке обратному адресу я ответил, что буду рад видеть дорогого племянника. Чёрт бы их всех побрал — этих «крёстных отцов» и неожиданных «племянников»!
Плотников задумался. По всей видимости, старик рассказывал правду и выложил всё, что знал. Будучи разоблачён, он уже не представлял особого интереса. Но имело смысл заполучить его «племянника». Во всяком случае, об этих новых обстоятельствах надо было, немедленно доложить.
Плотников написал протокол показаний Шарапова и дал его на подпись старику. Тот долго читал протокол и со старческой аккуратностью подписывал страницу за страницей. Наконец, дойдя до заключительной фразы: «Записано с моих слов верно и мною прочитано», он расписался в последний раз.
— На сегодня хватит, — коротко сказал Плотников и, вызвав конвоира, отправил старика в тюрьму.
9. »ПЛЕМЯННИК МИША»
Органы, которым следователь Плотников сообщил о показаниях Шарапова — Шпейера, естественно, заинтересовались «племянником Мишей». Среди переписки старика была действительно обнаружена открытка, в которой «племянник» уведомлял «дядюшку» о своём предполагаемом приезде.
Эта открытка, как показывал почтовый штемпель, была отправлена из Москвы за несколько дней до ареста Шарапова.
После того как были обсуждены все возможные способы заполучить «племянника», решили, что лучше всего поджидать его в доме Шарапова. И вот в домике этом, на тихой боковой уличке, спокойно поселился какой-то пожилой человек, одного возраста с Иваном Сергеевичем и даже имеющий с ним некоторое внешнее сходство. Новый обитатель дома мирно возился в своём огородике, мало показывался, не заводил знакомств с соседями и вообще ничем не возбуждал любопытства. Он так же, как и Шарапов, немного сутулился, был по-стариковски добродушен, домовит, аккуратен и немногословен. Одежда его была тоже соответствующей: он носил старый мешковатый костюм или холщовую толстовку и в жаркие дни пользовался соломенной каской с двумя козырьками, которые в провинции именовались обычно «здравствуй-прощай».
Одним словом, ни в облике, ни в манерах, ни в поведении этого пожилого спокойного человека не было ничего такого, что выдавало бы советского разведчика с огромным опытом, и большой школой, человека, за плечами которого были царская каторга, партийное подполье, два побега из деникинской контрразведки и многие годы героической чекистской работы.
Человека этого звали Сергеем Михайловичем. Фамилия его была Амосов. Впрочем, с того момента как Амосов поселился в маленьком домике Ивана Сергеевича, он стал называться Иваном Сергеевичем.
О характере человека можно судить по его вещам, так же как о вещах — по характеру их владельца. В подборе вещей, в обращении с ними всегда сказывается человек, его вкус, его привычки, его склонности и слабости. Но и вещи, окружающие человека, в свою очередь, влияют на его характер.
Поселившись в доме Ивана Сергеевича, Амосов присматривался к этому дому и к находившимся в нём вещам с настойчивым любопытством исследователя и с бдительностью человека, который не даст себя обмануть ни вещам, ни людям. Ивана Сергеевича Амосов видел в кабинете Плотникова несколько раз. Он запомнил походку Шарапова, его манеру разговаривать, его лицо. Здесь, в доме Ивана Сергеевича, Амосов пытливо изучал его вещи, его книги, его почерк, его фотографии. Всё это делалось потому, что Амосову впредь предстояло играть роль Ивана Сергеевича, действовать в качестве Ивана Сергеевича, казаться Иваном Сергеевичем. И Амосов, как говорят актёры, «входил в образ» того человека, которого он должен был изображать. Из показаний Шарапова ему было известно, что немцы с 1918 года не посещали Шарапова, не имели его фотографий и, следовательно, не представляли себе его теперешнего внешнего облика. Так же как и Плотников, Амосов верил показаниям Шарапова. И теперь он с нетерпением ожидал приезда «племянника».
Прошло уже больше месяца, а «племянник» всё не появлялся. Наконец, однажды в поздний час, почти на исходе ночи, осторожный стук в окно разбудил Амосова. Прислушавшись, он убедился, что и в самом деле кто-то очень тихо, но настойчиво стучал в стекло. Амосов быстро оделся и, не зажигая света, прильнул к оконному стеклу. Перед окном в серых сумерках уходящей ночи он разглядел смутные контуры высокой мужской фигуры. Амосов открыл форточку и спросил:
— Кто там?
— Это я, дядя, — ответил шёпотом неизвестный.
— Миша! — воскликнул Амосов и, выбежав в сени, быстро отворил дверь.
Мужчина, оглянувшись, подбежал к нему, и Амосов протянул ему руку. Они с любопытством разглядывали друг друга, насколько это было — возможно в полумраке. Потом Амосов проводил своего гостя в комнату и зажёг керосиновую лампу. Перед ним стоял высокий, тонкий человек, с длинным, вытянутым лицом. Его глаза смотрели внимательно и пытливо. Он был одет в форму железнодорожника.
— Ну, как ты, Миша, доехал? — очень спокойно и совершенно серьёзно спросил Амосов.
— Ничего, — коротко ответил «племянник», одобрительно улыбнувшись серьёзному тону старика. — Прилично. Как вы, дядюшка, живёте? Давненько я вас не видал.
— Может быть, ты закусишь с дороги? — спросил Амосов.
— С наслаждением, — ответил «племянник». — Признаться, я здорово проголодался. Нет, дядюшка, вы просто прелесть!..
Амосов достал из буфета хлеб, колбасу, масло. Потом он зажёг примус и поставил чайник. Гость молча курил. Время от времени они встречались взглядом и почти нежно улыбались друг другу.
— Вы живёте один, дядя? — спросил гость.
— Один, — ответил Амосов и, подумав, повторил: — живу один.
Потом «племянник» стал закусывать. Ел он быстро и жадно. Амосов любезно пододвигал к нему тарелки с едой.
Наконец, гость насытился и снова закурил. Отхлебнув из стакана горячего чая, он внимательно посмотрел на Амосова и спокойно сказал:
— Итак, перейдём к делу. Я приехал к вам с очень серьёзным поручением от нашего общего начальства. Мне приказано передать вам, Иван Сергеевич, что положение, создавшееся на этом участке фронта, диктует необходимость ряда срочных мероприятий. Согласно вашим же собственным донесениям, в районе Зареченска дислоцированы крупные советские резервы. Судя по некоторым данным, в ближайшие дни русские попытаются перебросить эти резервы в район военных действий. Задача заключается в том, чтобы…
10. КОНКРЕТНО ЕЗАДАНИЕ
Пока «племянник» излагал цель своего приезда и конкретное задание, которое ему поручено было передать Ивану Сергеевичу, Амосов с интересом разглядывал своего гостя, не переставая в то же время внимательно слушать его.
«Племянник», по-видимому, был из прибалтийских немцев. Однако он отлично, без всякого акцента говорил по-русски, и только его длинное остзейское лицо, чрезмерно тонкие губы и какая-то особая бесцветность тусклых глаз, называющихся у немцев голубыми, выдавали наблюдательному Амосову его происхождение. Свою мысль «племянник» излагал чётко, без лишних слов, с какой-то особой, тоже чисто немецкой аккуратностью. На вид ему было лет тридцать пять, не больше.
Задание касалось нескольких эшелонов с боеприпасами, ожидавших в районе Зареченска указаний о дальнейшем маршруте. Эти боеприпасы немцы решили ликвидировать. План их имел своей целью, с одной стороны, оставить весь этот район фронта без боеприпасов, а с другой — вызвать панику в Зареченском районе, который уже стал прифронтовым.
— Мне поручено передать вам, — сказал «племянник», — что задание должно быть выполнено в самом срочном порядке. Стратегическая обстановка на данном участке фронта такова, что недели через две Зареченск будет уже в наших руках. Наступление идёт в отличном темпе. И ваша задача — ускорить события.
— Где именно находятся эшелоны? — спросил Амосов.
— Точно мы этого не знаем. Достоверно установлено только, что они в районе Зареченска. По-видимому, они стоят на одном из ближних разъездов или полустанков. Вряд ли боеприпасы сконцентрированы в самом городе. Я постараюсь облегчить вашу задачу. Именно потому я и явился к вам в роли железнодорожника. У меня, помимо формы, отличные документы. Вот посмотрите…
Амосов ознакомился с документами «племянника». В них было указано, что инженер службы тяги Н-ской железной дороги Михаил Петрович Скорняков командируется в прифронтовые районы Н-ской области для инспектирования паровозного парка. Документы действительно были отлично сделаны и имели безупречный — вид.
— А как с техникой? — спросил Амосов.
— При мне несколько килограммов тола, — ответил «племянник». — На первое время этого более чем достаточно. Но дело не в этом. Имеются ли у вас надёжные люди?
— Вам должно быть известно, — ответил Амосов, — что я не имел права ни с кем вступать в контакт. Я был законсервирован и все эти годы работал один, и то лишь по связи.
— Знаю. Однако, прожив в этой дыре столько лет, вы, конечно, завели прочные знакомства, изучили людей, присмотрелись к ним?
— Людей я знаю, но никого твёрдо рекомендовать не могу. Впрочем, надо подумать. Я не был подготовлен к такому делу.
На этом первый разговор окончился. Амосов предложил своему гостю отдохнуть, и тот с радостью принял это предложение. Устроив «племянника» в спальне и убедившись, что он заснул, Амосов вышел во двор и принялся обдумывать создавшееся положение. Сразу арестовать «племянника» не имело смысла. Он, вероятно, ещё не всё рассказал: не было выяснено, имеет ли он в Зареченске ещё какие-нибудь явки, кроме Шарапова. Судя по внешности и манерам этого человека, он был далеко не рядовым шпионом. Приехал он из Москвы, где, по его словам, он жил много лет. Следовательно, он в Москве должен был иметь связи и корни, которые необходимо было выяснить. При этих условиях имело смысл продолжать игру.
Опасность таилась в данном случае в том, что «племянник» мог случайно узнать от кого-либо из зареченцев, что принял его вовсе не Иван Сергеевич Шарапов.
Тщательно обдумав всевозможные варианты и взвесив могущие встретиться осложнения, Амосов решил продолжать игру, приняв все меры к тому, чтобы никакая случайность его не выдала.
«Племянник» проснулся в полдень. Амосов предложил ему закусить ещё раз. За столом оба выпили и снова разговорились.
Гость, по-видимому, ни в чём не сомневался. Амосов ловко вставлял в разговор воспоминания о брауншвейгской школе, пароли прошлых лет, позывные передатчика — одним словом, всё то, что было ему известно из показаний Шарапова.
— Вы прошли хорошую школу, — произнёс «племянник», — надо сказать, что старые кадры немецкой разведки были отлично подготовлены. В этом смысле наше поколение может вам только позавидовать.
— Ваша работа — лучшая школа, — возразил Амосов. — Ну что толку было получать специальное образование? Я сидел в провинции много лет, в сущности ничего не сделал, постарел и многое уже позабыл. Ведь я даже старался не разговаривать по-немецки.
«Племянник» улыбнулся и тут же заговорил по-немецки. Амосов, хорошо владевший этим языком, по-немецки же ему ответил. После нескольких фраз «племянник» оказал, что Иван Сергеевич скромничает, так как отлично владеет родным языком.
— А мне казалось, что я утратил немецкое произношение, — сказал Амосов. — Приятно, что это не так. По-видимому, муттершпрахе не забывается. Впрочем, я всегда старался думать по-немецки. А вот вы владеете русским языком, как — родным.
— Это не удивительно, — сказал «племянник», — я все последние годы прожил в Риге. А там русский язык и до советизации Латвии был в обиходе. Кроме того, я в своё время учился в русской школе. Однако, Иван Сергеевич, хорошо бы поразмять ноги. Далеко ли отсюда вокзал?
— В двух километрах, — ответил Амосов, — Кстати, вы посмотрите город. Пойдёмте, я вас провожу.
Они вышли на улицу. Стоял жаркий сентябрьский день. На дворе почти никого не было.
— Здесь довольно пустынно, — произнёс «племянник». — Что, так всегда?
— Провинция, — ответил Амосов. — А кроме того, в это время дня гуляющих нет, Да и живу я почти на окраине. Вот в центре города будет поживей. Нам как раз нужно пройти по центральной улице.
На центральной улице было действительно гораздо оживлённее. С вокзала тянулась длинная колонна военных грузовиков, по-видимому только что сошедших с железнодорожных платформ. «Племянник» внимательно разглядывал машины, нагруженные, доверху какими-то ящиками.
— Мы удачно вышли, Иван Сергеевич, — сказал он. — Как видите, прибыла большая партия боеприпасов. Пройдёмте на вокзал и постараемся выяснить, откуда прибыл эшелон. Кстати, хорошо бы узнать, куда направляются эти грузовики. Вы не в курсе дела?
— Нет, — ответил Амосов. — Знаю только, что отсюда дорога на Ольховский большак. Но там, по-моему, нет никаких складов.
Когда они пришли на вокзал, там ещё продолжалась разгрузка прибывшего эшелона. С длинных товарных платформ осторожно сползали по подставленным доскам тяжёлые грузовики.
Эшелон был большой, в сто платформ. «Племянник» обошёл весь состав, а затем вызвал старшего кондуктора эшелона. Когда тот подошёл, «племянник» предъявил ему документы.
— Как работали стоп-тормоза? — деловито спросил он. — На подъёмах тяга не подводила?
— Нормально шли, — коротко ответил кондуктор.
— По пути меняли паровоз?
— Нет, шли одним, — ответил кондуктор.
— В каком депо брали?
— В Н-ске, — ответил кондуктор. — Там и состав формировался.
Больше «племянник» вопросов не задавал. Немного погодя он вынул записную книжку и отметил название станции, в которой, по словам кондуктора, формировался состав, и названное ему Амосовым Ольховское шоссе.
После этого он зашёл к начальнику станции и снова предъявил свои документы. Начальник по его требованию доложил ему, как обстоит дело с маневровыми и резервными паровозами.
Эти данные представляли для «племянника» большой интерес, так как по ним он мог получить представление о грузообороте станции, а главное — о предполагаемых перевозках.
— Если в такое время они держат здесь столько резервных и маневровых паровозов, — объяснил он потом Амосову, — то несомненно, что эшелоны, о которых я вам говорил, находятся где-то неподалёку и в любой момент могут быть переброшены к фронту… По-видимому, что-то готовится, так как, по словам начальника станции, вчера прибыло сюда без его заявки пять паровозов. Нам надо торопиться.
Он оказался прав. Когда они вернулись в город, то заметили, что в райкоме, в районном совете и в других учреждениях грузят дела и ценный инвентарь на грузовики.
Служащие толпились у машин с взволнованными лицами.
Было ясно, что некоторые учреждения готовятся к эвакуации.
Потом им встретилась колонна грузовиков, направлявшаяся к вокзалу.
Машины везли станки, оборудование лесопильных заводов и фанерного комбината.
— Мне кажется, — оказал «племянник», — что уже идёт эвакуация учреждений и оборудования местных заводов. Уж не подходят ли наши?.. Надо спешить со взрывом.
Амосов ничего ему не ответил. Он и сам понимал, что началась срочная эвакуация Зареченска. И именно поэтому он ни на минуту не оставлял «племянника», решив любой ценой предотвратить взрыв железнодорожных составов. А к вечеру на станции Зареченск не осталось ни одного из воинских эшелонов.
11. ЭВАКУАЦИЯ
Приказ военного командования об оставлении Зареченска и спешной эвакуации учреждений и промышленного оборудования был получен внезапно. В суточный срок должно было быть, перевезено наиболее ценное имущество и все дела советских учреждений. Промышленное оборудование должны были сопровождать рабочие соответствующих предприятий. Линия фронта стремительно приближалась к городу.
Поздно ночью, когда подвыпивший за ужином «племянник» спал — мёртвым оном, Амосов вышел из дому и в условленном месте встретился со своим начальником. Последний информировал Амосова о полученном приказе и спросил его, как идут дела.
Амосов доложил начальнику о цели прибытия «племянника» и обо всём, что он успел за это время у него выведать.
— Его можно взять хоть сейчас, — сказал он, — но вряд ли это целесообразно. Несомненно одно: он абсолютно мне доверяет. Шарапов не обманул нас. По-моему, имеет смысл продолжать игру и вести её как можно дольше. Упустить такую возможность было бы ошибкой.
— Вы считаете, что вам имеет смысл остаться в городе? — спросил начальник, сразу понявший план Амосова.
— Имеет смысл, — ответил Амосов. — Ну подумайте сами. Возьмём мы этого мерзавца, конечно одним прохвостом будет меньше. Но что же дальше? Между тем если остаться с ним и войти полностью в доверие к немцам, мы выясним очень многое, а главное — сумеем немало сделать. Кроме того, ведь останется в Зареченске и подпольная партийная группа, а в районе будет действовать партизанский отряд. И тем и другим будет полезно иметь верного человека, которому немцы доверяли бы вполне. По-моему, имеет смысл.
Предложение Амосова было принято. Договорившись о подробностях, условившись о форме и технике связи и получив адреса и фамилии нескольких лиц, Амосов простился с начальником. На прощанье они молча пожали друг другу руки и обменялись долгим взглядом.
Было уже совсем поздно, когда Амосов пошёл к себе домой. В чёрном сентябрьском небе тревожно вспыхивали зарницы далёких орудийных выстрелов. Гул артиллерийской стрельбы доносился ещё слабо, но багровые вспышки уже предостерегали город о приближавшейся опасности. Несмотря на поздний час, эвакуация была в самом разгаре. По тёмным ночным улицам тянулись колхозные стада, на скрипящих телегах ехали старики и дети, женщины, понурив головы, шли за ними. Городские жители зарывали в ямы наиболее ценное имущество. Плач детей, рёв испуганного скота, скрип телег и тревожное ржание лошадей сливались в одну горькую симфонию.
Амосов подошёл к своему дому и остановился у калитки. Движение на улице не прекращалось. Страшная беда приближалась к городу с каждым часом. И в ожидании этой беды, готовый встретиться с нею лицом к лицу, оставался в Зареченске этот спокойный пожилой человек.
Но немцы пришли раньше, чем их ждали. Не все объекты, намеченные к эвакуации, удалось вывезти. В частности, не успели эвакуировать заключённых городской тюрьмы.
В этот сентябрьский вечер тяжёлый немецкий снаряд начисто скосил угол тюремного здания. Растерявшись от свободы, явившейся к ним столь неожиданно, заключённые столпились у ворот тюрьмы, точнее — у того, что осталось от этих ворот. Напротив полыхали дома, зажжённые снарядами. В багровом зареве пожара мелькали, как на экране, тёмные фигуры жителей, бежавших от врага.
Первыми влетели на улицу Зареченска мотоциклисты-эсэсовцы. Они непрерывно и беспорядочно стреляли из автоматов, укреплённых на рулях их машин. На перекрёстке один из них круто затормозил и, спрыгнув с мотоцикла, бросился к женщине, которая бежала с ребёнком и большим узлом. Выкрикивая что-то на своём языке, фашист стал вырывать из рук женщины узел. Девочка, которую женщина держала за руку, заплакала и стала помогать матери, не желавшей отдавать своё последнее добро. Обернувшись к ребёнку, эсэсовец раскроил ему череп прикладом своего автомата.
Это произошло мгновенно, на глазах у заключённых, всё ещё стоявших возле тюремных ворот. Многие из них хорошо знали эту девочку. Она жила напротив городской тюрьмы и часто играла на улице. Заключённым было известно, что девочку зовут Женей, и слова детских песенок, которые она любила распевать, знали в тюрьме наизусть. Порой, когда Женя начинала петь, камеры дружно подхватывали песню.
И вот теперь эту девочку убил белокурый фельдфебель.
Мать Жени закричала так страшно, так пронзительно, что крик её, сразу заглушивший треск стрельбы, казалось, прорезал весь объятый тьмою город от края до края.
И в то же мгновение, не раздумывая, не сговариваясь, даже не оглянувшись, заключённые бросились на фельдфебеля.
Едва успев вскинуть автомат, он тяжело рухнул на землю.
А заключённые пошли на восток.
Они пошли на восток так же, как бросились на эсэсовца, — не раздумывая, не сговариваясь, не рассуждая.
Они пошли в строю, организованно и дружно, как одно небольшое соединение.
Они проходили улицы, корчившиеся в пожарах, поля, истоптанные врагом, леса, расстрелянные в упор, дороги, изрытые разрывами бомб. Они проходили через окровавленные сёла и обуглившиеся деревня, по искалеченной, измученной, замолкшей земле.
На вторые сутки они пришли в областной центр и выстроились у здания прокуратуры. Уже знакомый нам Васька Кузьменко, отбывавший наказание за допущенный им хулиганский поступок, был среди них. Как наиболее культурный из заключённых, он, по их просьбе, прошёл в кабинет прокурора и коротко изъяснил ему суть дела.
— Гражданин прокурор, — сказал он, — имею доложить, что с марша прибыли заключённые из зареченской тюрьмы.
Прокурор выглянул в окно и увидел группу людей, нетерпеливо переминавшихся с ноги на ногу и выжидательно заглядывавших в окна его кабинета.
— А вы кто такой? — опросил прокурор, с интересом разглядывая курносую, задорную физиономию Васьки.
— Уполномоченный, — с большим достоинством, не моргнув глазом, ответил Кузьменко. — Ихний уполномоченный. Фамилия — Кузьменко, статья семьдесят четвёртая, часть вторая.
— Срок? — коротко спросил прокурор, сразу поняв, что имеет дело с человеком бывалым, который поймёт его без лишних слов.
— Два года. Имею два «хвоста», но без поражения прав.
— За что «хвосты»?
— Всё по той же, семьдесят четвёртой, — вздохнул Кузьменко. — Исключительно, гражданин прокурор, страдаю по одной статье. Одним словом, за озорство. Не могу никак уложить свой характер в рамки уголовного кодекса. Нет-нет да и выкину что-нибудь… Я даже к врачам обращался, да всё без толку. «Современная, говорят, медицина ещё до этого не дошла».
— А где же конвой, путёвка? — перебил Ваську прокурор.
— Разрешите доложить — конвоя ввиду военной обстановки добыть не представилось возможным. Который в тюрьме был, то снарядом поубивало, а прочие исчезли. Пришлось идти самоходом. Что поделаешь, время военное, капризничать не приходится. Но ничего — прошли аккуратно. Потерь и побегов нет. Один только с немцами остался паразит.
— Фамилия? — спросил прокурор.
— Моя или паразита? — не понял вопроса Кузьменко.
— Его.
— Трубников, — произнёс Кузьменко. И, подумав, добавил: — Ну, а как теперь насчёт благоустройства? Куда прикажете садиться?
Убедившись, что Зареченск оставлен, эсэсовцы организовали торжественное вступление в город. Сначала церемониальным маршем в Зареченск вошла пехота.
Вслед за пехотой пошли танки, а за ними влетели штабные машины с офицерами. Впереди ехали в открытой машине кинооператоры и снимали «занятие Зареченска». Когда церемония была закончена, к группе офицеров подъехал на «оппель-адмирале» пожилой генерал с моноклем в запавшей, как у мертвеца, глазнице. Он принял рапорт от одного из офицеров, коротко дал какие-то указания и уехал обратно. Оставшиеся в городе офицеры начали устанавливать «новый порядок». Прежде всего надо было найти подходящего бургомистра. Выбор пал на единственного заключённого, оставшегося в Зареченске, Трубникова. Он был осуждён за растление малолетних. Отец Трубникова в своё время был расстрелян за участие в белой банде.
Трубников был маленький рыхлый человек, с узкими, бегающими глазками и толстыми, всегда влажными губами, которые он имел привычку часто вытирать тыльной стороной руки. Его оплывшее бабье лицо всегда имело сонный вид, и лишь маслянистый беспокойный блеск глаз свидетельствовал о том, что в этом толстом, ленивом теле непрерывно тлеет нечистое, воровское желание.
Трубников незаметно улизнул из группы заключённых в тот момент, когда они набросились на фельдфебеля. На перекрёстке Трубников подошёл к немецким офицерам и попросил доставить его к военному коменданту.
Его задержали, а на следующее утро вызвали на допрос. Допрашивали два офицера, один из которых сносно говорил по-русски.
Трубников поспешил отрекомендоваться и объяснил, что его отец был расстрелян за борьбу с большевиками, а сам он тоже, дескать, имел от них большие неприятности. Он хотел было обойти молчанием вопрос о преступлении, за которое его судили, но среди документов, отобранных у него при задержании, оказалась копия судебного приговора. Офицер, говоривший по-русски, со смехом прочёл этот документ и что-то сказал по-немецки другому офицеру. Потом он прямо заявил Трубникову:
— Вот что, господин Трубников. Нам нужен такой верный, такой надёжный человек, на которого германское командование могло бы положиться. Кажется, судя по всему, вы именно такой… Нам нужен бургомистр, понимаете, хозяин города, мэр — одним словом, президент города… И мы говорим вам — вам, господин Трубников, а не какому-нибудь другому лицу — в добрый час. Вы меня понимаете?
— П-по-н-нимаю, господин офицер, ваше благородие, — несколько запинаясь, ответил Трубников. — Вот только как насчёт образования, ведь у меня — всего шесть классов… Насчёт старания не извольте и беспокоиться, насчёт преданности и говорить не хочу, а вот с образованием прямо скажу…
— Господин Трубников, — перебил его офицер, — германское верховное командование намерено плевать на ваше образование. Нам нужна преданность, нох айн маль — преданность, и ещё раз преданность. А мы вам поможем.
На следующий день в приказе, расклеенном по Зареченску, было объявлено, что бургомистром города назначен Степан Иванович Трубников и что «ему германское военное командование вверяет всю полноту власти и поручает организацию образцового гражданского порядка, поддержание чистоты, благоустройства и заботы о здоровье и культурном обслуживании уважаемого населения».
И Трубников приступил к своим новым обязанностям.
Через несколько дней после занятия немцами Зареченска командир вступившей в город эсэсовской дивизии, генерал-майор фон Крейчке, поселился в специально отведённом ему особняке на главной улице. Амосов и его «племянник» явились на приём и просили адъютанта доложить о себе. По паролю, названному «племянником», оба были незамедлительно приняты. Они вошли в кабинет, и уже знакомый нам генерал с моноклем поднялся им навстречу. Он снисходительно протянул им маленькую, высохшую руку.
— Разрешите представиться, господин генерал, — произнёс по-немецки Амосов. — Ганс Шпейер.
— О, герр Шпейер, — снисходительно улыбнулся генерал. — Мне рассказывал о вас обер-штурмбаннфюрер Гейдель. Это вы прожили в России чуть ли не век?
— Ну, положим, не век, но довольно много лет, господин генерал, — ответил Амосов.
Поздоровавшись с «племянником», генерал тут же простился с ним и с Амосовым, пригласив их зайти к нему позже в штаб.
Амосов и «племянник» пошли к себе домой. «Племянник», полный радости от того, что немцы пришли так скоро, выпил и лёг спать. Амосов вышел в огород, чтобы покурить. Его несколько смутила осведомлённость генерала о Гансе Шпейере.
«Видимо, — думал Амосов, — об этом Шпейере заранее с чисто немецкой аккуратностью предупредили генерала — дескать, существует в Зареченске такой человек. Но кто такой этот обер-штурмбаннфюрер Гейдель и что ему, кроме фамилии, известно о Гансе Шпейере? И всё ли рассказал на следствии Шарапов или утаил что-нибудь важное?..»
Амосов задумался о том, какие виды на Шарапова — Шпейера могут теперь иметь гитлеровцы. Захотят ли они использовать его в качестве бургомистра, начальника полиции или вздумают и впредь поручать ему шпионские задания, перебросив с этой целью в советский тыл?., Оставаться в Зареченске было опасно, так как рано или поздно могло выясниться, что он вовсе не Шарапов. С другой стороны, надо было заранее придумать уважительную причину для того, чтобы отказаться работать в Зареченске.
Амосов знал, кто из зареченских коммунистов остался в городе на подпольном положении и кто из местных жителей должен был держать связь с партизанским отрядом. В тот вечер, когда он простился со своим начальником, последний сообщил ему, что связь с партизанским отрядом он сможет держать через старушку учительницу, Анастасию Никитичну Егорову, или через её дочь, молодого ветеринарного врача Шуру. Обе они также были предупреждены об Амосове, которого раньше не знали.
Подробно обдумав своё дальнейшее поведение и предстоящий разговор с генералом, Амосов вернулся в дом и разбудил «племянника». Угостив его чаем, Амосов напомнил, что пора идти в штаб. Было ещё светло.
У немецкого постового, стоявшего на площади, Амосов с «племянником» узнали, что штаб разместился в здании горсовета на главной улице. Явившись туда, они назвали свои фамилии и вскоре были пропущены в здание.
Генерала они застали за ужином в кабинете председателя горсовета. Он приветливо улыбнулся им и предложил присесть. Пока генерал с аппетитом уничтожал яичницу, «племянник» подробно информировал его о целях своего приезда в Зареченск и сказал, что, когда его направили сюда из Москвы, он, и не предполагал так скоро очутиться в обществе немецкого генерала.
— О да, — вытирая салфеткой рот, произнёс с самодовольной усмешкой генерал, — эта операция нам удалась превосходно. Командование чрезвычайно довольно темпами наступления. Правда, на последнем рубеже мы имели серьёзные потери, но они стоят этого броска на восток. Однако сейчас дело не в этом. Надо поскорее навести порядок в городе. В этом деле мы рассчитываем на вас, господин Шпейер. Господин Гейдель рекомендовал мне советоваться с вами. Вы давно здесь живёте, считаетесь русским, являетесь, наконец, представителем местной интеллигенции.
— Я готов выполнить любое приказание, — ответил Амосов, — и признателен за доверие вам и господину Гейделю.
— Оно вами заслужено, — сказал генерал. — Так начинайте действовать.
— Сегодня Зареченск, — начал Амосов, — важный фронтовой город, но через какой-нибудь месяц он станет глубоким немецким тылом. Какой же смысл оставлять меня в нём? Или вы думаете, что Ганс Шпейер уже так стар, что на большее не годится?
— В том, что вы говорите, Шпейер, есть резон, — медленно протянул генерал, — и я лично готов согласиться с вами. Но дело в том, что вы находитесь не в моём распоряжении. Пусть этот вопрос окончательно решит господин Гейдель, так как это входит в его компетенцию. Тем более что, насколько мне известно, он отлично вас знает, Шпейер.
— Откуда? — улыбнулся Амосов, хотя ему было совсем не весело. — Ведь, живя в этом городе, я не встречался ни с кем из немцев!
— Может быть, я путаю, — ответил генерал, — но господин Гейдель встречался как будто с вами в прошлую войну в Петербурге. Впрочем, он скоро должен прибыть сюда, и тогда вы сами уточните, где именно и при каких обстоятельствах с ним встречались.
В Петербурге?.. Амосов стал лихорадочно припоминать всё, что рассказывал Шарапов об этом периоде своей жизни. Гатчинская воздухоплавательная школа, тщетная попытка украсть чертежи «Ильи Муромца», начало войны, переезд в Петербург, работа на Русско-балтийском заводе, революция… Чёрт возьми, ни о каком Гейделе Шарапов не сказал ни слова! А если они в самом деле виделись, то запомнил ли этот проклятый Гейдель лицо Шпейера — Шарапова? Ведь с того времени прошло столько лет…
Пока в голове Амосова вихрем проносились эти мысли, генерал разговаривал с «племянником».
Разговор прервал адъютант, который вошёл в комнату и громко доложил:
— Обер-штурмбаннфюрер господин Гейдель!
Генерал приятно улыбнулся и встал. В соседней комнате под чьими-то грузными шагами заскрипел пол, и в комнату вступил тяжёлой походкой очень тучный, уже немолодой человек с оплывшим бабьим лицом и маленькими глазками.
— Здравствуйте, герр Гейдель, — произнёс генерал. — Я очень рад вас видеть.
— Рад и я, — высоким, почти женским голосом ответил Гейдель. — Уф… Я чертовски устал… Эти азиатские дороги… Мой «адмирал» едва одолел их…
— Садитесь, отдохните, — сказал генерал. — А пока разрешите представить вам вашего старого знакомого — Ганса Шпейера…
Амосов подошёл к Гейделю, глядя ему прямо в лицо. Гейдель с неожиданной для такой объёмистой туши живостью вскочил, повернулся к Амосову и, осклабив сверкающий золотыми зубами рот, протянул ему обе руки. Глазки Гейделя с интересом и острым любопытством, впились в лицо Амосову, а затем забегали по всей его фигуре, словно ощупывая её.
— Здравствуйте, Шпейер, — пропищал он всё тем же, удивительным для его огромной фигуры голоском, — как быстро летит время! Боже мой, сколько лет!.. Но я отлично помню вас, мой друг!.. Как же, как же, воспоминания молодости бессмертны, как любовь, и душисты, как мёд. Вот именно, душисты! Ну-ка, милейший, пойдём поближе к свету, к окну, я должен хорошенько вас разглядеть… Глядя, как изменился друг, которого давно не видел, начинаешь понимать, как изменился ты сам…
И Гейдель схватил Амосова за руку и потащил его к окну — в комнате уже начинало темнеть.
12. ДЕЛА ЛИЧНЫЕ
С Шурой Егоровой, как мы оказали, Плотников познакомился ещё до войны, в Москве.
В Зареченске Плотников и Шура часто встречались. Они проводили вместе вечера в окрестностях городка, на озере, за рекой. В это самое время и возникло в производстве Плотникова «Дело № 187 по обвинению гр. Егоровой А. Н. в доведении до самоубийства пионерки Тамары Шараповой».
С того дня Плотников, как известно, перестал встречаться с Шурой. Он не без основания считал, что не имеет права встречаться с дочерью своей подследственной до окончания следствия по этому делу. Его точку зрения вполне разделяла и Шура; она согласилась с Плотниковым, что лучше на время прекратить их встречи, чтобы не ставить его в неловкое и двусмысленное положение.
Это решение было не лёгким для обоих. Свободные от работы вечера, которые раньше они так радостно проводили вместе, тянулись теперь нудно и томительно. Плотникову стоило немалых усилий, проходя мимо знакомого Домика с палисадником, удержаться от того, чтобы не постучать в окно или в калитку.
Неожиданный поворот дела № 187 вдвойне порадовал Плотникова. Дело по обвинению Егоровой было им прекращено за отсутствием состава преступления. Об этом Плотников с великой радостью объявил, как полагается, по всей форме Анастасии Никитичне, вызвав её к себе в кабинет.
Перед эвакуацией города Плотников был вызван в райком партии. Секретарь райкома коротко сообщил Плотникову о полученном приказе. Сидевший тут же Волков спросил:
— Ну, как ты? Поедешь или… останешься?
— Где останусь? — не понял его Плотников.
— Партийный актив уходит в лес, партизанить, — ответил Волков. — Так что ты езжай, брат, в область.
— Я ничего там не забыл, — рассердился Плотников. — И у вас нет никаких оснований не включать меня в партизанский отряд.
В ту же ночь Плотников вместе с другими коммунистами ушёл из Зареченска. Отряд расположился в лесном массиве в Гремяченском сельсовете. Многолетний хвойный лес тянулся на несколько десятков километров и был почти необитаем, если не считать находившихся в нём лесных сторожек. Секретарь Зареченского райкома Попов, человек средних лет, со спокойными глазами и неторопливой речью, принял на себя командование отрядом. Старик Волков был назначен начальником штаба.
Первые дни после прихода немцев в отряде было не более ста человек. В основном он состоял из местных активистов. Однако в дальнейшем отряд стал пополняться колхозниками, узнавшими о его существовании и примыкавшими к нему и группами и в одиночку.
Кроме того, часть коммунистов осталась в Зареченске на нелегальном положении. Связь между отрядом и подпольной партийной организацией должна была поддерживаться через Анастасию Никитичну Егорову. Шура Егорова вначале тоже была зачислена в отряд — она хотела быть вместе с Плотниковым — и первые три недели провела с партизанами. Но потом командование отряда решило, что отсутствие Шуры неизбежно навлечёт подозрение немцев на её мать. Поэтому Шуре было приказано вернуться в Зареченск и жить дома.
Начались боевые партизанские будни. Были вырыты и быстро обжиты землянки. Отряд разбили на несколько групп, расположив их в разных участках лесного массива. Днём партизаны обучались военному делу: гранатометанию, обращению с пулемётом, сапёрным и подрывным работам. По ночам отправлялись группами в разведку и на выполнение отдельных — пока не очень крупных — заданий.
Очень скоро удалось установить связь со многими колхозами и сельсоветами. В отряде были хорошо информированы о мероприятиях, которые начали проводить немцы.
Несколько раз отряд посылал людей и в Зареченск, откуда они возвращались с подробными донесениями. Таким образом, Плотников знал, что у Шуры всё благополучно. Мать её, по-видимому, была вне подозрений. Два раза Шура посылала ему записку, в которой просила выхлопотать ей разрешение хоть на два дня прийти в отряд. Однако разрешение не было ей дано.
Об Амосове знал только командир отряда. Он был предупреждён, что Амосов остаётся в Зареченске со специальным заданием и что, если понадобится, ему надо оказать всяческое содействие.
Однако пока от Амосова никаких сигналов не поступало, а справляться о нём, даже через надёжных людей, командир отряда не имел права.
13. В ТЫЛ ВРАГА
В самом конце сентября линия фронта приблизилась к тому областному городу, в котором теперь отбывали наказание заключённые из зареченской тюрьмы, в том числе Васька Кузьменко. Последний особенно тосковал в чужом городе, не имея никаких вестей из родного Зареченска, где он родился и вырос. Кроме того, Кузьменко волновала судьба одного человека, в чём, впрочем, он никогда бы не сознался никому из своих земляков.
Никто не знал о том, что была у Кузьменко несчастная любовь. Сам он скрывал это очень тщательно и даже, пожалуй, самому себе не признавался в том, что образ Гали Соболёвой представляется ему что-то слишком часто. Галя была инструктором Зареченского горкома комсомола. Васька знал её давно, ещё с детских лет, — они росли и играли на одной улице.
Галя была тогда смуглой норовистой девчонкой, всегда окружённой мальчишками, с которыми она очень дружила. Вместе с ними Галя лихо лазила по деревьям, забиралась в чужие сады и уезжала далеко по реке на рыбалку. Ребята ценили в ней смелость, выносливость, а главное — то, что она не имела обыкновения хныкать, как другие девчонки, и жаловаться родителям на обиды.
Так шли детские годы. И однажды случилось нечто весьма неожиданное. Кузьменко встретил Галю на улице и только, по обыкновению, хотел было схватить её за вихор, как вдруг почувствовал, что сердце у него забилось. Перед ним стояла стройная, смуглая, красивая — ах, какая красивая! — девушка, а вовсе не прежняя Галка, которая ничем не отличалась от других девчонок. Она, вероятно, тоже почувствовала, что в этот момент происходит что-то необыкновенное, чего никогда ещё раньше не было и чего ещё как следует не могла понять. Она залилась краской от волнения и какого-то совсем незнакомого, но радостного чувства. Это новое имело некое прямое и загадочное отношение к ней, к её пятнадцати годам, к её новому яркому платью и к первой причёске, которую, шутя, сделала ей сегодня старшая сестра.
— Здравствуй… те, Вася, — произнесла она шёпотом, сама не зная почему, обращаясь впервые на «вы».
— Здравствуй, — пробасил Васька, покраснел и, подумав, протянул Гале руку.
После этого они, как и прежде, часто бывали вместе, но отношения их резко изменились. Оба смущались, когда случалось коснуться друг друга. Оба тосковали, если хотя бы два дня проходило без этих встреч.
Прошло несколько месяцев. И однажды, зимой, Васька (он никогда не забудет этого дня) предложил Гале пойти на лыжную прогулку. Сколько раз в прошлом им приходилось вместе ходить на лыжах, но почему-то теперь, услыхав его предложение, Галя покраснела до слёз и едва произнесла только одно слово «хорошо».
Через час они уже были на самом гребне Зелёной горы, возвышавшейся над озером, недалеко от города, над винокуренным заводом. Стоя рядом на самой вершине горы, они долго смотрели вниз, на широко расстилавшееся задумчивое, покрытое снегом озеро, на фиолетовую дымку его далёких берегов, на снежную целину, мягко переливавшуюся в лучах морозного солнца. Никогда ещё мир не казался им таким огромным, радостным и полным неожиданностей и загадок. В морозном воздухе мирно дымили трубы казавшихся сверху маленькими домов, где-то внизу скрипел снег под крестьянскими дровнями, и было так тихо, что даже сюда доносилось с далёкой дороги весёлое пофыркивание лошадей. Окаймлённое ровными берегами, чуть синея в дымке морозного дня, озеро лежало, как огромное фарфоровое блюдо.
— Ну что, рванём вниз? — предложил, наконец, Васька.
— Давай; только я вперёд, — ответила она.
Проверив крепления лыж, Галя подошла к краю горы, почти отвесно спускавшейся вниз. Она заглянула в снежную даль, куда ей сейчас предстояло ринуться, и в первый раз почувствовала лёгкое головокружение. Странное дело, никогда раньше она не боялась, а теперь ей вдруг стало страшно. Покраснев от мысли, что Васька заметит её страх, Галя, резко вскрикнув, с силой оттолкнулась и стремительно полетела вниз. Но, в волнении не рассчитав толчка, она на середине пролёта потеряла равновесие и с разбегу упала на бок. Прямо на неё мчался сверху Кузьменко, пригнувшись на лыжах. Ещё миг — и он разрезал бы ей лыжами лицо. Но в последнее мгновение страшным напряжением мускулов он вырвал лыжи из глубокой лыжни и, раздвинув их накрест, остановил стремительный бег. Присев, он с испугом склонился над ещё лежавшей на боку Галей. Глаза её были закрыты, но, почувствовав его близость, она открыла их медленно и широко. И Васька прочёл в них такое выражение нежности, ласки и благодарности, что, неожиданно для самого себя, поцеловал её прямо в губы. Снова закрыв глаза, она ответила на поцелуй.
Это был первый поцелуй в жизни обоих.
На другой день, когда Васька пришёл к Гале в дом, вышла её мать и сухо сказала, что Галя очень занята, что выйти к нему она не может и что вообще они уже не дети и им обоим надо заниматься уроками, а не шалостями. Скажи она это ещё неделю назад, Васька не придал бы этим словам особого значения, но теперь, теперь ведь было всё иным… Васька дал себе слово больше с Галей «не гулять». И в самом деле, встретив через несколько дней Галю на улице, он издали поздоровался с нею с подчёркнуто равнодушным видом. Тут уж обиделась Галя и при следующей встрече демонстративно отвернулась. Пути их разошлись.
Галя продолжала учиться в школе и стала работать в комсомоле. Кузьменко увлёкся драмкружком и начал озорничать. Через год его в первый раз судили за уличную драку. По окончании десятилетки Галя стала инструктором в горкоме комсомола. Кузьменко теперь уже с нею не здоровался и даже однажды, столкнувшись на улице лицом к лицу, неизвестно зачем притворился пьяным и начал горланить какую-то песню. Она только сердито сверкнула на него глазами и, резко повернувшись, ушла.
И никто не знал, что все эти годы Васька с горечью и нежностью вспоминал тот удивительный зимний день, и снежное озеро, и фиолетовую дымку его берегов, и тёплые губы своей первой любимой, и ощущение огромного счастья, заключённого в маленьком, таком простом и коротком слове «люблю!»
В связи с решением эвакуировать заключённых областной прокурор явился в тюрьму и обходил камеры, беседуя с их обитателями. Когда очередь дошла до Кузьменко, прокурор сразу его узнал.
— А, уполномоченный, — улыбнулся прокурор, — Ну, как дела?
— Какие у меня дела, — хмуро ответил Васька. — Дела на фронте, гражданин прокурор, а у меня один срам. Прозябание и тюремный тыл. В глаза людям стыдно смотреть. Фашист прёт, а я, здоровый байбак, в камере отсиживаюсь. Красиво, нечего сказать… — За драки судился, а при этакой драке сижу сложа руки.
— Ну, а чего бы вам хотелось? — серьёзно спросил прокурор.
Кузьменко задумался. Потом он горячо сказал:
— Я не имею права в такое время, понимаете, не имею права тут сидеть! Я правильно осуждён. Но теперь пришла такая беда, такая опасность, что не время статьями считаться и сроки по дням отсчитывать. Моё место сегодня не тут, а там, на фронте или в тылу врага.
Он долго ещё говорил. А на следующий день заключённый Василий Кузьменко был досрочно освобождён. В хмурый осенний день он вышел за тюремные ворота. Город тревожно гудел. По улицам торопливо проходили войска. На восток тянулись поезда с оборудованием фабрик и заводов. Вслушавшись, можно было уловить далёкие раскаты артиллерийских залпов. Враг приближался к городу.
Два дня пробыл Кузьменко в этом городе. Неизвестно, где жил, неизвестно, с кем встречался, и неизвестно, куда исчез. Ушёл один, невесть куда, невесть зачем, как в воздухе растаял. Был Васька Кузьменко, и не стало его.
Ушёл Васька в тыл врага.
14. ОШИБКА ГОСПОДИНА ГЕЙДЕЛЯ
Рассмотрев Амосова у окна, господин Гейдель с удовлетворением заметил, что его старинный друг мало изменился. Тридцать лет, в течение которых Гейдель не видел Шпейера, затуманили в его памяти образ последнего.
— О дорогой Шпейер, — восторгался Гейдель, — как много прошло лет и как сравнительно мало вы изменились! Друг мой, этот взгляд, этот рот, это выражение лица… Боже, как мчится жизнь! Ведь кажется, это было только вчера…
— Что вы, господин Гейдель, — возражал Амосов, — вы просто хотите меня порадовать. Я очень состарился за эти годы. Сидя здесь, в этой глуши…
— У провинции есть свои преимущества, — перебил его Гейдель, — она способствует сохранению здоровья и укреплению нервов. Вы говорите — годы, провинция… Что же сказать мне, летучему голландцу, который за эти десятилетия носился, как щепка, по всем морям и океанам и потерял молодость и здоровье! И вот — результат: эта тучность, эта одышка, приступы грудной жабы. Нет, вы посмотрите на это брюхо!.. Каково мне таскать его по свету, милейший Шпейер!
— Да, у вас есть излишняя полнота, — неопределённо произнёс Амосов, не знавший, каков был господин Гейдель в молодости.
— Излишняя — не то слово, мой друг! — с жаром сказал Гейдель. — Живот этот — не только моё личное не счастье, но, смею сказать, беда всей германской разведки. Он мешает мне как следует развернуться… Ох, если бы не это пузо!.. Однако перейдём к делу. Какие у вас виды на будущее?
— Господин Гейдель, — ответил Амосов, — я привык считать своими видами то, что мне прикажут.
— Правильно. Но всё же интересно знать вашу точку зрения.
Амосов повторил Гейделю то, что раньше уже сказал генералу. Он просил, если это возможно, не оставлять его в Зареченске, а перебросить в другой город или оставить при штабе фронта.
Гейдель очень внимательно выслушал Амосова. Он сразу стал серьёзен, малоразговорчив, почти мрачен. Этот болтливый, смешной толстяк мгновенно, на глазах, изменил свой облик.
— Я думал, — наконец, сказал он, — что пока вам лучше всего остаться при мне. Я возглавляю нашу работу в пределах этого фронта. В Зареченске я пробуду день, а завтра мы с вами вместе поедем в Минск — в главную квартиру. У меня есть кое-какие виды насчёт вашего будущего, Шпейер. Кроме того, будем справедливы, — если вы захотите после тридцатилетнего перерыва побывать на родине… Берлин очень изменился за эти годы.
— Я буду глубоко признателен, господин Гейдель, — сказал Амосов, лихорадочно обдумывая возможности, которые таило в себе это неожиданное предложение. — Тем более что уже лет пятнадцать, как я не имею никаких сведений о своих близких. Правда, мои родители давно умерли, а дядя — он был начальником брауншвейгской офицерской школы…
— Генерал фон Таубе скончался в тысяча девятьсот двадцать первом году, — произнёс торжественно и печально Гейдель. — Это был весьма почтенный и всеми уважаемый человек… Я имел честь знать его лично.
— Я очень любил дядюшку и весьма ему обязан, — в тон Гейделю заметил Амосов. — Да, многое изменилось за эти годы! Как сказал русский поэт: «иных уж нет, а те далече…» Господин Гейдель, я позволю себе обратиться к вам с просьбой отдохнуть у меня в доме. Правда, я живу очень скромно, но мне было бы приятно принять вас у себя.
Гейдель снисходительно потрепал Амосова по плечу и принял предложение. Захватив с собой «племянника», они на машине Гейделя поехали к Амосову на квартиру.
Вечер был посвящён воспоминаниям: Гатчина, Петербург, 1913 и 1914 годы. Амосов, знакомый со слов Шарапова с этим периодом жизни последнего, время от времени вставлял довольно уместные замечания. В результате этого разговора выяснилось, что Гейдель в тот период работал агентом германской разведки в Петербурге и часто встречался со Шпейером где-то на Кирочной улице, у старой акушерки, содержавшей явочную квартиру. Об акушерке Амосов ничего не знал, но своей неосведомлённости не обнаружил.
Наконец, Амосов предложил своему гостю отдохнуть. Гейдель согласился переночевать в комнате Амосова и занял его постель. «Племянник» устроился в бывшей комнате Тамуси, а Амосов решил спать на диване. Когда Гейдель и «племянник» заснули, Амосов, по своему обыкновению, вышел на улицу покурить перед сном. Стояла холодная осенняя ночь. В городе было темно. Откуда-то издали доносилась пьяная немецкая песня. Это развлекались солдаты, на ночь уволенные из частей. Время от времени с треском проносился на мотоциклах ночной патруль, объезжавший городские улицы. Где-то стреляли. Потом опять становилось тихо.
Амосов обдумывал предложение Гейделя съездить в Берлин. Какую пользу можно было бы извлечь из такой поездки? Не таится ли в этом предложении скрытая насмешка или провокация? Не лучше ли остаться при штабе фронта, выяснить организацию работы в ведомстве господина Гейделя, их связи, планы, расчёты?
«А если всё-таки поехать в Берлин? Немец Шпейер приехал в Россию в тысяча девятьсот тринадцатом году и прожил в ней около тридцати лет. Что, если мне, в порядке ответного визита, поехать в Берлин и провести там пару месяцев? Право же, в этом есть смысл…»
Так размышлял Амосов в эту ночь, сидя на завалинке перед домом Шарапова — Шпейера. Занятый своими мыслями, Амосов не заметил тёмной тени, которая появилась за углом и стала осторожно пробираться к дому, у которого он сидел… Стараясь держаться вплотную к забору, неизвестный добрался, наконец, до дома и, в свою очередь не заметив сидевшего в тени Амосова, тихо постучал в окно.
— Кто это? — вскочил на стук Амосов. — Чего вы стучите?
— А вы кто? — спросил неизвестный.
— Кто вам нужен?
— Во всяком случае, не вы!
Амосов чиркнул спичкой и увидел молодого рыжеволосого парня, который довольно спокойно глядел на него. Это был Васька Кузьменко. Амосову он был незнаком.
— Перестаньте стучать, — спокойно оказал Амосов.
— Там отдыхают немецкие офицеры? — спросил Кузьменко, который не знал всех событий последнего времени.
— Иван Сергеевич уехал, — сказал Амосов. — И в городе его нет. А стучать нельзя.
Рыжий задумался. Потом он подошёл к Амосову и спросил:
— А вы не знаете, где Иван Сергеевич? Что с ним? И вообще?
— А вы откуда?
— Я Кузьменко. Артист драмкружка. Но меня здесь давно не было. И вот я вернулся — в город, а в нём никого нет, и пришли немцы, и вообще творится чепуха какая-то. Иван Сергеевич мог меня приютить. А вы откуда его знаете?
— Вот что, уважаемый, — с сердцем произнёс Амосов, не зная, как ему отделаться от этого ночного пришельца, — убирайтесь-ка вы отсюда подобру-поздорову. Сказано вам русским языком: Шарапова в городе нет, он уехал, эвакуировался. Ясно?
— Позвольте, но где же я буду спать? — с искренним удивлением спросил рыжий. — Я всегда ночевал в таких случаях у Ивана Сергеевича. Нельзя ли закурить?
Амосов молча протянул рыжему папиросу. Тот закурил её с жадностью. Оба молчали. Амосов понял, что рыжий не врёт и действительно не в курсе событий, происшедших с Шараповым.
— А почему в этом доме немцы? — не унимался Кузьменко. — Мало им домов в центре? Я вижу, вы русский человек. Объясните, пожалуйста, как это всё случилось? Ведь я совершенно не в курсе дела…
И сбивчиво, торопясь, словно из боязни, что его не выслушают, — Кузьменко рассказал Амосову, как он после «Свадьбы Кречинского» был предан суду за хулиганство, учинённое в универмаге, как суд приговорил его к двум годам лишения свободы и как он теперь вернулся домой. Кузьменко, сам не зная почему, разоткровенничался и добавил, что перешёл линию фронта, желая работать в тылу врага..
15. ПОЕЗДКА В БЕРЛИН
Амосов слишком хорошо разбирался в людях, чтобы не понять сразу, что рассказ Васьки Кузьменко вполне искренен и правдив. Вместе с тем ясно было, что надо как можно скорее отделаться от неожиданного гостя. Посоветовав Ваське направиться к партизанам, Амосов от всего сердца пожелал ему счастливого пути. Однако из предосторожности Амосов не дал Ваське никаких определённых явок, сказав, чтобы он шёл в Гремяченские леса.
Простившись с Васькой, Амосов вернулся в дом. Гейдель мирно похрапывал. Одеяло, которым он был накрыт, вздыбилось на его брюхе и мерно колебалось в ритм дыханию.
Амосов решил тоже отдохнуть и прикорнул на диване. Проснувшись утром, он открыл глаза и встретил взгляд Генделя, который тоже уже не спал.
— Доброе утро, мой друг, — пропищал Гейдель. — Я отлично выспался. Эта дорога основательно утомила меня. Но сейчас я свеж, как новорождённый.
— Не угодно ли вам позавтракать? — спросил Амосов.
— Угодно и весьма, — ответил Гейдель и начал одеваться.
За завтраком Гейдель вернулся к поездке Ивана Сергеевича в Германию.
— Чем больше я об этом думаю, — сказал он, — тем больше убеждаюсь, что прав. В самом деле, имеете же вы право отдохнуть, посмотреть, как изменился за эти годы наш Берлин, подышать родным воздухом! Кроме того, милейший Шпейер, вам следует месяц-другой по работать в главной квартире. Как-никак, многое изменилось в нашей работе, многое пересмотрено. Жизнь идёт вперёд…
— Надо подумать, — неопределённо ответил Амосов, не зная ещё, как ответить на это предложение. — Конечно, ваше приглашение соблазнительно, и я вам очень признателен, господин Гейдель.
— Тут не о чем думать, — возразил Гейдель. — Сейчас я отправлю шифровку в Берлин и запрошу согласие начальства. Уверен, что оно будет получено.
Гейдель действительно послал из штаба телеграмму, Амосов из осторожности не стал возражать. Кроме того, поездка в Берлин казалась ему всё более и более заманчивой, «Пожалуй, — думал Амосов, — в самом деле имеет смысл поехать, пройти „усовершенствование» в главной квартире гестапо, познакомиться со всей этой дьявольской кухней. Правда, поездка таит кучу неожиданностей и непредвиденных опасностей, но отказываться от неё не менее рискованно, — можно навлечь на себя подозрение».
Ответ из Берлина пришёл через несколько дней. В телеграмме на имя Гейделя сообщалось, что его предложение о выезде Шпейера в Германию одобрено.
— Поздравляю! — кричал Гейдель, размахивая бланком шифротелеграммы. — Что я вам говорил!.. Милейший Шпейер, я от души рад за вас… Завтра вам будут приготовлены все документы, деньги, адреса. Попрошу заодно захватить с собою посылочку моей Мицци. Расскажите ей, как я тут барахтаюсь… Она будет очень рада… Остановиться рекомендую в отеле «Адлон». Правда, там довольно дорого, но вы, чёрт возьми, имеете право пожить с комфортом!.. Я снабжу вас солидной суммой на дорогу. Кроме того, личный доклад всегда лучше письменного, и я попрошу вас подробно изложить руководству все обстоятельства нашей работы и все наши успехи. Вечером я обстоятельно вас проинформирую.
Амосов с удовольствием — выслушал последнее предложение. Он был совсем не прочь «проинформироваться».
Вечером Гейдель заперся с Амосовым и начал посвящать его в курс дела. Он подробно перечислил Амосову пункты в оккупированных районах, в которых были развёрнуты диверсионно-шпионские школы, контингент лиц, принятых в эти школы на обучение, ближайшие планы немецкой разведки. Особую важность для Амосова представляли сообщённые Гейделем данные о явках немецкой разведки в прифронтовых городах.
— Все эти данные, — говорил Гейдель, — я приготовлю в письменном виде к вашему отъезду. Все точки, все адреса, все пароли. А пока я сообщаю их вам устно, для того чтобы вы получили общее представление.
Потом Гейдель перешёл к партизанам. Он просил информировать Берлин о непрерывном росте партизанского движения и о трудностях борьбы с ним.
— В Берлине, — говорил он, — ещё не совсем ясно представляют себе опасность партизан. Кроме того, там не учитывают специфики русской географии — эти непроходимые болота, лесные чащи, отсутствие культурных дорог. Маши солдаты боятся лесов, где стреляет каждый куст, каждое дерево, каждый пень. Танки тут беспомощны. Наконец, никакая карта не даёт вам представления об этих путаных лесных тропах и закоулках, в то время как партизаны знают каждую, корягу как свои пять пальцев. Что же касается помощи со стороны крестьян, передайте, что рассчитывать на неё мы не можем. Даже крупные награды, объявленные нами за сведения о партизанах, не дали никакого результата. Более того, в любой хате партизаны имеют своего человека. А всех не перестреляешь… Но самое ужасное — это быстрота, с которой формируются эти партизанские отряды. Не успеваем мы занять район, как в нём уже появляются партизаны… Легко ликвидировать их, сидя в берлинских канцеляриях… Но каково бороться с ними здесь!
По мере того как господин Гейдель излагал свои соображения по поводу партизан, он всё больше приходил в ярость. Лицо его побагровело. Амосов с удовольствием слушал жалобы господина Гейделя. По-видимому, партизаны причиняли господину Гейделю немало хлопот.
По окончании разговора Гейдель опять прилёг отдохнуть. Воспользовавшись этим, Амосов под видом прогулки направился к Анастасии Никитичне. Ему было важно перед отъездом передать через неё кое-какие данные командиру партизанского отряда.
Старушка сидела дома за пасьянсом. Шура читала книгу. Увидев Амосова, Шура обрадовалась и стала рассказывать ему, как устроились партизаны в Гремяченском лесу.
— Да погоди ты, Шурочка, — перебила её Анастасия Никитична. — Потом расскажешь. А пока приготовь нам — чайку.
Шура вышла в кухню, и Амосов передал Анастасии Никитичне всё, что было необходимо. Учительница слушала его очень внимательно, стараясь запомнить всё в точности, — записей она из осторожности делать не хотела.
Амосов попросил её передать, что на некоторое время он уезжает в неопределённом направлении.
— Если, — добавил он, — к вам явится по паролю связной из области и опросит обо мне, вы ему скажите только три слова: «Наносит ответный визит». Ясно?
— Вполне, — ответила Анастасия Никитична и ни о чём не стала расспрашивать Амосова.
16. КУЗЬМЕНКО НАХОДИТСЛЕД
Амосов умышленно не указал Кузьменко точного адреса партизанского отряда, хотя хорошо его знал. Тем более он не считал себя вправе дать ему хоть одну партизанскую явку в самом городе. Поэтому он ограничился общим указанием: ищите, мол, партизан в Гремяченских лесах. Васька, как местный житель, хорошо понимал, что просто направиться в эти леса, тянувшиеся на сотни километров, бессмысленно. Поэтому он решил два дня провести в Зареченске, рассчитывая за это время получить более конкретные данные о местонахождении партизан, а кроме того, узнать о судьбе Гали Соболёвой.
На следующее утро после ночного визита к Амосову Кузьменко пошёл в центр города. На главной улице по свежим табличкам, приколоченным на перекрёстках, он установил, что эта улица теперь именуется «Адольф Гитлерштрассе». Убедившись, что поблизости почти нет прохожих, Кузьменко сорвал табличку, очистил с неё ножичком свежую надпись и вместо неё старательно написал химическим карандашом: «Здесь была, есть и будет улица Карла Маркса, а паразиту Гитлеру никаких улиц у нас не полагается».
Восстановив таким образом справедливость на этом участке городского хозяйства, Кузьменко двинулся дальше. У здания горсовета, в котором теперь разместился магистрат, хрипел репродуктор, выставленный на балкон. Диктор передавал на русском языке «последние известия верховного командования германской армии».
Кузьменко прислушался. Диктор сообщал о «полном уничтожении» Советской Армии и о том, что в «недалёком будущем Гитлер будет принимать парад на Красной площади в Москве, которая со дня на день должна быть занята немецкими войсками». Несколько исхудалых людей молча слушали, стоя рядом с Кузьменко, эту радиопередачу. Эсэсовский патруль торжественно проследовал мимо здания магистрата, изо всех сил задирая ноги вверх и с яростью стуча ими о мостовую.
Посмотрев на них и на своих земляков, Кузьменко решил, что дальше бездействовать нельзя. Он бросился вперёд, куда-то вдруг заторопившись.
Между тем диктор, закончив «последние известия», начал с пафосом читать статью на тему «об историческом превосходстве германской расы».
— Таким образом, — гудел диктор, — всякому непредубеждённому человеку должно быть понятно, что идеи фюрера несут миру…
Так и не объяснив слушателям, что именно несут эти «идеи», диктор неожиданно как-то странно хрюкнул и замолк. Теперь из репродуктора явственно доносился шум какой-то возни, тяжёлое дыхание и звуки, отдалённо напоминающие бурные аплодисменты. Потом чей-то звонкий, хорошо поставленный голос отчётливо произнёс:
— Граждане, минуту терпения, часовой уже готов, сейчас я закачу этому оратору ещё пару плюх и продолжу передачу.
Снова, на этот раз уже более явственно, послышались звуки оплеух.
Затем Кузьменко — ибо это был он — обратился к заинтересованным слушателям с краткой речью.
— Дорогие друзья, земляки, братья! — начал Кузьменко, и голос его задрожал от волнения. — Передаю вам привет от советской власти и Советской Армии. Не верьте фашистской пропаганде! Убивайте предателей и изменников родины! Знайте, что фашистам дорого обходятся их временные победы. Бейте их в хвост и гриву! Не давайте им передышек! Не выполняйте их приказов! Всем им скоро придёт конец…
Когда «русская полиция» и несколько эсэсовцев примчались — в радиостудию, было уже поздно. Связанный диктор хрипел в углу — он был основательно избит. Кузьменко на прощанье вдребезги разбил микрофон и оставил на столе такую записку:
«Паразиты, бросьте обманывать народ. Предупреждаю, что всех дикторов буду лупить нещадно. Смерть немецким оккупантам!»
Когда бургомистру Трубникову доложили о происшествии в радиостудии, он очень взволновался. Он стал ещё осторожнее: показывался на улице не иначе, как в сопровождении трёх полицейских, по ночам вовсе перестал выходить, а у своего дома поставил усиленную охрану. Вообще бургомистр был недоволен своим положением и совсем не был уверен в завтрашнем дне. Население молчаливо, но очень выразительно бойкотировало его, и он часто читал в глазах зареченцев такое презрение и ненависть к себе, что от одного этого мгновенно обливался холодным потом.
Между тем в городе явно активизировалась подпольная группа. В районе учащались нападения партизан на немецкие обозы, склады, поезда. В городе то и дело появлялись листовки и воззвания к населению, которое явно сочувствовало партизанам и ненавидело оккупантов и их прихвостней.
Всё это вместе взятое заставило оккупантов призадуматься. Однажды военный комендант вызвал к себе Трубникова и оказал ему, улыбаясь:
— Что вы скажете, герр бургомистр, если я предложу некоторые начинания, которые… гм… будут направлены к усилению… гм… дружбы между населением и немецкими военными властями… и… гм… даже любви… Это новый вид нашей политики… Вы меня понимаете?
«Давно бы так!» — чуть не закричал Трубников, но вовремя остановился и почтительно спросил:
— Что имеет в виду господин комендант?
— Ну, скажем, надо отремонтировать эту большую церковь, которая разрушена бомбой. Это сделают своими руками наши солдаты. Они это сделают очень быстро, аккуратно, и очень… гм… с любовью… Пусть население видит, как мы заботимся о религии. И потом мы пригласим русского священника и будем делать… Как это у вас говорят… Большая… Большая молитва.
— Большой молебен, — сказал Трубников, с интересом слушая коменданта.
— Вот именно — большой молебен. Это будет весьма, весьма хорошо, герр бургомистр. Да, да, пусть видит население наши заботы о нём.
На следующий день специально вызванная техническая рота приступила к ремонту церкви. Немцы действительно старались и быстро восстановили церковь. Тогда возник вопрос о священнике. Но именно тут немецкий комендант и Трубников столкнулись с неожиданным затруднением — два городских священника, как выяснилось, эвакуировались на восток, и некому было служить молебен.
Всё дело срывалось. Трубников в ответ на брань коменданта только разводил в отчаянии руками и что-то лепетал насчёт «бедности в духовных кадрах».
Комендант специально снёсся с соседними городами я немецкими комендатурами ряда оккупированных районов. Наконец, было получено известие, что в одном из лагерей для военнопленных, в котором содержалось и гражданское население, найден человек, который хотя и не был священником, но согласен отслужить молебен. Через два дня его доставили в Зареченск. Он оказался учителем географии, старым щупленьким человеком с тощей бородёнкой и испуганным выражением лица. Фамилия его была Скворцов.
Скворцова принял немецкий комендант в присутствии Трубникова. Отвечая на вопросы, Скворцов прямо признал, что никогда не был священником, но, будучи сыном сельского попа, с детства хорошо знает богослужение и молитвы и сумеет отслужить молебен.
Комендант долго объяснял Скворцову, что от него требуется, чтобы он не только отслужил один молебен, но и вообще стал бы священником зареченской церкви. Скворцов слушал коменданта стоя и о чём-то думал.
— Ну, что же вы молчите? — с раздражением спросил комендант. — Вы должны быть благодарны за это предложение. Вы будете сытно и спокойно жить, германское командование будет вас поддерживать. Это, господин Скворцов, не лагерь, где, как вы, вероятно, успели заметить, не так уж весело… Или вам хочется обратно в лагерь?
Скворцов отвечал тихо. Нет, ему не хочется обратно, и он успел заметить, что в лагере не так уж весело. Он даже заметил, что в этом лагере был замучен до смерти его единственный сын, отказавшийся стать осведомителем гестапо.
Через два дня заранее извещённое население явилось на торжественное открытие храма. На церковной паперти был выстроен «для порядка» взвод автоматчиков. Они не понимали ни слова по-русски, но с интересом следили за происходящим.
Скворцов, в облачении, которое ему сшили из старого орудийного чехла, с белым оловянным крестом на груди, начал богослужение.
Кузьменко появился в церкви с некоторым опозданием. Он с трудом протолкался в храм и здесь заметил Трубникова, стоявшего в почтительной позе за спиной немецкого коменданта.
«Да приидет царствие твоё», — доносился с амвона старческий, чуть дребезжащий тенорок Скворцова.
— Здравствуй, бургомистр, — шепнул Кузьменко на ухо Трубникову. — Что, дрожишь, шкура? Только пикни — от тебя мокрое место останется. Всю тюрьму опозорил, паразит!
Трубников оглянулся, сразу узнал Кузьменко и мгновенно вспотел от страха. Странно икнув и энергично замотав головой, он дал понять, что и не думает «пикнуть» и вообще рад прибытию Кузьменко. Он даже протянул ему руку, но Васька своей руки не подал.
Между тем молебен кончился. Скворцов переходил к проповеди. В церкви, набитой до отказа народом, стояла тяжёлая духота. Комендант вытер шёлковым платком потное лицо. Его радовало, что всё проходит так чинно и торжественно и при таком большом стечении публики. Затея явно удалась. Но дальше стоять в этой жаре было немыслимо. Сделав знак Трубникову, чтобы тот оставался следить за порядком, комендант пробрался к выходу и вышел из церкви.
Священник откашлялся. В церкви стояла напряжённая, взволнованная тишина. Автоматчики с любопытством заглядывали в распахнутые настежь двери.
Вытерев мокрый от волнения лоб, Скворцов медленно обвёл глазами толпу. Вот они стоят, тесно прижавшись друг к другу, исхудалые, измученные люди, попавшие в неволю, растерявшие своих близких, зависящие от каждого немецкого солдата, беспомощные в своём горе, но всем сердцем верные родине, которая так же верно теперь борется за них. Что он должен сказать им, — он, старый, седой человек, всю жизнь учивший русских детей, вырастивший столько поколений школьников, привыкший честно и правильно отвечать на их пытливые вопросы? Что должен он ответить на вопрос, который так отчётливо, так явственно слышит в этой напряжённой тишине?
Скворцов на мгновение закрыл глаза и с необыкновенной ясностью вновь представил себе то страшное, незабываемое августовское утро, когда он увидел болтающееся на виселице тело своего сына, точнее то, что осталось от этого искалеченного тела. Это было всё, что осталось от его мальчика, от его первого детского лепета, шалостей, первых учебников, сыновней ласковости, весёлых, счастливых глаз, застенчивой юности, бодрой, уверенной в себе и в своём деле молодости…
— Братья и сёстры во Христе, — начал Скворцов, и глаза его засверкали огнём непреклонного убеждения. — Неисповедимы пути господни, и велика милость всевышнего, но не приемлет Правда клятв Иудиных и не нужны народу дары из окровавленных рук… Мудро сказано было в древности: «Не верьте данайцам, дары приносящим».
Скворцов остановился и тяжело перевёл дыхание. От волнения он едва владел голосом. Словно шелест прошёл по церкви. Где-то в углу навзрыд заплакала женщина, но вокруг зашикали на неё, и опять стало тихо.
— Братья, — снова начал Скворцов, — не в том вера, чтобы отбивать поклоны в храме, лукаво отстроенном врагами нашими. Не покоряйтесь псам фашистским, верьте в наш народ, которому не бывать под кровавым гитлеровским сапогом. Не дайте отуманить свои головы ни бургомистрам, ни попам, верьте в свой народ, верьте в свою родину — она победит!
Кузьменко, остолбенев, смотрел на священника. Потом он оглянулся вокруг и увидел, как беззвучно плачут люди, как слёзы ручьями текут из их глаз, как надеждой и радостью светятся их измученные лица. Он вгляделся в них ещё внимательнее, и сердце его сжалось от боли и нежности — такая печать страданий и горя была на лицах его земляков.
И, может быть впервые за эти годы, Васька заплакал. Он плакал совсем по-детски, не стесняясь этого и не вытирая слёз, всё чаще всхлипывая и сморкаясь. Плакал он потому, что понял вдруг с предельной и горькой ясностью: всё, что он до сих пор делал и чем жил, было не то, совсем не то, что надо было делать и чем надо было жить.
«Нет, скорее, пока не поздно, пока есть ещё время и силы, — скорее туда, к партизанам, в леса, в леса!.. Нельзя дальше действовать в одиночку, как волк; на врага надо идти вместе, дружно, в строю!»
Но прежде чем выбежать из церкви, Кузьменко подошёл к Трубникову, стоявшему с серым лицом посреди враждебно рассматривавшей его толпы, и взял его за руку.
— Слушай! — сказал Кузьменко таким голосом, что кровь застыла в жилах у Трубникова. — Коменданта не было, когда говорил священник. Но ты… ты был здесь. Ты всё слышал. И вот… если… если хоть один волос упадёт с головы этого человека, тебе не жить, не спрятаться от меня, не уйти!
По мере того как Кузьменко произносил эти слова, кровь всё сильнее заливала его щёки, лоб, всё его лицо. Сам того не чувствуя, он дрожал всем телом. С нечеловеческой силой сжав руку Трубникова, он, казалось, насквозь прожигал его взглядом.
И Трубников, цепенея от ужаса, смотрел остановившимися глазами на Кузьменко и, не слыша собственного голоса, бессмысленно повторял:
— Охраню… охраню…
…Кузьменко покинул Зареченск на рассвете. Он и сам ещё не знал, куда идти и как именно связаться с партизанами, но был уверен, что рано или поздно разыщет отряд и найдёт в нём себе место. Выяснить в Зареченске, где находится Галя, ему не удалось, но он предполагал, что и она может оказаться в отряде.
С детских лет ему были хорошо известны все окрестности, шоссе, просёлочные дороги и большаки в этих родных ему краях. Знал он и лесной массив, в котором могли скрываться партизаны, хотя понимал, что найти их в этих бесконечных лесах будет делом не лёгким.
В первый день он прошёл километров тридцать и к вечеру остановился на ночлег в одной деревушке. Разговор с женщинами в этой деревне не дал никаких результатов в смысле установления, хотя бы приблизительно, местонахождения партизан. В ответ на его осторожные расспросы бабы только отмалчивались или отнекивались. Чувствовалось, что они ему не доверяют и ничего не скажут, даже если знают.
— Не верите! — вздохнув, сказал им Васька. — Эх, не видите, дуры, что я за человек. Думаете, я для фрицев узнать хочу…
— Зря ты, сынок, осерчал, — возразила одна из баб, совсем уже пожилая женщина. — Ничего мы, милый, знать не знаем и ведать не ведаем. А что дуры мы, так это уж верно, что дуры. И вовсе тёмный народ…
Бабы дружно рассмеялись и ушли.
Кузьменко понял, что толку от них не добьёшься. Тогда он решил расспросить стариков. Встретив у самой околицы какого-то чуть не столетнего деда, Васька любезно угостил его табачком и, присев рядышком на бревне, дипломатично завёл разговор о том о сём. Старик охотно поддерживал разговор. Дело шло на лад.
— А что, дед, — спросил, наконец, Кузьменко, — сыновья-то небось на фронте? Один остался?
— Снохи есть, — коротко ответил дед, ловко обходя вопрос о сыновьях.
— Ну, а дети-то где же твои, стало быть, снох твоих мужья? — не унимался Кузьменко. — В армии или ещё где?
— Известно, где. В почтовых ящиках.
— Где? — искренне удивился Васька.
— Да сказано тебе, в почтовых ящиках. Николай — в почтовом ящике нумер пять тысяч пятьсот шестьдесят два, Серёга — в нумере шесть тысяч семьсот восемьдесят девять, а Иван — внук мой старший, тот под нумером четыре тысячи сто двадцать шесть. Так и шли по нумерам. Не одни мои сыны — во всём колхозе так. Ну, а теперь, как пришёл в наши места герман, так и писать стало некуда…
— Некуда, а номера вот помнишь, — подмигнул деду Васька, — на всякий, видать, случай…
Дед метнул в Ваську из-под мохнатых бровей острый, внимательный взгляд, затянулся козьей ножкой, сплюнул и спокойно произнёс:
— А что ж, нумер не конь, овса не просит. Чего же его выбрасывать, пусть себе в башке сидит, на своей полочке… Наше дело стариковское, нам забывать не положено, мы не красны девицы. А ты чего, брат, ко мне прилип, как к одному месту лист? Тебе какое дело, сукин ты сын! Выспрашивать сюда пришёл? Так я вот, не гляди, что стар, а с хворостиной управлюсь не хуже молодого… Проваливай, откудова явился! Инспектор какой на наши головы нашёлся!..
Постепенно накаляясь, дед уже заковылял к изгороди, чтобы выдернуть из тына что-нибудь поувесистей. Имело смысл спешно ретироваться. Сплюнув с досады, Васька покинул деревню.
И опять потянулись просёлки и большаки, поля и перелески, а он всё шёл и шёл. Началась Гремяченские леса. Васька пошёл прямо в глубь лесного массива. В лесу было теплее, чем в поле. Осень ещё только сюда пробиралась. Пахло смолой, прелым листом и хвоей. Быстро темнело, и Васька то и дело спотыкался о лесные коряги. Усталость уже давала себя знать. Дьявольски хотелось прилечь и выспаться, но никаких признаков жилья не было. Вытащив карманный электрический фонарик, Васька медленно плёлся дальше, время от времени включая свет.
Наступила ночь. Откуда-то потянуло ночной сыростью и грибными запахами. Где-то недалеко закричала лесная птица. Когда Кузьменко выключал фонарик, его буквально схватывала за горло ночная темень. Признаться, Ваське стало жутковато. Он решил закурить и, присев на старый пень, начал крутить «козью ножку». С мягким шорохом проскальзывали где-то совсем рядом какие-то шустрые лесные зверьки. Сильные порывы ветра раскачивали деревья, стоявшие вокруг, как часовые. Сосны встревоженно перешёптывались, склоняясь друг к другу, верхушками.
Васька свернул «козью ножку» и, чиркнув спичкой, закурил. Именно в этот момент его обхватили сзади чьи-то сильные руки.
— Ни с места! — повелительно произнёс мужской голос. — Далеко ли, сокол, пробираешься?
— Сначала руки отпусти, дьявол, — ругнулся Васька, — а потом спрашивай!
И тут, как из-под земли, выросли ещё двое. Ваське связали за спиною руки и повели какими-то звериными тропами через балки и овраги, сквозь чащи и залежи валежника. Потом ещё завязали ему глаза, хотя и так ничего не было видно.
Наконец, пришли. Кузьменко развязали и посадили на скамейку. Васька расправил затёкшие руки и, с трудом привыкая к свету, огляделся вокруг. Он находился в землянке, освещённой лампой «летучая мышь». Несколько человек сидели за столом, но их лиц Васька з первую минуту не разглядел.,
— Провались я на этом месте, если это не Кузьменко! — произнёс с искренним удивлением один из сидевших за столом.
Обернувшись на знакомый голос, Кузьменко ахнул от удивления: прямо перед ним сидел начальник зареченской милиции Петухов.
17. В БЕРЛИНЕ
На следующий день Гейдель торжественно вручил Амосову немецкий паспорт, пропуска, деньги, рекомендательные письма. К этому же времени господину Гейделю успели «организовать» объёмистую посылку, которую он просил отвезти в Берлин.
В последнюю минуту, когда Амосов уже садился в машину, Гейдель вручил ему запечатанный пакет.
— Там все, что нужно доложить начальству, — сказал он. — Очень прошу вас вскрыть этот пакет уже в Берлине, в главной квартире. Ну, дорогой Шпейер, от души желаю вам счастливого пути.
Амосов в последний раз пожал протянутую ему руку, и машина тронулась. Из города выехали на Смоленское шоссе. Вдоль дороги потянулись обычные белорусский пейзажи: леса, поля и болота. Амосов сидел рядом с шофёром. Слушая, как мягко поёт машина, он думал об удивительном путешествии, в которое ему пришлось пуститься. Кто знает, как всё пойдёт дальше, в какие положения он попадёт, с какими людьми ему придётся столкнуться? Всё было туманно впереди, на каждом шагу подстерегала смертельная опасность. Но ехать было нужно — в этом Амосов не сомневался.
Минск, на три четверти разрушенный немцами ещё в первые дни войны, встретил Амосова мёртвыми впадинами разбитых окон, обгорелыми остовами домов и грудами развалин. Немецкие солдаты слонялись по искалеченным улицам. Часто проносились машины с куда-то спешащими офицерами.
Амосов явился в немецкую комендатуру, предъявил документы и тотчас был принят офицером СС. Тощий, поджарый немец с моноклем любезно осклабился, когда Амосов передал ему записку от Гейделя. Он сообщил Амосову, что завтра может отправить его с попутной машиной в Негорелое, откуда идёт поезд в Берлин.
Амосов провёл ночь в военной гостинице, устроенной немцами в бывшем студенческом общежитии. Любезность офицера СС простёрлась до того, что Амосову был предоставлен отдельный номер. Сначала Амосов пытался заснуть, но это не удавалось. Нервы его были напряжены до предела. Страха он не испытывал — это чувство вообще не было ему знакомо, — но сознание важности задуманного, желание предугадать все случайности напрягли сейчас его волю и мозг. К тому же мешал уснуть шум, доносившийся из соседних комнат, где кутили «господа офицеры». Крики, смех, женский визг и пьяные песни не утихали всю ночь.
Амосову надоело слушать, как веселятся рядом, и он, одевшись, вышел на улицу. Город был погружён в полумрак. Неверный свет луны бродил посреди домов, искалеченные контуры которых выглядели фантастически. Изредка на перекрёстках громко перекликались патрули. Амосов стоял, подняв воротник пальто, — конец октября давал себя чувствовать, — и предавался всё тем же мыслям. Наконец, он решил отдохнуть, вернулся в комнату, скинул пальто и, бросившись на постель, мгновенно заснул.
Утром за ним пришёл офицер СС, повёл его завтракать в офицерский ресторан, а затем проводил к машине, которая должна была везти его в Негорелое.
Несколько часов спустя Амосов сидел в вагоне поезда, который шёл в Берлин.
На протяжении всего пути — и в Белоруссии и в Польше — он видел из окна вагона всё те же горькие следы войны: разрушенные станции, пожарища, мёртвые, обезлюдевшие деревни. Населения почти не было видно, только на редких остановках поезд окружали исхудалые дети, просившие хлеба. Щеголеватые штабные офицеры, направлявшиеся в Берлин, щёлкали «лейками», снимая на память развалины и голодных детей. Не питая никакого интереса к своим соседям, Амосов держался от них в стороне.
В Берлин прибыли утром. Город выглядел мрачно. На улицах было великое множество полицейских и мало прохожих.
Амосов с вокзала поехал в отель «Адлон», ещё сохранивший остатки довоенного благоустройства. Заняв номер на третьем этаже, он побрился, переоделся и вышел на улицу. Внешний вид встречных прохожих, очереди у магазинов, сравнительно редкие машины, запущенность городских улиц — всё это воспринималось им жадно, с яркостью первого впечатления.
В два часа дня Амосов направился в главную квартиру гестапо, адрес которой был дан ему Гейделем. В комендатуре долго проверяли его документы, после чего выдали, наконец, пропуск. Серый огромный дом смотрел сумрачно. Поднявшись на третий этаж, Амосов нашёл нужную ему дверь и постучался.
— Битте, — произнёс низкий голос.
Амосов вошёл. В комнате за столом сидел немолодой человек со скучающим выражением лица, одетый в штатское платье.
Амосов объяснил ему, что приехал в Берлин по приказанию Гейделя.
— Господин Ганс Шпейер, — улыбнулся немец, — я уже предупреждён о вашем приезде. Начальник русского отдела тоже будет рад вас видеть. Я думаю, что он сможет вас принять не позднее, чем завтра. Где вы остановились?
— В отеле «Адлон», — ответил Амосов.
— У вас нет родных в Берлине?
— Нет. Мои родные жили в Брауншвейге, но теперь в живых не осталось уже никого.
Разговор продолжался ещё несколько минут, а затем Амосов простился и ушёл, оставив свой адрес и телефон.
Амосов пошёл пообедать. В ресторане гостиницы пиликал салонный оркестр, но котлеты от этого не становились вкуснее. Публики было мало, и, как объяснил Амосову портье, все столующиеся были приезжие.
— Берлинцы отвыкли от ресторанов, — со вздохом сказал он. — Не то время теперь — война… Да ещё у обедающих вырезают мясные талоны из карточки, хотя мяса почти не дают. Где ж это видано? Скорей бы конец этой ужасной войне!.. Говорят, на Востоке много мяса и сала… Моя сестра часто получает богатые посылки от сына. Он служит офицером на Восточном фронте.
После обеда Амосов отправился на Фридрихштрассе, где жила семья Гейделя. Посылку ему пришлось тащить самому — ни такси, ни носильщиков не было. Найдя дом и квартиру Гейделя, Амосов позвонил. Костистая, сухопарая немка открыла дверь. Она оказалась женой Гейделя.
— Добрый день, фрау Гейдель, — сказал Амосов. — Господин Гейдель поручил мне передать вам эту посылку и письмо.
Фрау Гейдель побагровела от удовольствия и пригласила Амосова зайти. Оставив его в столовой, она унесла посылку в другую комнату. Судя по времени, которое она там находилась, и по доносившемуся оттуда шороху, фрау Гейдель знакомилась с содержимым посылки. По-видимому, она осталась довольна, так как вернулась в столовую, сияя улыбкой. В ответ на её расспросы Амосов сообщил о здоровье Гейделя, передал от него привет и просил написать ему, что посылка получена.
— Не премину сделать это сегодня же, — сказала фрау Гейдель. — Я вам очень признательна за вашу любезность, герр Шпейер.
Она угостила Амосова жиденьким кофе, после чего он попрощался и отправился опять в главную квартиру. Его принял тот же пожилой немец и сказал, что начальнику русского отдела уже доложено о приезде Шпейера. Он добавил, что начальник просил Шпейера быть вечером здесь, так как он намерен его принять.
Амосов стал дожидаться приёма. Он просмотрел один за другим три иллюстрированных журнала, после чего, наконец, был вызван к начальнику.
Открыв массивную дверь, Амосов вошёл в большую светлую комнату с тёмной мебелью морёного дуба. Посреди комнаты стоял огромный письменный стол, заваленный бумагами, за которым никого не было. Амосов с интересом оглядел его и развешанные по стенам карты Украины и Белоруссии.
— Рад вас приветствовать, дорогой товарищ, — произнёс по-русски чей-то голос за спиной Амосова. Обернувшись, Амосов оказался лицом к лицу с человеком средних лет, который, улыбаясь, очень внимательно его разглядывал.
Это и был начальник русского отдела гестапо,
18. ПАРТИЗАНСКИЕ БУДНИ
Нельзя сказать, чтобы товарищ Петухов пришёл в особый восторг от встречи с Кузьменко. Начальник зареченской милиции не очень любил этого озорного парня, хотя отдавал должное его талантам. Подвергнув Ваську тщательному допросу, чтобы выяснить, откуда, каким образом и с какой целью он здесь появился, Петухов пошёл к командиру отряда, секретарю зареченского горкома Попову, которому доложил о случившемся.
При этом товарищ Петухов не преминул дать справку о прошлом Кузьменко, сообщил о двух его судимостях и осторожно высказался в том смысле, что, дескать, нужна ли в отряде такая «отпетая личность».
К удивлению Петухова, это не произвело должного впечатления.
— Озорной, говорить? — задумчиво сказал Попов. — Это хорошо, что озорной. Тихони нам здесь ни к чему.
— Боюсь, не доставил бы нам этот фрукт хлопот, — стоял на своём Петухов. — Вот чего я опасаюсь.
— А ты не опасайся, — улыбнулся Попов. — Парень он, как я припоминаю, не плохой. Ничего, человека из него сделаем. Но, между прочим, прошлого ему не вспоминай. А теперь приведи его ко мне.
Пожав плечами, Петухов вышел из землянки и пошёл за Кузьменко. Попов встретил Ваську как ни в чем не бывало и сделал вид, что не знает о его пребывании в тюрьме.
— Давно из города? — спросил он.
— Вчера вышел.
— Ну что там новенького?
— Особых новостей нет. Вчера молебен был…
И Кузьменко рассказал о молебне и проповеди. Попов выслушал этот рассказ с удовольствием.
— Молодец поп! — произнёс он. — Надо бы его к нам в отряд притащить. Только кто же он, откуда взялся?
— Не знаю, — ответил Кузьменко.
— А ты к нам надолго? Или погостить?
— Прошу зачислить меня в отряд, — сказал Васька, покраснев от страха, что встретит отказ.
— Хорошим людям всегда рады, — улыбнулся Попов и, обращаясь к Петухову, добавил:
— Надо гостя принять, накормить. Позовите мне нашу хозяюшку.
Петухов вышел и вскоре вернулся с высокой смуглой девушкой.
— Слушаю, Андрей Николаевич, — произнесла она певучим голосом.
Васька, услыхав этот голос, вскочил с места.
— Галя! — взволнованно крикнул он.
— Здравствуйте, Вася, — тихо ответила девушка.
— Э, да вы, я вижу, знакомы, — произнёс Попов, широко улыбаясь. — Стало быть, мне и хлопотать за тебя, парень, нечего. Галя без меня догадается, как гостя принять. Верно, Галя?
— Постараюсь, Андрей Николаевич, — ответила девушка, приходя в себя. — Идёмте, Вася.
Они вышли из командирской землянки. Васька, внутренне ликуя, шёл за нею. Галя шла молча, изредка оборачиваясь, чтобы посмотреть, не отстал ли он.
— Ночи-то теперь сырые, — нерешительно начал Кузьменко.
— Осень, — коротко произнесла Галя.
— А здесь вам не скучно? — не зная, что говорить, ляпнул Кузьменко.
— Хорошие гости приезжают, — ядовито ответила девушка. — А вам тут не страшно?
— Вам должно быть известно, что я не из робких.
— Мы оба не из робких… Но ведь я давно вас не видал.
— Разве давно? Что-то я и не заметила, — опять съязвила Галя.
Это определило дальнейшее. Васька обиделся. Он отказался от ужина и спросил, где устроиться. Галя проводила его в общую мужскую землянку. Он холодно поблагодарил девушку и молча завалился на койку.
Но заснуть не мог. Не спалось и Гале. Всю ночь она пролежала с открытыми глазами, думая о нём. В течение всего времени пребывания в отряде Галя ни на один час не забывала о Кузьменко. Она не знала, где он, какова его судьба. Галя любила его и не боялась признаться себе в этом. Осторожно, стараясь не выдать своего волнения, Галя расспрашивала Петухова, куда исчез Кузьменко, но Петухов сам ничего не знал. И вот сейчас Вася здесь, в отряде, рядом в землянке. Как хорошо, что она и виду не подала, что рада его приходу. Надо с ним и впредь держаться строго, чтобы он ничего не понял. А как он, бедный, похудел, видно туго ему пришлось это время. И он такой же рыжий, но очень симпатичный… Как смешно стоят у него волосы — ёжиком. Верно, их в тюрьме так стригут. Но это его не портит. Только он совсем как маленький… Сколько лет прошло с того дня на Зелёной горе? Пять лет… А сколько это месяцев — целых шестьдесят, значит двести сорок недель… неужели это было так давно? Как мчится время, даже страшно! А всё кажется, что это было вчера, не дальше. А чему так улыбался Андрей Николаевич? Неужели он что-нибудь заметил? Ой, только бы нет!..
— Подумаешь, задаётся, — ворчал в это же самое время Васька, ворочаясь с боку на бок на койке. — Эти девчонки думают, что без них мы не можем обойтись… Дуры!.. И вообще заниматься любовью во время войны могут только кретины. Хорошо, что я виду не показал, что рад её видеть… Пусть не задаётся. Подумаешь, какая птица!
Быстро время бежит!.. Уже месяц прошёл с того дня, как Кузьменко нашёл партизанский отряд. Он успел за эти тридцать дней познакомиться с партизанскими буднями, а партизаны полюбили его за весёлый нрав, за удивительную смелость и находчивость.
Нигде не узнаются люди так скоро и так верно, как в боевой обстановке, где человек проходит самое трудное и надёжное испытание — испытание кровью.
Кузьменко не терялся в самых острых и рискованных операциях, которые проводил отряд, и удивительно легко находил выход из самых затруднительных положений. При всём том он никогда не был безрассуден и не признавал риска ради риска, без пользы для дела.
— Молодец Вася, — говорил о нём командир отряда. — Быть просто храбрецом — это ещё недостаточно. Надо быть умным храбрецом. Легче всего — просто положить голову. Это небольшой подвиг. А вот голову сохранить и задание выполнить — это умения требует.
И, подумав, неизменно добавлял:
— Положить голову без крайней необходимости — это значит идти по линии наименьшего сопротивления. Это, в сущности говоря, оппортунизм…
В этом смысле назвать Кузьменко оппортунистом было нельзя, так как из всех операций он возвращался, сохранив голову в целости и с выполненным заданием.
С Галей за это время он встречался по нескольку раз в день: на стрельбищах, в штабе отряда, где Галя постоянно работала, и порою на отдыхе. Во всех этих случаях они были суховаты друг с другом и оба делали вид, что о прошлом не может быть и речи. Девушке это удавалось лучше: она вела себя очень ровно, корректно, но безразлично. Васька же иногда срывался: язвил, принимал чересчур холодный вид или вдруг замолкал и начинал дуться.
Товарищ Петухов по-прежнему косился на Кузьменко, явно сторонился его и вместе с тем старался наблюдать за его поведением.
Командир отряда замечал, что Петухов продолжает неприязненно относиться к Кузьменко, и даже несколько раз разговаривал с ним по этому поводу.
— Я ему ничего плохого не делаю, — отвечал Петухов, — а что я о нём думаю — это уж, извините, моё частное дело.
И вот однажды в отряд поступили сведения, что на соседнем большаке движется немецкий обоз с боеприпасами. Узнав об этом, командир отряда задумался, а затем почему-то улыбнулся и вызвал к себе Кузьменко и Петухова. Когда они оба явились, командир рассказал им о полученных сведениях и приказал вдвоём направиться на большак и ликвидировать обоз.
Молча выслушав приказание, они вышли из командирской землянки и стали готовиться к операции. Через час, когда начало темнеть, оба уже направлялись к большаку. Всю дорогу шли молча. Придя к большаку, они замаскировались и притаились в придорожной канаве.
Через некоторое время послышался скрип приближающегося обоза. Ветром доносило обрывки немецкой речи.
— Едут, — шепнул Петухов. — Главное, не спеши. Подпустим поближе, а тогда начнём: ты — гранатами, а я — из пулемёта.
Петухов был абсолютно спокоен. Васька мысленно поставил это в плюс начальнику раймилиции.
Наконец, немцы приблизились на такое расстояние, что уже ясно различались контуры повозок и солдатских фигур. Петухов чуть толкнул Ваську в бок, давая этим знак, что пора начинать. Васька перевёл предохранитель на гранате и метнул её в первую повозку. Раздался грохот, лошадь взвилась на дыбы и свалилась на бок. В ту же секунду застрочил пулемёт Петухова. Немцы стали разбегаться в разные стороны, крича и беспорядочно стреляя из автоматов. Лошади испуганно ржали и метались, ломая оглобли. Васька методично бросал гранату за гранатой, с неизменной точностью попадая в цель. Один, другой, третий воз с боеприпасами взлетели на воздух. Многие из немцев уже валялись под ногами обезумевших лошадей, и всю эту картину озаряли багровым светом вспышки разрывов.
Но вот один из немцев бросился на Кузьменко, который привстал из канавы, чтобы вернее метнуть гранату. За ним кинулось ещё несколько. Петухов снял двух очередью из автомата, в остальных Васька бросил гранату. Совсем рядом раздался оглушительный взрыв, и Кузьменко едва успел спрятаться в канаве от осколков. Через мгновение он поднял голову и увидел, что Петухов окружён немцами. Васька бросился к нему. Выхватив из рук Петухова ручной пулемёт и действуя им как дубиной, Васька свалил двух немцев. Третьего он сшиб с ног удач ром головы под ложечку, но в это время ещё один немец, внезапно выросший перед ним как из-под земли, в упор выстрелил в него.
— Врёшь, фашистская морда! — закричал Васька и, почувствовав, что его словно чем-то обожгло, с удесятерённой яростью набросился на немца, схватил его за горло и начал душить. Немец захрипел и упал, потеряв сознание. Взяв выпавший из его рук маузер, Васька плашмя бросился наземь и стал стрелять по немцам.
В этот момент Петухов вырвался из схватки и, обливаясь кровью, закричал во всё горло:
— Бей их, лупи! Слева, смотри слева!
Васька обернулся и увидел двух немцев, которые подбегали к нему с левой стороны. Двумя выстрелами он уложил их. Остальные разбежались.
Когда всё утихло, Кузьменко окликнул своего товарища. Но Петухов только тихо стонал. По-видимому, он уже был без сознания. Васька разорвал на себе рубаху и перевязал раны Петухова в боку и на шее. Потом он перевязал свою рану. Превозмогая сильную боль, Кузьменко с трудом взвалил на плечи грузного Петухова и медленно поплёлся в отряд.
Он шёл очень долго и часто уставал настолько, что боялся потерять сознание. Тогда он ложился навзничь, отдыхал, жадно глотая свежий морозный воздух, и вновь пускался в путь.
Когда он пришёл в отряд, было уже светло. Огромное багровое, только что вставшее солнце освещало стволы сосен, среди которых темнела знакомая фигура. Это была Галя, которая целую ночь в тревоге ждала их возвращения.
— Вася! — крикнула она в испуге, увидев, как он, шатаясь, бредёт из последних сил.
Но Кузьменко уже ничего не мог ответить девушке, он медленно повалился на землю, уронив с плеч тяжёлое тело Петухова.
Петухов и Кузьменко очнулись одновременно и вместе, как по команде, открыли глаза. Оба лежали в партизанском «госпитале», оборудованном в самой просторной и сухой землянке. Неяркое пламя приспущенной керосиновой лампы мягко освещало неровные, обшитые свежим тёсом стены землянки, некрашеный, но чистенький сосновый столик с лекарствами и две низкие, сколоченные из досок койки.
На табуретке, стоящей между двумя койками перед столиком, дремал, посапывая, партизанский доктор Эпштейн. Когда немцы подходили к городу, Эпштейну было предложено эвакуироваться. Но он наотрез отказался уехать из Зареченска, в котором врачевал почти сорок лет, знал наперечёт все семьи и был на «ты» с половиною жителей.
— Не поеду! — решительно заявил он в горкоме, куда его вызывали для переговоров. — Я здесь кум в каждом втором доме. На моих руках сотня больных, которых я не могу покинуть.
— А если город придётся оставить? — спросил секретарь горкома, отводя глаза в сторону.
— Я думаю, что и тогда мне найдётся работа. Но, разумеется, уже не в самом городе…
— Не понимаю, — попытался схитрить секретарь горкома. — Что, собственно, доктор, вы имеете в виду?
— Я имею в виду требования партии и правительства, — ответил Эпштейн. — В них весьма определённо сказано, чем должны заниматься советские люди в оккупированных районах. И секретарь горкома, конечно, хорошо помнит, что в этом докладе не сделано исключения для врачей. Короче говоря, мои шестьдесят с хвостиком отнюдь не повод для того, чтобы не зачислить меня в партизанский отряд.
— Всё ясно, — улыбнулся секретарь горкома. — Оставайтесь пока здесь.
И доктор Эпштейн остался, а затем вместе с партийным активом ушёл в отряд. Здесь он прежде всего наладил медицинскую часть: выбрал и оборудовал землянку, получившую громкое название «стационара», и стал тщательно оберегать здоровье бойцов отряда. Стоило кому-нибудь из партизан схватить насморк, как доктор немедля заводил на него подробную «историю болезни» и начинал мучить несчастного термометром, ядовитыми горчичниками и банками.
— Заразы не потерплю! — грохотал Эпштейн в ответ на их мольбы и стенания. — Грипп в этих условиях всё равно что чума. Как лицо, ответственное за медико-санитарное состояние отряда, не желаю входить в дискуссии с бациллоносителями. Изолировать в стационаре, а там видно будет.
Месяца через два старик с корнем ликвидировал всяческие следы гриппа и терроризировал партизанскую кухню требованиями строжайшей санитарии. Партизаны отменно поздоровели на свежем воздухе, отлично выглядели, не жаловались на печень и совершенно перестали чихать. Поле деятельности доктора Эпштейна катастрофически сокращалось, он скучал, осунулся, ходил с мрачным видом и, наконец, явился к командиру отряда.
— Что нового, доктор? — приветливо спросил его Попов. — Что за мрачный вид? Не обнаружены ли вспышки тропической малярии, индийской чумы или афганской холеры?
— Вы всё шутите, — возразил Эпштейн, — а мне, право, не до шуток. Впервые за последние сорок лет я чувствую себя бездельником. Клинического материала почти нет. И знаете, что я надумал?
— Признаться, нет.
— В немецких обозах нередко попадаются отличные медикаменты. Но наши люди не понимают в них ничего. Наличие на месте специалиста, как мне думается…
— Не хитрите, — перебил его Попов, — скажите прямо, что вам хочется разок пойти на операцию, и не подводите под это фармацевтической базы.
— А если хочется, так что за беда? — не сдавался старик. — Ну, хочется.
Начался спор. И, как ни упорствовал командир, Эпштейн настоял на своём. Взяв со старика честное слово, что он удовлетворится одной вылазкой, командир разрешил ему пойти на операцию. Эпштейн был послан с группой партизан заминировать полотно железной дороги. Доктору повезло: на обратном пути произошла небольшая перестрелка с немецким разъездом. Одним словом, получилось настоящее дело. Как рассказывал потом сам Эпштейн, он никогда ещё «не проводил такого содержательного вечера».
Таков был «партизанский доктор», мирно дремавший в тот момент, когда Петухов и Кузьменко пришли в себя.
Когда взгляды их встретились, они оба сразу вспомнили всё, что с ними произошло.
— Спасибо, браток, — коротко произнёс Петухов, стараясь не смотреть Ваське в лицо. — Спас ты меня, а сам, видать, тоже был ранен. Небось на себе тащил?
Кузьменко посмотрел на своего недавнего врага и мгновенно всем сердцем понял: всё, что стояло между ними в течение этих лет, рухнуло окончательно и навсегда, так что взаимной насторожённости и неприязни уже нет места.
— Рана болит? — спросил он, уклоняясь от ответа.
— Ноет немного, — ответил Петухов и хотел сказать ещё что-то, но вскочил проснувшийся доктор и закричал:
— Это что ещё за разговоры! Митинг в стационаре? Категорически запрещаю!.. Больные, вам предписан абсолютный покой, постельный режим и усиленное питание. А ну, повернуться спиной друг к другу!
Петухов и Кузьменко стали, ворча, поворачиваться на другой бок. В это мгновение послышались чьи-то лёгкие шаги, и Васька сразу почувствовал присутствие Гали.
— Ну, как дела, доктор? — тихо спросила девушка. — Когда же, наконец, он… они придут в себя?
— Он… простите, я хотел сказать — они… уже пришли в себя, — лукаво ответил Эпштейн. — Сейчас я разрешу им по очереди повернуться к вам лицом, ибо делать это одновременно им противопоказано.
Нужно заметить, что доктор Эпштейн давно уже отлично понимал, почему Галя путается в местоимениях и кого из двух пациентов ей хочется поскорее увидеть. Тем не менее Эпштейн произнёс, сохраняя всё то же серьёзное выражение лица:
— Товарищ Петухов, повернитесь лицом к товарищу Соболёвой.
— Есть повернуться к товарищу Соболёвой, — ответил вместо Петухова Кузьменко и резким движением повернулся лицом к Гале.
— Вася! — воскликнула девушка и, уже не будучи в силах сдержаться, бросилась к нему.
Петухов, который тоже успел повернуться, взглянул на доктора, почему-то подмигнул ему и с тяжёлым вздохом вновь отвернулся к стене. Скоро он притворился, что спит, и даже начал похрапывать.
Доктор Эпштейн в свою очередь вспомнил о «совершенно неотложном деле» и поспешно покинул землянку, строго бросив Гале:
— Пожалуйста, не оставляйте до моего прихода больного.
19. ПРОГУЛКА В ЗАРЕЧЕНСК
А через два месяца грянули морозы, стали реки, дороги замело сугробами; по утрам дымились инеем леса, по ночам протяжно пели вьюги — пришла зима.
Оккупанты в Зареченске зарылись в домах, как кроты. Они боялись высунуть нос на мороз и опасались выезжать за город в эти хмурые и опасные леса, в эти непонятные им, необъятные снежные пространства захваченной, но непокорённой земли.
Однажды вечером командир отряда вызвал к себе Кузьменко и сказал, что надо пробраться в город, разузнать, как идут там дела и какова численность немецкого гарнизона. Командир больше ничего не сказал, но по особой сосредоточенности его лица и сухости тона Кузьменко понял, что это не обычная разведка и что назревают большие события.
Командир приказал ему отправиться в город вместе с Галей, которую знали на подпольной явке.
— Долго там не задерживайтесь, — сказал командир на прощанье. — А главное — не лезьте на рожон.
Выйдя из командирской землянки, Кузьменко пошёл к Гале и передал ей полученное приказание. Он был уже совсем здоров и спокойно мог отправиться в далёкий путь.
На рассвете Галя и Кузьменко вышли на лыжах из леса.
Фиолетовая дымка стлалась над заснеженными полями, предвещая солнечное и морозное утро. Галя и Васька летели по крепкому насту, быстро оставляя за собою километры пути. Изредка Васька, шедший впереди, оборачивался к следовавшей за ним девушке и спрашивал, не устала ли она.
Часа через три они подошли к городу. Огромное солнце медленно поднималось из-за кромки горизонта, окрашивая поля в причудливые фантастические тона. Там и сям темнели перелески, словно догоравшая ночь ещё цеплялась за них. Кузьменко решил подойти к городу со стороны Зелёной горы. Галя согласилась с его решением. Они сделали последнюю остановку и передохнули несколько минут.
— Ну, двинулись, — сказал он, наконец, и пошёл вперёд. Галя тронулась за ним.
Вскоре они достигли Зелёной горы. Знакомая с детских лет прекрасная картина широко раскинулась перед ними. Справа, прильнув к подножию горы, безмятежно дремал городок. Слева, за снежной гладью озера, тянулись бескрайние поля, синевато-розовые просторы которых уже искрились в первых солнечных лучах. День ещё не настал как следует, а трубы на крышах уже дымились, и в тишине морозного утра ленивые столбы дыма стояли неподвижно, словно нарисованные на голубом полотне неба.
Кузьменко огляделся вокруг, как бы стремясь вобрать в себя эти просторы, весь этот мирный пейзаж.
А через минуту, подойдя к самому краю горы и проверив крепление своих лыж, Кузьменко сильно оттолкнулся и понёсся вниз. За ним ринулась Галя.
Через несколько минут они были на окраине городка, который уже начинал просыпаться.
В одном из домиков этой окраины находилась вторая партизанская явка, которую содержала Дарья Прохоровна Максимова, старая акушерка городской больницы.
Несмотря на то, что Дарье Прохоровне шёл уже седьмой десяток, она была ещё совсем бодра, не бросала работу и никогда не жаловалась на нездоровье. Её широкое добродушное лицо, её плотная, крепкая фигура, совершенно седые, серебристые волосы, которые только подчёркивали молодой блеск её глаз, смуглый румянец тугих, не по возрасту свежих щёк свидетельствовали о здоровой старости.
У Дарьи Прохоровны не было своих детей, но добрую половину города она принимала при рождении, всех их считала своими крестниками и любила, как собственных детей. Она не была членом партии, но когда Зареченск заняли немцы и понадобилась надёжная кандидатура для партизанской явки, то выбор остановился на Дарье Прохоровне. Когда ей сообщили об этом и спросили прямо, не страшно ли браться за такое дело, Дарья Прохоровна только усмехнулась и просто ответила:
— А то нет? Конечно, страшно. А рожать бабам разве не страшно? А ведь ничего, рожают… Страшно, да нужно.
Она деловито расспросила о подробностях, договорилась о способах связи, вызубрила на память пароли, не желая их записывать, и, уходя, сказала:
— А за то, что доверились старой бабке, благодарствую и век не забуду. Лестно, не буду скрывать, очень лестно.
Выбор оказался удачен: Дарья Прохоровна отлично справлялась со своими новыми обязанностями. Она оказалась великолепным конспиратором, была осторожна и предусмотрительна и, кроме того, не вызывала никаких подозрений. Когда Галя и Кузьменко появились на пороге домика акушерки, Дарья Прохоровна возилась у печи с ухватом. Она знала обоих со дня их рождения, но всё-таки, сделав непроницаемое выражение лица, спросила:
— Какая температура у роженицы?
— Тридцать семь и одна, — ответил Васька.
— Первые роды?
— Вторые.
— Кого ждёте: мальчика или девочку?.
— Родителям безразлично.
Удовлетворившись этим условным паролем, Дарья Прохоровна пригласила гостей в комнаты. Здесь она подробно изложила им все городские новости. Оказалось, что немцы по вечерам стараются не выходить на улицу, что гарнизон в городе не пополнялся и что Трубников продолжает восседать в «магистрате». Кузьменко спросил о судьбе священника. Дарья Прохоровна ответила, что Трубников, опасаясь мести народа, священника не выдал. Однако горожане для большей безопасности на следующий день после проповеди уговорили этого священника уехать в деревню, что он и сделал.
Рассказывая обо всём этом, Дарья Прохоровна быстро накрыла на стол, достала из старого буфета посуду, внесла из кухни пыхтящий самовар, а затем подала своим гостям свежие пышки, маринованные грибы и рыбу.
Галя и Васька, проголодавшиеся с дороги, поглощали всю эту снедь с аппетитом.
Поев, они стали совещаться о дальнейшем. Было решено покинуть город ночью, когда стемнеет. К тому времени Дарья Прохоровна взялась добыть ещё кое-какие сведения. Заперев Галю и Кузьменко в доме, старушка пошла по своим делам.
К вечеру Дарья Прохоровна вернулась и сообщила, что в городе всё спокойно. Немецкий гарнизон всё тот же, новые части за последнюю неделю в город не приходили. Комендант живёт на старой квартире и, как обычно, по вечерам старается не выходить на улицу. Патрульную службу в самом городе несут немцы, а у застав дежурят главным образом постовые из «русской полиции».
Получив все эти данные, Галя и Васька дождались наступления темноты и осторожно выбрались из города.
Через три дня, вечером, бургомистр Трубников вышел из «магистрата», направляясь к себе домой. На улицах было уже пустынно. Под ногами поскрипывал снег. Трубников поднял воротник: было морозно.
На базарной площади навстречу ему попался длинный крестьянский обоз с сеном.
Трубников подошёл к первому возу и спросил:
— Кто такие, куда едете?
— До коменданта, сено везём по наряду, — спокойно ответил парень, шагавший рядом с дровнями.
Трубников, сам не зная почему, осветил лицо парня электрическим фонариком и хотел было спросить у него документы, но слова застряли в горле: перед ним стоял Кузьменко.
Не успел он произнести и слова, как Васька оглушил его страшным ударом в висок. Через мгновение Трубников был связан и положен на дровни, под копну сена, откуда вылезли двое партизан.
Из других саней длинного обоза тоже стали вылезать спрятанные в сене люди. В сумрачное небо с треском взлетела зелёная ракета. И сразу со всех концов застучали пулемёты, закуковали автоматные короткие очереди, загремели взрывы ручных гранат. Полуодетые захватчики, испуганно выскочившие из здания школы, не успели даже крикнуть своё традиционное «Гитлер капут» — они были мгновенно убиты. Тучный комендант выскочил в одном белье из своего особняка, с маузером в руках, но его навеки успокоила партизанская пуля.
А через два часа в здании горкома уже заседала тройка по восстановлению в городе советской власти.
Председатель тройки — командир партизанского отряда, он же секретарь Зареченского горкома, — позвонил в колокольчик и привычно начал:
— Заседание объявляю открытым. Полагаю, что кворум имеется…
Он остановился и невольно улыбнулся: кворум действительно был налицо. Кабинет, все соседние комнаты, коридор, крыльцо дома были до отказа наполнены народом. Улица была черна от густой толпы. Сбежавшиеся со всех сторон жители напирали друг на друга; мальчишки гроздьями свисали с ветвей деревьев.
В дремучих лесах Белоруссии Плотников и переехавшая к нему Шура продолжали свою партизанскую деятельность. Вместе работали в отряде, вместе ходили в разведку, вместе не раз принимали участие в боевых делах партизан. Так прошло полтора года.
Отряд, в котором они состояли, оперировал в районе Гомеля. Топкие, почти непроходимые леса служили великолепным убежищем для партизан. В каждой деревушке, в каждом селе, в каждом местечке отряд имел надёжных людей, с которыми поддерживал постоянную связь. Командир отряда Глухов, уже не молодой молчаливый человек с отёчным лицом почечного больного, полюбил Плотникова и Шуру, как родных детей. Его единственный сын Сергей был на фронте, и Глухов давно не имея о нём никаких известий. По вечерам, играя с Плотниковым в шашки или совещаясь с ним о деталях очередной операции, ловя сосредоточенный взгляд Плотникова, слыша его голос, его заразительный смех и видя, как он, задумываясь, смешно, совсем по-детски, морщит лоб, Глухов ловил себя на мысли, что Плотников чем-то напоминал ему Сергея.
Осень 1943 года активизировала деятельность партизан. Долгие ночи и грязь на дорогах облегчали налёты на немецкие обозы и диверсии на железнодорожных путях. Плотников, отлично усвоивший подрывное дело, считался в отряде специалистом по организации железнодорожных катастроф. Не один немецкий эшелон с грузами пустил он за это время под откос.
Отличная связь с местным населением обеспечивала партизанам хорошую информацию о железнодорожных перевозках немецких военных грузов. Поэтому взрывалось именно то, что было нужно, и тогда, когда было нужно. Немецкая полевая жандармерия и отряды гестапо сбились с ног, пытаясь выяснить, откуда у партизан такая точная информация, но так и не добились толку.
В последние дни партизаны получили сведения, что немцы подготавливают следование эшелона с особо секретным грузом, имеющим исключительную ценность. Это можно было заключить из того, что немцы резко усилили охрану железнодорожных мостов и полотна на участке Минск — Гомель. Сотрудники гестапо начали непрерывно дежурить на железнодорожных станциях. Были тщательно проверены все семафоры, стрелки, шпалы. День следования маршрута, для которого проводились все эти мероприятия, сохранялся в строгой тайне.
Глухов мобилизовал все возможности, чтобы выяснить, в чём дело. Ежедневно десятки партизан и партизанок уходили в разведку, встречались с железнодорожниками и возвращались с одним и тем же результатом: идёт невиданная подготовка участка пути, но когда именно и с каким грузом проследует таинственный эшелон — никому не известно.
Учитывая усиленную охрану, выставленную немцами в эти дни на участке Минск — Гомель, нечего было и думать о минировании полотна, тем более что дважды в сутки специально прибывшие немецкие специалисты проверяли все секторы участка; кроме того, немцы ввели непрерывные подвижные патрули на автодрезинах. Глухов ломал себе голову, стремясь найти выход. И, как всегда, в случаях, требующих особой находчивости, он обратился к Плотникову. Они просидели вдвоём несколько часов, обсудили все варианты и взвесили все возможности. Наконец, Плотников сказал:
— Вот что, Иван Семёнович! Сколько бы мы здесь ни думали, толку не будет. Тут дело такое: надо на риск идти. Пошлите меня.
— Куда? — спросил Глухов.
— Не знаю. Надо идти и решить на месте. Лучше всего, по-моему, к разъезду Скворцово. Там глушь, лес рядом, можно пару дней укрываться. А за это время, может быть, удастся разгадать загадку.
Глухов задумался. Плотников был в сущности прав. Правда, жаль было рисковать одним из лучших людей, но иного выхода не было.
— Один пойдёшь? — спросил он, тем самым давая согласие на предложение Плотникова.
— Да, — ответил тот. — Тут лишний человек только обуза. Да и пробраться вдвоём будет труднее.
Решили, что в тот же вечер Плотников направится в Скворцово. В течение оставшихся ему немногих часов он запаковал взрывчатку в портативную оболочку, отобрал себе в путь несколько «мадьярок» — маленьких трофейных мин — и продукты на несколько дней. Шура, привыкшая к тому, что Плотников всегда брал её с собой, удивилась, узнав, что на этот раз он решил пойти один.
Плотников объяснил ей, почему он решил обойтись без неё. Она признала, что он прав, хотя в глубине души ей очень не хотелось отпускать его одного.
Поздней ночью Плотников добрался до Скворцова — глухого разъезда, отдалённого от населённых пунктов. Сырая осенняя ночь словно потопила в чёрном лаке маленький домик путевого сторожа. Тусклый фонарь, раскачиваемый резкими порывами ветра, был не в силах пробить ночной мрак и лишь на мгновение вырывал из него то поблёскивавший кусок рельсов, то мокрые шпалы, то горку гравия, предназначенного для ремонта пути. Плотников прислушался: где-то вдалеке тревожно ревела сирена автодрезины. Рёв этот всё нарастал. Вскоре стал слышен стук приближающейся дрезины и показались зеленоватые огни её фар, горевшие в темноте, как глаза хищного животного. Плотников прыгнул в глубокую канаву, вырытую вдоль железнодорожной насыпи, и растянулся на дне. Дрезина подошла к разъезду и остановилась почти у того самого места, где лежал Плотников. Судя по тому, что мотор не заглушили, дрезина остановилась ненадолго. В дрезине ехал патруль. Плотников отчётливо расслышал немецкие слова, а затем протяжно заревела сирена — это вызывали сторожа. Он вскоре вышел, и один из немцев заговорил с ним на ломаном русском языке.
— Ну, что есть нового? — спросил немец.
— Да какие ж новости, господин офицер? — ответил сторож. — Всего час прошёл, как вы тут были: много ли за час могло приключиться? Вот дождь прошёл…
— Какие-нибудь люди не проходили?
— Откуда им взяться, людям-то? Сами видите, какая тут глушь. Здесь не то что людей — волка не увидишь: такое уж завидное место, прости ты, господи…
— Ну ты, сторож, смотри, это очень важный есть приказ. Будешь смотреть, будешь не спать — будешь потом иметь награда.
Покорно благодарим, господин офицер.
— Через час опять приедем. Смотри не зевай!
Дрезина зарычала и умчалась. Потом зашуршал гравий под ногами сторожа, уходившего к себе в домик, и опять наступила ночная тишина, только подчёркиваемая завыванием ветра и скрипом раскачиваемого ветром фонаря.
Плотников вылез из канавы, отряхиваясь, как мокрый пудель. Вода забралась в сапоги, под ватник, в рукава — всюду. Надо было торопиться закладывать мину, так как немцы могли скоро вернуться. Он отошёл от разъезда шагов на сто, вынул маленький лом и начал выворачивать шпалу. Вырыв под ней ямку для мины, он стал осторожно её утрамбовывать. Едва он закончил работу, как донёсся рёв дрезины, возвращавшейся обратно. Плотников снова нырнул в канаву. Дрезина опять остановилась у разъезда на мгновение, потом поехала дальше и скрылась в темноте. Можно было предполагать, что через час она снова вернётся и так всю ночь будет объезжать участок. Это осложняло задачу, так как Плотникову нужно было взорвать таинственный поезд, а вовсе не дрезину. Следовательно, пока нельзя было прилаживать к мине запал. Сделать это можно было, лишь убедившись в том, что идёт, наконец, поезд, а не дрезина.
Возникала другая трудность: отличить поезд от дрезины Плотников мог только по шуму в момент его приближения. Значит, в его распоряжении оставались считанные секунды, в течение которых нужно было успеть приладить запал и самому отбежать на достаточное расстояние. И, наконец, не было уверенности в том, что этот проклятый поезд пройдёт ночью, а не днём, когда проделать всё это будет уже немыслимо. Судя по всему, немцы придавали этому поезду совершенно особое значение, и вряд ли они стали бы пропускать его ночью.
Пока Плотников размышлял обо всём этом, время шло. Патрульная дрезина ещё раз проехала мимо разъезда, а поезда всё не было. Прилаживать запал было бессмысленно. Так, в напряжённом ожидании, летело время. Незаметно стала таять темнота. Горизонт начал светлеть: наступало утро.
Оставаться дальше у полотна железной дороги было опасно. Плотников решил скрыться в лесу, немного передохнуть там после бессонной ночи и продумать, как быть дальше. Тщательно замаскировав гравием следы своей ночной работы и запомнив место, где была зарыта мина, он двинулся в глубь леса, захватив с собой пружину и запал.
Пройдя километров пять, он наткнулся на сухую полянку, выбрал себе с краю местечко поуютнее, натаскал туда хворосту и листьев и через минуту заснул, как в детстве, беспечно и крепко.
Он проспал часов пять и проснулся от детских голосов. Протерев ещё сонные глаза, он увидел группу крестьянских детей, игравших на полянке. Очевидно, где-то недалеко была деревня.
Играли несколько мальчиков в возрасте от восьми до десяти лет. Дети не видели Плотникова, лежавшего за деревом и большой кучей хвороста. Они играли в войну. Плотников с интересом наблюдал за ними. Очень скоро он понял, что перед ним происходит добровольная сдача в плен немецкого фельдмаршала фон Паулюса и вообще на полянке разыгрывается финал сталинградской битвы. Удивлённый, что здесь, в оккупированном районе, крестьянские дети настолько в курсе военных событий, Плотников с интересом следил за их игрой. Генерал-фельдмаршал фон Паулюс шёл сдаваться в плен, тяжело ступая и низко опустив голову. У фельдмаршала было скорбное лицо. Его сопровождали два красноармейца с винтовками, выстроганными из деревянных палок. Винтовки они держали наперевес и не спускали глаз с фельдмаршала, по-видимому опасаясь, как бы он в последний момент не задал драпу. На противоположной стороне поляны стоял на бревне командующий фронтом Рокоссовский. Подойдя к нему, фон Паулюс вытянулся, щёлкнул босыми пятками (вообще весь генералитет, несмотря на осень, был без обуви) и взял под козырёк. Рокоссовский после многозначительной паузы прищурился и тихо сказал:
— Пожалуйте, пожалуйте. Давно вас поджидаем, герр фельдмаршал фон Паулюс. Русские прусских всегда бивали.
Неизвестно, чем закончился бы этот исторический разговор, если бы на полянку не выбежала неожиданно какая-то девочка, которая закричала, обращаясь к Рокоссовскому:
— Мишка, мамка сказала, чтоб сей минут шёл кашу есть, а то она с тебя штаны спустит…
Командующий фронтом досадливо шмыгнул носом и, лихо сплюнув в сторону, проворчал:
— Одно слово, бабы! Тут сталинградскую операцию завершаем, а вы со своей кашей!.. Ладно, счас приду.
Девочка убежала. Рокоссовский снял с себя ушастый шлем со звездой, то же самое сделали остальные ребятишки. Все стали прятать свои доспехи под бревно. В этот момент Плотников вышел на полянку. Дети, разинув от неожиданности рты, молча смотрели на него.
— Не бойтесь, ребята, я свой, — сказал Плотников и спокойно закурил. — Далеко ли отсюда живёте?
— С версту будет, — ответил Рокоссовский. — А тебе какое дело?
— В Сталинград играете? — спросил Плотников. — Так, так. Люди кровь проливают, на фронте с немцами бьются, а вы, как маленькие, играми занимаетесь. Оно, конечно, спокойнее… Рокоссовский, твой батька где? Небось фашистам прислуживает?
— Мой батька в Советской Армии, а не у фашистов, — возразил мальчик. — И брат тоже на фронте. Что же ты зря говоришь?
— И мой: И мой! — закричали наперебой остальные ребята.
— Тогда извините: не угадал. А я думал, что вы за фрицев.
— Ты-то сам за кого? — перебил Плотникова Рокоссовский. — Разговорился! За фрицев, за фрицев… Чего тебе здесь надо?
Вопрос был поставлен в лоб. Плотников посмотрел на ребятишек, на их босые, посиневшие ноги и пытливые глаза, посмотрел, подумал и решился.
— Вот что, ребята, — сказал он. — Так и быть, я вам откроюсь. Скажу, зачем я здесь и почему. Вы уже не маленькие, я вам доверяюсь. Я, ребята, партизан. И нахожусь здесь со специальным заданием. Если вы честные парни, не трусы, не плаксы, помогите, а если маменькины сынки, болтуны, — вы мне не компания.
— Ну, а чем помочь-то? Оружие если, так у нас есть.
— Какое оружие? Чего ты врёшь? — рассердился Плотников.
— А то нет! Раз говорю есть, значит есть!
— Да откуда оно у вас взялось?
— Откуда, откуда! Вот, смотри!
Ребята, дружно навалившись, с трудом отодвинули толстое бревно, под которым оказалась хорошо замаскированная яма. В ней, к великому удивлению Плотникова, действительно лежали настоящие немецкие автоматы, гранаты и патроны. Как потом объяснили Плотникову мальчики, они раздобыли это оружие ещё в 1941 году, подбирая его в различных местах, где происходили бои. Оружие это дети хранили тайком от взрослых и, что особенно удивило Плотникова, великолепно его освоили. Они тут же мгновенно разобрали и собрали по частям автомат, показали гранаты трёх систем и объяснили разницу в их устройстве. На вопрос, зачем они хранят это оружие, ребята ответили, что, во-первых, они пустят в ход его против гитлеровцев, когда подойдёт Советская Армия, во-вторых, это вообще интересно.
Разговор затянулся и принял непринуждённый характер. Потом Мишка, вспомнив о материнской угрозе, сбегал домой, оставив Плотникова с товарищами, но вскоре возвратился. Когда Плотников спросил его, не разболтал ли он дома об их знакомстве, Миша обидчиво ответил:
— Что я, девчонка, что ли, языком трепать?
Убедившись, что имеет дело с надёжным народом, Плотников посвятил ребят в существо своей задачи. Он решил привлечь их к делу, использовав мальчиков для дневной разведки. Появление детей у железнодорожного полотна, естественно, не могло вызвать особых подозрений.
Когда он объяснил ребятам, что от них требуется, они восторженно приняли его предложение. Было решено, что трое мальчиков пойдут в разведку, Мишка будет дежурить у места, где зарыта мина, и при приближении поезда подаст знак Плотникову, который будет прятаться в лесу, непосредственно примыкающем к железнодорожному полотну.
Сумрачный осенний день стоял над лесом, в котором залёг Плотников, не сводя глаз с маленькой фигурки Мишки, разгуливавшего у самого полотна железной дороги. Остальные ребятишки ещё не вернулись с разведки. За те два часа, что Плотников и Мишка дежурили на своих местах, немецкая патрульная дрезина проехала мимо два раза. В первый раз немцы не обратили внимания на крестьянского мальчика, бродившего с лукошком в руке вдоль железной дороги. Во второй раз Мишка, заслышав стук приближающейся дрезины, залёг в канаве и вообще не был замечен.
Лёжа на влажной земле, Плотников вдруг услыхал далёкий, неясный шум. Отсюда, из лесу, было трудно определить по шуму, идёт ли это дрезина или поезд. Плотников напряжённо вглядывался в то место, где стоял Мишка. Мгновение — и Мишкино лукошко, как было условлено, взлетело вверх. Приближался поезд, была дорога каждая секунда. Плотников вскочил и бросился изо всех сил бежать к мине. Пружину и запал он держал в руках. Прыгнув на полотно, он мгновенно разрыл гравий, поставил запал и приладил пружину. Поезд, который шёл с большой скоростью, уже показался из-за поворота рельсовых путей. Пыхтящий паровоз, грозно постукивая на стыках, шёл прямо на Плотникова. Мишка, как ему и следовало поступить, успел за эти несколько секунд убежать в лес, откуда, задыхаясь от волнения, следил за событиями. В самую последнюю минуту Плотников успел отбежать от полотна железной дороги. Не оборачиваясь, огромными прыжками он бросился в лес. В тот самый миг, когда он достиг, наконец, опушки леса, раздался страшный взрыв, от которого задрожала земля. Плотников с размаху бросился наземь. Через короткое время раздался второй взрыв, за ним третий, четвёртый, и началось нечто невообразимое. По количеству взрывов, следовавших один за другим, по огромному столбу чёрного дыма, заслонившему место происшествия, и по перемежающемуся треску Плотников понял, что взорван большой эшелон с боеприпасами, среди которых есть и фугасные бомбы и артиллерийские снаряды.
Когда всё было кончено и дым немного рассеялся, Плотников и Мишка выбежали на полотно. Надо было спешить, так как скоро мог подоспеть аварийный поезд. Вдоль развороченной железнодорожной насыпи валялись обломки товарных вагонов; вздыбившийся паровоз стоял, как огромная чёрная свеча. Среди обломков валялись обожжённые, изуродованные трупы.
Определив, что в эшелоне было примерно семьдесят товарных вагонов, Плотников направился в обратный путь. Мишка провожал его несколько километров. Потом Плотников остановился, молча обнял мальчика, поцеловал его и сказал:
— Ну, спасибо, Рокоссовский! Выполнили мы с тобой задание. Теперь можешь играть дальше.
— Не буду играть больше, — тихо ответил Мишка. — Я теперь партизаном хочу быть. Всамделишно фашистов бить.
— Подожди, — ответил ему Плотников. — И это придёт. Пока играй. Оружие ваше берегите, оно ещё пригодится. Погоди, будем фашистов бить, Рокоссовский. Жди только моего сигнала. А я, брат, ещё приду. Ты найди пока ребятишек понадёжнее да с ними работу проведи. Словом, назначаю тебя здесь нашим ребячьим уполномоченным. Понял?
— Понял, — ответил Мишка.
— Ну вот и всё. Пока меня нет, вы только играйте. Приду — вместе работать будем. Без меня ничего делать не смейте!
— Есть без вас ничего не делать! — вытянулся Мишка. — Ждём до вашего прихода!
— Правильно! — коротко и нарочито резко произнёс Плотников и зашагал к себе.
Он вернулся в отряд уже к вечеру. Километра за два до стоянки отряда он наткнулся на Шуру, беспокойно бродившую взад-вперёд по тропинке. Она поджидала его.
20. В БЕРЛОГЕ ЗВЕРЯ
Господин Отто фон Бургет, начальник русского отдела гестапо, довольно приветливо встретил Амосова, предложил ему сигару и выразил своё удовольствие лично видеть его.
— Весьма рад познакомиться с вами, герр Шпейер, — сказал он, внимательно разглядывая Амосова. — Не так уж много старых работников германской разведки осталось в нашей системе. Ну, а таких, как вы, столько лет проживших в России, и того меньше.
Амосов поблагодарил господина начальника за внимание и предоставленную ему возможность побывать в родном Берлине. Затем по просьбе Бургета он подробно рассказал ему о том, как в 1911 году был откомандирован в военную разведку, окончил специальную школу и направлен в Гатчино, чтобы собрать данные о первом в мире многомоторном самолёте «Илья Муромец».
Амосов долго разговаривал в этот день с Бургетом, который очень внимательно слушал, делая изредка какие-то записи в своём блокноте. В конце беседы Бургет предложил Амосову отдохнуть месяц-другой, познакомиться за это время с Берлином, а уж потом приступить к работе.
— Вам надо месяца три поработать у нас, — сказал он. — За это время вы ознакомитесь с нашей системой — в ней много нового, а также с современной диверсионной техникой, радиоаппаратурой и прочим. Всё это очень вам пригодится, герр Шпейер. А затем снова вернётесь в вашу милую Россию. Пока ещё не решено, какая именно работа будет вам поручена, это во многом зависит, сами понимаете, от положения на фронте. Во всяком случае, мы учтём и ваш многолетний опыт и ваши пожелания. А пока отдыхайте, развлекайтесь, наслаждайтесь воздухом Германии.
На этом закончился их первый разговор. Амосов стал «отдыхать». Он продолжал жить в той же гостинице и ежедневно совершал большие прогулки по Берлину и его окрестностям. Он приглядывался к жизни города, настроениям людей, организации системы снабжения, торговли, внутренней пропаганды.
В Берлине было уныло.
С Восточного фронта непрерывно приходили поезда с ранеными. Власти, не желая, чтобы население знало об этих бесконечных эшелонах, дали указание принимать поезда с ранеными только по ночам. Но, несмотря на все принятые меры, берлинцы узнавали об этом страшном потоке, хлынувшем с востока. Через медицинский персонал военных госпиталей, санитаров, врачей, шофёров автобусов, перевозивших раненых, население узнало о страшных потерях на фронте. Правда, об этом передавали друг другу по секрету, шёпотом, на ухо, с оглядкой, но шёпот этот заглушал трескучие немецкие марши, непрерывно передаваемые по радио, и истошные вопли фюрера, время от времени поздравлявшего Германию с «историческими победами немецкого оружия».
Амосов всё больше узнавал жизнь в гитлеровской Германии. Но главное было, конечно, впереди, и он с нетерпением ждал того дня, когда явится в гестапо и приступит к работе, о которой говорил ему Бургет.
Наконец, этот день наступил. Амосов точно в назначенный час явился в гестапо.
— Ну, как вы отдыхали? — спросил его Бургет, по обыкновению внимательно его разглядывая. — Мне кажется, вы много гуляли, ездили по городу, набирались впечатлений?
— Совершенно верно, господин фон Бургет, — ответил Амосов, который несколько раз замечал, что состоит под наблюдением и что по его пятам нередко следует «хвост».
И он очень точно рассказал Бургету о всех своих прогулках и путешествиях по окрестностям Берлина. Однажды он даже специально выехал в Брауншвейг, где когда-то обучался в военной памяти фельдмаршала Мольтке школе. Школа эта сама по себе мало интересовала Амосова, но он хотел этой поездкой создать впечатление человека, которого неодолимо тянет к местам, где прошла его молодость. И поэтому, приехав в Брауншвейг и заметив, что и на этот раз за ним установлено наблюдение, Амосов с лирическим видом человека, приехавшего уже в пожилом возрасте в город своей юности, ходил по улицам Брауншвейга, грустил на скамейках парка, долго стоял перед зданием военной школы и даже раза два вытирал платком глаза — это было вполне в немецком духе.
Вот и теперь, рассказывая Бургету, как он проводил отпуск, Амосов не преминул сообщить и о своей поездке в Брауншвейг и о «грустных, но сладких воспоминаниях, которые овладели сердцем», когда он там побывал.
Бургет одобрительно покачивал головой, — всё, что теперь рассказывал ему Амосов, вполне сходилось с данными наружного наблюдения, которое было за Амосовым установлено именно по приказу господина Бургета. Правда, он сделал это не потому, что сомневался в личности этого человека, — напротив, ни на минуту не сомневался он, что имеет дело именное Гансом Шпейером, — но он считал необходимым понаблюдать за поведением человека, который столько лет прожил в России и мог за это время изменить свои убеждения и свою службу.
Но то, что Амосов в течение месяца не имел ни одной подозрительной встречи, что его прогулки сами по себе не вызывали никаких сомнений, так как были вполне естественны для немца, так много лет отсутствовавшего и жившего на чужбине, наконец и его поездка в Брауншвейг, освещённая особенно подробно в донесениях филёров, которые вели за ним наблюдение, — всё окончательно убедило осторожного господина Бургета в том, что Амосову можно вполне доверять.
И он приказал своим помощникам допустить господина Шпейера к материалам русского отдела гестапо. Амосов приступил к работе.
Он работал много, по десять-двенадцать часов в день, чтобы поскорее выполнить задание и вернуться на родину. Он торопился потому, что отдавал себе отчёт в том, как дорог каждый день, каждый час, каждая минута. Там — «дома», как мысленно с любовью и нежностью называл он свою родину, — было очень трудно в тот год. Значительная часть страны ещё была оккупирована врагом, на протяжении огромного тысячекилометрового фронта шли грандиозные сражения, каких не знала военная история. В тылу люди работали не покладая рук, создавая необходимые припасы для армии, новое оружие, огромные количества танков, самолётов, артиллерии. В этих условиях было особенно важно разоблачить вражескую агентуру, предотвратить возможность диверсий на транспорте, в военной промышленности, на предприятиях, питающих фронт.
По ночам, долго не засыпая в своей пышной постели в отеле «Адлон», Амосов скрежетал зубами от мучительного сознания, что ценные сведения, которые ему уже удалось собрать, он ещё не имеет возможности передать «домой», потому что, в целях предосторожности, он, конечно, не был снабжён рацией и не имел права связываться в Берлине с кем бы то ни было, чтобы не провалить ни себя, ни тех, кто выполнял там задания помимо него.
С одной стороны, по тем же мотивам он не имел права ничем обнаружить своего нетерпения и, с другой стороны, должен был использовать все возможности своей работы в гестапо до конца.
…Работа Амосова подходила к концу, и уже близился день его отъезда из Берлина. Всё, что он прочёл за это время, изучая тома донесений, карты, схемы и дислокации точек немецкой разведки, её шифры и условные обозначения, представляло первостепенный интерес. Амосов по существу тщательно изучил сложную паутину гитлеровской разведки, её ближайшие планы и методы работы.
Особый интерес представляли с разведывательной точки зрения донесения с Восточного фронта. Почти во всех этих донесениях содержались жалобы на трудности работы, нежелание советских людей работать с немцами, специфику местных условий и отличную осведомлённость советской контрразведки, очень активно работавшей даже в оккупированных немцами районах. В советском тылу агенты гитлеровской разведки проваливались один за другим, что в значительной мере объяснялось тем, что советские люди активно помогали органам безопасности в разоблачении вражеской агентуры и борьбе со шпионами и диверсантами. Парашютисты, выбрасываемые в советских районах, обычно вылавливались самим населением, хорошо работали созданные истребительные отряды.
Оккупантам причиняли огромный ущерб и партизаны, работавшие буквально под самым носом у немцев, имевшие широкие связи среди населения и проводившие свою работу, несмотря на все принятые немецкими властями меры, карательные экспедиции и походы.
Эти донесения доставляли огромную радость Амосову, но важнее для него были документы, касающиеся дислокации агентуры и планов разведки.
Наконец, наступил долгожданный день, когда его вызвал фон Бургет.
— Добрый день, господин Шпейер, — сказал фон Бургет, любезно улыбаясь. — У меня имеется для вас приятный сюрприз. Сегодня нашли, наконец, в архиве бывшей военной разведки ваше личное дело. Теперь могу вам сказать, что мы даже думали, что оно уничтожено, потому что в течение долгого времени не могли его разыскать. Дело в том, что после Версальского договора часть архива военной разведки была уничтожена, а часть так рассредоточена в разных уголках Германии, что её трудно было найти. Но вот на днях в Шлезингере обнаружили часть старого архива, и там оказалось, в частности, личное дело Ганса Шпейера. Вот оно.
И Бургет показал Амосову чёрную коленкоровую папку.
— Вот ваша молодость, герр Шпейер, — сказал он. — Ваши фотографии, снятые в том счастливом и, увы, неповторимом возрасте, ваши первые донесения, даже ваши письма, написанные вами лично…
Амосов похолодел. Что это — дьявольская игра, хитро задуманное испытание, катастрофа?
Огромным напряжением воли он заставил себя изобразить радостную улыбку.
— Боже, какое счастье! — воскликнул он. — Неужели сохранились даже мои первые донесения?
— Вот они, — сказал Бургет, раскрывая папку. — Сейчас мы вместе их почитаем. Я понимаю вашу радость, дорогой Шпейер. Нет ничего увлекательнее и счастливее, нежели ожившие дни юности.
Он сел рядом с Амосовым и стал перелистывать папку. На первом листе объёмистого дела была наклеена выцветшая от времени фотография совсем юного лейтенанта Ганса Шпейера, окончившего в 1911 году брауншвейгскую военную памяти фельдмаршала Мольтке школу.
— Вам было тогда двадцать лет, Шпейер, — лирически произнёс Бургет. — Посмотрим же, сильно ли вы изменились…
И Бургет, резко повернувшись, уставился своим острым, цепким взглядом прямо в лицо сидящего рядом с ним Амосова.
Амосов с почтительной улыбкой спокойно встретил его взгляд.
21. В КОМАНДИРОВКЕ
Всё обошлось благополучно. Фотография юного Шпейера, имевшаяся в его личном деле, была рассмотрена Амосовым с неподдельным интересом. В свою очередь и начальник русского отдела с любопытством долго смотрел сначала на фотографию, а затем на Амосова.
— Да, время несколько изменило вашу внешность, — сказал он.
— Тридцать лет… И притом столько лет на чужбине, под маской, в глуши, — добавил Амосов.
Поблагодарив начальника за внимание, Амосов ушёл, захватив с собой личное дело Шпейера. На досуге он внимательно изучил его и лишний раз убедился, что Шарапов рассказывал правду. История Шпейера-Шарапова, начавшаяся на выпускном балу брауншвейгской офицерской школы, его работа в дореволюционном Петербурге, гатчинская эпопея — словом, решительно всё, что показал на следствии Шарапов, соответствовало данным его личного дела, собранным в этом деле донесениям, рапортам, приказам, заданиям. Ничего нового ознакомление с личным делом Шпейера Амосову не дало.
В этом смысле гораздо больший интерес для Амосова представляла его повседневная работа в русском отделе, дававшая ему возможность детально ознакомиться с методами работы германской разведки и её опорными точками в ряде районов советско-германского фронта. Дислокация немецких разведывательных школ, в которых шла подготовка шпионов и диверсантов, методы вербовки, техника связи и оповещения, новые шифры и коды, применяемые агентурой, — всё это представляло собой ценнейшие данные, которые Амосов поглощал с жадностью, умилявшей его «начальство».
— Как изумительно старателен и работоспособен этот человек, — говорил об Амосове начальник русского отдела.
— Да, старые кадры германской разведки были отлично воспитаны, — отмечали «сослуживцы» Амосова.
Так прошло несколько месяцев. Амосов начал подумывать, что пришла пора выбираться из Берлина домой и приступить к реализации собранных сведений.
Однажды после очередного доклада начальнику русского отдела он попросил, чтобы его направили на работу.
— Я достаточно отдохнул, господин начальник, — сказал Амосов. — Кроме того, моя переподготовка, успешно проходившая благодаря вашему содействию, близится к концу. Не пора ли мне выехать на фронт?
— Пожалуй, я с вами согласен, — ответил начальник. — Я не хотел проявлять в этом вопросе инициативу, так как считал, что вы имеете право жить в Берлине столько, сколько вам хочется… Но раз вы сами заговорили на эту тему, то, что ж, в добрый час!
Речь пошла о работе. Амосову было предложено выехать в Финляндию, а оттуда в северный район Восточного фронта.
— Нас интересуют северные порты СССР, — сказал начальник. — Именно эти порты представляют для русских большое значение: оттуда получаются грузы от союзников. Здесь огромное поле деятельности для вас: диверсионная работа в самих портах, собирание данных о количествах и характере поступающих грузов, наконец установление дат и маршрутов прибывающих и уходящих караванов судов, что необходимо для ориентировки наших подводных лодок, — одним словом, есть над чем поработать.
Амосов выслушал указания и советы начальника и выразил благодарность за доверие и за предоставление ему интересной работы.
— Меня вполне устраивает ваше предложение, — сказал он. — Я сам чувствую, что на севере Восточного фронта есть над чем поработать и в чём себя проявить. Но я просил бы, если это возможно, разрешить мне сначала заехать в Зареченск. Мне очень хочется побывать на своей старой базе. Кроме того, я хотел бы ликвидировать некоторые мелкие личные дела. Это займёт у меня не более двух недель, а затем я вернусь и отправлюсь в Финляндию.
Начальник русского отдела согласился. Амосову эта поездка в Зареченск была крайне важна, так как он рассчитывал использовать её для передачи собранных данных.
Что же касается предложения поехать на север, то оно таило в себе соблазнительные возможности, но сначала надо было «разгрузиться» от берлинских впечатлений и материалов.
«Сперва надо информировать наших, — думал Амосов, — тем более что некоторые данные могут быть немедленно использованы. В Зареченске я найду способ связаться с нашими и запросить указаний в связи с работой на севере. Ведь можно в значительной мере обезвредить немецкие подводные лодки, оперирующие против караванов союзников…»
Через два дня, снабжённый всеми документами и полномочиями, Амосов выехал из Берлина на фронт.
Вскоре Амосов вернулся в Москву.
Месяцы, проведённые Амосовым в русском отделе, не прошли даром. В Берлине с ужасом узнавали о провале одной точки за другой. Агентура, с таким трудом насаждённая в прифронтовые районы, была поразительно быстро ликвидирована советской контрразведкой. И только «племянник Миша», оставшийся в своё время в Зареченске, пропал неизвестно куда. Амосов не забыл о «племяннике», подозревая, что он, как и прежде, находится где-то в Москве, или, вернее всего, под Москвой. «Племянника» искали.
Однажды летом Амосов выехал за город. В электричке на Северной железной дороге, как всегда, было много народу. Амосов стоял в тамбуре вагона, просматривая газету. Рядом с ним стояли школьники, девушки, пожилые служащие — все они с граблями и лопатами ехали на коллективные огороды. Мелькали подмосковные леса, поляны и дачи. Всюду, начиная от полотна железной дороги, копошились люди. Каждый клочок земли был распахан под огород. Трудовая Москва все выходные дни, все часы, свободные от служебных обязанностей, дружно работала на огородах.
На одной из станций из вагона вышло много народу, и стало гораздо свободнее. Амосов занял место на скамейке и снова погрузился в газету. Внезапно он почувствовал на себе чужой взгляд. Подняв голову, Амосов увидел «племянника Мишу», который стоял неподалёку, с лопатой, в сером коломянковом костюме. Сомнений не было — это было его длинное остзейское лицо, его тусклые глаза. Амосов радостно улыбнулся и бросился ему навстречу.
— Миша! — крикнул Амосов. — Сколько лет, сколько зим!
— Дядюшка! — завопил «Миша», тоже радостно улыбаясь.
На глазах у пассажиров они обнялись. Амосов соображал, как ему быть дальше. Задержать сейчас «племянника» не имело смысла, так как надо было сначала выяснить, где он живёт, с кем связан и т. п.
Завязался разговор. На ближайшей остановке «Миша» и Амосов вышли из вагона. «Миша» сказал, что он живёт поблизости, в дачном посёлке. Он пригласил Амосова к себе и стал расспрашивать, давно ли тот в Москве. Амосов тут же сочинил ему целую историю и дал понять, что он лишь недавно переброшен в Москву со специальным заданием.
Они пришли на дачу, где «Миша» познакомил Амосова с какой-то блондинкой, отрекомендовав её как свою подругу.
— Можете чувствовать себя свободно, дядюшка, — сказал он. — Люся в курсе всех дел…
Проведя у «племянника» весь день и выяснив, что он и его партнёрша потеряли связь со своим руководством вследствие провала одной из явок немецкой разведки, Амосов простился с ними и поехал в Москву.
А ночью «племянник Миша» и его дама были арестованы на своей даче.
Утром, узнав, что операция прошла хорошо и «племянник» находится в должном — месте, Амосов вышел на улицу. В зареченской эпопее, была поставлена последняя точка.
Прохладное, чистое летнее утро омывало город. Мимо со звоном мчались трамваи, летели машины и троллейбусы, сосредоточенно и строго шагали по тротуарам люди. Все были заняты, всем было некогда, у всех были важные дела. Столица, страна, народ спешили к победе.
Военная тайна
Часть первая
Военный атташе
***
Полковник фон Вейцель, германский военный атташе в Москве, проснулся в это майское утро 1941 года гораздо раньше, чем обычно. Это было тем более досадно, что накануне фон Вейцель заснул очень поздно: около двенадцати часов ночи поступили шифровки из Берлина, на которые требовался немедленный ответ. Шифровок было две, и обе не способствовали спокойному настроению, которое господин фон Вейцель ценил выше всего на свете. Да, в свои сорок пять лет господин атташе пришёл к твёрдому выводу, что мирный, спокойный сон — едва ли не высшее наслаждение в жизни…
Когда-то его увлекали спорт, женщины, наконец — служебная карьера… С годами полковник фон Вейцель обрёл способность относиться ко всему философски. Все эти страсти, волнения и азарт в сущности только дым, который ровно ничего не стоит. Важно жить по возможности спокойно, пользоваться радостями, ещё доступными после сорока лет, размеренно и умно, оберегать нервно-сосудистую систему и, главное, сознавать, что весь мир — это только ты сам, твой обед, твои прогулки, твой сон, твоя любовница, твои привычки, твои вкусы. Но, оказывается, мир устроен столь глупо, что ради всего этого приходится работать, да ещё в разведке, со всеми осложнениями, опасностями и неприятностями такой работы.
Неприятности… В последнее время они сыпались одна за другой, как будто кто-то специально и очень старательно занимался тем, чтобы испортить жизнь господину Гансу фон Вейцелю, что, конечно, было большим свинством со стороны этого «кого-то»…
Хмуро потягиваясь на своей низкой широкой постели и недовольно щурясь от солнечных зайчиков, пробивающихся сквозь шёлковые маркизы, фон Вейцель стал размышлять о неприятностях. По давно установившейся привычке он разделил их на две категории: неприятности непредвиденные и потому особенно серьёзные и неприятности, так сказать, неизбежные, предполагаемые заранее и потому не столь уже ошеломляющие.
К неприятностям первой категории, бесспорно, относилось дурацкое происшествие с этим ослом Крашке, свалившееся как снег на голову.
Крашке был один из помощников фон Вейцеля по агентурной работе. Он был старым сотрудником разведки и, казалось, имел достаточный опыт. Во всяком случае, в России он работал ещё до первой мировой войны и считался находчивым и смелым агентом.
Помощником фон Вейцеля Крашке был назначен год назад, и в Москву он приехал «под крышей» звания пресс-атташе посольства, то есть с дипломатическим паспортом. Положение пресс-атташе давало ему возможность общаться с корпусом иностранных журналистов, посещать редакции, библиотеки, а также быть завсегдатаем ресторанов, бегов, театров и концертов. По крайней мере, для всякой другой страны такая «крыша», как звание пресс-атташе, сулила возможности неисчерпаемые.
Приехав в Москву, где он не был много лет, господин Крашке приуныл: привычные методы работы здесь оказались явно неприменимы. Советские люди неохотно шли на знакомство с гитлеровским дипломатом, упорно отказывались от встреч; карточных и других притонов в Москве не было, не было и кафешантанов и модных кабаре; а «звёзды» оперетты и кино вовсе не походили на «звёзд», не гонялись за бриллиантами, не старались заводить себе богатых содержателей и вилл и, судя по всему, являлись примерными членами профсоюза. Работать было явно не с кем…
И как на грех именно в это время был получен приказ Берлина всячески форсировать операцию «Сириус», как условно именовалось задание германской разведки, связанное с работами крупного советского конструктора — инженера Леонтьева.
Интерес к личности и работам Леонтьева возник в Берлине давно, ещё в тридцатых годах, когда из источников, которых Крашке не знал, германской военной разведке — «Абверу» — стало известно, что Леонтьев, тогда ещё совсем молодой конструктор, работает в области нового вида вооружений в одном из научно-исследовательских институтов Москвы.
Германской разведке тогда удалось завербовать сотрудника института, который по мере своих возможностей начал освещать работу Леонтьева. Из донесений этого агента выяснилось, что конструктор — человек скромный, горячо увлечённый своей работой, что он мало разговорчив и осторожен в выборе знакомств. О подкупе Леонтьева не могло быть и речи: все данные сводились к тому, что он честный, неподкупный человек. Следовательно, работа «впрямую» здесь была исключена. Надо было идти обходными и «рикошетными» путями. Но тут возникли новые трудности: советские органы безопасности внезапно арестовали агента, работавшего в институте, узнав каким-то образом о его встречах с предшественником Крашке. Это был серьёзный провал. Именно поэтому господин Крашке и был направлен из Берлина в Москву для дальнейшей подготовки операции «Сириус».
Окрылённый дипломатическим паспортом и званием атташе, которым в глубине души он был очень польщён, Крашке даже завёл себе монокль и приобрёл весьма респектабельный вид.
Перед отъездом Крашке в Москву полковник фон Вейцель был вызван в Берлин. Генерал-лейтенант Пиккенброк, начальник 1‑го отдела германской военной разведки, представил господину Вейцелю его нового помощника. Вейцель с интересом посмотрел на Крашке. Перед ним сидел уже немолодой человек, немногословный, с тусклыми, чуть выцветшими глазами, узким лбом и большим хрящеватым носом.
— Господин полковник, — произнёс Пиккенборк, после того как Вейцель и Крашке обменялись рукопожатием, — я рад вам сообщить, что наш старый Крашке знает Россию отлично. Это кадровый немецкий разведчик, и, если бы не операция «Сириус», мы ни в коем случае не отдали бы его вам.
— Я весьма признателен за помощь, господин генерал, — ответил Вейцель, — тем более что подготовка этой операции очень усложнилась в связи с известными вам обстоятельствами…
— На вашем месте, полковник, — перебил Вейцеля Пиккенброк, — я не стал бы напоминать об этом позорном провале, который вам угодно называть обстоятельствами. Этот идиот Шмельцер (речь шла о предшественнике Крашке) засыпался, как мальчишка, и провалил великолепного агента. Не говоря уже о том, что он расшифровал и себя, вследствие чего мы были вынуждены немедленно отозвать его из Москвы.
— Я позволю себе напомнить, господин генерал, — довольно неуверенно начал защищаться Вейцель, — я позволю себе напомнить, что упомянутый Шмельцер был прикомандирован ко мне по личной рекомендации рейхсфюрера СС и что я не имел к этому вопросу решительно никакого отношения.
— Чепуха, полковник! Вы отвечаете за Шмельцера с того момента, как он стал вашим сотрудником. И я считаю, что ваша ссылка на рейхсфюрера СС по меньшей мере бестактна…
И генерал Пиккенброк, о котором давно поговаривали, что он представляет в военной разведке ведомство рейхсфюрера СС Гиммлера, изобразил на своём длинном, худом лице чувство глубокого возмущения.
Полковнику Вейцелю стало не по себе. Дёрнул же его дьявол брякнуть насчёт Гиммлера, которому этот тощий Пиккенброк при случае может всё передать. Самое обидное, что Вейцель сказал сущую правду — Шмельцера действительно рекомендовал Гиммлер, но об этом, конечно, лучше было не вспоминать: Вейцелю были знакомы повадки и характер господина рейхсфюрера СС…
По-видимому, Крашке тоже это понимал, потому что на его лице мелькнуло некое подобие улыбки, которую он, впрочем, тут же подавил, вспомнив, что с полковником Вейцелем ему, как-никак, предстоит работать.
Как раз в этот момент вошёл адъютант Пиккенброка, доложивший, что адмирал Канарис — начальник германской военной разведки и контрразведки — приглашает к себе Пиккенброка, Вейцеля и Крашке.
Все поспешно поднялись и по длинным, ярко освещённым коридорам направились в кабинет Канариса.
Адмирал принял их стоя. Хорошо упитанный, румяный, очень смуглый, он был, по обыкновению, гладко выбрит, сильно надушен. Ответив на обычное приветствие «Хайль Гитлер!», адмирал внимательно осмотрел пришедших с головы до ног, а затем, насвистывая какой-то опереточный мотив, стал шагать из угла в угол своего обширного, немного мрачного кабинета. Установилась долгая неловкая пауза. И со стороны можно было подумать, что Пиккенброк, Вейцель и Крашке изо всех сил стараются запомнить насвистываемый господином адмиралом мотив — столь сосредоточены и серьёзны были их лица. Разумеется, все продолжали стоять.
Наконец Канарис подошёл к своим подчинённым и коротко бросил:
— Вчера фюрер спросил меня об операции «Сириус»…
И, метнув на них выразительный взгляд, опять начал измерять кабинет своими короткими, но крепкими ногами. Пиккенброк и Вейцель переглянулись и стали ещё более сосредоточенно слушать мотив, который вновь начал насвистывать Канарис.
Именно в этот момент в кабинет вошёл без обычного стука в дверь адъютант Канариса и, бледный от волнения, едва сумел пролепетать:
— Господин рейхсфюрер СС!..
— Что?.. — вскричал Канарис, не веря собственным ушам. — Что?..
— Господин рейхсфюрер… — снова пролепетал адъютант и тут же замолк.
В кабинет неторопливо входил Гиммлер.
Пиккенброк, Вейцель и Крашке судорожно вытянулись, как по команде «смирно». Канарис бросился навстречу Гиммлеру, впервые удостоившему своим посещением этот кабинет. Адъютант Канариса сразу вышел из комнаты.
— Здравствуйте, адмирал, — произнёс Гиммлер, даже не взглянув в сторону Пиккенброка, Вейцеля и Крашке. — Я заехал информировать вас об одном соглашении.
— Я к вашим услугам, господин рейхсфюрер СС, — ответил Канарис, старательно подвигая к Гиммлеру глубокое кожаное кресло. — Позвольте представить вам моих сотрудников: генерал-лейтенанта Пиккенброка, полковника фон Вейцеля, нашего военного атташе в Москве, и господина Крашке…
Гиммлер неторопливо уселся в кресло и, взглянув на застывших подчинённых Канариса, улыбнулся:
— Очень хорошо. Генерал Пиккенброк — мой старый знакомый, о полковнике Вейцеле я слышал, как о способном человеке, а господин Крашке, говорят, тоже настоящий немец и опытный разведчик. Они все, если не ошибаюсь, работают по русскому профилю?
— Так точно, господин рейхсфюрер СС, — отчеканил Канарис, ломая голову над вопросом, чем вызван этот необычайный визит.
— В таком случае, — продолжал Гиммлер, — эти господа могут принять участие в нашем разговоре.
И, вытащив из кармана своего чёрного кителя аккуратно сложенный лист, Гиммлер привычно поправил пенсне, с которым никогда не расставался, и подчёркнуто деловым тоном начал:
— Вчера, по личному приказанию фюрера, господа, я и рейхсминистр фон Риббентроп подписали соглашение, имеющее отношение и к вашему ведомству, дорогой адмирал. (Канарис при этих словах почтительно склонил голову). Я не стану читать этот документ целиком, суть его очевидна из следующего абзаца…
И, быстро отыскав нужное место, Гиммлер прочёл:
Тут Гиммлер сделал паузу и выжидательно взглянул на Канариса.
— Ещё одна иллюстрация мудрости фюрера! — с чувством произнёс Канарис. — Он всегда понимал значение нашей службы…
— Слушайте дальше, — перебил его Гиммлер и снова начал читать: — «Ответственный сотрудник разведывательной службы регулярно информирует главу миссии обо всех существенных вопросах деятельности секретной разведывательной службы в данной стране».
Лицо Канариса невольно вытянулось: господин адмирал не привык информировать послов «обо всех существенных вопросах» своей деятельности. Полковник фон Вейцель тоже не выдержал и даже позволил себе громко вздохнуть. Господин Крашке, напротив, сразу повеселел. Он понял, что поедет в Москву под прикрытием дипломатического паспорта, что при всех условиях исключает какой бы то ни было риск ввиду дипломатической неприкосновенности.
Гиммлер осмотрел всех по очереди и язвительно усмехнулся.
— Господа, — медленно протянул он, — вероятно, избавят меня от необходимости разъяснять, что последний тезис об обязанности информировать дипломатов не следует понимать примитивно. Конечно, их придётся информировать, но… я бы сказал, в пределах их компетенции при выполнении чисто дипломатических задач… Вряд ли нужно при этом входить в чрезмерные подробности, господа, поскольку сугубая конспирация — основной закон нашей профессии…
— Так точно, господин рейхсфюрер СС! — радостно воскликнул Канарис, сообразив, что «соглашение» вовсе не поставило его службу под контроль дипломатов, которых он терпеть не мог. — Я весьма признателен вам за разъяснение.
— Это особенно важно для работы в Москве, — осторожно начал Пиккенброк, — если учесть настроения нашего посла господина Шулленбурга…
— Какие настроения вы имеете в виду, генерал? — быстро спросил Гиммлер.
— Об этом с большим знанием вопроса доложит полковник фон Вейцель, — сразу ответил Пиккенброк, решив на всякий случай остаться в стороне.
«Проклятая лиса! — подумал Вейцель о Пиккенброке. — Свалил всё на меня!»
— Что же вы можете доложить, полковник Вейцель? — спросил Гиммлер, не отводя взгляда от Вейцеля, соображавшего, как ему ответить, чтобы угодить рейхсфюреру СС.
— Господин фон Шулленбург, — начал Вейцель, — разумеется, опытный дипломат, вполне преданный отечеству, но, господин рейхсфюрер СС, мой долг солдата прямо заявить о том, что господину фон Шулленбургу, при всём моём глубоком уважении и понимании его заслуг…
— Скажите, полковник, — перебил его Гиммлер, — вы произносите юбилейный тост или докладываете суть дела своему начальнику и рейхсфюреру СС?
У Вейцеля отлегло от сердца. Он понял, что хотелось бы услышать Гиммлеру.
— Я хочу быть объективным, господин рейхсфюрер СС, — уже уверенно сказал он, — но считаю своим долгом прямо заявить, что наш посол неверно информирует фюрера о положении в Москве.
— Так, так… — с нескрываемым интересом промолвил Гиммлер. — Продолжайте, полковник, это очень, очень любопытно.
— Господин посол является сторонником мирных отношений с Советским Союзом, — продолжал Вейцель, — и это ослепляет его. Господин посол уверяет фюрера, что Москва не намерена нападать на Германию, что она не готовится к войне, а я убеждён в обратном.
— И вы правы, полковник! — бросил Гиммлер. — Я тоже убеждён в этом.
— Скажу больше, господин рейхсфюрер СС, — ещё увереннее продолжал Вейцель, окрылённый лестным замечанием Гиммлера, — я в глубине души теряю политическое доверие к господину фон Шулленбургу…
— Неужели?.. — протянул Гиммлер таким тоном, что становилось ясным, как приемлема для него и такая крайняя позиция.
— К сожалению, — со скорбной миной произнёс фон Вейцель, — я не считаю себя вправе это скрыть. Мои расхождения с господином послом особенно значительны в оценке оборонной мощи Советского Союза. Наш уважаемый фон Шулленбург, увы, весьма слаб в военных вопросах, и его утверждения, что Советская Армия — это реальная, хорошо слаженная, отлично подготовленная сила, глубоко ошибочны и вредны.
— Вредны? — в том же тоне спросил Гиммлер, совсем уже благосклонно глядя на Вейцеля.
— Да, вредны! — твёрдым тоном солдата, уверенного в своей правоте, ответил Вейцель. — Вредны потому, что они объективно являются дезинформацией, а дезинформация в таких вопросах равносильна предательству Германии! — с наигранной горячностью закончил Вейцель.
***
Уже поздно вечером, отдыхая в своей вилле в Нейдорфе, в пригороде Берлина, полковник фон Вейцель вспоминал во всех деталях этот разговор и пришёл к окончательному выводу, что он вполне попал в тон. Это следовало не только из того, что Гиммлер охотно его слушал и благосклонно улыбался, но также из нескольких фраз, брошенных им в конце беседы. Смысл их сводился к тому что фюрер считает войну с Советским Союзом предрешённой, что он не верит в мощь Советской Армии, считая её «колоссом на глиняных ногах».
Вейцелю было хорошо известно, что фюрер, придя к определённому выводу, не терпит противоречий, и всякое иное мнение приводит его в бешенство. По сути дела, полковник фон Вейцель в глубине души разделял многие мысли господина фон Шулленбурга, хотя очень его не любил. Вейцеля раздражал этот старый немецкий дипломат: его манера разговаривать в тоне превосходства, его аристократическое происхождение (Вейцель хотя и именовался фон Вейцелем, строго говоря, не имел на это права), даже его монокль, которым он, впрочем, очень ловко пользовался. Вот почему Вейцелю было приятно устроить пакость этому надутому аристократу, несмотря на то, что тот был во многом прав. Полковнику Вейцелю как военному атташе довелось присутствовать на маневрах Киевского военного округа. Как-никак, Вейцель имел высшее военное образование и разбирался в военном деле. То, что он, как и другие военные атташе, также приглашённые на маневры, там повидал, увы, отнюдь, не подкрепляло формулы «колосс на глиняных ногах». Вейцель видел отличные, вполне современные танки, сильную авиацию и грозную артиллерию. Офицерский состав — это сразу бросалось в глаза — был хорошо подготовлен, а воинские, довольно крупные соединения, участвовавшие в маневрах, обнаружили поразительную выносливость.
Последнее, впрочем, не слишком удивило полковника Вейцеля, потому что выносливость русского солдата была давно общепризнанна и широко известна. Вейцелю запомнился один разговор на эту тему, происходивший в палатке, в которой отдыхали Вейцель и американский военный атташе полковник Армстронг.
«Понимаете, дорогой коллега, — говорил Армстронг, высокий, рыжеватый, белозубый человек с безупречным пробором и грубоватыми манерами, — выносливость русского солдата — это у них в крови. Эти скифы действительно способны вынести такое, от чего солдаты цивилизованных стран пришли бы в ужас. Когда я спросил одного их майора, возит ли он с собой походную резиновую ванну, он посмотрел на меня с таким удивлением, что я почти смутился… Парень, представьте себе, считает это совершенно лишним».
И рыжий Армстронг громко захохотал, оскалив зубы.
Да, походных ванн у советских офицеров не было. Но Вейцель не считал, что это снижает боевые качества русских. И когда в заключение маневров сотни советских самолётов выбросили десант в несколько тысяч винтовок и ни один из парашютистов не задержался после приземления более минуты, полковнику фон Вейцелю стало не по себе.
Но что делать, если мир так дурацки устроен: нередко выгоднее делать вид, что не замечаешь того, что на самом деле хорошо заметно, и не понимаешь в действительности отлично понятого. Вейцель не так наивен, чтобы послать в Берлин правдивый доклад о маневрах. Он потел целую ночь, формулируя основания для главного вывода: маневры показали отсталость техники, низкий уровень военной подготовки офицерского состава, плохое тактическое взаимодействие частей…
Вейцель знал, что только такой доклад будет одобрен и представлен фюреру и, главное, будет ему приятен.
И действительно, через некоторое время после отсылки доклада полковник фон Вейцель получил письмо Пиккенброка, в котором, между прочим, указывалось:
«…Фюрер и рейхсминистр Геринг, ознакомившись с представленным вами докладом, отметили глубину сделанного вами анализа состояния войск нашего возможного противника и вполне разделяют выводы, к которым вы пришли…»
Господин фон Вейцель пять раз перечитывал эти строки и таял от удовольствия. Мог ли он подумать, что тот же фюрер, который «вполне разделял» выводы господина Вейцеля, после разгрома немецких войск под Москвой в декабре 1941 года прикажет «расстрелять бывшего полковника и бывшего военного атташе в Москве Ганса Вейцеля за злостную дезинформацию о состоянии советских вооружённых сил»?
Разумеется, господину атташе ничего подобного в голову не приходило. В тот вечер, когда прибыло письмо Пиккенброка, фон Вейцель обрадовался до такой степени, что, несмотря на свою скупость, известную всему составу германской миссии, отправился в «Метрополь» со стенографисткой посольства фрейлейн Гретой. В «Метрополе» он так разошёлся, что за ужином заказал шампанское и преподнёс фрейлейн Грете цветы и коробку шоколада «Красный Октябрь». Правда, название конфет не очень импонировало господину атташе, но шоколад был отменный…
Всё это полковник Вейцель вспоминал в то майское утро, с которого начинается это повествование. Вспомнил он и возвращение в Москву вместе с господином Крашке. В Москве Крашке сразу взялся за работу и сначала производил самое выгодное впечатление. Ему даже удалось найти ход в тот самый научно-исследовательский институт, где работал этот проклятый конструктор Леонтьев, из-за которого фон Вейцель имел столько неприятностей и хлопот.
Шмельцер, работавший до Крашке над операцией «Сириус», добыл через своего агента списки сотрудников института, которые переслал в Берлин. Крашке на всякий случай стал проверять, нет ли у кого-либо из сотрудников института родственников среди белоэмигрантов, проживающих в Берлине. И в самом деле, среди сотрудников института оказался некий Голубцов, работавший в качестве ночного сторожа — вахтёра. Звали его Сергей Петрович.
Между тем в числе белоэмигрантов, проживающих в Берлине, тоже значился Голубцов, бывший царский генерал, работавший теперь в качестве швейцара в берлинском отеле «Адлон» и отличавшийся весьма респектабельной внешностью, благодаря которой он и получил эту должность. Крашке решил на всякий случай проверить, не состоит ли бывший генерал Голубцов в родственных связях с ночным сторожем Сергеем Голубцовым. Это предположение как будто подтверждалось. Голубцов, вызванный к Крашке, заявил, что у него действительно имеется в России племянник Серж Голубцов, сын его брата Петра Голубцова, скончавшегося в 1917 году. Этот Серж Голубцов служил в контрразведке деникинской армии, а затем, не успев эмигрировать, остался в России и, кажется, в дальнейшем устроился в Москве. Однако связи с ним генерал Голубцов не имел.
Само собой разумеется, что, выезжая в Москву, Крашке захватил с собой письмо от бывшего генерала к его племяннику, а также фотографию, сохранившуюся со времён гражданской войны.
Сергей Голубцов жил на окраине Москвы, в Измайловском зверинце. Господин Крашке вычитал в старом справочнике, что один из русских царей, «тишайший» Алексей Михайлович, ездил в эти места охотиться, в связи с чем эта местность и получила такое название. Теперь туда можно было добраться на машине или трамваем. Крашке остановился на последнем, так как пришёл к выводу, что чем демократичнее способ передвижения по Москве, тем он безопаснее для разведчика.
В целях предосторожности Крашке, выйдя из здания посольства в Леонтьевском переулке, сначала направился к Арбату и вышел на бульварное кольцо. У памятника Тимирязеву Крашке отдохнул на скамейке и, убедившись, что за ним никто не следит, направился к Пушкинской площади, где внезапно, на ходу, прыгнул в вагон трамвая, с которого так же внезапно соскочил в районе Чистых прудов. И уже отсюда, сначала на автобусе, а затем в трамвае, добрался до Измайловского зверинца.
Выйдя на асфальтированное шоссе, с одной стороны которого стояли деревянные домики с палисадниками и огородами, а с другой — шумел сосновый, далеко уходящий лес, Крашке сразу почувствовал себя спокойно.
Шоссе было пустынно в этот сентябрьский вечер; с огородов доносились голоса игравших детей; высокие сосны мирно пламенели в лучах заходящего солнца.
Без особого труда господин Крашке нашёл нужный ему дом. Он стоял за палисадником, деревянный, с выцветшей от времени когда-то зелёной окраской и заплатанной ржавой крышей, уже чуть покосившийся и заметно осевший в землю.
Крашке ещё раз оглянулся — шоссе было по-прежнему пустынно — и уверенно толкнул скрипучую калитку. Во дворе, заросшем травой, никого не было, выходящая во двор дверь была открыта. Крашке поднялся по деревянным ступеням и оказался в маленькой темноватой кухне. Здесь тоже никого не было, но за неплотно закрытой дверью слышались звуки гитары и хрипловатый баритон с большим чувством исполнял романс «У камина».
Господин Крашке с удовольствием прислушался. Некогда, в дни молодости, судьба, а точнее — немецкая разведка, занесла его в один уездный городишко Могилевской губернии. По характеру задания ему надо было завести связи с местным начальством и офицерами дивизии, расквартированной в этом городке, Крашке открыл в городе аптеку, играл в преферанс с уездным исправником и земским начальником, лихо плясал на балах и наконец добился руки и сердца дочери воинского начальника Зиночки Бурцевой.
Уже после свадьбы Зиночка призналась молодому супругу, что покорил он её не модными усиками, которые он тогда отпустил, не талантом лихого вальсёра, не изысканностью манер и процветавшей аптекой, а тем, как проникновенно и «с давыдовской слезой» исполнял он этот романс: «Ты сидишь одиноко и смотришь с тоской, как печально камин догорает…»
Через год, успешно выполнив задание, молодой аптекарь загадочно исчез из города, предусмотрительно захватив с собой десять тысяч Зиночкиного приданого и навсегда оставив аптеку, беременную жену и гитару.
И вот теперь, стоя в этой тёмной, пахнущей мышами кухне, господин Крашке услышал слова и мотив почти забытого романса. Это звучало как доброе предзнаменование, и господин Крашке, улыбаясь от лёгкого волнения и нахлынувших воспоминаний, смело толкнул дверь, за которой пел баритон.
В небольшой, обставленной старомодной мебелью комнате, с унылым фикусом в кадке, полотняными занавесками на окнах и цветными половиками на полу, сидел уже немолодой грузный человек с гитарой.
Увидев вошедшего Крашке, обладатель хриплого баритона сразу замолк, вопросительно уставившись на пришедшего нагловатым взглядом выпуклых глаз.
— Простите, — произнёс Крашке, снимая шляпу, — могу ли я видеть товарища Голубцова Сергея Петровича?
— А вы откуда и кто такой будете? — ответил вопросом на вопрос хозяин комнаты.
— Прежде чем ответить на этот законный вопрос, — улыбнулся Крашке, — я хотел бы убедиться, что говорю именно с тем, кто мне нужен.
— Я Сергей Петрович, — ответил мужчина. — А что вам нужно? Я вас не знаю.
— К сожалению, мы действительно не были знакомы, — произнёс Крашке. — Но я имею к вам поручение от вашего почтенного дядюшки Валерия Павловича Голубцова…
— У меня нет никакого дядюшки, — чуть резче, чем следовало, ответил Голубцов, весьма порадовав этим Крашке.
— В соседних комнатах кто-нибудь есть? — неожиданно спросил Крашке. — Нас никто не слышит?
— А что вам, собственно, угодно?
— Мне угодно передать вам письмо от вашего дядюшки, его превосходительства генерала Голубцова, — спокойно повторил Крашке. — У меня есть ваша фотография, но, право, я бы вас не узнал. Впрочем, это и неудивительно, если принять во внимание, что вы, господин Голубцов, сняты на ней в тысяча девятьсот девятнадцатом году, в офицерской форме, когда вы, если не ошибаюсь, служили в контрразведке добровольческой армии. Мне передал эту фотографию ваш дядюшка, чтобы мы легче смогли найти общий язык…
И Крашке протянул Голубцову немного выцветшую фотографию, на которой тот был изображён во весь рост, в офицерской форме. Голубцов выхватил фотокарточку и мгновенно разорвал её на мелкие клочки. Крашке, улыбаясь, сел в кресло, не ожидая приглашения. Голубцов тяжело дышал.
— Напрасно вы разорвали карточку, глубокоуважаемый Сергей Петрович, — укоризненно произнёс Крашке, покачивая головой. — Я предвидел такой вариант и имею несколько отличных фотокопий. Вот одна из них…
И он протянул оторопевшему Голубцову новую фотографию.
— Кто вы и что вам от меня нужно? — хрипло спросил Голубцов.
— Я друг генерала Голубцова и надеюсь стать и вашим другом, — ответил Крашке, закуривая сигарету. — Но сначала ознакомьтесь с письмом вашего дяди.
И Крашке протянул Голубцову письмо. Голубцов два раза его прочёл, потом достал спички и сжёг.
— Вот видите, Сергей Петрович, вы напрасно так взволновались, — вновь заговорил Крашке, — вы можете мне абсолютно доверять. Мы с вами люди одного возраста, одного воспитания и легко поймём друг друга…
— Кто вы? — снова спросил всё ещё бледный Голубцов.
— Друг вашего дяди. И он вам об этом пишет. Кстати, если вы забыли содержание письма, то у меня есть и его фотокопия.
— Что вам от меня нужно?
— Пока ничего. А в будущем какие-нибудь сущие пустяки. Но давайте познакомимся. Расскажите о вашем житье-бытье… Вы, конечно, сознательный член профсоюза? Пролетарий или советский служащий?
— Я работаю сторожем в одном институте. Ночным сторожем…
— Ночным сторожем? Гм, нельзя сказать, что вы сделали блестящую карьеру. Что же это за институт?
И тут Крашке с удовольствием услышал подтверждение тому, что предполагал: это был тот самый институт и, следовательно, тот самый Голубцов!..
Сама судьба мчалась навстречу господину Крашке и операции «Сириус», сама судьба!..
Разговор Крашке и Голубцова затянулся до поздней ночи. Выяснилось, что Сергей Петрович, конечно, скрыл свою службу в белой армии, что в институте он работает уже четвёртый год, что он одинок, в прошлом году его жена скончалась от рака лёгких, что этот старый дом принадлежит ему и что за стеной, в соседних двух комнатах, проживают две богомольные старушки. Такие соседи не оставляли желать лучшего. С другой стороны, и сам Голубцов при ближайшем знакомстве оказался довольно сговорчивым и покладистым человеком, быстро сообразившим, чего от него хотят.
Они расстались друзьями, и в первом часу ночи Голубцов проводил Крашке за скрипучую калитку своего дома.
На шоссе было по-прежнему пустынно. Тёмное сентябрьское небо низко нависло над Измайловским зверинцем; редкие фонари покачивались от резких порывов ветра; тревожно шумел лес, стоящий чёрной стеной по ту сторону шоссе.
Простившись со своим новым знакомым, господин Крашке всё с теми же мерами предосторожности, неожиданно меняя виды транспорта, добрался до посольства к двум часам. Несмотря на позднее время, он сразу зашёл к полковнику Вейцелю, который его давно поджидал и уже начинал волноваться.
Выслушав подробный доклад Крашке о визите к Голубцову, господин атташе пришёл в восторг. За такое удивительное стечение обстоятельств, чёрт возьми, не мешало выпить! За бутылкой душистого мозельвейна Вейцель и Крашке разработали план дальнейших мероприятий. Голубцова надо было окончательно «освоить», хорошо проверить, а затем обучить фотографированию документов и чертежей. Его положение ночного сторожа открывало превосходные перспективы успешного завершения операции «Сириус», что в свою очередь очень реально сулило награды, орден Железного Креста и генеральские погоны, о которых полковник Вейцель, вопреки обретённому с годами философскому образу мышления, всё же пылко мечтал.
***
Да, вначале всё шло удивительно легко и успешно. Этот Голубцов с его романсами и гитарой оказался превосходным агентом, хотя и несколько назойливым в отношении гонорара. Не могло быть и речи о том, что он является или может стать «двойником», то есть, сотрудничая с Крашке, одновременно работать на советскую контрразведку. Голубцов не только добросовестно выполнял задания Крашке, но делал это с удовольствием, глубоко ненавидя Советскую власть и стремясь напакостить ей чем только можно. Выходец из семьи крупного помещика, он в молодости боролся с революцией в рядах добровольческой армии, не сумел своевременно эмигрировать за границу, потом долго заметал следы; женился на какой-то бывшей торговке, которой принадлежал дом в Измайловском зверинце, потом похоронил жену, сильно опустился и теперь прозябал в своей берлоге, как одинокий, отбившийся от стаи волк, всё ещё, однако, готовый к прыжку.
Там, на работе, он умело носил личину этакого добродушного, не слишком умного и чуть ворчливого служаки-старика, исправно посещал все профсоюзные собрания, охотно подписывался на заём, а в майские и в октябрьские праздники раньше всех приходил на демонстрацию, громче всех кричал «ура», первым запевал «Эх, Дуня, Дуня, Дуня-я, комсомолочка моя» и даже пускался в пляс с молодыми секретаршами.
В институте Голубцова считали немного чудаковатым, но, в общем, приятным стариком, все называли его запросто Петровичем и охотно выслушивали его рассказы о том, как в молодые годы он будто бы служил красноармейцем «у самого Чапая».
Престиж Голубцова и доверие к нему особенно возросли после того, как однажды утром он, действуя по заданию Крашке, явился к директору института и молча протянул ему пять тысяч рублей, будто бы найденных им на рассвете недалеко от главного подъезда института.
— Только я, товарищ директор, начал утром подметать асфальт у подъезда, гляжу — пакет этот лежит. Посмотрел я и испугался: шутка сказать, какие деньги — тысячи!.. Так, поверьте, еле дождался вашего приезда!.. Не иначе как кто из наших потерял, а может, даже казённые денежки-то — и государству нашему убыток, и человек зазря может пропасть…
Директор поблагодарил Голубцова, пожал ему руку и рассказал о происшествии работникам института. Выяснилось, что никто из них ничего не терял, и деньги были сданы в отдел находок милиции, а о Голубцове появилась заметка в стенгазете под заголовком «Благородный поступок».
После этого доверие к Голубцову окончательно укрепилось…
Справедливость требует отметить, что в этом деле Голубцов слегка надул господина Крашке, который выдал ему для этой инсценировки семь с половиной, а не пять тысяч. Голубцов рассудил, что для нужного эффекта хватит и пяти.
Но разумеется, Крашке ничего об этом не знал и не мог нарадоваться своим новым агентом.
К его вящему удовольствию, Голубцов, занесённый в секретные списки агентуры под кличкой «король бубен», довольно быстро освоил технику фотографирования документов и чертежей. В конце апреля «королю бубен» удалось подслушать, что конструктор Леонтьев собирается выехать в служебную командировку.
Было уже известно, что Леонтьев каждый вечер перед уходом с работы запирает секретные документы в стальной сейф, а затем опечатывает этот сейф сургучной печатью. Сейф, судя по имеющейся на нём надписи, был изготовлен артелью Меткоопромсоюза. Крашке специально приобрёл такой же сейф в магазине, где ему незаметно указал на него «король бубен», явившийся, как было условлено, в этот магазин, и у себя в кабинете тщательно его исследовал. Качество продукции артели Меткоопромсоюза получило полное одобрение господина Крашке: сейф был сделан примитивно, его внутренний затвор скорее походил на щеколду от простой калитки, чем на замок стального сейфа для секретных бумаг.
Однако дело осложнялось тем, что сейф Леонтьева, как выяснилось, стоял в секретной комнате его лаборатории, которая запиралась на ночь особой стальной дверью со сложным замком.
Таким образом, для получения чертежей, хранившихся в сейфе Леонтьева, требовалось, во-первых, подобрать ключ к замку стальной двери, во-вторых, ключ к самому сейфу и, наконец, изготовить сургучную печать, которой опечатывался ежедневно этот сейф, для того чтобы после фотографирования чертежей вновь опечатать его.
«Король бубен» был соответственно проинструктирован и снабжён пластилином особой марки. Ночью, когда он дежурил в институте, Голубцов запер изнутри двери вестибюля, погасил в нём свет и тихо поднялся на второй этаж. Он подошёл к стальной двери, ведущей в секретную комнату, и осветил её карманным фонарём, не включая из осторожности электрический свет.
В длинных гулких коридорах института, едва освещённых лунными отблесками, проникавшими через большие створчатые окна, царил таинственный голубоватый полумрак. Голубцов прислушался — ему послышался какой-то подозрительный шум в расположенной поблизости туалетной комнате. С пересохшим от волнения горлом он застыл у двери, напряжённо вслушиваясь в звуки, доносившиеся из туалетной комнаты. Они раздавались отчётливо и равномерно.
Собрав последние силы, Голубцов решил сделать вид, что производит ночной обход, и, нарочито тяжело ступая, подошёл к туалетной комнате. Здесь он с силой рванул дверь и громко спросил:
— Кто там?
Ответа не последовало. Голубцов включил электрический свет — туалетная была пуста, а из бачка равномерно и гулко капала вода.
«Король бубен» выругался, увидев в настенном зеркале своё искажённое, бледное от волнения лицо.
«Горький мне достался хлеб», — подумал сам о себе Голубцов и, чтобы хоть немного успокоиться, закурил.
Отдохнув, он вернулся к стальной двери и стал медленно, как его обучил Крашке, выдавливать из тюбика с пластилином густую, вязкую массу в замочную скважину. Когда та была наконец заполнена, Голубцов выждал положенные пять минут и сильно рванул за оставленный хвостик уже застывший и твёрдый слепок.
На следующий день он встретился с Крашке в универмаге Мосторга и в сутолоке, не здороваясь, незаметно сунул тому слепок.
Через два дня «король бубен» зашёл в пивной бар, где за столиком сидел Крашке в скромном грубошерстном костюме. Сделав вид, что он не знает Крашке, Голубцов попросил разрешения сесть за его стол. Они молча, не глядя друг на друга, пили пиво. Когда Крашке, расплатившись, стал подниматься, он незаметно сунул Голубцову изготовленный по слепку ключ.
В ту же ночь «король бубен», снова дежуривший по институту, открыл этим ключом стальную дверь и снял слепки с замка сейфа и сургучной печати, которой сейф был опечатан.
Слепки он снова передал Крашке, с которым через два дня встретился на Чистых прудах.
Это было в конце апреля. Стоял тёплый вечер, на бульваре было много гуляющих. По маленькому пруду скользили многочисленные лодки, сталкиваясь одна с другой. В них катались влюбленные парочки, весёлые студенческие компании и школьники старших классов.
Крашке в соломенной панаме, сняв пиджак, неутомимо кружил по пруду с видом человека, выполняющего врачебное предписание. «Король бубен» тоже очень старательно грёб, разгоняя тяжёлую лодку и демонстрируя разные виды гребли.
Когда их лодки в третий раз поравнялись, Крашке, опять не здороваясь, швырнул в лодку Голубцова кожаный кисет на молнии, в котором находились резная медная печать для сургуча и ключ от сейфа Леонтьева.
Операция «Сириус» близилась к завершению.
***
Первого мая Голубцов был назначен дежурным вахтёром и должен был дежурить целые сутки.
Утром, гладко выбритый и весёлый, «король бубен» явился в институт, где уже собирались сотрудники на первомайскую демонстрацию.
Голубцов, с красным бантиком в петлице, сердечно поздравил всех с праздником и посетовал, что на этот раз ему не придётся участвовать в демонстрации.
Ровно в девять часов утра колонна института влилась в общий поток. Гремела медь оркестров, широкая улица была запружена демонстрантами, алыми знаменами, плакатами и портретами.
Ещё накануне Крашке и Голубцов решили, что извлечение и фотографирование документов, хранившихся в сейфе Леонтьева, безопаснее произвести не ночью, когда в институте может быть сделана внезапная проверка, а днём, именно в часы демонстрации, когда машине трудно пробиться к зданию института.
Они рассчитывали и на то, что в весёлой, радостной и шумной обстановке праздника Голубцову меньше всего угрожают непредвиденные случайности, могущие помешать осуществлению замысла.
Проводив свою колонну и убедившись, что заместитель директора, являвшийся в этот день ответственным дежурным по институту, мирно дремлет в своём кабинете. Голубцов снова запер изнутри двери вестибюля и поднялся на второй этаж. Он быстро отпер стальную дверь, запер её за собою, открыл сейф, содрав с него сургучную печать, и достал папку, на которой было написано: «Сов. секретно. Чертежи и формулы орудия «Л‑2».
«Король бубен» разложил чертежи и документы — их было не так уж много — на столе, стоявшем у самого окна, стёкла которого дребезжали от грома духовых оркестров, песен и весёлого праздничного гула.
Голубцов не выдержал и осторожно выглянул в окно. Широкая многоцветная человеческая река струилась по улице, заполняя её от края до края; мелькали яркие косынки девушек, алые с золотыми кистями знамена, медные и серебряные трубы музыкантов, тысячи улыбающихся лиц.
«Королю бубен» стало не по себе. Сложные, противоречивые чувства охватили его. Он завидовал, да, мучительно завидовал всем этим людям, проходившим за окном в честь своего праздника по своим улицам своего города. Это и в самом деле был их город, их страна, их праздник. Праздник, к которому он, бывший дворянин и помещик Серж Голубцов, не имел никакого отношения, будь все они прокляты!
И вот они радуются и празднуют, а он, с дурацкой шулерской кличкой «король бубен», должен, рискуя жизнью, выполнять задание этого носатого немца, который становится изо дня в день всё наглее и требовательнее и грубит дворянину Голубцову, как своему лакею.
Но, с другой стороны, есть какая-то особая, жгучая радость от сознания, что он сейчас своими действиями нанесёт удар и по этому враждебному ему празднику, и по этой поющей и тоже враждебной ему толпе.
С этими мыслями, захлёстнутый волной ненависти и жаждой мести. Голубцов бросился к столу, на котором были разложены документы, и стал снимать их один за другим специальной «лейкой», которой его снабдил Крашке. А второго мая, поздно ночью, сияющий Крашке ворвался, как буря, в личные апартаменты военного атташе и выложил на стол кассету от фотоаппарата, которым был снабжён «король бубен». Полковник Вейцель и Крашке в радостном волнении забрались в ванную комнату, служившую и для особо секретных фоторабот, и начали проявлять плёнку. В темноте, только подчёркиваемой смутным красным светом фотофонаря, мерно постукивал бачок для проявления, осторожно покачиваемый господином Крашке. Вейцель сопел от волнения — шутка сказать, сейчас выяснится результат такой трудной и сложной работы!
И вот пролетели установленные для проявления плёнки минуты, плёнка вынута из бачка, и — слава всевышнему! — на ней имеются тридцать шесть отлично сделанных снимков чертежей, расчётов, формул…
— Хайль Гитлер! — заорал во всю глотку Крашке и начал трясти руку полковнику Вейцелю.
***
Итак, достигнут полный успех. Ночью в Берлин полетела победная шифровка. Утром пришло шифрованное поздравление от Канариса и Пиккенброка и приказ немедленно отправить плёнку в Берлин. Как раз в эти дни из Москвы в Берлин должен был выехать некто герр Мюллер, числившийся корреспондентом Германского телеграфного агентства, а в действительности — сотрудник разведки. Герр Мюллер охотно согласился захватить с собой небольшой пакетик и обещал сразу же по приезде в Берлин передать его по назначению.
Господин Вейцель, принимая решение отправить драгоценную плёнку с Мюллером, сразу убивал двух зайцев: во-первых, Мюллер должен был доложить о победе господина атташе Гиммлеру и при случае самому фюреру; во-вторых, получив плёнку через Мюллера, адмирал Канарис уже никак не мог присвоить себе лавров полковника Вейцеля, что он нередко делал, и уже волей-неволей должен был объективно доложить о заслугах господина военного атташе.
Наконец, адмирал Канарис никак не мог придраться к тому, что плёнка была послана с Мюллером, ибо другой подходящей оказии в это время не было, а он сам требовал отправить её как можно скорее.
Словом, всё было задумано очень тонко, и Вейцель потирал руки от удовольствия.
Герр Мюллер жил в отеле «Националь», и Вейцелю не хотелось, чтобы Крашке отнёс ему плёнку в гостиницу. Поэтому было решено, что Крашке приедет прямо на вокзал проводить Мюллера, что было вполне естественно для пресс-атташе посольства, а там вручит ему драгоценный пакетик.
Так и было сделано. За час до отхода заграничного поезда Москва — Негорелое сияющий господин Крашке выехал из посольства на Белорусский вокзал, заверив полковника фон Вейцеля, что сразу после отхода поезда вернётся в посольство и доложит своему патрону, что плёнка поехала в Берлин.
Вариант «Барбаросса»
Уже несколько суток прошло после этого рокового дня, а ещё и сегодня, лёжа в постели и вспоминая все подробности случившегося, господин фон Вейцель не мог сдержать нервной дрожи. Изволь вот при такой злосчастной судьбе оберегать нервно-сосудистую систему!
Не раз фон Вейцель давал себе слово забыть всё это, но проклятые воспоминания назойливо возникали снова и снова.
В тот проклятый день он был абсолютно спокоен, ему и в голову не приходило, что в самый последний момент операция «Сириус» лопнет, как мыльный пузырь. Да и как можно было это предвидеть, когда всё шло как по маслу и никаких признаков приближающейся беды не было.
В тот день, проводив Крашке до самого подъезда, господин Вейцель вышел во двор посольства, посмотрел, как шофёр Август моет его длинный тёмно-синий «мерседес», сверкающий никелем и лаком. Было ещё прохладно, но солнце уже начинало припекать. За воротами шумела полуденная весенняя Москва. Слева, в одном из переулков, в школьном дворе весело кричали дети. Через чугунное кружево ворот было видно, как мерно прохаживается взад-вперёд рослый, очень вежливый милиционер, неизменно с большим достоинством отдававший честь, когда мимо него проезжали представители «дружественной державы» — так любили именовать себя после советско-германского пакта 1939 года о ненападении немецкие дипломаты, в том числе и господин военный атташе.
Из открытого окна посольской канцелярии господину Вейцелю подчёркнуто скромно улыбалась фрейлейн Грета.
Поглядев на неё, господин фон Вейцель решил сегодня пригласить её снова — фрейлейн Грета вполне этого заслуживала. И он осторожно сделал ей знак глазами, на что Грета утвердительно кивнула белокурой головкой.
В самом лучшем настроении, чуть охмелев от свежего воздуха, майского солнца и отлично складывающихся дел, полковник Вейцель вернулся в свой служебный кабинет и приступил к составлению секретного доклада об успешном завершении операции «Сириус».
Чёрт возьми, полковник фон Вейцель был мастер писать доклады!.. Здесь надо было найти тот особый тон, когда доклад отличается деловой скромностью и даже некоторой сухостью изложения, не обнаруживая и тени — боже упаси! — хвастовства. В то же время из чёткого перечисления всех сложностей, неожиданных препятствий и опасностей, стоявших на пути осуществления операции, должна была возникнуть красочная картина находчивости, смелости и настойчивости, проявленных лично господином атташе и его аппаратом.
…Фон Вейцель заканчивал уже пятый лист и выкурил три сигары («Надо будет всё-таки бросить эту вредную привычку»), когда за дверью протопали чьи-то стремительные тяжёлые шаги и в кабинет влетел Крашке…
Ворвавшись в комнату, он пролепетал что-то нечленораздельное. Господин атташе, сразу вспотев, мгновенно догадался, что случилось нечто ужасное.
— Что? — вскричал он таким голосом, что заколыхались шёлковые занавески на окнах.
— М-м-м… — замычал Крашке. — Убейте меня, господин полковник… Ай-ай-яй!..
У полковника Вейцеля хватило выдержки вылить полкувшина воды на голову этого кретина, после чего Крашке, дрожа и чуть не плача, сообщил, что на вокзале в самый последний момент у него… вырезали задний карман с бумажником, в котором были все его документы и эта самая плёнка!..
Фон Вейцель схватился за голову. Он накинулся на Крашке с бранью и криками, но тот даже не пытался оправдываться.
Прошло минут двадцать, пока господин Вейцель не вспомнил о своей нервно-сосудистой системе. Дрожащими руками он налил в стакан двойную порцию брома и залпом опрокинул его. От волнения он перепутал пузырьки и вместо брома налил тридцатипроцентный альбуцид, который аккуратно капал себе в глаза из-за конъюнктивита.
Господин атташе был очень мнителен и поднял страшную тревогу. Врача посольства, доктора Вейнзеккера, мирно дремавшего в дворовом флигеле, где он жил, разбудили как на пожар. Толстый Вейнзеккер, этот проклятый бездельник, со сна долго не мог понять, в чём дело, глядя на катающегося по дивану и ревущего господина фон Вейцеля. Наконец, уяснив суть происшествия, он нахально заявил, что альбуцид не так уж страшен и, если не считать лёгкой рези в кишечнике, которая к вечеру пройдёт, даже полезен как дезинфицирующее средство.
Господин Вейцель с трудом удержался от желания закатить оплеуху этому толстому шарлатану, которому наплевать на чужие страдания, но Вейнзеккер, трубно высморкавшись в огромный клетчатый платок, величественно удалился во флигель с видом человека, выполнившего свой долг.
А резь в животе продолжалась, хотя Вейнзеккер нагло утверждал, что это главным образом нервные спазмы.
***
Итак, Крашке был обворован. В бумажнике находились небольшое количество валюты, личное удостоверение Крашке, та самая плёнка и визитная карточка сотрудника миссии Отто Шеринга, на обороте которой тот написал Крашке, что приветствует его в день приезда в Москву как старого знакомого и коллегу по работе. (Отто Шеринг, значившийся экономическим атташе, был в действительности работником политической разведки.)
После обсуждения случившегося в узком кругу своих ближайших сотрудников фон Вейцель пришёл к следующим выводам.
Во-первых, было неясно, кем обворован Крашке. Если он стал жертвой обычного карманника, то это ещё полбеды. Однако вовсе не исключалось, что бумажник в конечном счёте окажется в руках советских органов безопасности.
Во-вторых, Крашке, как и этому идиоту Шерингу, сделавшему дурацкую надпись на визитной карточке, надо было немедленно, пока не поздно, возвратиться в Берлин.
В-третьих, в целях предосторожности было решено прекратить встречи с «королём бубен», который при сложившейся ситуации может быть не сегодня-завтра разоблачён.
Когда это решение было принято, Вейцель счёл необходимым хотя бы частично информировать о случившемся посла, чтобы объяснить причины внезапного откомандирования в Берлин Крашке и Шеринга, тем более что последний вообще не был подчинён военному атташе.
Господин фон Шулленбург, совсем уже пожилой человек, с внимательным, холодным взглядом и повадками немецкого дипломата, старой школы, по обыкновению, молча выслушал сообщение военного атташе, слегка постукивая карандашиком по подлокотнику своего кресла. Понять, что он думает, было трудно.
— Это всё, господин полковник? — коротко спросил он, когда Вейцель закончил свой рассказ и изложил свои предложения.
— Да, господин посол, — ответил Вейцель, с раздражением глядя на невозмутимое лицо посла. — Я хотел бы просить вашего совета.
— Давать советы хорошо своевременно, — не без ехидства заметил Шулленбург, — и я весьма сожалею, что эта идея лишь теперь пришла вам в голову, мой дорогой полковник. А если учесть известное вам соглашение, подписанное рейхсфюрером СС и рейхсминистром иностранных дел, то эта несвоевременность просто загадочна…
И господин фон Шулленбург очень выразительно улыбнулся. В глубине души он был даже рад этому происшествию. По некоторым, хотя и весьма косвенным, данным Шулленбург давно догадывался, что фон Вейцель всячески ему пакостит.
Старый немецкий дипломат и примерный службист, господин фон Шулленбург в глубине души очень не любил выскочек вроде Вейцеля. Вообще далеко не всё, что происходило в «Третьей империи», было понятно Шулленбургу, начиная с личности фюрера, неизвестно откуда вынырнувшего и плохо владеющего немецким языком австрийца. Шулленбург знал, что настоящая фамилия Гитлера Шикльгрубер, что он очень истеричен и вспыльчив, малообразован, большой позёр. Откуда, каким ветром занесло в кресло канцлера этого крикуна с вульгарной чёлкой и воспалёнными глазами эпилептика? И не в этой ли явной истерии секрет его успеха у толпы?
Так думал в глубине души господин Шулленбург, когда Гинденбург и Папен 30 января 1933 года даровали Гитлеру пост канцлера Германской республики. Ровно через месяц, 28 февраля, новоиспечённый канцлер отменил ряд пунктов Веймарской конституции и провёл «закон о защите народа и империи», по существу сделавший его диктатором.
Но это были только цветочки. Когда начались массовые расстрелы, заключение в концлагеря сотен тысяч людей без следствия и суда, пытки, конфискации, уличные погромы, господин фон Шулленбург окончательно перестал что-либо понимать.
Однако по мере развития событий он пришёл к выводу, что подобные размышления могут привести и его самого в концлагерь. И он стал служить Гитлеру, решив, что всё же лучше Гитлер, нежели Дахау.
Шулленбург знал, что к нему относятся без особого доверия, что многие из его подчинённых в посольстве, помимо своих основных обязанностей, имеют задание следить за ним. Но взаимная слежка, как и взаимное недоверие, стали альфой и омегой «Третьей империи». И господин посол с этим примирился.
Он очень не любил Советский Союз. Коммунистическая идеология была глубоко враждебна всему, к чему он привык с детства, что любил и с чем не хотел расставаться.
Но он был достаточно умён и видел, что социалистический строй прочно установился в этой стране и что правительство Советского Союза, при котором он был аккредитован, ведёт твёрдую политику, пользующуюся поддержкой народа. Словом, что там ни говори, это было настоящее правительство в самом высоком и государственном смысле этого слова.
Фон Шулленбург имел представление о серьёзных успехах, достигнутых советским народом. Как ни печально, но это была мощная держава, с передовой индустрией, высокой общей и технической культурой, возраставшей буквально с каждым годом и несомненной сплочённостью многонационального населения.
Посол признавался самому себе, что этот, по его мнению, рискованный и обречённый на поражение социальный эксперимент, увы, пока побеждает. Да, большевики отлично знали, чего хотят и как этого достигнуть! Это сказывалось и в их внешней политике, лишённой внезапных рывков, отступлений, нарушения принятых на себя обязательств и лицемерных заверений, на которые так щедр был Гитлер.
Как опытный дипломат, Шулленбург не мог не оценить достоинств такой внешней политики, не говоря уже о том, что советские дипломаты были, что ни говори, серьёзные люди. Как правило, они немногословны, неизменно корректны, избегают туманных формулировок, до которых так охочи западные дипломаты, очень точны.
В результате своих наблюдений в Советском Союзе фон Шулленбург был твёрдо убеждён в боевой мощи советских вооружённых сил и считал, что Германии опасно воевать с Россией.
Шулленбург не раз излагал, хотя и в очень осторожной форме, свою точку зрения по этому вопросу. Но он ясно видел, что Гитлер, упоённый победами на западе, стремится к походу на восток.
Правда, Шулленбургу об этом прямо не было сказано, что лишний раз свидетельствовало об отсутствии полного доверия к нему, но по ряду косвенных деталей и нюансов посол догадывался, что там, в Берлине, в секретных комнатах новой имперской рейхсканцелярии уже идёт подготовка безумного плана.
И фон Шулленбург, покряхтев во время ночной бессонницы, ровно в десять утра приходил в свой роскошный посольский кабинет (с которым тоже очень не хотелось расстаться) и весь день старательно и педантично играл роль человека, без ума влюблённого в своего фюрера, кричал, как было принято, «Хайль Гитлер!» с обязательным выбрасыванием правой руки, распинался об «исторических заслугах» Гитлера на праздничных вечерах в посольстве, торжественно, и непременно стоя, провозглашал за него первый тост и всем, до последнего курьера в посольстве (ибо и этот курьер, вероятно, был тайным осведомителем гестапо), стремился со всей очевидностью показать, что он, господин фон Шулленбург, чрезвычайный и полномочный посол Германии в Москве всем сердцем, всеми помыслами беспредельно и навсегда предан этому дегенерату с чёлкой!.. И что он, фон Шулленбург, свято верен «партийной клятве», которую дал, вступая в нацистскую партию! Текст этой клятвы гласил:
«Я клянусь в нерушимой верности Адольфу Гитлеру; я клянусь беспрекословно подчиняться ему и тем руководителям, которых он изберёт для меня».
Да, всё это было, было — и клятва, и вступление в нацистскую партию, чтобы удержаться на поверхности, и несколько лет непривычных безобразий, учиняемых в Германии этой пресловутой «партией» и её удивительным фюрером!
…Разговор с Вейцелем подходил к концу. Посол согласился, что Крашке и Шеринг должны немедленно покинуть Москву и вернуться в Берлин. Он подписал заготовленное Вейцелем распоряжение и не преминул заметить, что вся эта история чревата самыми серьёзными последствиями, которые даже трудно полностью предусмотреть.
Выйдя из кабинета посла и вернувшись к себе, фон Вейцель написал подробную шифровку обо всём случившемся, в которой постарался выгородить себя и подчеркнуть растерянность и тупоумие Крашке.
Он предложил временно свернуть операцию «Сириус».
Шифровка была отправлена в Берлин третьего дня, вчера утром выехали из Москвы Крашке и Шеринг, и уже ночью из Берлина поступили две шифровки в ответ.
Одна предлагала фон Шулленбургу и Вейцелю немедленно выехать в Берлин с докладом.
Вторая телеграмма содержала разрешение временно свернуть операцию «Сириус» и категорически предписывала ни в коем случае не встречаться с «королём бубен».
Обе телеграммы были неприятны, но если вторая была вполне понятна и естественна в этих обстоятельствах, то первая рождала тревожный вопрос: зачем вызывают в Берлин военного атташе, да ещё вместе с послом?..
Вот почему в это майское утро фон Вейцель проснулся в своей постели с головной болью, в самом дурном настроении и, против обыкновения, так долго продолжал лежать, вместо того чтобы сделать утреннюю гимнастику и принять холодный душ.
Уже после завтрака, который Вейцель съел без обычного удовольствия, его пригласил к себе посол.
Войдя к нему, Вейцель впервые увидел господина Шулленбурга в явно встревоженном состоянии.
Оказалось, что он тоже получил вызов в Берлин. И видимо, несмотря на разницу характеров и положения, у господина чрезвычайного и полномочного посла возник тот же проклятый вопрос: зачем?..
— Скажите, полковник, — почти нежно произнёс Шулленбург, — не указано ли в полученной вами телеграмме, какие документы и по каким вопросам вам следует захватить с собой?
— К сожалению, господин посол, в телеграмме ничего этого нет. А в вашей телеграмме не указывается цель вызова?
— Нет, об этом ничего не сказано, полковник. Я предполагаю, что это может быть вызвано происшествием с Крашке, но не могу понять, какое отношение имею к этому я? Тем более что обо всём этом деле я, как вы помните, вообще узнал постфактум.
— Я думаю, — произнёс Вейцель, мысленно посылая Шулленбурга ко всем чертям, — что мы оба вызваны совсем не в связи с этим делом. Впрочем, я не люблю гадать на кофейной гуще. Надеюсь, мы поедем вместе?
— Разумеется, — ответил Шулленбург, — я уже поручил шефу канцелярии приобрести два билета в международном вагоне. Надеюсь, полковник, вы не возражаете, если мы поедем в одном купе? Это, как-никак, спокойнее.
— Я буду только рад, господин посол, — щёлкнул каблуками Вейцель и, простившись с послом, пошёл укладываться и приводить в порядок свои дела.
***
Шулленбург и Вейцель не знали, что их вызывают в Берлин в связи с вариантом «Барбаросса», то есть планом нападения Германии на Советский Союз. Этот план вынашивался давно, ещё с тридцатых годов, когда Гитлер только что пришёл к власти.
Эту запись Додд сделал со слов Шахта — имперского министра экономики и президента Рейхсбанка, который счёл почему-то нужным информировать об этом американского посла.
23 мая 1939 года Гитлер созвал в своём кабинете в новой имперской канцелярии секретное совещание, на которое были приглашены Геринг, Редер, Браухич, Кейтель, генерал-полковник Мильх, генерал артиллерии Гальдер и другие представители высшего военного командования. Запись совещания вёл подполковник генштаба Шмундт. Темой совещания был объявлен «Инструктаж относительно современного положения и целей политики».
Подполковник Шмундт постарался дословно записать выступление Гитлера на этом ответственном совещании. Гитлер тогда сказал:
«Если судьба нас толкнёт на конфликт с западом, то будет хорошо, если мы к этому времени будем владеть более обширным пространством на востоке…
Речь идёт для нас о расширении жизненного пространства на востоке и обеспечении продовольственного снабжения, о разрешении балтийской проблемы…»
1 сентября 1939 года германские вооружённые силы вторглись в Польшу, 9 апреля 1940 года — в Данию и Норвегию, 10 мая 1940 года — в Бельгию, Голландию и Люксембург, 6 апреля 1941 года — в Грецию и Югославию, причём в отношении каждой из этих стран Гитлер не раз давал торжественные заверения, что будет поддерживать их суверенитет.
Точно так же Гитлер поступил с Францией. 14 января 1935 года, после плебисцита, на котором был решён вопрос о возвращении Саарской области Германии, Гитлер сделал торжественное заявление, что он «впредь не предъявит Франции никаких территориальных требований». Он продолжал эти заверения до конца 1938 года. 6 декабря 1938 года Риббентроп приехал в Париж и подписал Франко-Германскую декларацию, в которой было признано, что «граница между сопредельными государствами является окончательной».
Пройдёт несколько лет, и на Нюрнбергском процессе главных немецких военных преступников главный обвинитель от французской республики де Ментон в своей речи, произнесённой 17 января 1946 года, будет вынужден с горечью признать:
«Общественное мнение Франции и Великобритании, обманутое заявлением Гитлера, поверило тому, что замыслы нацистов направлены только на обеспечение судьбы национальных меньшинств, оно надеялось, что существует предел германским притязаниям… Франция и Великобритания позволили ей (Германии) вооружиться…»
Как показал на том же Нюрнбергском процессе подсудимый Кейтель, бывший начальник верховного командования германскими вооружёнными силами и член тайного совета [3] , Гитлер сначала собирался напасть на Советский Союз в конце 1940 года. Ещё раньше, весной 1940 года, был разработан план этого нападения. Он обсуждался в июле того же года на военном совещании в Рейхенхалле.
Осенью 1940 года Гитлер, Кейтель и Иодль (начальник штаба верховного командования) окончательно утвердили и подписали план нападения на СССР, зашифрованный наименованием вариант «Барбаросса».
Только девять человек в «Третьей империи» были ознакомлены тогда с этим планом — так тщательно он был засекречен…
И только после разгрома гитлеровской Германии этот секретнейший документ с подлинными подписями Гитлера, Кейтеля и Иодля был обнаружен и оглашён на Нюрнбергском процессе.
План начинался так:
«Директива № 21, вариант «Барбаросса».
Немецкие вооружённые силы должны быть готовы к тому, чтобы ещё до окончания войны с Англией победить путём быстротечной военной операции Советскую Россию (вариант «Барбаросса»). Для этого армия должна будет предоставить все состоящие в её распоряжении соединения с тем лишь ограничением, что оккупированные области должны быть защищены от всяких неожиданностей.
Задача военно-воздушных сил будет заключаться в том, чтобы высвободить для восточного фронта силы, необходимые для поддержки армии, с тем чтобы можно было рассчитывать на быстрое проведение наземной операции, а также на то, чтобы разрушения восточных областей Германии со стороны вражеской авиации были бы наименее значительными.
Основное требование заключается в том, чтобы находящиеся под нашей властью районы боевых действий и боевого обеспечения были полностью защищены от воздушного нападения неприятеля и чтобы наступательные действия против Англии и в особенности против её путей подвоза отнюдь не ослабевали.
Центр тяжести применения военного флота остаётся и во время восточного похода направленным преимущественно против Англии.
Приказ о наступлении на Советскую Россию я дам в случае необходимости за восемь недель перед намеченным началом операции.
Приготовления, требующие более значительного времени, должны быть начаты (если они ещё не начались) уже сейчас и доведены до конца к 15.5.41 г.
Особое внимание следует обратить на то, чтобы не было разгадано намерение произвести нападение…»
***
Таков был план «Барбаросса», разработанный Гитлером и его штабом. Всё было предусмотрено в этом плане, и казалось, всё предвидели его авторы: и преимущества внезапного удара, и возможных союзников, с которыми предварительно секретно договорились, и взаимодействие всех родов войск, и задачи, поставленные перед ними, и конечные цели всей «операции», и глубочайшую засекреченность самого плана и всех предварительных приготовлений. Всё предусмотрели и предвидели в этом плане, кроме одного: мужества и стойкости великого народа, его любви к своей Родине и умения отстоять её независимость и честь в любое время, при любых обстоятельствах и от любых врагов…
Трое подписали план «Барбаросса»: Гитлер, Иодль и Кейтель. Через пять лет Гитлер покончил с собой в душном подземелье новой имперской канцелярии, Иодль и Кейтель были повешены по приговору Международного Военного Трибунала во дворе старинной нюрнбергской тюрьмы вместе со своими сообщниками, повешены в том самом древнем баварском городе, где фашистская партия так торжественно проводила свои съезды, принимала свои людоедские законы и утверждала свои безумные планы «мирового господства».
***
Голубоватые кольца сигарного дыма плавали в купе международного вагона, в котором Шулленбург и Вейцель ехали в Берлин. Две допитые бутылки рейнвейна — любимая марка господина Шулленбурга — позвякивали на столике при каждом толчке поезда, стремительно мчавшегося на запад. Сидя друг против друга в уютном купе, сверкающем красным полированным деревом и бронзовой арматурой, размякнув от движения, выпитого вина и сигарного дыма, посол и военный атташе без обычного недружелюбия поглядывали друг на друга. Впрочем, их примиряло не столько общее путешествие в одном купе, сколько томительная неизвестность цели этого путешествия и его возможных результатов. Общая тревога сближала их.
Кроме того, каждый из них считал полезным на всякий случай подчеркнуть своё расположение к другому. Вейцель делал это, чтобы Шулленбург не очень играл в Берлине на происшествии с Крашке; Шулленбург пытался задобрить Вейцеля, чтобы тот не очень распространялся «в своей конторе» касательно позиции посла в вопросе о германо-советских отношениях.
За окнами вагона шумел май. Дымились свежевспаханные поля; кое-где гудели, как огромные пчёлы, тракторы; первая, ещё робкая зелень была удивительно нежна. Маленькие будки дорожных мастеров и стрелочников, кирпичные здания полустанков и полосатые шлагбаумы железнодорожных переездов мелькали, как на экране. Стук колёс и свист ветра сливались в ту особую, присущую только железной дороге симфонию, которая и успокаивала, и погружала в дрёму, и вызывала смутные мысли о том, что поджидает впереди.
— Удивительная страна, — осторожно начал Шулленберг, указывая на скользящий за окном вагона пейзаж. — Бескрайние просторы, неисчерпаемые богатства земных недр и самый фанатичный в сегодняшнем мире народ. Следует признать, мой дорогой полковник, что в Берлине имеют весьма приблизительное представление о Советской России и её возможностях…
— Какие возможности вы имеете в виду, уважаемый господин фон Шулленбург? — спросил Вейцель.
— Прежде всего их промышленный и военный потенциал, — ответил Шулленбург.
— Я невысокого мнения о советских вооружённых силах, — медленно и раздельно возразил Вейцель, сразу вспомнив свой доклад о киевских маневрах. — Что же касается их промышленного потенциала, то серия хорошо подготовленных налётов бомбардировочной авиации может без особого труда его ликвидировать.
Фон Шулленбург задумался.
— Ах, господин полковник, — произнёс он после значительной паузы, — от русских всегда можно ожидать всяких неожиданностей! Нам, представителям цивилизованной страны, даже трудно представить себе всё, на что способны эти азиаты… И с этой точки зрения нельзя не вспомнить Бисмарка, который, как вам известно, решительно рекомендовал Германии никогда не воевать с Россией.
— Стоит ли вспоминать о Бисмарке, когда, к счастью Германии, есть Адольф Гитлер! — торжественно произнёс Вейцель, глядя прямо в глаза Шулленбургу и с удовольствием замечая, что тот несколько растерялся.
— О да! — поспешил ответить Шулленбург. — Гений нашего фюрера — поистине счастье для Германии. То, что удалось фюреру за последние годы, ещё сотни лет будет удивлять историков…
И, произнеся эту тираду, господин фон Шулленбург решил не говорить больше с Вейцелем на подобные темы. В Берлин они приехали утром и в тот же день явились к начальству.
Генерал Пиккенброк, как только Вейцель вошёл в его кабинет, закатил военному атташе такой скандал, что Вейцеля едва не хватил удар. Но это была только прелюдия: к концу дня Пиккенброк повёл почти полумёртвого Вейцеля к адмиралу Канарису. Последний был зловеще спокоен. Он молча протянул Вейцелю руку, пригласил его сесть и, по обыкновению, начал насвистывать модный опереточный мотив — господин адмирал имел отличную музыкальную память и очень этим гордился. Пиккенброк и Вейцель молчали.
— Военная разведывательная служба, — начал наконец Канарис, — разумеется, укомплектована не только гениями. Но я никогда не думал, господин полковник, что абсолютный болван, лишённый элементарной профессиональной осторожности, может подвизаться в роли нашего военного атташе, да ещё в такой стране, как Советская Россия… Не кажется ли вам, что это по меньшей мере странно?
— Господин адмирал, — воскликнул Вейцель, мгновенно вскочив с кресла, — позвольте хотя бы два слова!
— Не позволю! — отрубил Канарис. — Вам нечего объяснять! Не желаю слушать всякий вздор… Вы провалили важнейшее задание, которым интересовался сам фюрер. В состоянии вы понять хотя бы это?
— Господин адмирал!.. — залепетал Вейцель. — Во всём виноват этот Крашке, которого, кстати, я совсем не знал. И он… И я… Одним словом…
— Молчать!.. — закричал Канарис и так хватил кулаком по столу, что хрустальный письменный прибор зазвенел. — Я назначаю служебное расследование и подвергаю вас на время расследования домашнему аресту… Вы слышите, генерал Пиккенброк?
— Так точно, господин адмирал, — щёлкнул каблуками Пиккенброк.
К концу беседы выяснилось, что с Крашке поступили ещё более круто: его уволили из главного управления военной разведки и назначили представителем «Абвера» в одну из дивизий, которой командовал некий генерал-майор Флик.
Началось служебное расследование, во время которого выяснилось, что Крашке в своих письменных объяснениях пытался всё свалить на Вейцеля, заявив, что тот приказал ему ехать на вокзал и там передать плёнку вопреки его, Крашке, предложению передать её Мюллеру в гостинице.
Инспектор для особых поручений, который производил служебное расследование, особенно напирал на эти объяснения Крашке во время мучительных для Вейцеля допросов.
Фон Вейцель провёл двое суток под домашним арестом в своей загородной вилле, только днём его возили на допросы к инспектору.
Бог знает, чем бы всё это кончилось, если бы не мудрость фюрера, который, когда ему доложили результаты расследования, спросил:
— Не тот ли это полковник Вейцель, который прислал доклад о киевских маневрах?
— Тот самый, мой фюрер, — ответил Канарис.
— Это был превосходный доклад, — сказал Гитлер. — Этот полковник — честный немец и знает своё дело.
Канарис, который только что собирался характеризовать Вейцеля как бездельника, тупицу и лицо, не заслуживающее доверия, немедленно перестроился и стал петь Вейцелю дифирамбы.
— Ограничьтесь устным внушением, — приказал Гитлер, — а завтра привезите этого полковника ко мне. Я хочу с ним поговорить.
Канарис, вызвав к себе после этого разговора Вейцеля, был обходителен и мил до чрезвычайности. Передав Вейцелю в общих чертах решение фюрера и даже похлопав полковника по плечу, он приказал явиться к нему на следующий день утром в парадной форме, чтобы вместе ехать к Гитлеру.
И вот они вдвоём входят в кабинет фюрера, куда их пропускает сам Мартин Борман, помощник фюрера и руководитель партийной канцелярии, член рейхстага, член штаба главного командования СА (штурмовые отряды нацистской партии), основатель и глава кассы взаимопомощи партии (злые языки утверждали, что Борман имел все основания называть её «кассой самопомощи»), рейхслейтер, генерал СС, и прочая, и прочая, и прочая.
Вейцель мысленно отметил подчёркнутую подобострастность, с которой Канарис поздоровался с Борманом, и понял, что этот человек пользуется огромным влиянием на Гитлера.
Когда Канарис и Вейцель вошли в кабинет Гитлера, они увидели фюрера, склонившегося над огромной картой, разложенной на длинном столе для заседаний. Рядом с Гитлером, также склонившись над картой, стоял Геринг.
Гитлер расчерчивал карту огромным красным карандашом, заливаясь счастливым смехом. Геринг старательно вторил ему. Оба были так увлечены картой, что даже не обернулись на скрип двери.
Канарис и Вейцель застыли в позе «смирно», не решаясь оторвать руководителей «Третьей империи» от занятия, которым они были так поглощены.
— Смотрите, Герман, — говорил Гитлер, указывая на отчёркнутую им жирную красную линию, — здесь, на границе Урала, только здесь я остановлю победный марш моих армий. Здесь будут наши военные колонии…
В этот момент в кабинете появился Борман, который запросто подошёл к Гитлеру и шепнул ему о приходе Канариса и Вейцеля.
Гитлер и Геринг обернулись к ним. Гитлер с интересом взглянул на Вейцеля и спросил:
— Вы давно из Москвы, полковник? Что там нового? Как чувствуют себя русские большевики? Всё ещё собираются строить коммунизм?
И он отрывисто, чуть повизгивая, захохотал, закидывая назад сплющенную книзу голову с неизменным клоком волос, как бы приклеенным ко лбу, выпученными глазами и маленькими усиками.
Рядом со слонообразным, оплывшим Герингом низкорослый, тощий фюрер выглядел особенно нелепо.
Господин Вейцель довольно складно ответил на вопрос фюрера, что в Москве, судя по всему, нет ничего нового, большевики действительно продолжают упорствовать со строительством коммунизма и особо заметных военных приготовлений нет.
Гитлер пригласил Канариса и Вейцеля сесть за стол и стал задавать Вейцелю вопрос за вопросом.
Отвечая на эти вопросы, Вейцель рассказал, что в России отличные виды на урожай, продовольствия сколько угодно, население питается хорошо, данных о срочных мобилизациях нет.
Каждый из этих ответов заметно радовал фюрера, и Вейцель понял, что война предрешена.
В конце разговора, который шёл вполне мирно и даже весело, фюрер внезапно вскочил с кресла (все сразу встали) и начал кричать, что он верен «своей исторической миссии» и докажет всему миру способность уничтожить коммунизм дотла.
— Я превращу Ленинград в пепел, — кричал он, ударяя кулаком по столу, — а Москву в груды развалин!.. Я покажу всем этим либеральным европейским болтунам и социалистическим собакам, что такое нацистский кулак! Они боятся России как огня, а я сокрушу её в три месяца!..
Он долго ещё кричал, сыпал ругательства и проклятия, сменившиеся хвастливыми угрозами и клятвами, бросал на пол карандаши, ручки, весь сотрясаясь от судорожных конвульсий, Невозможно было понять, почему так внезапно наступил этот почти эпилептический припадок, почему Гитлер начал вдруг бесноваться, орать и дёргаться.
Вейцель, ещё никогда не видевший Гитлера в таком состоянии, оцепенел от ужаса. Что означал этот приступ безумия?
Геринг стоял с равнодушным и даже немного скучающим лицом — он давно привык к подобным выходкам Гитлера и в глубине души считал, что по справедливости фюрером Германии должен был стать он, Герман Вильгельм Геринг, настоящий немец, а не этот тощий австрияк, который злится на весь мир и делает уйму глупостей.
Канарис, адмирал Канарис, глава германской разведывательной службы, готовый при первом удобном случае продаться любой иностранной разведке, если только она будет хорошо платить (что он в дальнейшем и сделал), стоял с непроницаемым выражением лица, мысленно прикидывая, насколько может затянуться очередной приступ и не сорвёт ли он весьма приятного свидания, которое назначила господину адмиралу обворожительная фрейлейн Эрна, новая звезда венской оперетты, гастролирующей в Берлине.
А фюрер продолжал кричать и скоро сорвал и без того натруженный на митингах голос. Он перешёл на фальцет — и вдруг, без всякого перехода и, видит бог, без всяких причин (так подумал Канарис) побежал к сейфу, вынул из него орден Железного Креста и, подбежав к напуганному Вейцелю, прикрепил орден к его парадному кителю, крича:
— Вот тебе за истинно немецкий дух и светлую голову!..
Геринг и Канарис, придя в полное недоумение, тем не менее вытянулись и застыли в положении «смирно», как этого требовал в таких случаях имперский военный устав. Полковник Вейцель, вчера ещё размышлявший, не закончится ли домашний арест заключением его в Моабитскую тюрьму или какой-нибудь концлагерь, подумал, что всё это происходит с ним во сне…
И уже дома, сняв парадную форму и облачившись в спокойную домашнюю пижаму, германский военный атташе в Москве полковник Ганс фон Вейцель, подойдя к зеркалу, пристально вгляделся в своё осунувшееся от треволнений последних дней лицо и вдруг начал от всей души хохотать.
Вот что значит представить угодный начальству доклад!
***
Увы, господин фон Шулленбург не только не получил ордена, но, напротив, имел очень неприятный разговор с рейхсминистром иностранных дел господином Иоханном фон Риббентропом.
Рейхсминистр заявил послу, что фюрер чрезвычайно недоволен его докладами и совершенно не разделяет выводов, которые он столь легкомысленно делает.
На вопрос Шулленбурга, может ли он надеяться быть лично принятым фюрером и обосновать свои выводы, Риббентроп странно усмехнулся и произнёс довольно загадочную фразу, смысл которой сводился к тому, что вряд ли фюрер сочтёт это полезным для себя, а для господина Шулленбурга, пожалуй, будет полезнее, если эта аудиенция не произойдёт…
Риббентроп, конечно, не сказал Шулленбургу главного: фюрер хотел арестовать его и передать в гестапо. Шулленбурга спасло лишь то, что война была предрешена. Гитлер считал, что внезапная смена посла может вызвать в Москве подозрения, а ему хотелось именно теперь ничем не выдавать своих замыслов. Поэтому он согласился с предложением Риббентропа вернуть Шулленбурга в Москву, решив про себя, что арестовать его он всегда успеет, Риббентроп приказал Шулленбургу по возвращении в Москву предпринять ряд шагов, направленных к тому, чтобы уверить Советское правительство в верности немцев советско-германскому пакту.
Как раз тогда, когда Шулленбург следовал из Берлина в Москву, германские дивизии скрытно подвозились к советским границам. Со всех сторон Европы, пароходами и океанскими лайнерами, товарными и пассажирскими поездами, целыми автоколоннами, транспортными самолётами, сушей, морем и по воздуху, подвигались к границам СССР пехота и артиллерия, тысячи танков и самолётов, бомбы и боеприпасы, штабные машины всех марок мира, награбленные во всех странах закабалённой Европы, прожекторные части, передвижные радиостанции, походные типографии. Ехали специально обученные парашютисты-диверсанты, переодетые в форму советской милиции и органов НКВД и снабжённые толом и портативными рациями, гестаповские «зондеркоманды», особо подготовленные для массового уничтожения советского населения и партийного актива, шпионы всех мастей и расценок, опытные тюремщики, набившие руку палачи, тучи всякого рода «экономических советников», готовых налететь, как вороньё, на оккупированные области и немедленно выкачать оттуда всё, что возможно. По ночам, рокоча моторами, скрытно подкрадывалась к советским рубежам вся чудовищная гитлеровская военная машина, готовая по первому приказу фюрера ринуться на советскую землю.
Смерть и рождение
В то самое утро, когда Крашке направился на Белорусский вокзал для передачи плёнки уезжавшему герру Мюллеру, молодой карманник Жора-хлястик, имеющий, однако, уже солидный воровской стаж и три судимости в прошлом, шёл по улице Горького, направляясь к тому же вокзалу для проводов заграничного поезда Москва — Негорелое.
Собственно, провожать Жоре-хлястику было решительно некого, но Белорусский вокзал и заграничный поезд представляли для него совершенно особый интерес — это была зона его воровской деятельности.
Именно на этом вокзале и перед самым отходом именно этого поезда Жора-хлястик в предотъездной вокзальной сутолоке довольно удачно обворовывал пассажиров или тех, кто их провожал.
Жора-хлястик был вор-одиночка и потому «работал» на свой страх и риск, не получая доли из общего «котла», как было раньше, когда он состоял в воровской «артели» и делил с другими карманниками дневную выручку.
«Артель» давала известные преимущества в том смысле, что, если в определённый день кто-либо из карманников оставался без «улова», он всё равно получал долю из общего «котла».
Но несмотря на это, Жора-хлястик не захотел оставаться в «артели». Ему надоели вечные ссоры из-за взаимных расчётов, традиционные пьянки после удачного дня, диктаторский тон «председателя артели» и весь воровской быт. Кроме того, Жора в глубине души давно уже сознавал, что ведёт никчемную, пустую жизнь и что с этим пора кончать.
Сейчас, направляясь к Белорусскому вокзалу с видом человека, совершающего утренний моцион, Жора-хлястик был в самом отличном настроении. Всё радовало глаз и душу: и эта нарядная, залитая майским солнцем, только что вымытая специальными машинами улица, и весёлая уличная толпа, и зеркальные витрины магазинов, и яркие краски вывесок, и излюбленный им кафетерий «Форель», где служила продавщицей рыбного отдела весёлая, кокетливая Люся. Молоденькая шатенка со вздёрнутым носиком охотно принимала ухаживания Жоры-хлястика, представившегося ей артистом-чечёточником Мосэстрады, и уже дважды ходила с ним в «Эрмитаж».
На Белорусском вокзале, как всегда перед отходом дальнего поезда, царила весёлая сутолока. Носильщики разгружали подходившие одна за другой машины с пассажирами; в киосках нарасхват раскупали свежие журналы и газеты; у буфетной стойки толпилась нетерпеливая очередь; бойко торговали продавщицы мороженого и первых весенних фиалок; во всех направлениях сновали женщины с детьми, солидные хозяйственники с толстыми портфелями и иностранцы, сопровождаемые носильщиками, тащившими за ними чемоданы с яркими наклейками на разных языках.
Жора-хлястик (настоящая его фамилия была Фунтиков) спокойно закурил, с удовольствием посмотрел на свои ярко начищенные ботинки редкого апельсинового цвета, купил перронный билет и вышел к поданному на платформу поезду.
У коричневого международного вагона он обратил внимание на иностранца с моноклем (это был Крашке), который тоже, видимо, пришёл кого-то провожать, но ещё не дождался уезжающего и теперь нетерпеливо посматривал на часы. Фунтиков, не глядя ему в лицо, осмотрел его сзади — он большей частью «работал» по задним карманам. Иностранец медленно похаживал вдоль вагона, чуть повиливая бедрами. На нём были светлые фланелевые брюки с бежевым оттенком и светло-коричневый, в тон брюкам, спортивный пиджак.
Острый глаз Фунтикова сразу отметил, что пиджак чуть топорщился над задним карманом брюк, в котором явно находился бумажник. Объект был найден.
Охваченный весёлым предчувствием удачи, которое почти никогда не обманывало его, Фунтиков следовал, как тень, за спиной этого высокого иностранца с моноклем, делая, однако, вид, что не обращает на него ни малейшего внимания.
За четверть часа до отхода поезда на перроне появился сухопарый рыжеватый человек в тёмных очках, за которым шёл носильщик с двумя ярко-жёлтыми чемоданами. Рыжий остановился у международного вагона и поздоровался с поджидающим его иностранцем с моноклем. Носильщик внёс чемоданы в купе и, получив за услуги, удалился, а оба иностранца, стоя у вагона, стали разговаривать между собой.
Как раз в это время к тому же вагону мчалась по перрону толстая, потная от волнения и боязни опоздать дама с уймой картонок и баулов в руках, а за нею едва поспевал какой-то щуплый человечек, тоже нагруженный всевозможными свёртками и пакетами.
— Коля, да скорее же, этакий тюлень! — кричала дама на всю платформу, энергично расталкивая стоявших на перроне людей и задевая их своими вещами. — Опоздаем, вот увидишь, опоздаем!
— Не волнуйся, Валюша, ещё есть время, — бормотал, тяжело дыша, её спутник, — до отхода ещё несколько минут…
Взглянув на эту даму и сразу сообразив, что она — сущий клад. Фунтиков, так сказать, поплыл в её фарватере и не ошибся: дама, поравнявшись с двумя иностранцами, бесцеремонно их растолкала, задев при этом того, кто был с моноклем, своими картонками и оттеснив его в сторону.
Именно в это мгновение Фунтиков, сделав вид, что он прижат энергичной дамой, вплотную прильнул к иностранцу, молниеносным движением правой руки вырезал задний карман и сразу как бы растворился в толпе пассажиров, уже начавших прощаться со своими провожающими. Через несколько секунд Фунтиков «смылся» с перрона.
Не торопясь, всё с тем же независимым видом человека, только что проводившего своих близких, Фунтиков вышел на вокзальную площадь.
Бумажник, судя по объёму и тяжести, сулил превосходные перспективы.
Фунтиков закурил и, выбравшись на улицу Горького, направился в кафетерий «Форель», где сразу увидел Люсю, стоявшую за стойкой в белом кружевном фартучке и кокетливой наколке.
— Труженикам прилавка пламенный! — произнёс Фунтиков, здороваясь с Люсей. — Попрошу пару раков и скумбрию горячего копчения…
— Здравствуйте, Жора, — пропела Люся, старательно выбирая своему поклоннику самых крупных раков и жирную золотистую скумбрию. — Вот самые свежие…
И она протянула Фунтикову тарелку.
— Благодарствуйте, Люсенька, — солидно произнёс Фунтиков и направился с тарелкой в самый тёмный угол кафетерия, где в тот час никого не было.
Здесь, поставив тарелку на высокий столик, Фунтиков вынул из кармана только что украденный бумажник и внимательно осмотрел его снаружи, не заглядывая пока в его отделения.
Это был превосходный, совсем ещё новый бумажник из крокодиловой кожи, на «молниях» с многочисленными карманчиками и отделениями, которые были туго набиты. В самом крупном кармане бумажника, под застёгнутой «молнией», что-то упруго круглилось.
Положив бумажник на мраморный столик, Фунтиков стал неторопливо есть, с аппетитом поглощая нежную, таявшую во рту скумбрию, а за ней горячих раков.
Покончив наконец с едой, Фунтиков взялся за бумажник. В нём оказалось двести с чем-то рублей, несколько американских долларов и немецкие марки. «Улов» был не так уж богат. В другом отделении были обнаружены какие-то записки на иностранном языке, визитная карточка с надписью на обороте и, наконец, фотоплёнка в целлофановом конверте, уже проявленная.
***
Фунтиков вынул плёнку и посмотрел её на свет. На ней было тридцать шесть чётких, ясно видимых фотоснимков каких-то чертежей и конструкций. На трёх из них зоркие глаза Фунтикова разглядели надписи, сделанные очень мелкими русскими буквами.
Фунтиков с большим напряжением всё же разобрал эти надписи, которые гласили: «Сов. секретно. Чертежи и формулы орудия «Л‑2».
Как только Фунтиков прочёл эти слова, он понял, что обворовал иностранного шпиона, врага, сумевшего каким-то путём добыть секретные военные чертежи. С бьющимся от волнения сердцем, забыв даже проститься с Люсей, он выбежал из кафетерия, держа в руках злополучный бумажник. Он ещё не знал, как поступить, что делать, куда и к кому направиться, но всем своим существом ощущал необходимость что-то решить, действовать и прежде всего разобраться в том, что вдруг вспыхнуло и забурлило в его душе и что теперь несло его невесть куда, невесть зачем, не спрашивая его согласия, несло, как несёт внезапно нахлынувший морской вал застигнутого врасплох пловца, даже не пытающегося сопротивляться могучей стихии.
Фунтиков не помнил, как он пробежал по улице Горького до Пушкинской площади, уже не замечая ни прохожих, ни всех чудес весеннего дня, пробежал, как будто за ним гонится кто-то неотвратимый и строгий, как судьба, от которой, как ни старайся, всё равно не убежишь, не скроешься, не спрячешься.
Он не помнил, как очутился на Тверском бульваре, в боковой аллее, полной свежей прохлады, молодой зелени цветущих лип и весёлых криков играющих детей. Он сел на скамью и, может быть, впервые в жизни всерьёз задумался над всем, чем он жил, что делал.
Фунтиков не отдавал себе отчёта в том, что это новое, удивительное состояние острой тревоги и вместе с тем предчувствия счастья, вызванное случаем с бумажником, явится переломным моментом в его жизни, хотя само это происшествие было лишь последней каплей в том, что уже давно наполняло его душу и в чём он сам себе ещё боялся признаться.
Он ещё не понимал, что случай с бумажником вытолкнет его окончательно и навсегда из той жизни и среды, которыми он внутренне уже давно тяготился, но порвать с которыми ещё не находил в себе ни смелости, ни сил. Да, ему требовался какой-то последний, но решающий толчок извне, и именно бумажнику господина Крашке суждено было сыграть роль такого толчка.
Итак, он обокрал шпиона, врага его Родины, да, Родины, потому что, как бы то ни было, это ведь и его Родина. И вот сейчас он, карманный вор с тремя судимостями и тёмным прошлым, может на деле помочь Родине, если только он действительно её сын и если хватит у него смелости доказать это делом, пренебрегая всеми возможными неприятностями, даже тюрьмой, которой может для него кончиться всё случившееся.
Тюрьма… Она была хорошо знакома Фунтикову, и всё-таки он очень боялся её. А тюрьмы, если он пойдёт куда следует и честно заявит о случившемся, видимо, не избежать: ведь он совершил карманную кражу, то есть уголовно наказуемое деяние. И, кроме того, «там» сразу поймут, что он профессиональный вор-рецидивист, не покончивший со своим прошлым, и что этот проклятый бумажник — только последнее звено в длинной цепи совершённых им краж. Налицо 162‑я статья, текст которой он давно знал наизусть и по которой уже не раз судился.
А жизнь так прекрасна и заманчива! И что может быть лучше свободы, вот этих весенних улиц, цветущих лип, тёплых Люсиных губ и её сияющего, нежного взгляда? Ведь он может, не являясь лично, послать в следственные органы этот бумажник и таким образом выполнить свой долг перед государством, ничем при этом не рискуя.
Да, может, но всё-таки это будет не то, совсем не то, потому что его помощь, вероятно, понадобится тем же органам, например, для опознания иностранца с моноклем.
До позднего вечера Фунтиков, забыв обо всех своих личных делах и планах, шатался по Москве, нигде не находя себе места и укрытия от самого себя.
Он провёл мучительную, бессонную ночь и утром, приготовив маленький чемодан с бельём, папиросами, зубной щёткой и одеялом — необходимый набор для тюрьмы, — пошёл в прокуратуру, к народному следователю Бахметьеву, напомнил о себе и попросил выписать ему пропуск, так как он должен сделать заявление «по делу особой государственной важности».
Так Жора-хлястик впервые по своей доброй воле пошёл к следователю…
И хотя это была смерть Жоры-хлястика и рождение Маркела Ивановича Фунтикова, ни в одном загсе столицы не были зарегистрированы ни факт смерти вора, ни факт рождения нового честного человека. Потому что далеко не всё, что происходит в удивительное наше время, регистрируется в ведомственных книгах, но зато подлежит регистрации в великой книге истории нашими потомками, когда благодарно и пытливо они станут изучать трудные и сложные пути, которыми их отцы и деды пробивались к коммунизму, не щадя ни своих сил, ни своих лет, ни самой жизни своей, если только она требовалась во имя общей и великой цели. «Второе рождение» Фунтикова было фактором мелким, незначительным и никак не связанным с главными делами эпохи. Но и в нём, в этом своеобразном факте сказывался дух нового времени.
«Дама треф»
Вейцель задержался в Берлине по приказанию Канариса, осведомлённого в том, что до нападения на Советский Союз остались буквально считанные дни. В связи с этим надо было решить много неотложных вопросов и увязать всю разведывательную работу «Абвера» с гестапо и другими специальными органами, верховное руководство которыми Гитлер поручил Гиммлеру.
В цепи всех этих вопросов всплыла и проблема операции «Сириус», которая особо интересовала германскую разведку потому, что речь шла о новом советском оружии. По некоторым отрывочным данным германская разведка догадывалась, что речь идёт об особой реактивной пушке, представляющей новое слово в оружейной технике.
После долгих обсуждений и консультаций с гестапо и другими разведывательными органами было принято решение возобновить операцию «Сириус» и продолжать её и после открытия военных действий.
Это предварительное решение доложено было Гиммлеру на специально созванном им совещании. Пиккенброк, Канарис и Вейцель участвовали в нём.
Вейцель подробно доложил рейхсфюреру СС всю историю этой злосчастной операции с самого её начала до ужасного происшествия с Крашке. Гиммлер слушал очень внимательно, изредка переглядываясь со своим заместителем, начальником имперского управления безопасности, Эрнстом Кальтенбруннером, молчаливым человеком с большим шрамом на длинном лошадином лице. Судя по некоторым, брошенным вскользь замечаниям Гиммлера, гестапо имело какие-то свои данные о работе Леонтьева и её значении.
Выслушав всех по очереди, Гиммлер сказал:
— Ни для кого из присутствующих здесь не должно быть секретом, что в ближайшем будущем мы начнём войну против Советской России. В этом свете операция «Сириус» приобретает особое значение, так как речь, несомненно, идёт о новом советском оружии, сила которого нам даже приблизительно неизвестна. Вчера я беседовал на эту тему с фюрером. Он считает, что мы должны при любых условиях и любыми способами выяснить, что это за оружие, и овладеть секретом Леонтьева. Поэтому я вынужден бросить на выполнение такого задания свою лучшую агентуру за счёт других операций. Что вы думаете об этом, Кальтенбруннер?
— »Дама треф», — коротко бросил Кальтенбруннер.
— Да, пожалуй, «дама треф»… — протянул Гиммлер. — Правда, мы оголим Ленинград, где она работает, но операция «Сириус» нам сейчас важнее. А в Ленинграде её заменим кем-нибудь другим.
Канарис, Пиккенброк и Вейцель молчали, понятия не имея об этой «даме треф», хотя они и догадывались, что речь идёт о крупном агенте гестапо. Понимали они также, что операция «Сириус» теперь переходит от «Абвера» в гестапо.
***
«Дама треф», которую на совещании у Гиммлера было решено привлечь к дальнейшей работе по операции «Сириус», была старейшим агентом германской разведки и проживала в Ленинграде, где она родилась и провела почти всю свою жизнь. Матильда Казимировна Стрижевская — такова была её фамилия — являлась немкой по матери и полькой по отцу, служившему до революции в галантерейной фирме в качестве коммивояжера.
Мать Матильды Казимировны была когда-то кафешантанной «звездой» и подвизалась на подмостках знаменитого в своё время в Петербурге загородного ресторана «Вилла Роде» в качестве исполнительницы «тирольских песенок». Она была очень красива и пользовалась успехом у публики, посещавшей этот роскошный шантан.
Супруг её, Казимир Антонович Стрижевский, элегантный шатен с модными усиками, почти всё время проводил в разъездах по разным городам и, кроме того, имел неоценимое для мужа «звезды» качество: он не был ревнив. В глубине души он гордился своей женой, имевшей столь шумный успех и немалые заработки, освобождавшие его от необходимости тратиться на её туалеты. Когда же «Виллу Роде» посетил как-то один из великих князей, обративший внимание на исполнительницу «тирольских песенок» и начавший за нею ухаживать, Казимир Антонович пришёл к выводу, что женился необыкновенно удачно. Кроме того, его радовали хозяйственные способности «звезды», которая очень экономно, с чисто немецкой педантичностью вела дом, воспитывала их дочь и постепенно округляла свой текущий счёт в коммерческом банке, где к началу войны даже абонировала личный сейф для хранения драгоценностей. К этому времени Матильда успешно окончила немецкую школу — Аннешуле, куда была определена по желанию родителей, и твёрдо решила пойти по стопам своей матери.
Несмотря на то, что на семейном совете родители, мечтавшие выдать красавицу дочь за богатого помещика или коммерсанта, горячо убеждали её заняться подысканием выгодной «партии», Матильда решила настоять на своём. Вот уже два года, как ей мерещились по ночам подмостки, лепной, залитый светом зал, нарядная публика, бурные аплодисменты, аршинные афиши с её портретами в вызывающих кокетливых позах. Она несколько раз смотрела программу, в которой выступала её мать, и про себя решила, что та несколько тяжеловата, а её тирольский костюм и сентиментальные песенки явно устарели.
Матильда была девушкой с характером, и отговорить её от принятого решения было трудно.
Однажды в «Вечернем Петербурге» она прочитала такое объявление: «Внимание! Первая школа этуалей месье Сержа Баяр! Готовлю в шантан, обучаю манерам и шику. Постановка голоса и мимики. Искусство грима. Гарантия успеха и ангажемента».
Матильда в тот же вечер направилась на Мойку, где помещалась школа этуалей. Её встретил сам месье Серж, уже немолодой человек весьма респектабельной внешности, в смокинге и лаковых туфлях. Он учтиво побеседовал с Матильдой, высоко оценил её внешние данные и согласился зачислить девушку в свою школу. Правда, месье Серж заломил совершенно фантастическую плату за курс обучения, но, заметив смущение Матильды, сказал, что готов в виде исключения пока обучать её за треть назначенной суммы, с тем, что она при первой возможности с ним расплатится, а пока подпишет «векселёк». Семнадцатилетняя девушка, имевшая весьма смутное представление о вексельном праве, подписала бумагу и начала проходить курс шантанных наук.
Школа месье Сержа была поставлена на широкую ногу. Помимо отделения этуалей, у него, как выяснилось, было и другое, где обучались молодые люди, которых он готовил на модное в те годы амплуа «танцкомик-джентльменов», конферансье и чечетников.
В одного из таких будущих «танцкомик-джентльменов» Матильда влюбилась и вскоре с ним сошлась. Через некоторое время он её бросил, и она решила «не быть больше дурой» и заниматься только своей карьерой. Между тем курс обучения затягивался. Скуповатая мамаша почти не давала денег на карманные расходы и одевала дочь более чем скромно. Надо было что-то придумать. И сообразительная Матильда придумала.
В материалах сыскного отделения столичной полиции в Петербурге за два месяца до начала мировой войны было зарегистрированно удивительное происшествие, подробно изложенное в следующем рапорте:
«Его высокопревосходительству господину С.‑Петербургскому Градоначальнику.
Начальника сыскного отделения С.-Петербургской полиции
Рапорт
Докладываю Вашему высокопревосходительству о нижеследующем происшествии, имевшем место 2 сего июня в городе С.‑Петербурге. В двенадцать часов по столичному времени указанного выше числа к магазину ювелира Фаберже, что на Невском проспекте, подъехал роскошный парный выезд, в котором приехала молодая, пока нами не установленная особа. Выйдя из экипажа, остановившегося у витрин фирмы Фаберже, молодая женщина с вуалеткой на лице проследовала в магазин и обратилась к старшему приказчику фирмы, мещанину Зотову, с просьбой показать ей бриллиантовое колье. Зотов предложил даме три колье ценою от десяти до двадцати пяти тысяч, на что «покупательница» обиженным тоном заявила, что это для нее слишком дешёвые «побрякушки» и что она просит показать «что-либо приличнее». Старший приказчик Зотов счёл нужным доложить об этом главе фирмы господину Полю Фаберже, подданному Российской империи, купцу первой гильдии и гласному столичной городской думы.
Господин Фаберже пригласил покупательницу в свой кабинет и лично предложил ей самое дорогое колье, имевшееся в тот момент у него, ценою в семьдесять пять тысяч рублей. При этом господин Фаберже пояснил молодой даме, что упомянутое колье было им специально заказано в Амстердаме по просьбе одного из членов царствующей фамилии, но что оно не было приобретено последним по причинам, к качеству колье не относящимся.
Осмотрев колье, дама пояснила господину Фаберже, что она является женою известного в столице профессора, невропатолога и психиатра, академика Бехтерева, что колье ей нравится, но она хотела бы сначала показать его мужу. Господин Фаберже предложил даме командировать с ней своего старшего приказчика, названного выше Зотова, который, в случае если колье понравится господину профессору Бехтереву, получит за него чек.
В двенадцать часов тридцать минут дама в сопровождении упомянутого Зотова уселась в свой экипаж и проследовала на квартиру господина профессора Бехтерева, в доме номер 1 по Надеждинской улице Бассейной части.
Когда Зотов, следуя за дамой, вошёл в квартиру Бехтерева, то застал в приёмной несколько лиц разного пола, ожидавших приёма к профессору. Дама объявила ожидающим больным, что она супруга профессора, и проследовала в его кабинет, откуда сразу вышел находившийся на приёме больной, которого она попросила несколько минут обождать. Вскоре дама вышла из кабинета и, обратившись к поджидавшему её Зотову, сказала, что её муж согласен приобрести колье и сейчас выдаст Зотову чек, за которым он и должен пройти в кабинет профессора. Зотов прошёл в кабинет Бехтерева, который встретил его весьма приветливо, предложил сесть и, к удивлению Зотова, начал его расспрашивать о здоровье. Зотов из вежливости ответил профессору, что не жалуется на здоровье, и попросил выдать чек за колье.
— Знаю, знаю, — ответил профессор Бехтерев, — если не ошибаюсь, вам угодно получить за это колье ровно семьдесять пять тысяч?
— Совершенно верно, господин профессор, — сказал Зотов, — извините, что я тороплюсь, но сейчас в нашем магазине самый горячий час.
— Понимаю, понимаю, — произнёс Бехтерев, — я вас долго не задержу.
И, к удивлению Зотова, начал его осматривать не давая чека.
Лишь через полчаса выяснилось, что как мещанин Зотов, так и господин профессор Бехтерев стали жертвой самого дерзкого мошенничества. Оказалось, что эта дама не только не является супругой профессора, но вообще совершенно ему неизвестна и что, зайдя в кабинет профессора, она, наоборот, представила ему в качестве своего мужа упомянутого Зотова, заявив, что он страдает в последнее время манией получения семидесяти пяти тысяч за какое-то колье. Молодая женщина просила профессора внимательно осмотреть её мужа и при этом предупреждала, чтобы он не спорил с ним, когда речь зайдёт о выплате денег за колье, ибо больной, если с ним спорят по этому вопросу, приходит в сильнейшее нервное возбуждение, вплоть до припадка.
Докладывая о сём исключительном происшествии Вашему вы сокопревосходительству, присовокупляю, что полицейское дознание по этому делу производится под личным моим руководством и что оно мною поручено инспектору сыска Штальману, лично Вашему высокопревосходительству известному, в прошлом не раз обнаружившему похвальное рвение к службе и способности в сыскном деле.
О последующем буду неукоснительно докладывать Вашему высокопревосходительству».
***
Столичный градоначальник дважды интересовался ходом полицейского дознания по этому делу и неизменно получал ответ, что «все меры к установлению личности злоумышленницы приняты, но пока ещё определённых результатов не дали».
Так выглядело это любопытное происшествие по материалам столичной сыскной полиции.
Гораздо полнее, впрочем, оно было освещено в секретных данных германской военной разведки. Дело в том, что Отто Штальман, обнаруживший «похвальное рвение к службе и способности в сыскном деле», был не только инспектором сыскного отделения, но и агентом германской военной разведки. Занявшись розыском дерзкой мошенницы, обманувшей Фаберже, Зотова и профессора Бехтерева, Штальман рассказал об этом при очередном свидании резиденту германской разведки, с которым он был связан.
Тот сначала рассмеялся, а затем, когда Штальман добавил, что, по словам Фаберже, Зотова и Бехтерева, эта женщина не только молода, но и очень красива, задумался и сказал:
— Вот что, дорогой мой. Вам надо во что бы то ни стало обнаружить эту особу, но только не для полиции, а для нас. При таких данных мы получим превосходного агента… Понятно?
Штальман понял. Он усилил свои старания, обнаружил парного лихача, которого наняла Матильда на три часа для проведения всей хорошо ею обдуманной комбинации, и в конце концов разыскал Матильду.
Когда Штальман «снял» её на улице у подъезда школы этуалей, откуда она выходила после очередного урока, и предъявил свой полицейский значок, она ни на минуту не растерялась.
Штальман повёз её прямо к резиденту. Тот сразу оценил внешние данные и самообладание молодой девушки и пришёл в полный восторг, когда выяснил, что она по матери немка.
Перед Матильдой Стрижевской была поставлена дилемма: либо она станет агентом германской разведки и будет выполнять определённые задания, получая за это вознаграждение, либо будет передана в руки столичной полиции за совершенное ею дерзкое мошенничество и получит арестантские роты.
— Вы по своим задаткам талантливая авантюристка, — сказал ей патрон Штальмана, пожилой сухощавый немец с русским паспортом и норвежской фамилией, — и ваша выдумка с этим колье, право, характеризует вас как одарённую натуру. Я предсказываю вам, дорогая моя, блестящую будущность, если, конечно, вы не влюбитесь в какого-нибудь шулера, который станет сосать вас, как пиявка. У нас вы пройдёте настоящую школу и поймёте, что такое настоящая жизнь. Итак, слово за вами.
— У меня нет иного выхода, как принять ваше предложение, месье, — ответила Матильда тоном хорошо воспитанной барышни, — хотя я далеко не уверена, что это сулит мне такое блестящее будущее, как вы говорите. Во всяком случае, эта работа кажется мне занятной… Если к тому же она будет прилично оплачиваться…
И она в тот же вечер дала подписку и стала «дамой треф».
Через два месяца началась первая мировая война. «Дама треф» оправдала все ожидания и даже превзошла их. Но она осталась верной своей девической мечте и стала «звездой» шантана, что, кстати, было вполне одобрено её «крестным отцом», как любил лирически именовать себя пожилой немец с норвежской фамилией.
Шантан открывал перед Матильдой большие возможности. «Дама Треф» заводила здесь знакомства среди высокопоставленных офицеров генерального штаба, крупных железнодорожных тузов, богатых интендантов, наживавших миллионы на армейских поставках, столичных журналистов, всегда знавших все новости военной и политической жизни, жандармских полковников и ротмистров.
Умная, наблюдательная, находчивая, с отличной памятью и действительно авантюристическими склонностями, «дама треф» умела войти в доверие, притвориться наивной простушкой, когда это требовалось; из обрывков фраз и брошенных вскользь замечаний она вылавливала ценные сведения.
Её донесения всегда отличались конкретностью, точным анализом обстановки, правильными характеристиками лиц, интересовавших почему-либо германскую разведку. Она удивительно быстро для своих лет научилась подмечать человеческие слабости, тайные пороки. Атмосфера шантанного угара, в которой она вращалась и действовала, способствовала её удачам. Здесь люди, вызывавшие её деловой интерес, представали перед нею в большинстве случаев в состоянии опьянения вином, красивыми доступными женщинами, дразнящей лёгкой музыкой. И «дама треф» умело пользовалась этим, тем более что многие из них были людьми опустошёнными, развращёнными праздной жизнью и богатством.
Но репутация «дамы треф» как агента особенно укрепилась после того, как она, сойдясь с одним видным офицером генерального штаба, выкрала у него важные стратегические документы.
С годами «дама треф» всё более втягивалась в «работу», которая устраивала её во всех отношениях. Во-первых, она хорошо оплачивалась, а «дама треф» любила деньги. Во-вторых, эта двойная жизнь с постоянным риском, приятно щекотавшим нервы, с многочисленными, часто менявшимися знакомствами и связями, ночными кутежами, катаниями на автомобилях и тройках, пышными балами и ресторанами, театральными премьерами и дорогими туалетами вполне отвечала её вкусам и характеру.
Конечно, такая жизнь не могла не отразиться на её внешности и здоровье. С первыми вначале незаметными морщинками и складками на лице пришли головные боли по утрам, апатия, изжога. «Дама треф» выглядела значительно старше своих лет.
Потом пришла революция, пал царский режим, начались митинги, собрания, демонстрации. После Октябрьской революции «дама треф» растерялась. Шантаны закрылись, её обычные поклонники исчезли невесть куда, её «патрон» тоже загадочно сгинул, даже не предупредив её. Отца арестовали за спекуляцию, мать умерла от воспаления лёгких, знакомых почти не было. Жить становилось всё труднее, тем более что поступать на службу она не хотела.
Матильда возненавидела новый строй, лишивший её всего, к чему она привыкла и без чего не желала обходиться. Поразмыслив, «дама треф» стала хироманткой и открыла тайный «салон предсказаний». В этой новой деятельности ей помогали навыки, приобретённые в прошедшие годы, умение быстро ориентироваться в человеческой психологии.
Новая профессия давала скромный, но верный доход. Но всё-таки Матильде Казимировне было скучно.
А жизнь шла, и с каждым годом Матильда Стрижевская всё больше ненавидела то новое, что каждодневно росло и укреплялось на её глазах, за окнами её комнаты, в городе и стране, в которой она жила. За эти годы Матильда Казимировна сильно изменилась, и в 1925 году, когда она внезапно, после многолетнего перерыва, встретилась со своим старым «патроном», она уже была немолодой, грузной женщиной, выглядевшей гораздо старше своих тридцати лет.
И вот в один из июльских вечеров 1925 года — короткий звонок в прихожей и чей-то страшно знакомый, но позабытый голос спрашивает, дома ли Матильда Казимировна. Она выбежала, как девочка, в коридор и ахнула от удивления. Перед нею стоял «патрон», ничуть не изменившийся за эти годы — такой же подтянутый, сухощавый, спокойный, с тем же холодным, цепким взглядом.
— Здравствуйте, дорогая Матильда Казимировна, — произнёс он таким тоном, как будто они виделись вчера. — Я искренне рад вас видеть.
— Здравствуйте, — радостно и даже чуть смущённо произнесла она и пригласила неожиданного гостя в комнату.
Они разговаривали долго, до поздней ночи. «Патрон» сообщил, что он снова намерен обосноваться в Ленинграде и работать по старой специальности, в связи с чем очень рассчитывает на «даму треф». На этот раз он приехал уже с польским паспортом, но намерен хлопотать о переходе в советское гражданство.
Конечно, он подчеркнул, что по-прежнему работает для Германии и что, как он рассчитывает, фрау Матильда, как немка по крови, это оценит.
Так возобновилась «работа» Матильды Казимировны для германской разведки, и вновь ожила «дама треф».
Разумеется, в новых условиях было гораздо сложнее работать, чем в годы первой мировой войны. Но постепенно, используя частично свои новые знакомства в среде посетительниц «салона предсказаний», а также приобретая всё новые навыки, «дама треф» восстановила свою старую репутацию.
Весной 1941 года, когда в ставке Гитлера уже лежал полностью разработанный и подписанный вариант «Барбаросса», «дама треф» получила новое важное задание: выяснить, в каком именно пункте Ленинграда сосредоточены продовольственные резервы города, каково примерно их количество, каковы каналы пополнения этих резервов и сроки их освежения. «Дама треф» принялась за работу. Среди её посетительниц была одна женщина, муж которой работал в ленинградском торготделе как раз по продовольственным товарам. Через посредство этой молодящейся болтливой дамы, а также при помощи других связей «дама треф» выяснила, что продовольственные запасы города в основном сосредоточены на Бадаевских складах, приблизительно узнала об их количестве.
Именно в это время ей было предложено выехать на несколько дней в Москву, а оттуда в Ясную Поляну для личной встречи с представителем гестапо, прибывшим в Москву под видом немецкого дипкурьера.
При этом в адрес Матильды Казимировны Стрижевской на Третьей Линии Васильевского острова поступила такая телеграмма:
«Дорогая тётя, мама очень больна, хочет обязательно с тобой проститься. Выезжай немедленно. Валя».
Само собой разумеется, что никакой сестры в Москве у Матильды Казимировны не было, но такая телеграмма была полезна — она объясняла неожиданный выезд в Москву.
Перед отъездом Стрижевская получила от своего нового шефа (старый её «патрон» уже несколько лет назад покинул Ленинград) инструкции, как и где встретиться с тем лицом, которое хотело её повидать.
В Москве «дама треф» покаталась на метро, несколько раз меняя маршруты, затем села в такси, поехала на Курский вокзал и там взяла железнодорожный билет до Тулы. Приехав в Тулу, она побродила по городу и, убедившись, что за нею никто не следит, села в автобус местного сообщения, направлявшийся в Ясную Поляну.
В этот будничный день в Ясной Поляне было мало посетителей, на что и рассчитывали организаторы встречи.
Приехав в Ясную Поляну и посетив музей-усадьбу Л. Н. Толстого, «дама треф», производившая впечатление провинциальной учительницы, неторопливо направилась по шоссе к автобусной остановке. Вскоре на сравнительно пустынном шоссе появился «мерседес», который ещё издали дал три коротких, заранее обусловленных сигнала. Стрижевская подняла руку, как бы прося её подвезти. Машина остановилась, распахнулась дверца, и «дама треф», услужливо подхваченная пассажиром машины, села в кабину. «Мерседес» сразу помчался дальше, оставляя за собой клубы пыли.
Представитель гестапо, человек средних лет, в золотых очках, заговорил с Матильдой Казимировной по-немецки. Убедившись, что она именно та женщина, ради которой он совершил поездку в Ясную Поляну (такая поездка никого не могла удивить, так как многие иностранцы посещали Ясную Поляну), представитель гестапо подробно ввёл «даму треф» в курс её нового задания. Он рассказал о всех деталях операции «Сириус», подчеркнув особое значение этого задания. Он сообщил ей все данные о личности Леонтьева, которые были известны, и поделился разработанным в гестапо планом дальнейших мероприятий. Матильда Казимировна слушала очень внимательно и даже кое-что записала, разумеется, зашифровав эти записи.
План этот в первой своей части сводился к тому, что «дама треф» должна выехать в Челябинск, куда, по-видимому, на продолжительное время переехал Леонтьев, постараться там устроиться на заводе, на котором он будет работать, и завязать с ним знакомство. Пожилой возраст «дамы треф» и её открытое, добродушное лицо должны были исключить какие бы то ни было подозрения.
— А дальше, фрау Матильда, — сказал, улыбнувшись, представитель гестапо, — мы вполне рассчитываем на ваш опыт и ваши способности. Конечно, вам нужно действовать крайне осмотрительно, так как после несчастья с Крашке как сам Леонтьев, так и его работа находятся, несомненно, под самой тщательной охраной. Поэтому не очень торопитесь, продумывайте каждый свой шаг, каждое слово, каждую встречу.
Машина остановилась у густого леса, подходившего стеной к самому краю асфальтированного шоссе. Оно было пустынно в этот вечерний час, и новый знакомый «дамы треф» предложил ей погулять.
Они вышли из машины и пошли бродить среди сосен, позолоченных лучами заката. Они шли медленно, часто останавливаясь и отдыхая на полянах, ведя оживлённый, но тихий разговор. «Дама треф» изредка нагибалась, чтобы сорвать весенний цветок, и, право, никому, кто видел бы в этой обстановке её добродушное лицо, седые волосы и скромный костюм, не пришло бы в голову, что перед ним матёрая, видавшая виды шпионка.
Уже синели сумерки, когда они вышли на шоссе к поджидавшей их машине. Сильный «мерседес» помчался по гладкой асфальтированной дороге, мягко и уверенно пел его мотор.
Уже к ночи они подъехали к Москве, где Стрижевская вышла на пустынной заставе, в почти пустом ночном трамвае добралась до Октябрьского вокзала и в два часа ночи села в почтовый поезд, отправлявшийся в Ленинград.
Через несколько дней она выехала в Челябинск.
Конструктор Леонтьев
Между тем конструктор Леонтьев, причинивший, сам того не зная, столько хлопот германской разведке, вернулся в Москву из Челябинска, куда он ездил в командировку. В Москву он приехал в том состоянии особого радостного подъёма, которое всегда приносит упорный труд, когда он близится к успешному завершению.
Да, успех явно определился, и после многих скрупулёзных лабораторных проверок и испытаний новое орудие, сконструированное Леонтьевым, было запущено в производство на одном из челябинских заводов.
Выйдя из подъезда Северного вокзала, Леонтьев сел в ожидавшую его машину и велел шофёру сначала заехать в институт, так как ему хотелось поговорить с директором о челябинских делах.
Румяный коренастый крепыш с открытым, чисто русским лицом и умным, внимательным взглядом, всегда ровный и сосредоточенный — таков был человек, являвшийся главным объектом операции «Сириус».
Сын паровозного машиниста, Николай Леонтьев ещё в детские годы обнаружил недюжинные способности и стремление к технике. Частенько, поглядывая, как Коленька, единственный сын, целыми днями что-то строгает, клеит, пилит и сооружает, покойный Пётр Николаевич только довольно крякал и весело подмигивал жене.
С годами всё больше дивился отец изобретательности сына. Каких только замысловатых игрушек он не мастерил!.. И особенно радовало Петра Николаевича, что в каждой игрушке проявлялась какая-то новая занятная выдумка, удивительная для десятилетнего мальчугана.
Коля рано научился читать и очень любил книги. Мальчик был в меру шаловлив, совсем не походил на гениального ребёнка, но было в нём что-то такое, что отличало его от других детей: умение глубоко сосредоточиться, острая, настойчивая любознательность, желание всё пощупать своими руками, подробно во всём разобраться.
Петру Николаевичу очень хотелось, чтобы Коленька со временем стал паровозным машинистом. Старик прямо не говорил об этом сыну, но начал постепенно приучать его к паровозу, а в летние месяцы иногда брал его с собой в рейс.
Но всё-таки паровоз не увлёк Колю, и этак году на пятнадцатом мальчик заявил, что локомотив вообще машина отмирающая и будущего не имеет. Расстроился тогда Петр Николаевич, но виду не подал и спорить не стал.
Окончив среднюю школу, Коля поступил в Ленинградский технологический институт.
Он окончил его с отличием, но отказался от аспирантуры и, к общему удивлению, заявил, что теперь года на два пойдёт к станку, на завод. И в самом деле добился своего: стал рядовым слесарем-сборщиком и через два года получил седьмой разряд.
Лишь после этого Леонтьев счёл себя подготовленным для той деятельности, о которой давно мечтал.
Успешно окончив аспирантуру, он поступил в тот самый институт, в котором работал и теперь.
За пять лет до этого он женился на молодой актрисе одного из маленьких московских театров, но года через два узнал, что жена обманывает его. Они разошлись, и Леонтьев с головой погрузился в работу, утопив в ней своё горе.
***
Приехав прямо с вокзала в институт, Леонтьев сразу окунулся в давно знакомую, родную атмосферу. Инженеры и лаборанты, работавшие под его руководством, встретили Николая Петровича с радостью и поспешили доложить, что все составленные им задания выполнены в установленные сроки.
Проходя по вестибюлю в кабинет директора, Леонтьев заметил траурное объявление, вывешенное на доске приказов. Местком института с прискорбием извещал сотрудников о внезапной смерти вахтёра товарища Голубцова и о том, что его похороны состоятся на следующий день.
Леонтьев сразу вспомнил этого добродушного человека, который не раз приходил к нему в кабинет и с трогательной непосредственностью справлялся о здоровье, настроении и делах. Леонтьев угощал «старого чапаевца» папиросами и отвечал, что со здоровьем всё обстоит благополучно, настроение бодрое, а дела полегоньку двигаются.
«Я потому о делах справляюсь, — неизменно вставлял Петрович, — что, сами видите, много врагов у нашего рабочего государства: не по душе, вишь, дьяволам, что мы сами своей жизни хозяева и уж до коммунизма малость какая осталась. Так вот, на случай чего, надо кое-что и про нас иметь… Одним словом, по вашей части…»
И он добродушно, но с оттенком почтительности чуть хлопал конструктора по плечу и с непременным восклицанием: «Башка! Душа радуется!» уходил из кабинета.
Завхоз института, тоже вышедший в вестибюль, поздоровался с Леонтьевым и на его вопрос, что же случилось с Петровичем, ответил, что Голубцов накануне утром, сдав дежурство, случайно попал под грузовую машину, которая раздавила его.
— Жалко, хороший был старик, — с искренним вздохом закончил завхоз, — службист и свой в доску… Да тут он ещё ночью взволновался, вот и попал под машину…
— А что его взволновало? — спросил Леонтьев.
— Это уж вам пусть директор скажет, — загадочно произнёс завхоз. — Извините, тороплюсь…
И сразу исчез.
Леонтьев прошёл к директору, который очень ему обрадовался и, закрыв дверь кабинета и сказав секретарше, чтобы его ни с кем не соединяли по телефону, сел рядом с Леонтьевым на диван и стал молча набивать трубку. Он был чем-то встревожен.
— Что случилось, Иван Терентьевич? — спросил Леонтьев, почуяв недоброе.
— Сам не пойму! — развёл руками директор. — Вот расскажу всё по секрету. Никто, кроме вас, об этом не должен знать…
И, пуская клубы дыма, рассказал, что накануне днём он был вызван в следственные органы, где ему предъявили фотоснимки секретных чертежей и расчётов нового орудия Леонтьева.
— Что? — вскочил Леонтьев, бледный как полотно. — Не может быть!..
— И я так думал, — произнёс директор, — пока своими глазами не увидел эти фотоснимки. Главное, все переснятые документы, по справке нашего спецотдела, хранились в вашем сейфе, а он был заперт и опечатан…
— В том-то и дело! — вскричал Леонтьев.
— Но факт остаётся фактом, — продолжал директор, — документы сфотографированы. Я сам, своими глазами, видел тридцать шесть снимков — целую плёнку… Но вы не волнуйтесь, — добавил он, заметив, что у Леонтьева исказилось лицо.
— Ну как же не волноваться! — горячо воскликнул Леонтьев. — Ведь это же!.. Это просто необъяснимо… У нас в институте вскрыли сейф!..
— В том-то и дело, что никто его не вскрыл, — сказал директор, волнуясь не меньше Леонтьева. — И сейф и сургучная печать были в полном порядке…
— Час от часу не легче! — почти закричал Леонтьев. — Как же в таком случае сфотографировали документы? Кто их сфотографировал?
— Дело в том, — разъяснил директор, — что сейф, оказывается, кто-то открывал. Вчера, после того как я опознал фотографии, сюда приехали со мной следователь и эксперты. Это было уже ночью, когда никого из работников института, кроме дежурных вахтёров, не было. Мы вызвали начальника нашего спецотдела, он достал сургучную печать и ключ от вашего сейфа, которые вы ему оставили перед отъездом в командировку.
— Совершенно верно, — сказал Леонтьев.
— Правильно. Одним словом, сделали новый оттиск сургучной печати и под сильной лупой сравнили его с печатью, которая была на сейфе. Показалось, что есть крохотная разница. Тогда оба оттиска сфотографировали каким-то особым аппаратом, сильно увеличили снимки и выяснили, что ваш сейф опечатан поддельной печатью, которая хотя и сделана весьма искусно, но при тщательном сопоставлении обнаруживается несоответствие, главным образом в глубине вырезного шрифта. Тут уж взялись за ваш сейф основательно. Под микроскопом исследовали ключевину замка и обнаружили мельчайшие пылинки, точнее — крошки какой-то массы. Короче говоря, химическая экспертиза установила, что в ключевину замка вводился для слепка специальный пластилин. Вот каким образом появились поддельный ключ и поддельная печать.
Леонтьев слушал рассказ директора с понятным волнением человека, неожиданно столкнувшегося со страшным преступлением, направленным против его Родины.
Он не мог представить, кто способствовал врагу здесь, в этих стенах, в этом коллективе, сплочённом общей многолетней работой, коллективе, который он сам в значительной мере создал и которым в глубине души гордился?
Естественно, что Леонтьев, взволнованный этими новостями, даже забыл спросить директора об обстоятельствах гибели Петровича, на которые ему глухо намекнул завхоз.
А между тем гибель Голубцова и события, о которых говорил директор, были непосредственно связаны…
Голубцов, с которым Крашке внезапно прекратил всякую связь, ломал себе голову, чем это объяснить, и строил самые фантастические предположения по этому поводу. Его взволновал не столько факт непонятного исчезновения господина Крашке, сколько страх перед возможным разоблачением. Он потерял сон, и если на короткое время забывался, то просыпался от кошмаров, которые ему всё время мерещились. Ему чудился то шум машины, подъехавшей ночью к дому (приехали за ним!), то скрип шагов под окнами, то стук в дверь…
Выходя из дому и направляясь в институт или возвращаясь домой, «король бубен» всё время оглядывался, вздрагивал — в каждом прохожем ему мерещился человек, следящий за ним, чтобы его арестовать.
Цепкий, животный страх не отпускал его ни на минуту, не давал передышки. Голубцов не мог ни о чём спокойно думать, не мог есть, дышать. В короткий срок «король бубен» страшно осунулся, нервные и сердечные приступы всё чаще одолевали его. Он давно уже не пел «Ты сидишь у камина и смотришь с тоской…», не раскладывал по вечерам любимый пасьянс «могила Наполеона». И даже водка не могла заглушить этого колючего ужаса, этого затянувшегося кошмара.
Как спастись, куда бежать?.. И разве можно убежать от самого себя?
Ожидание расплаты для предателя не менее страшно, чем сама расплата.
Накануне гибели «король бубен» пришёл на ночное дежурство всё в том же душевном состоянии. Уже после полуночи к подъезду института подъехала машина, из которой вышли директор и трое в штатском, которых Голубцов никогда не видал.
Дрожащими руками вахтёр отворил им дверь, и они пошли наверх, в кабинет Леонтьева. Минут через двадцать, видимо, по их вызову приехал и начальник спецотдела института.
«Король бубен» почувствовал начало очередного приступа и принял сразу две таблетки нитроглицерина. Сердце немного отошло, и, сняв туфли, Голубцов тихо прокрался на второй этаж и заглянул в замочную скважину двери, ведущей в кабинет Леонтьева.
Всё было ясно: люди, пришедшие с директором, рассматривали в лупу замок того самого сейфа, из которого он первого мая извлёк чертежи и потом сфотографировал их, как его обучил этот проклятый немец с моноклем!
Значит, всё раскрыто и не сегодня-завтра придёт конец!
Уже на рассвете ночные посетители и директор уехали, а начальник спецотдела прошёл к себе…
«Король бубен» окончательно решил — хватит!.. И, выйдя на улицу, бросился под колёса мчавшейся навстречу пятитонки.
Когда приехала карета «скорой помощи», Голубцов был уже мёртв.
Так выпала из колоды гитлеровской разведки ещё одна карта.
Следователь Ларцев
Старший следователь Ларцев, которому было поручено расследование по поводу плёнки со снимками секретных чертежей и формул нового орудия, сконструированного Леонтьевым, имел многолетний опыт следственной работы в советской контрразведке.
В тот день, когда начальник Ларцева, вызвав его к себе, передал ему бумажник господина Крашке со всем, что в нём находилось, и подробно рассказал Ларцеву, каким образом этот бумажник попал в руки следственных органов, они оба подробно обсудили это дело и наметили все необходимые мероприятия.
Было очевидно, благодаря содержимому бумажника, что в данном случае они имеют дело с немецкой разведкой.
На следующий день Ларцев узнал, что Крашке и Шеринг спешно покинули Москву, — было ясно, что они даже не попытаются вернуться обратно и, так сказать, вышли из игры.
Очень скоро был установлен и объект их деятельности, то есть институт, в котором работал Леонтьев, и чертежи и формулы его открытия, которые были сфотографированы.
Ларцев был одним из трёх сотрудников органов безопасности, приехавших ночью в институт и производивших осмотр сейфа, в котором хранились секретные документы Леонтьева, сфотографированные по заданию немецкой разведки.
Установив, что сейф был открыт и опечатан при помощи поддельных ключа и печати, Ларцев встал перед вопросом: кто из работников института замешан в этом преступлении?
Перед следователем стояла, таким образом, задача: первое — установить агентуру врага, проникшую в секретный институт; второе — оградить самого Леонтьева и его открытие от возможных посягательств вражеской разведки в дальнейшем.
Ларцев не только разрешил директору института информировать Леонтьева о случившемся, но и счёл необходимым побеседовать с конструктором и по возможности успокоить его. Это удалось ему: он разъяснил Леонтьеву, что вражеская разведка не успела ещё воспользоваться фотоснимками, так как плёнка только отправлялась в Берлин и, следовательно, подлежала дальнейшему использованию там. Кроме того, как выяснилось, сфотографированные документы ещё не давали сами по себе возможности получить полное представление о работах Леонтьева в целом, другие же документы хранились не в институте, а частично были отправлены в Челябинск.
Провал немецкой разведки отнюдь не исключал того, что она захочет взять реванш и попытается найти другие ходы в охоте за Леонтьевым и его работами.
Ларцев, как опытный контрразведчик, хорошо изучивший особенности гитлеровской разведки, знал, что, отличаясь известной грубостью в методах работы, она нередко проявляет большую настойчивость и после провала той или иной операции имеет обыкновение возвращаться к ней.
В данном случае этот общий вывод подтверждался хотя бы тем, что после разоблачения и провала в институте агента, сотрудничавшего с предшественником Крашке, шпионы снова вернулись к этому объекту.
Это с несомненностью указывало, что в Берлине отдают себе отчёт в значении работ конструктора Леонтьева.
Когда Ларцеву стало известно о гибели Голубцова, происшедшей на исходе той самой ночи, когда он посетил институт и производил осмотр сейфа, он прежде всего познакомился с делом по обвинению шофёра пятитонки, под колёсами которой погиб Голубцов. Дело было принято Ларцевым к своему производству.
Шофёр — фамилия его была Сазонов — не признавал себя виновным в нарушении правил уличного движения и упорно утверждал, что Голубцов сам бросился под машину. Ларцев лично допросил Сазонова и убедился, что он показывает правду.
Сазонов был уже немолодой человек, шофёр второго класса, опытный и дисциплинированный водитель. В том, как он горячо и искренне отстаивал свою невиновность, не отказываясь при этом от некоторых деталей, говоривших, казалось бы, против него (так, например, он сразу признал, что не давал сигнала), во всём его поведении на допросе — очевидной скромности, правдивости, волнении человека, на которого незаслуженно свалилось тяжкое обвинение, — Ларцев, как чуткий следователь, усмотрел несомненные доказательства его правоты.
Наконец, в пользу Сазонова говорило и то, что, имея все возможности скрыться в этот предрассветный час, когда на улице никого не было, он этого не сделал, а, наоборот, сам вызвал «скорую помощь» и работников милиции.
Ларцев пожал руку этому неповинному человеку и написал постановление о прекращении возбуждённого против него дела.
Как всегда, когда он писал постановление в прекращении дела — постановление, возвращавшее случайно обвиненному человеку свободу и честь, — так и в этом случае Ларцев делал это с радостью и волнующим сознанием огромного значения своей работы, от которой нередко зависели судьбы людей, их доброе имя, их будущее и будущее их семьи.
Ларцев принадлежал к той славной категории чекистов, воспитанных Дзержинским, которые всегда помнили наставление своего великого учителя — бояться как огня душевной чёрствости, холодного равнодушия к человеческой судьбе и с такой же настойчивостью и силой защищать невиновного, случайно запутавшегося или оклеветанного человека, с какой разоблачать подлинных врагов Советского государства.
Оглядываясь назад, на многие годы своей следственной работы, Ларцев с равным удовлетворением вспоминал как дела, по которым ему удавалось раскрыть самые искусные и коварные происки врагов и обнаружить преступников, так и дела, по которым ему пришлось затратить не меньше усилий и настойчивости для реабилитации честных советских людей, над которыми, в силу того или иного стечения обстоятельств (иногда случайных, а нередко и сознательно сфальсифицированных врагами его Родины), нависала чёрная и, казалось, беспросветная туча незаслуженного и тяжкого обвинения.
Григорий Ефремович — так звали Ларцева — любил свою трудную профессию, хотя она и стоила ему бессонных ночей, огромного нервного напряжения и нередко надолго разлучала с семьёй. Он любил свою работу потому, что он сам творчески к ней относился. Он любил даже те муки, которые приносила эта работа: горечь неподтвердившихся версий, представлявшихся такими верными и потом вдруг оказавшихся ошибочными; ночную бессонницу, когда, не выпуская дымящейся папиросы изо рта, он часами расхаживал по своему кабинету, напрягая мысль и всю свою интуицию в поисках правильного решения очередной следственной задачи, запутанной, как головоломка; постоянное напряжение, необходимое для того, чтобы верно и вовремя разгадать маневры врага и тем самым предотвратить серьёзнейшие последствия. Он сознавал огромную ответственность за каждое дело, за каждый вывод, за каждого человека, судьба которого связана с этими выводами, понимал необходимость быть при всём этом неизменно спокойным, внутренне собранным, способным к холодному и трезвому анализу показаний, документов и вещественных доказательств.
Ларцев любил свою профессию и за то, что она изо дня в день, из месяца в месяц сталкивала его лицом к лицу с огромным многообразием жизненных явлений, конфликтов и человеческих характеров; за то, что он никогда не знал сегодня, над каким делом ему предстоит работать завтра, но всегда знал, что каждое новое дело, независимо от его характера, принесёт свои, только этому делу присущие особенности, и, следовательно, новые наблюдения, и новый опыт. Это дело не будет похожим ни на какие другие дела — по характеру преступления, или по его мотивам, или последствиям, или по методу совершения преступления, или по способам сокрытия его следов. Ни один из людей, проходящих по этому новому делу, не будет похож на тех, с которыми ему приходилось сталкиваться по предыдущим делам.
И, наконец, он любил свою профессию за то, что почти четверть века его следственной работы, обнажавшей нередко глубины человеческого падения и сталкивавшей его с самыми низменными характерами и самыми кровавыми и страшными преступлениями, порождёнными ненавистью к советскому строю, ревностью, жадностью, местью, карьеризмом, — эта четверть века не подточила его любви к людям. Напротив, с годами окрепла эта любовь, помноженная на твёрдое сознание, что будущее, за которое борется партия и народ, навсегда исключит возможность возникновения преступлений.
И, может быть, самым удивительным в характере Ларцева было то, что он, изо дня в день сталкиваясь с мерзостями человеческими, был по-юношески жизнерадостен, любил людей, всем своим существом ощущал красоту жизни и потому так беззаветно и страстно боролся с её врагами.
Обыск
Придя к выводу, что Голубцов покончил жизнь самоубийством, Ларцев решил произвести обыск в его квартире. Предварительно он установил, что Голубцов жил одиноко и родственников не имел.
Как опытный криминалист Григорий Ефремович давно пришёл к выводу, что обстановка, в которой живёт человек, его вещи, книги, вкусы, образ жизни, даже манера одеваться характерны для всего его психологического склада и морального облика. Вот почему он с интересом, очень подробно и тщательно приступил к осмотру квартиры Голубцова в деревянном домишке Измайлова.
По мере ознакомления со всей обстановкой квартиры и вещами, находящимися в ней, в сознании Ларцева всё более отчётливо складывалось впечатление: нора!
Да, это и в самом деле звериная нора, в которой затаился от всего окружающего мира враждебный этому миру зверь, трусливый, но готовый при первой возможности больно укусить.
Комната Голубцова была запущена, давно не убиралась, толстый слой пыли осел на мебели и вещах, расспросив богомольную старушку, жившую за стеной, Ларцев выяснил, что Голубцов прежде аккуратно убирал свою комнату и только в последнее время так её запустил.
— Он последние дни всё ходил сам не свой, — рассказывала старушка, — даже по утрам умываться перестал и петь бросил. То, бывало, всё на гитаре играет и песни поёт, а тут перестал…
Ларцев подробно расспросил эту женщину, когда именно Голубцов стал так хандрить, и из её ответов заключил, что это случилось вскоре после происшествия с Крашке на Белорусском вокзале.
Самый обыск тоже дал интересные результаты.
В сундуке Голубцова был обнаружен фотоаппарат «лейка» с особым светосильным объективом, приспособленным для фотосъёмки документов. Ларцеву уже дважды приходилось видеть такие специальные объективы, взятые при аресте агентов германской разведки. Но, видимо, этого не знал Голубцов. Иначе он, опасаясь разоблачения, не держал бы этот аппарат дома.
Там же, в сундуке, Ларцев нашёл несколько катушек плёнки «Агфа», очень высокой чувствительности, мелкозернистой, тоже, несомненно, приспособленной для специальных фотосъёмок. В то время в Москве такая плёнка не продавалась, и её не имели даже фотографы-профессионалы.
Среди бумаг покойного Григорий Ефремович обнаружил восемнадцать тысяч рублей и сберегательную книжку, на которой числилось двадцать семь тысяч, из них двадцать одна была вложена сравнительно недавно в три приёма, в течение полутора месяцев, что также заслуживало внимания.
И, наконец, в мусорном ящике, стоявшем в чулане, были найдены обрывки старых фотографий, которые Ларцев собрал и, уже вернувшись к себе на работу, передал для реставрации. Это оказались фотографии самого Голубцова и каких-то других лиц. Все они были сняты в форме царской армии.
Особенно заинтересовала Ларцева одна фотография, на которой Голубцов был снят рядом с генералом, личность которого вскоре удалось установить по архивным данным. Это был деникинский генерал Голубцов.
Дело постепенно прояснялось. Справки в архивах показали, что «старый чапаевец» был сыном крупного помещика и офицером деникинской контрразведки, родным племянником царского, а затем деникинского генерала Голубцова, который, по имевшимся данным, теперь проживал в Берлине и был связан с германской разведкой.
Теперь было окончательно установлено, что «Петрович» являлся агентом Крашке и именно он сфотографировал документы, хранившиеся в сейфе Леонтьева.
В свете этих данных Ларцев оценил и ход с якобы найденными «Петровичем» пятью тысячами рублями, которые тот принёс директору. Ларцев не без удовольствия приобщил к материалам дела заметку председателя месткома института «Благородный поступок», помещённую в стенной газете.
Тут припомнился Ларцеву похожий случай из его практики.
Несколько лет назад пришлось ему расследовать дело о подозрительном пожаре на одном крупном оборонном заводе. Пожар этот возник внезапно в самом «сердце» завода — одном из решающих цехов. Несмотря на то что пламя вспыхнуло очень сильно (потом было обнаружено, что злоумышленник сумел незаметно внести в этот цех смоченную керосином паклю), рабочие завода, проживавшие поблизости, сумели частично отстоять от огня свой цех, хотя пожар и причинил большой ущерб.
Среди других рабочих, самоотверженно тушивших пожар, особенно отличился цеховой конторщик, некий Измайлов, сравнительно недавно появившийся в этом городе и принятый на завод.
На глазах у всех Измайлов первым ринулся в пылающий цех и, несмотря на полученные ожоги, не выходил оттуда до полной ликвидации пожара.
Но, как потом выяснилось, именно этот Измайлов и оказался поджигателем. Уже на следствии, признавшись Ларцеву в том, что он осуществил эту диверсию по заданию германской разведки, которой был завербован, Измайлов сказал так:
— Расчёт у меня был двоякий, гражданин следователь: во-первых, создать себе авторитет на заводе, чтобы потом мне проще работать было; а во-вторых, я делал вид, что энергично тушу пожар, а на самом деле в дыму да в сутолоке незаметно его поддерживал… Уж очень хотелось задание выполнить, мне большие деньги за это были обещаны…
Война
Май отшумел, и началось лето. В том году оно наступило быстро. После обильных весенних дождей на полях зрел богатый урожай. Всё, казалось, предсказывало счастливый щедрый год, и страна, занятая мирным трудом, радовалась предстоящему изобилию.
Тихие белые ночи млели над Ленинградом. Шумели по вечерам многолюдные стадионы и парки Москвы. Сотни тысяч людей отдыхали и лечились на курортах Кавказа и Крыма; нарядные белые теплоходы проплывали мимо весёлых черноморских городов, откуда доносилась музыка приморских бульваров; на пляжах нежились под южным солнцем купальщики; в театрах готовились новые премьеры; в павильонах киностудий снимались новые фильмы.
Родина жила обычной трудовой жизнью.
Но именно в эти первые ночи июня враг заканчивал свои последние приготовления. Сто семьдесят немецких дивизий, в точном соответствии с планом «Барбаросса», подползали к рубежам Советской страны. В тех случаях, когда скрыть передвижение войск оказывалось невозможным, гитлеровское правительство и его дипломаты объясняли эти переброски войск военными маневрами, армейскими отпусками и даже частичной демобилизацией.
Чтобы замаскировать свои вероломные планы, Гитлер передал через Риббентропа указание германскому послу в Москве Шулленбургу провести переговоры и внести ряд предложений, которые должны были создать впечатление, что Германия не только верна советско-германскому пакту 1939 года, но и намерена активно расширять свои экономические связи с Советским Союзом.
Шулленбург, уже ясно понимавший, что война приближается с каждым днём, выполнил полученные указания и сделал все необходимые визиты, запросы и заверения. Он не был точно информирован о роковой дате, но по ряду косвенных признаков и намёков, которые сделал ему в Берлине Риббентроп, догадывался, что война мчится на всех парах и до её начала остались буквально часы…
***
Шулленбург частично поделился своими тревогами с женой и велел ей очень осторожно, чтобы ни в коем случае не заметила горничная, подготовиться к внезапному отъезду — собрать необходимые вещи, уложить чемоданы. Сам же он потихоньку приводил в порядок свой личный архив, уничтожая лишние документы, свои записи и копии служебных писем.
Жена господина фон Шулленбурга, когда он велел ей готовиться к внезапному отъезду — этот разговор вёлся шёпотом в их квартире, — сразу побледнела и тихо заплакала. Она не поняла, что всё связано с предстоящей войной, и решила, что её муж имеет основания опасаться опалы, отстранения от должности и, возможно, даже заключения в один из концлагерей, о которых ходили такие страшные слухи.
Шулленбургу стало жаль её: они прожили вместе много лет, и, право, она была ему верной подругой. Чтобы успокоить жену, он чуть было не рассказал всю правду, но в последний момент испугался — всё-таки женщина, кто знает, не разболтает ли она тайну, доверенную ей мужем, какой-нибудь другой даме из дипкорпуса и не станет ли это как-нибудь известно агентуре гестапо, которая немедленно донесёт в Берлин…
И, притворяясь заснувшим, раздумывал старый дипломат о времени и режиме, наступившем в его бедной Германии, когда даже с женщиной, носившей твоё имя вот уже столько лет, страшно поделиться тем, что тебя волнует, что не даёт тебе уснуть…
***
Плохо спал в эти дни и господин военный атташе, осведомлённый лучше Шулленбурга о подкрадывавшихся событиях.
Тогда, в день получения ордена, он расхохотался, посмотрев на своё отражение в зеркале. Но — странное дело! — это был горький, мучительный смех, и вид новенького ордена почему-то не радовал, а вызывал боль в сердце, над которым он был приколот.
Скверные предчувствия щемили душу фон Вейцеля, и он не в силах был их отогнать. Опасные мысли роились и жужжали, как мухи, в голове господина полковника, недозволенные, опасные мысли, любой из которых было бы достаточно, стань она известной, чтобы блистательный военный атташе был брошен в подвал или вздёрнут на виселицу…
Конечно, господин Вейцель в эти июньские дни был занят не только размышлениями. Много времени требовалось для подготовки и отправки дипломатической почты, перевозимой специальными курьерами, секретного архива, а также для подготовки агентурной работы в предстоящих военных условиях, для ответов на бесконечные секретные запросы о состоянии железных и автомобильных дорог, подъездных путей, о дислокации военных и гражданских аэродромов, хлебных элеваторов, оборонных заводов, складов государственных резервов, интендантских баз, морских и речных портов, о видах на урожай, особенно на Украине и в Белоруссии, новых типах самолётов, танков и артиллерийских орудий.
Военный атташе и его аппарат не имели данных для ответа на большинство этих запросов, посыпавшихся в эти июньские дни в невиданных количествах. На часть из них можно было ответить на основании советских справочников по разным отраслям транспорта и народного хозяйства и собранных в своё время вырезок из столичных и провинциальных журналов и газет. Отсутствие достаточно надёжной агентуры ещё в своё время вынудило господина атташе завести особые карточки, в которые заносились отрывочные данные по всем этим вопросам, иногда проникавшие на страницы советской печати и специальных изданий. При надлежащей обработке и сопоставлении отрывочные материалы всё-таки представляли известную ценность и теперь очень пригодились господину Вейцелю для ответов на бесчисленные запросы, хотя он и не был уверен в точности своих выкладок и данных.
Но так или иначе он отвечал, и уже это пока гарантировало от всякого рода неприятностей и осложнений.
Несмотря на всю горячку последних мирных дней, господин Вейцель интересовался и ходом подготовки операции «Сириус», которой теперь занялась «другая линия» германской разведки, то есть система гестапо.
Вейцелю не сообщили особых подробностей о ходе подготовки операции, но всё же рассказали, что загадочная «дама треф» уже переброшена из Ленинграда в Челябинск, где запущено в производство новое орудие конструктора Леонтьева.
В середине июня Вейцелю сообщили и о том, что сам Леонтьев выехал из Москвы в Челябинск, по-видимому, для наблюдения за ходом производства нового орудия.
В эти дни все отраслевые линии германской разведки и гестапо развили лихорадочную деятельность.
Ещё 12 февраля 1936 года Гитлер поручил имперскому руководству СС, то есть Гиммлеру, создать единую немецкую секретную разведывательную службу.
В специальном соглашении, которое в связи с этим подписали Гиммлер и Риббентроп, в частности, было указано:
«1. Секретная разведывательная служба имперского руководителя СС является важным инструментом для добывания сведений во внешнеполитической области, который предоставляется в распоряжение министра иностранных дел. Первым условием этого является тесное товарищеское и лояльное сотрудничество между министерством иностранных дел и главным имперским управлением безопасности. Добывание внешнеполитических сведений дипломатической службой этим самым не затрагивается.
Весной 1941 года, особенно в апреле — июне, началась тщательная подготовка всех органов германской разведки к проведению подрывной, шпионской и диверсионной работы против Советского Союза.
Начальник III отдела германской военной разведки и контрразведки фон Бентивеньи через несколько лет, будучи пленён Советской Армией, показал на допросе:
«Я ещё в ноябре тысяча девятьсот сорокового года получил от Канариса указание активизировать контрразведывательную работу в местах сосредоточения германских войск на советско-германской границе…
Согласно этому указанию мной тогда же было дано задание органам германской военной разведки и контрразведки «Абверштелле», «Кёнигсберг», «Краков», «Бреслау», «Вена», «Данциг» и «Познань» усилить контрразведывательную работу…
…В марте тысяча девятьсот сорок первого года я получил от Канариса следующие установки по подготовке и проведению плана «Барбаросса»:
а) подготовка всех звеньев «Абвер-три» к ведению активной контрразведывательной работы против Советского Союза, как-то: создание необходимых «Абвергрупп», расписание их по боевым соединениям, намеченным к действиям на Восточном фронте, парализация деятельности советских разведывательных и контрразведывательных органов;
б) дезинформация через свою агентуру иностранных разведок в части создания видимости улучшения отношений с Советским Союзом и подготовки удара по Великобритании;
Как показал далее тот же фон Бентивеньи:
«За период февраль — май тысяча девятьсот сорок первого года происходили неоднократные совещания руководящих работников «Абвер-два» у заместителя Иодля генерала Варлимонта. Эти совещания проводились в кавалерийской школе в местечке Крампниц. В частности, на этих совещаниях в соответствии с требованиями войны против России был решён вопрос об увеличении частей особого назначения, носивших название «Бранденбург-восемьсот», и о распределении контингента этих частей по отдельным войсковым соединениям…»
Другой гитлеровский волк, полковник Эрвин Штольц, бывший заместитель начальника II отдела германской разведки Лахузена, взятый в плен Советской Армией на исходе войны, подтвердил показания фон Бентивеньи и заявил, устало протирая стёкла пенсне:
— Я получил указание от Лахузена организовать и возглавить специальную группу под условным наименованием «А», которая должна была заниматься подготовкой диверсионных актов в советском тылу в связи с намечавшимся нападением на Советский Союз.
Так после разгрома гитлеровской Германии все эти Варлимонты и Пиккенброки, Бентивеньи и Штольцы, оказавшись в руках Советской Армии, на следствии и в зале Международного Военного Трибунала в Нюрнберге раскрыли тайное тайных германской разведки, её многочисленные щупальцы и сеть, её цели и методы, её замыслы и просчёты.
***
В субботу 21 июня 1941 года старший следователь решил наконец осуществить давнишнюю мечту: поехать на рыбалку. Он захватил с собой своего десятилетнего сынишку Вову, которому давно это обещал.
Радости рыбалки, конечно, начинаются со сборов. И Григорий Ефремович, который сам себя называл за это «пожилым мальчишкой», любил разбираться в своём сложном рыбацком хозяйстве: удочках; лакированных гибких спиннингах; катушках — спиннинговых и проволочных; блеснах всевозможных форм и размеров — от маленьких, в полтора-два сантиметра, до больших, чуть не в пятнадцать сантиметров заграничных блесен, рассчитанных на крупную рыбу, очень нарядных и броских, с вкрапленными в них ярко-красными, фиолетовыми и чёрными с белым ободком стекляшками, которые должны были казаться хищной рыбе глазами мелкого окуня или плотвы. Были у него и блесны, выточенные из латуни и меди, и блесны из алюминия и никелированной стали, сделанные из старых самоварных подносов, мельхиоровых подстаканников и давно вышедших в тираж медных чайников.
Многие из этих блесен Ларцев вытачивал сам, делая это с великой радостью в редкие минуты досуга, невзирая на ехидные замечания жены. Нина Сергеевна, как большинство женщин, никак не могла понять этой благородной мужской страсти и ядовито называла рыболовные принадлежности мужа «игрушками для бородатых деток», хотя Ларцев бороды никогда не носил.
А между тем нигде он не отдыхал так полно и радостно, как на рыбной ловле в лодке или на поросшем густым лесом берегу, когда вокруг стоит удивительная тишина вечернего лесного озера или глубокой, полноводной реки и всё вокруг: и эти затишливые воды, и еле слышный шорох засыпающего леса, и даже изредка доносящийся, как выстрел, всплеск сильной рыбы, после которого долго расходятся круги по зеркальной глади, — вселяет чувство глубокого покоя и того особого тихого счастья, которое всегда даёт общение с родной природой, освежающее душу и тело.
В эту субботу Ларцев приехал домой удивительно рано — в семь часов вечера. Вова, предупреждённый накануне, что на этот раз они «железно поедут», изнывал от нетерпения, слоняясь по квартире и ежеминутно выглядывал в окна.
Нина Сергеевна и её мать Ольга Васильевна заканчивала свои приготовления. В термос наливался горячий кофе, в походную сумку укладывались пироги с капустой и яйцами, добрый кус жареной баранины, яйца, сваренные вкрутую, и, чего греха таить, четвертинка водки, настоенной на красном перце с чесноком: Ларцев, который обычно не пил, на рыбалке выпивал непременно и с большим удовольствием, потому что даже в летние ночи на подмосковых водоёмах, особенно ближе к рассвету, становилось очень свежо и сыро.
Как только Ларцев вошёл в квартиру и наскоро пообедал, он вместе с Вовкой — без отца тому категорически не разрешалось это делать — занялся последними приготовлениями. Было решено захватить два спиннинга — двуручный для Ларцева и лёгкий одноручный для Вовки, которого отец уже начал приучать к этому виду рыболовного спорта. В специальную деревянную коробочку с внутренними гнёздами Ларцев уложил отобранные блесны — ровно пятнадцать штук.
Затем были внимательно проверены десять кружков — Ларцев любил и этот вид рыбной ловли, — оснащённых плетёной леской, ещё накануне старательно протёртой олифой, чтобы она не намокала в воде. К леске были прикреплены тонкие стальные поводки (чтобы щука не могла их перекусить, как это иногда бывает) с особыми грузилами и крючками-тройниками на концах, сделанными из белого металла. Крючки были тщательно отточены «бархатным» напильником и «липли» к коже. Самые кружки радовали глаз — они были выточены из пробки и эффектно окрашены в два цвета — белый и ярко-красный — специальной нитрокраской, которая была очень красива, заметна на далёком расстоянии и не боялась воды.
Они захватили с собой также оловянный глубомер, маленький шведский топорик с аккуратной резиновой рукояткой, экстрактор для извлечения крючка из рыбьей глотки, где он нередко глубоко застревал, подсачок и ручной электрический фонарь с сильной батареей, а также особую «охотничью» зажигалку с щитком, который выдвигался у самого фитиля и защищал огонёк от резких порывов ветра.
Наконец все сборы были закончены, и рыболовы двинулись в путь. Нина Сергеевна и Ольга Васильевна крикнули с балкона традиционное «Ни пуха ни пера!», и машина резко выскочила из переулка и помчалась к Ярославскому шоссе по оживлённым вечерним улицам столицы.
У шлагбаума за Сельскохозяйственной выставкой вытянулся длинный хвост машин, отвозивших пассажиров на дачи (тогда ещё не был построен здесь мост). Нетерпеливо пофыркивая незаглушёнными моторами, машины, казалось, с тем же азартом, что и люди, сидевшие в них, стремились вырваться за черту города. Там москвичей ожидали поля, свежий, насыщенный дыханием леса воздух, купанье в прохладной реке, вечер на открытой, мягко освещённой веранде, за которой застыли, как часовые, тёмные сосны и плывут во мраке, как светляки, огоньки папирос, а с соседних дач доносится музыка, всегда чуть загадочная и такая пленительная в ночном лесу.
Машины ждали долго, потому что за шлагбаумом проносились один за другим битком набитые поезда электрички. В окнах ярко освещённых вагонов мелькали, как на экране, весёлые, оживлённые лица, нарядные цветастые платья молодых женщин, юноши в теннисных рубашках с ракетками в руках, «дачные мужья» с многочисленными кульками и пакетами и, конечно, рыболовы с заплечными мешками и удочками в брезентовых чехлах.
Проскочив около тридцати километров, машина наконец свернула с дороги, ведшей от станции Правда до Тишкова, влево и по узкой просеке, вырубленной в густом лесу, подъехала к Дому рыбака.
Он стоял на берегу узкого, овальной формы, залива Пестовского водохранилища. Между сосен темнели строения: дом директора; большой погреб для хранения рыбы; кухня с пылающей, бросающей красные отсветы на деревья плитой, на которой рыбаки могли приготовить себе ужин; просторный деревянный дом, в котором рядами стояли койки для отдыха, и маленькие двухместные «боксы», похожие на теремки из детской сказки.
На тёмной воде у мостиков тихо колыхались на приколе лодки, а выше, на пологом берегу, белели деревянные скамейки, на которых сидели, покуривая, рыбаки, отдыхая перед выездом на лов.
Поблизости, у других мостков, стоял в воде вместительный садок, кишмя кишевший живцами для насадки — окуньками, плотвой, пескарями и ершами, наловленными ещё накануне бригадой Дома рыбака.
Оставив свою машину на специально вырубленной в лесу площадке, Ларцев поздоровался с директором Дома рыбака Семёном Михайловичем, энтузиастом своего дела, «забронировал» за собой лодку, тридцать живцов, две деревянные бадейки для их хранения и присел покурить.
Стояла тёмная свежая июньская ночь, залив мерцал, как тёмное зеркало в овальной раме окружавших его лесов, и в нём плясали звёзды и огоньки фонарей «летучая мышь», зажжённых рыбаками, уже возившимися в своих лодках.
На мостках у садка Семён Михайлович отпускал живцов, доставая их из воды длинным сачком, и громко отсчитывал при желтоватом свете керосинового фонаря, подвешенного к деревянному шесту. Доносились обрывки фраз:
— Но-но, ты мне одних пескарей даёшь!
— Хорошему рыбаку и пескарь послужит…
— Ершей поменьше, Семён Михайлович!
— Ерши живучи, садовая голова!
— Нынешним летом судак очень до плотвы охоч…
— Что плотва — чуть от берега отплыл, а уж она в бадейке уснула. Нежна чересчур.
— А ты сам не будь неженкой, воду почаще меняй.
Вовка, который не мог дождаться выезда на рыбалку, подошёл к Ларцеву:
— Папа, время отчаливать.
— Едем, сынку, — ответил Ларцев и пошёл за живцами.
Через полчаса он и Вовка сели в лодку и выбрались из залива на водоём, тянувшийся на несколько километров. Впереди, по бокам и сзади плыли лодки других рыболовов, некоторые с горящими фонарями на корме.
По неписаным законам рыбалки, все плыли, соблюдая торжественную тишину и разговаривая между собой шёпотом, с тем особым нарастающим волнением, которое так знакомо каждому рыболову: что-то будет, какой предстоит улов, какая ожидает добыча?
Ларцев любил распускать кружки в глубокой естественной бухте, образовавшейся в левой части водоёма. Там всегда было тихо, потому что крутые лесистые склоны, окаймлявшие бухту с трёх сторон, защищали её от ветров. Кроме того, там была значительная для этого водоёма глубина — шесть метров. Здесь нередко появлялся ночной хищник — судак, его в Пестове было довольно много. Преимущества Пестова, с точки зрения Ларцева, состояли также в том, что здесь была уйма ершей, представлявших, по выражению одного академика, тоже страстного рыболова, «незаменимый ингредиент для ухи».
— Должен заметить, уважаемый Григорий Ефремович, — говорил этот академик, уже пожилой человек, с крепким обветренным лицом и озорной искрой в совсем ещё молодых умных глазах, — что в смысле ухи ёрш есть царь-рыба. Никакие стерляди и хариусы не выдержат против нашего подмосковного ерша в «уховом», так сказать, смысле. Притом заметить должно, что уха без ершей — это всё равно что комната без мебели… уюта нет!
Тут академик непременно закуривал и, сделав несколько затяжек, продолжал:
— Ухи в ресторане, голуба моя, не признаю и не признавал. Ухе, как красивой женщине, оправа нужна: берег, поросший лесом, ивы, склонённые над самой водой, дымок костра, зорька. Тогда лишь уха по-настоящему и закипает, и навар даёт, и всяческие набирает ароматы. А вокруг стоит тишина необыкновенная, благорастворение воздусей, запах хвои… одним словом, настоящая жизнь… Вот я, сердце моё, шестой десяток заканчиваю, уже склерозик подходящий нагулял, миокардиодистрофию и нет-нет — валидол пью… Одним словом, уже зачислен в «валидольную команду инсульт-ура», а стоит на рыбалку выбраться да как следует здесь надышаться — чувствую себя, как в тридцать лет… И валидол не нужен, и дышится легко, и, главное, появляется этакая нахальная уверенность, что впереди ещё большая великолепная жизнь, удачи в науке, встречи с интересными, умными людьми, необыкновенные путешествия, уйма хороших книг и уйма крупных судаков, которых я ещё не выловил, но которые мне, безусловно, положены…
И Максим Петрович — так звали академика — заливался таким могучим заразительным хохотом, что с соседних лодок раздавался недовольный ропот, и за ним дружный смех.
Ларцев очень ценил этого жизнерадостного умного человека, умевшего тонко понимать прелести рыбалки и так нежно и молодо любившего русскую природу, ценил его весёлый с лукавинкой взгляд, его чисто народный юмор и ту особую душевную непосредственность и простоту, которая всегда отличает настоящего, большого человека.
Ночь становилась всё свежее, и рыболовы решили, что надо погреться. Ларцев достал термос, налил себе и сыну кофе в стаканчики из пластмассы, нарезал баранину и хлеб, круто посолив его. Оба ели с большим аппетитом, как это всегда бывает на рыбалке.
После крепкого горячего кофе сразу ощутили приятную теплоту и бодрость.
Кружки были распущены в шахматном порядке и тихо покачивались на воде. В ночном сумраке их почти не было видно, и за ними надо было следить «на слух». В первом часу ночи, когда Ларцев и Вовка уже заканчивали свой ужин, слева донёсся характерный шлёпающий звук.
— Перевёртка! — воскликнул Ларцев и с бьющимся от волнения сердцем начал грести к тому месту, откуда донёсся этот милый сердцу рыболова звук.
Вовка, привстав на носу лодки, включил фонарь и осветил место, к которому они спешили.
Через несколько секунд он испустил ликующий вопль. В лучах электрического фонаря был ясно виден перевёрнутый набок кружок, который стремительно вертелся: рыба сматывала с него леску, заглотав крючок и насадку.
— Левым! — почти простонал Вовка. — Левым!
Ларцев сильно загрёб левым веслом, и лодка приблизилась к кружку. Наклонившись, Ларцев схватил его в руки, сильно подсёк леску и сразу почувствовал, как упруго ходит на её конце тяжёлая рыба.
— Есть, сынку! — вскричал Ларцев и начал лихорадочно, метр за метром, вытаскивать леску, бросая её кольцами на дно лодки. — Подсачок готовь, подсачок!..
И вот почти у самого борта в голубоватом свете фонаря заиграла, как большое серебряное блюдо, крупная рыба. По тому, как она сравнительно спокойно шла за леской и не пыталась делать «свечку», то есть выпрыгивать из воды, с тем чтобы сразу обрушиться всей своей тяжестью на леску и перерубить её, Ларцев уж знал, что пойман судак, а не щука.
Он ещё сильнее подтянул рыбину к борту. Вовка мгновенно, с головы, подвёл к рыбе подсачок, взметнул его, и через мгновение на дне лодки бился судак с широко растопыренными перьями, почти в полметра длиной.
— Живём, сынку! — снова закричал Ларцев и от полноты чувств и радости удачи поцеловал Вовку, а потом, по традиции, «обмыл» первого судака, приложившись к фляге.
— Пуд, не сойти мне с этого места, пуд! — восхищённо прошептал Вовка, не сводя глаз с затихшего судака и явно преувеличивая вес пойманной рыбы, что происходит, увы, со всеми рыболовами на свете.
Почин был сделан. Через полчаса была замечена вторая перевёртка, и в лодке забился новый судак.
Часы Ларцева показывали ровно два часа ночи, когда сочно шлёпнула третья перевёртка. Снова был вытащен, на этот раз менее крупный, судак. Вовка задыхался от счастья.
Ларцев закурил, с наслаждением вдыхая ароматный дымок папиросы, крепкий, густо настоенный ночной свежестью воздух, сильные запахи леса и трав, доносившиеся с близкого берега, и запоминая жадно всем сердцем эту целебную тишину, и смутно мерцающую воду, и звёздное, опрокинутое в огромную чашу водоёма небо, и всю эту единственную, неповторимую, до последнего вздоха любимую землю.
***
В эту ночь командиры всех фашистских дивизий, бригад и полков, сосредоточенных у советских границ, вскрыли секретные, тяжёлые от сургучных печатей пакеты, полученные накануне, на которых было написано:
«Абсолютно секретно
Командирам дивизий, бригад и полков — лично, распечатать ровно в 2.00 22 июня 1941 года.
По приказанию фюрера, всякий, кто посмеет распечатать этот пакет хотя бы на три минуты раньше или позже предписанного часа, будет предан военно-полевому суду и казнён как государственный преступник».
***
Командир дивизии, расположенной на западном берегу реки Сан, генерал-майор Флик ровно в два часа ночи вскрыл секретный пакет.
В нём оказался личный приказ Гитлера, обязывающий все соединения германской армии, расположенные у советских границ, военно-воздушные силы рейха и его военно-морской флот ровно в 4.00 начать внезапное нападение на Советский Союз, бомбардировать с воздуха Львов, Минск и другие советские города и бросить на советские рубежи танки, артиллерию, мотопехоту и все другие воинские части.
Приказ обязывал командиров воинских соединений огласить его текст всему строевому составу гитлеровской армии ровно за час до начала нападения.
Флик прочёл приказ, который, кроме часа и даты нападения не был для него неожиданным, и приказал адъютанту поднять по боевой тревоге, но без всякого шума всю дивизию.
Флик вышел на берег Сана и посмотрел на мерцающую в ночном сумраке реку и загадочно темнеющий за нею противоположный, советский, берег. Ночь, свежая, безветренная, звёздная июньская ночь неслышно летела над Саном, над Бугом и Днестром, над Западной Украиной и Западной Белоруссией, над заливами и озёрами Прибалтики, погружёнными в мирный предпраздничный сон. Огромная страна, раскинувшаяся за этими рубежами, от Чёрного моря до Ледовитого океана, — огромная, непонятная генералу Флику страна, населённая разными народами, нашедшими, однако, единый язык и единую мечту, загадочно молчала по ту сторону границы.
Что ожидает его, генерал-майора Флика, его дивизию и сто шестьдесят девять других германских дивизий в этой непонятной стране? Как встретит её народ непобедимую гитлеровскую армию, которая пока не знала поражений и завоевала почти всю Европу? И разумно ли лезть в берлогу к этому русскому медведю, у которого всегда оказывались сильные лапы? Не погорячился ли фюрер и не забыл ли он судьбу Наполеона, который выбрался еле живым из этой загадочной России и на её студёных полях позорно закончил свой победный марш по всему свету? А если уж вспоминать историю, то разве не русские солдаты не так уж много лет назад завоевали ключи от Берлина?
Генерал Флик был образованным человеком и хорошо знал военную историю. И она почему-то именно в эту ночь, когда он курил на берегу Сана, особенно ярко всплывала в его памяти и будила тревожные мысли и смутные, дурные предчувствия…
Совсем в другом настроении и совсем с иными мыслями смотрел в те же часы на советский берег господин Крашке, теперь представлявший ведомство адмирала Канариса в дивизии генерала Флика.
Крашке вспоминал несчастье, происшедшее с ним в этой проклятой России, в результате которого он лишился дипломатического звания, был снижен по должности и отправлен на фронт. О, только бы живым добраться до Москвы! Тогда он сумеет рассчитаться с русскими за все свои обиды и унижения!..
Между тем дивизия была поднята по боевой тревоге и выстроена, как на парад.
Генерал Флик обошёл застывший строй дивизии, и затем командиры полков очень отчётливо и торжественно огласили приказ фюрера. Солдаты выслушали его молча — им было заранее запрещено кричать традиционное «Хох!» и «Хайль Гитлер!» из опасения, что это могут услышать советские пограничники.
В общем строю дивизии стоял и унтер-офицер Вильгельм Шульц, бывший механик завода «БМВ» в Эйзенахе, два года назад призванный в армию.
Никто в полку не знал, что Шульц уже пять лет был членом Коммунистической партии Германии, ушедшей в подполье после прихода Гитлера к власти. Десятки тысяч немецких коммунистов были замучены в гитлеровских концлагерях, вот уже много лет томился в застенках гестапо их вождь Эрнст Тельман, но партия продолжала жить и работать, и Вильгельм Шульц был одним из её сынов.
Теперь, выслушав приказ фюрера и узнав, что через час на первое в мире государство рабочих и крестьян вероломно обрушатся сто семьдесят гитлеровских дивизий, Вильгельм Шульц решил, что он, как коммунист, выполнит свой партийный долг. В его сознании мелькнула, как ожог, мысль о судьбе семьи — жены и ребёнка, но это не поколебало его решимости.
И тут же, на глазах солдат, офицеров и самого генерала Флика, унтер-офицер Шульц вырвался из строя и с разбегу, не задумываясь и не останавливаясь ни на долю секунды, бросился в полном походном обмундировании в Сан и поплыл туда, к советскому берегу.
Крашке первым пришёл в себя. Он вырвал из рук ближайшего солдата автомат и дал из него очередь по плывущему Шульцу. Тот, даже не обернувшись, продолжал плыть, преодолевая течение. Крашке прицелился и послал ему вслед вторую очередь.
Пограничники Иван Бровко и Данило Рябоконь, бывшие в секрете на этом участке советского берега, услыхали выстрелы и разглядели в воде тёмное пятно — плыл человек, вокруг которого, вздымая фонтанчики воды, шлёпались пули автоматных очередей.
Бровко поднял трубку полевого телефона и доложил дежурному по погранзаставе о странном происшествии.
— Ни в коем случае не стрелять, — приказал дежурный. — Сейчас я прибуду на место.
А Крашке давал очередь за очередью и в конце концов ранил Шульца, когда тот уже приближался к советскому берегу. Подоспевший дежурный, старший лейтенант Тихонов, заметив, что плывущий человек уже с трудом держится на воде и загребает только левой рукой (как потом выяснилось, он был ранен в правую руку и грудь), приказал Ивану Бровко помочь неизвестному, поскольку тот уже был в советской пограничной зоне. Бровко незаметно сполз вниз, подплыл к утопающему и на руках вынес его наверх.
— Брат! — простонал по-немецки Шульц. — Камрад, коммунист!
Не знал немецкого языка младший сержант Иван Бровко, но всем сердцем своим понял, что выносит на руках друга, единомышленника…
Когда Шульца положили на берегу на плащ-палатку, он уже был без сознания. Тихонов послал за фельдшером, а пока сам сделал ему перевязку. Шульц хрипел и стонал, дыхание его было прерывистым и тяжёлым, кровь пошла горлом. Тихонов осветил его карманным фонариком — перед ним лежал худощавый шатен лет тридцати.
Прибежавший фельдшер оказал ему первую помощь и впрыснул камфору. Умирающий открыл голубые, искажённые смертной мукой глаза.
Увидев склонившихся над ним советских пограничников, он, собрав последние силы, прошептал по-немецки:
— Друзья, я коммунист. Через час будет война… На вас нападут… Подготовьтесь, товарищи!..
— Товарищ! — прошептал Тихонов, приподняв голову умирающего. — Товарищ!..
Шульц улыбнулся, услышав это единственное русское слово, которое он знал, и потянулся рукой к звёздочке, приколотой к фуражке Тихонова.
— Звезду хочет, товарищ старший лейтенант, звезду, — дрогнувшим голосом произнёс Иван Бровко.
Тихонов снял фуражку и поднес её к глазам умирающего. Тот строго посмотрел на звезду — так смотрят на святыню, — последним усилием приблизил к ней запёкшиеся губы и поцеловал.
Тихонов снял с груди покойного маленькую, сделанную из пластмассы бирку и записал его фамилию и адрес.
Так за несколько минут до начала Великой Отечественной войны пал смертью храбрых её первый герой, немецкий пролетарий и коммунист Вильгельм Вольфганг Шульц.
А старший лейтенант Тихонов пронёс звёздочку, которую поцеловал, умирая, его немецкий брат, через все годы, фронты и небывалые битвы этой страшной войны и, став в конце её уже полковником, свято хранил эту звёздочку как священный символ великого братства коммунистов во всём мире.
А когда окончилась война и над дымящимся Берлином заполыхало в весеннем небе Знамя Победы, в первых числах мая 1945 года полковник Тихонов выехал из Берлина в маленький немецкий город Эйзенах.
Машина Тихонова мчалась по широкой, выстланной бетонными плитами автостраде; дымились по краям дороги белым цветом яблони и вишни, мелькали красные черепичные крыши придорожных домиков, над которыми полоскались в голубом небе белые флаги.
Под мерный рокот мотора Тихонов вспомнил о только что закончившейся войне; о боевых друзьях, похороненных им за эти годы; о пепелищах Сталинграда, Воронежа и тысяч других русских городов и деревень; о той незабываемой июньской ночи, когда он впервые услыхал о войне за тридцать две минуты до её начала, и о том человеке, который не задумываясь, отдал свою жизнь, чтобы предупредить своих русских братьев об этой войне.
Теперь Тихонов мчался в Эйзенах, чтобы тоже выполнить свой братский долг: найти семью Вильгельма Шульца и рассказать ей о том, где, за что и как он погиб.
Приехав в Эйзенах, Тихонов с немалым трудом разыскал там вдову Шульца — Эрну Шульц, только что освобождённую из концлагеря, куда она была заключена за подвиг своего мужа, и её десятилетнего сынишку Германа, голубоглазого, как и его покойный отец, мальчугана.
Почти целый день провёл полковник Тихонов в маленьком убогом домишке на самой окраине Эйзенаха. Соседи, удивлённые тем, что русский «герр оберст» уделяет такое внимание этой вовсе не знатной семье, ничего не могли понять, а вечером, когда Тихонов уезжал и его провожали Эрна и Герман, ещё более удивились, увидев, как мальчуган с глазами, полными слёз, целует советского полковника, а тот в свою очередь не может от него оторваться и тоже подозрительно кашляет и вытирает платком глаза.
И когда машина Тихонова скрылась за поворотом и соседи подошли к фрау Эрне выяснить, что ж это был за визит, вдова им строго ответила:
— Герр оберст приехал, чтобы сообщить сыну Вильгельма Вольфганга Шульца, что его отец погиб как честный немец и настоящий коммунист.
И она, махнув рукой, ушла, пошатываясь, в дом.
А голубоглазый Герман показал своим сверстникам, не давая в руки, пятиконечную красную звёздочку и, впервые не стыдясь своих слёз, сказал так:
— Герр оберст отдал мне эту красную звёздочку. За неё погиб мой отец. Теперь она моя, и, если потребуется, я тоже сумею за неё постоять…
Часть вторая
В дни войны
Дорожная встреча
Леонтьев проснулся оттого, что во сне ощутил на себе чей-то пристальный, холодный взгляд. Но в купе международного вагона, кроме него, никого не было. Дверь по-прежнему была заперта, и на ней успокоительно позвякивала предохранительная цепочка. Поезд мчался, мягко постукивая на стыках рельсов. Было очень поздно — вероятно, часов около трёх. За тёмным окном куда-то стремительно неслась ночь; выл ветер, изредка проносились тусклые огоньки разъездов и полустанков, смутно мелькали во мраке телеграфные столбы, словно кланяясь на лету.
Купе было слабо освещено синей ночной лампочкой, но и этого света было достаточно Леонтьеву, чтобы убедиться, что он один.
Заснуть уже не удавалось. Тревога, столь внезапно и властно разбудившая Леонтьева, не проходила… По привычке, установившейся в последнее время, он прежде всего ощупал изголовье постели, проверяя, на месте ли портфель, в котором хранились некоторые чертежи и расчёты его нового орудия. Портфель оказался на месте. Дверь была на замке. Ничего необычного не случилось. И всё-таки Леонтьев явственно, почти физически, ощущал прикосновение чужого, холодного, внимательного взгляда, и это очень тревожило его.
Тревога эта не была неожиданной для Леонтьева. В последние месяцы у него появилось ничем не объяснимое беспокойное чувство: ему казалось, что он находится под чьим-то неослабным и настойчивым наблюдением. Началось это после того, как на завод пришло из Москвы сообщение о предстоящим испытании орудия, сконструированного Леонтьевым.
Может быть, именно потому, что новому орудию придавалось особое значение, конструктор в последнее время чувствовал постоянное острое беспокойство. Леонтьев был осторожен в знакомствах, сдержан в разговорах; он вёл замкнутый образ жизни. На заводе его окружали люди, которых он знал много лет. Казалось, и на работе, и дома ничего не давало оснований для беспокойства. И всё-таки Леонтьев не мог забыть того, что произошло в мае 1941 года с его чертежами, и ему было не по себе.
Два дня назад, вечером, Леонтьев выехал в Москву, куда он был срочно вызван для участия в первом испытании своего орудия. Он захватил с собой только самые необходимые расчёты и два чертежа. Человеку непосвящённому, не располагающему остальными данными, эти документы сами по себе не могли ничего раскрыть. И всё же директор завода, провожавший Леонтьева, шепнул ему на прощание, чтобы он не забыл запереть дверь купе на предохранительную цепочку, а начальник спецотдела уговорил Леонтьева захватить с собой маузер.
Первая ночь прошла спокойно. Леонтьев, уставший от множества хлопот, вызванных внезапным отъездом, спал, как в юности, беспробудно и сладко. Дирекция обеспечила ему отдельное купе, и он благодаря этому был освобождён от утомительной необходимости присматриваться к случайным попутчикам и быть всё время настороже.
Утром Леонтьев проснулся и поглядел в окно. Поезд стоял на какой-то станции. Леонтьев быстро оделся и вышел прогуляться по перрону. Портфель он захватил с собой. Уже выйдя из вагона, он почувствовал, что хочет курить и вспомнил, что оставил портсигар в купе. Вернувшись в вагон, Леонтьев открыл дверь из тамбура в коридор и скорее ощутил, чем увидел, тень, скользнувшую из его купе в противоположный конец вагона… Леонтьев бросился к себе. Дверь купе, видимо, поспешно распахнутая за мгновение до этого, ещё качалась на своих петлях. Но в самом купе всё было в порядке, и забытый портсигар мирно поблескивал на плюшевой подушке дивана. Чемодан тоже был на месте. Леонтьев бросился к окну, но, кроме спокойно гуляющих пассажиров, никого не увидел. Тогда он побежал к тамбуру, куда так быстро скрылась мелькнувшая тень; дверь в тамбур оказалась запертой. Леонтьев вызвал проводника и сказал ему, что какой-то неизвестный только что выбежал из его купе.
Проводник внимательно выслушал Леонтьева, а затем посмотрел на него пристально, как на человека, который, по-видимому, хватил лишнего.
— Не иначе как вам померещилось, товарищ пассажир, — сказал он, наконец убедившись, что Леонтьев абсолютно трезв. — Может, со сна… Но только дверь в тамбур всё время закрыта, и в коридоре не было ни души. А насчёт вещичек не беспокойтесь — у нас не уведут. Мы с напарником днём и ночью дежурим. У нас насчёт этого строго… Постель убрать, или ещё соснёте?
После этого происшествия тревога уже не оставляла Леонтьева. День тянулся томительно и нудно. К вечеру, выйдя в коридор, Леонтьев увидел своих соседок из смежного купе — двух женщин, ехавших вместе с ним из Челябинска. Одна из них — уже совсем пожилая, с тонкими чертами когда-то красивого лица. Другая — молодая интересная женщина — была очень бледна и часто выходила в коридор курить. Женщины, по-видимому, познакомились уже в пути: Леонтьев слышал, как они рассказывали друг другу о себе.
Пожилая женщина была из Ленинграда. Она тревожилась о муже, который остался там и от которого она давно уже не имела никаких известий. Вторая пассажирка её успокаивала.
— Право, не надо так волноваться, — говорила она очень мягко пожилой ленинградке. — Знаете ведь как теперь с почтой. И потом, почему обязательно предполагать дурное? Ведь вы сами говорите, что у вашего мужа много друзей. Случись с ним что-нибудь — неужели бы вам не сообщили? Наконец, вас известили бы с места его работы. Поберегите себя, нельзя же без конца плакать. Тем более, что пока для этого нет никаких оснований…
— Чувствую, сердцем чувствую, дорогая, — отвечала сквозь слёзы ленинградка. — Меня никогда не обманывало предчувствие. Нет уж, боюсь, не видать мне больше Сергея Платоновича… Как я его уговаривала эвакуироваться! Ведь и возраст уже такой, и здоровье уже не то… Ни за что не хотел. «Я, говорит, Маша, не уеду из родного города. Сорок лет в Технологическом институте провёл и никуда отсюда не уеду…»
Услышав имя Сергея Платоновича в связи с Технологическим институтом, Леонтьев насторожился. Он сам в своё время окончил этот институт и близко знал старейшего профессора кафедры сопротивления материалов Сергея Платоновича Зубова.
Леонтьев обратился к разговаривающим пассажиркам.
— Простите, — сказал он, — но я невольно услыхал ваш разговор. Не о Сергее ли Платоновиче Зубове идёт речь? Я его отлично знаю.
Ленинградка удивлённо посмотрела на Леонтьева, ответила:
— Сергей Платонович Зубов — мой муж. А вы откуда его знаете?
— Как же, — с радостью воскликнул Леонтьев, — ведь я в Технологическом учился! Сергей Платонович — мой учитель и, смею сказать, старинный друг. Я и аспирантом у него в своё время был. Моя фамилия Леонтьев.
— Леонтьев? — взволнованно воскликнула женщина. — Коля Леонтьев? Голубчик вы мой, да я отлично знаю вас по рассказам Сергея Платоновича. Ведь вы были любимым его учеником! Он так часто вспоминал вас…
Завязался оживлённый разговор. Леонтьев и Мария Сергеевна — так звали Зубову — начали вспоминать давно минувшие годы, нашли множество общих знакомых, а потом заговорили о Ленинграде. Как это всегда бывает со старыми ленинградцами, они сразу подружились, обоим взгрустнулось, оба повздыхали о любимом городе, а Мария Сергеевна не выдержала — всплакнула.
Леонтьев давно покинул Ленинград и уже несколько лет ничего не слышал о профессоре Зубове. Мария Сергеевна сообщила, что последнее письмо она получила от профессора три месяца назад и с того времени никаких сведений о нём не имеет. Николай Петрович старался успокоить её, но она упорно твердила, что предчувствует недоброе.
Мария Сергеевна познакомила Леонтьева со своей спутницей, Натальей Михайловной, которая оказалась женой московского врача. Наталья Михайловна отошла в сторону, когда старые ленинградцы предались воспоминаниям, а потом все трое перешли в соседнее купе, мигом соорудив лёгкий ужин. У Леонтьева нашлась бутылка вина, и вечер прошёл очень хорошо. Мария Сергеевна сразу как-то помолодела; она оказалась живой и умной собеседницей и очень понравилась Леонтьеву. Симпатична была и Наталья Михайловна — застенчивая, тихая, немногословная женщина.
Был уже первый час ночи, когда Леонтьев пожелал спутницам спокойного сна и ушёл к себе в купе. Но, странное дело, едва он остался один, как то же смутное, тяжёлое беспокойство вновь овладело им. Он запер дверь, разделся, выкурил папиросу, попытался вновь перебрать в памяти воспоминания далёких студенческих лет, но какая-то тревога, переходившая в страх, неустанно томила его.
«Что со мной делается? — спрашивал себя Леонтьев. — Что это: нервы, усталость? Или в самом деле меня подстерегает какая-то беда, какое-то несчастье?»
Так и не ответив себе на этот вопрос, он наконец уснул тяжёлым, тревожным сном человека, не знающего, что принесёт ему пробуждение.
И вот поздно ночью его опять разбудило явственное ощущение чьего-то пристального, цепкого взгляда. Леонтьев сел и начал размышлять, откуда за ним могли наблюдать. Он открыл дверь в коридор, но там никого не было. Лёгкий шорох в туалетном отделении привлёк его внимание. Он неслышно подошёл к двери этого отделения и внезапно с силой рванул её. За дверью, прислонившись к умывальнику, стояла Наталья Михайловна.
— Простите меня, бога ради, — сказала она, — я хотела посмотреть, не спите ли вы, и, вероятно, разбудила вас. Нет ли у вас пирамидона? У Марии Сергеевны страшно разболелась голова. Встреча с вами, по-видимому, взволновала её.
— К сожалению, нет, — ответил Леонтьев, сразу успокоившись. — Может быть, спросить проводника?
— Не беспокойтесь, голубчик, — донёсся из купе слабый голос Марии Сергеевны, — мне, кажется, становится легче. Ложитесь-ка лучше спать. И вы, Наталья Михайловна, тоже.
***
Москва встретила Леонтьева обычной сутолокой, воем автомобильных сирен и каким-то новым, суровым обличием. На улицах было много военных, все куда-то деловито спешили, почти у всех были сосредоточённые, строгие лица.
У вокзала Леонтьева ожидала машина, присланная за ним из наркомата. Леонтьев предложил своим спутницам подвезти их. Наталья Михайловна отказалась: её встречал какой-то родственник. Мария Сергеевна попросила подвезти её до гостиницы «Москва», где она рассчитывала остановиться и где Леонтьеву был забронирован номер.
В гостинице Леонтьев простился с Марией Сергеевной; они договорились созвониться по телефону. Умывшись с дороги, Леонтьев вышел на улицу и поехал в наркомат, где его уже ожидали.
Испытание
Испытание орудия началось в девять часов на одном из подмосковных полигонов, где к этому времени собрались представители наркомата, несколько генералов-артиллеристов, инженеры завода, изготовившего опытный образец.
Леонтьев приехал раньше всех. Он проинструктировал орудийный расчёт и сам проверил, как работают вспомогательные приборы. Весь предыдущий день Леонтьев провёл на заводе, придирчиво рассматривал орудие, ругался с инженерами, заменившими какую-то латунную деталь лафета нержавеющей сталью, и ругался зря. Для орудия и его поражающих свойств это не имело решительно никакого значения, но Леонтьеву хотелось, чтобы его первенец, помимо прочего, был ещё и красив.
И вот наступила долгожданная, радостная и волнующая минута. Все собрались у орудия. Разговоры затихли. Леонтьев осторожно снял с орудия чехол. Огромный серый ствол строго всматривался в далёкий горизонт. Один из генералов заглянул внутрь ствола, чтобы посмотреть нарезку, и только молча покачал головой: никакой нарезки внутри ствола не было.
— Тут совсем другой принцип, товарищ генерал… — улыбнулся Леонтьев, заметив его недоумение. — Разрешите начинать?
— Пожалуй, начнём, — сказал представитель наркомата.
Все, кроме Леонтьева, отошли от орудия. Леонтьев нажал кнопку управления, и снаряды, уложенные на какую-то ленту, похожую на заводской конвейер, с мягким шорохом понеслись в раскрывшуюся магазинную часть орудия.
Через секунду фантастические огненные шары с душераздирающим скрежетом и воем полетели в воздух. В багровом пламени разрывов возникали бесчисленные вспышки, и, казалось, огненные языки, стремительно множась, зажгут весь горизонт.
Через несколько минут объекты обстрела, расположенные на расстоянии пяти километров от орудия, были полностью уничтожены.
Леонтьев стоял бледный, не отрывая глаз от своего первенца.
Когда всё стихло, члены испытательной комиссии подошли к конструктору. Никому не хотелось начинать с обычных поздравлений: настолько все были взволнованы и потрясены. С минуту царило неловкое молчание, но сам Леонтьев даже не замечал этого: он был целиком погружён в свои мысли. Как всякий одарённый человек, он никогда не удовлетворялся достигнутым и сейчас, убедившись в безотказной работе орудия, уже думал о том, как увеличить вдвое, втрое, в несколько раз его скорострельность.
Наконец один из генералов подошёл к Леонтьеву, молча обнял его и поцеловал.
— Спасибо, — тихо, почти шёпотом, сказал он, — четверть века отдал я артиллерии, но до сих пор ничего подобного не видывал, ни о чём таком не слыхивал и, каюсь, ни о чём подобном не мечтал.
И, обращаясь к остальным, добавил:
— Думаю, что испытание можно считать законченным. Теперь главное — запустить орудие в серийное производство.
Уже на обратном пути в город один из инженеров наркомата, ехавший в машине вместе с Леонтьевым, вдруг спросил:
— А вы меня, товарищ Леонтьев, не узнаёте? Ведь я тоже Техноложку кончил. Правда, вы были на два курса впереди, но я помню вас отлично. Вы ведь потом аспирантом были у Зубова. Хороший был старик.
— А что с ним? — сразу спросил Леонтьев.
— Он умер ещё в самом начале войны, — ответил инженер. — Сначала супруга его скончалась, Мария Сергеевна, славная такая была женщина, ну а потом и сам старик не выдержал; после смерти жены он очень горевал…
— Позвольте, — перебил его Леонтьев, ничего не понимая. — Ведь жена Зубова жива, да и сам он ещё три месяца назад писал ей…
— Что вы! — возразил инженер. — Об их смерти мне рассказывал товарищ. Он был их соседом по дому.
Леонтьев с трудом удержался от рассказа о своей дорожной встрече. Потом он подумал, что всё это очень подозрительно и странно, и решил сообщить в следственные органы о необычайном случае.
Приехав в гостиницу, он прежде всего подошёл к дежурному администратору и спросил, в каком номере живёт гражданка Зубова. Администратор проверил по книге и ответил:
— Зубова Мария Сергеевна, жена профессора из Ленинграда, занимает пятьсот шестой номер.
«Что же это такое? — размышлял Леонтьев, придя к себе в номер. — Кто из них лжёт? Зубова или этот инженер из наркомата? Правда, инженер говорит с чужих слов. Но если он прав, то кто же в таком случае эта женщина, и зачем она присвоила себе имя умершей? Где она получила паспорт Зубовой? Ведь в гостинице могут прописать только по паспорту».
Первой мыслью Леонтьева было поехать в НКВД и там рассказать обо всём. Но потом он решил, что это преждевременно и серьёзных оснований для обращения в НКВД у него пока нет, да и женщина эта всем своим обликом внушала ему полное доверие.
«В самом деле, — думал он, — ничего ведь ещё не произошло, ничего не стряслось, может быть, всё это недоразумение или, наконец, выдумка этого инженера, которого, кстати, я решительно не помню… Стоит ли, не посмотрев в святцы, трезвонить во все колокола? Подумают, что я нервный идиот. Нет, не пойду».
И не пошёл.
Устав после испытания орудия и всех связанных с этим волнений, Леонтьев прилёг отдохнуть. Но едва он задремал, как его разбудил телефонный звонок. Леонтьев взял трубку и услышал голос Марии Сергеевны.
— Куда же это вы, голубчик, запропастились? — спросила она с добродушной простотой, которая так шла к ней. — Небось нашли более молодую даму?
Леонтьев объяснил, что был занят делами, и в свою очередь спросил, нет ли каких-либо вестей о Сергее Платоновиче.
— Пока ничего не знаю, — ответила Мария Сергеевна. — Обещали мне общие знакомые навести справки, да ведь это теперь не так просто. Подожду ещё несколько дней, а там буду хлопотать о разрешении ехать в Ленинград, несмотря на блокаду. А вы что делаете? Не зайдёте ли чайку попить? У меня с собой банка варенья, ещё довоенного, приходите — угощу.
Леонтьеву было интересно с ней поговорить, и он принял приглашение. Мария Сергеевна встретила его по-домашнему, в капоте.
Сидя против этой пожилой женщины, слушая её добродушную болтовню, глядя в её милое, спокойное, открытое лицо со смеющимися глазами и какими-то ласковыми, совсем материнскими морщинками, Леонтьев окончательно убедился, что инженер неправ и что она — именно Мария Сергеевна Зубова. Эта уверенность особенно окрепла после того, как Мария Сергеевна в разговоре, вновь вернувшись к своим семейным делам, обнаружила такую осведомлённость о привычках и характере Зубова, какой мог обладать только близкий ему человек. В разговоре она — это пришлось кстати — достала из чемодана и показала Леонтьеву портрет Сергея Платоновича Зубова.
С другой стороны, Леонтьев заметил, что она не проявляла ни малейшего интереса к его делам и, по-видимому, даже не представляла себе, что он давно перешёл от научно-исследовательской деятельности к работе в военной промышленности.
Просидев у Марии Сергеевны около двух часов, Леонтьев простился с нею и, вернувшись к себе в номер, лёг спать.
Поездка в Софию
В тот самый день, когда состоялось испытание нового орудия, — в тот самый день, около семи часов вечера, экспресс Стамбул — София подошёл к небольшому дебаркадеру софийского вокзала. Как всегда по прибытии заграничного поезда, чинные болгарские полицейские вошли в спальный вагон и получили у толстого проводника в коричневой униформе паспорта приехавших иностранцев. На этот раз их приехало не много — пять человек: два немецких инженера с подозрительной военной выправкой, турецкий журналист с испитым лицом, какой-то толстый, весь лоснящийся грек и румынский коммерсант Петронеску, поджарый, немолодой уже человек с большим рубцом на левой щеке.
Старший из полицейских, взяв под козырёк, приветствовал приезжих и объяснил им, что паспорта они получат на следующий день в управлении софийской полиции, причём если господа не пожелают себя утруждать, то могут прислать кого-либо из сотрудников гостиницы, в которой «почтенным приезжим угодно будет остановиться». Поблагодарив вежливого полицейского, Петронеску вышел на перрон. Носильщик, мальчишка лет тринадцати в пёстро заплатанных штанах, нёс за ним чемодан.
Выйдя на перрон, Петронеску закурил. Он давно не был в Софии и не очень любил этот город. Последние месяцы он прожил в Турции, которую хорошо знал. Ему приходилось там бывать ещё в дни своей молодости, в период войны 1914 — 1918 годов.
В Софию он выехал внезапно. Ещё вчера, стоя на перроне анкарского вокзала в Стамбуле, Петронеску мысленно прощался с этим городом. События складывались таким образом, что надо было из него на некоторое время исчезнуть, не говоря уже о делах, которые ждали в Софии.
Вечерний Стамбул дымился в лучах заката. Огромное красное солнце купалось в Золотом Роге. Белые румынские пароходы, застигнутые войной в Стамбульском порту и застрявшие там до лучших времён, чуть покачивались на якорях. Город шумел, суетился, пел, смеялся, плакал, бранился и блистал всеми цветами радуги. К пристани в Галате со всех сторон ползли через бухту юркие, канареечного цвета пароходики, как их там называют, — шеркеты. Новый город амфитеатром спускался к набережным, струясь разноцветными потоками улиц, автомобилей и маленьких вагончиков трамвая, похожих издали на майских жуков.
На привокзальной стороне, у моста, ещё кипел Рыбный базар. На нём толкались, ссорились, шумели, торговались, кричали на всех языках турки, греки, левантинцы, армяне, евреи, румыны. На прилавках, лотках и в палатках лежали апельсины и финики, маслины, битая птица, омары величиной с доброго поросёнка, морские петухи с лазоревыми плавниками, рыба-меч с длинным, в метр, костяным, похожим на рапиру носом, плоская уродливая коричневая камбала, золотистая барабулька и прочие дары трёх морей — Чёрного, Мраморного и Средиземного. Во всех направлениях быстро шагали грузчики, тащившие на плечах огромные плетёные корзины со всякой морской живностью, только что подвезённой на рыбачьих фелюгах.
В другой части базара торговали смирнскими коврами и розовым маслом, дублёными кожами и цветными шалями, медными сковородами и чайниками, древними, зелёными от старости монетами, пёстрыми ситцами и шелками.
От шума и гортанных выкриков, разноцветных костюмов, многокрасочных тканей, суеты и многоголосицы, острых рыбных и фруктовых запахов, назойливых приставаний нищих и гнусавого завывания розничных торговцев туманилась и тяжелела голова, и весь базар вдруг начинал зыбко колыхаться в глазах, как будто на нём внезапно забушевал шторм. Волны лиц и звуков, цветов и запахов захлестывали прибоем прилегающие к базару кривые вонючие переулки старого города.
Да, господин Петронеску любил этот город! Разноязычная, многоликая толпа шумно струилась по его оживлённым улицам. Греки, немцы и французы, румыны и итальянцы — кого только не занесло сюда в эти бурные военные годы!..
***
Петронеску покинул Турцию в сложный, напряжённый момент. Шёл апрель 1942 года. Война была в самом разгаре. На востоке советские и германские армии схватились в смертельном поединке на всём протяжении тысячекилометрового фронта. Шли сражения, невиданные в истории по своим масштабам, ожесточению и потерям. Тысячи танков и самолётов были брошены в бой с обеих сторон. И в мире не было места, где не следили с трепетом и тревогой за исходом этого гигантского поединка, в котором решались судьбы мира. Да, теперь уже было понятно каждому: судьбы мира решались на обагрённых кровью русских полях.
Турция формально не участвовала в войне. Но под прикрытием пышных заявлений о строгом нейтралитете, миролюбии и объективности турецкие дипломаты вели двойную игру. На всякий случай они заигрывали с обеими сторонами, не зная ещё, на чьей стороне будет победа.
Вести эту политику было совсем не легко. Господин Сараджогло, турецкий министр иностранных дел, балансировал как мог. Прямо из приёмной немецкого посла фон Папена он мчался в приёмные послов союзной коалиции. Путь был недлинным — все посольства расположены в Анкаре в одном квартале, на одном и том же бульваре Ататюрка, — но сложным и скользким до чрезвычайности.
Едва успев принести поздравления по поводу успехов немецкого оружия сухощавому, седому, подозрительному фон Папену, старому дипломатическому волку и разведчику, надо было приятно улыбаться советскому послу в связи с разгромом немцев под Москвой и успешным контрнаступлением. А главное, под шумок этих поздравлений, пожеланий и приветствий приходилось делать и осторожные заверения: дескать, мы всей душой с вами уже сегодня, но недалёк день, когда к упомянутой душе присоединятся и полтора миллиона турецких аскеров в полном походном снаряжении и с отличной выправкой. Под эти витиеватые и туманные обещания очень хотелось урвать что возможно.
В мутном потоке такой политики развелись самые фантастические «рыбы», и удить их съехались любители со всех концов света. «Мирный» Стамбул кишмя кишел шпионами, спекулянтами, международными авантюристами, шулерами европейского класса, кокотками всех мастей и расценок, поставщиками оружия и документов, содержателями публичных домов и специалистами по дезинформации, представителями Ватикана и торговцами живым товаром. Все отели и рестораны от Пера до Галаты были переполнены. Аппараты военных и морских атташе увеличились до предела. Спрос на дачи в Бююк-Дере — дачной местности в районе Стамбула, на берегу Босфорского пролива, — возрос необыкновенно: из Бююк-Дере узкий пролив просматривался невооружённым глазом от берега до берега.
***
В этой обстановке господин Петронеску плавал свободно, как рыба в воде. Немецкая разведка, в которой он работал, вела себя в Анкаре и Стамбуле, как на Фридрих-штрассе; гестапо имело в Турции почти официально своё отделение, издавало для Турции свою газету, имело полдюжины подкупленных изданий, заводило обширные связи среди турецких правительственных чиновников, широко распространяло фашистскую литературу. Господин фон Папен до такой степени воспылал любовью к турецкому народу, что у себя в посольстве устраивал специальные приёмы для турецких шофёров, механиков, железнодорожников, лично приветствуя этих скромных тружеников. На приёмах демонстрировалась немецкая кинохроника, наглядно показывавшая непобедимость германского оружия и радужные перспективы, которые сулит всем народам «новый порядок». Немецкие «специалисты» успешно проникали в турецкие учреждения, банки и предприятия.
И всё шло хорошо, пока в Берлине, нетерпение которого усиливалось с каждым днём, не решили применить для ускорения событий испытанный приём — организовать покушение на немецкого посла в Турции, приписав это, разумеется, большевикам. Мыслилось, что выстрел в Папена или, ещё современнее, взрыв бомбы, брошенной в него днём в самом центре, на бульваре Ататюрка, прямо под окнами посольств всего мира, должен наконец вынудить Анкару сделать решительный шаг.
Когда этот план был доложен Гитлеру, он утвердил его без всяких колебаний, подчеркнув одно условие: Папен должен остаться невредимым. Специалисты из гестапо поморщились — такая установка крайне усложняла операцию. Признаться, они рассчитывали, что фюрер, учитывая важность, а также мировое значение задуманной инсценировки, пойдёт и на то, что старый Папен отправится на тот свет. Это, конечно, сразу придало бы всей операции необходимый эффект. Но приказ есть приказ, и пришлось скрепя сердце продумывать такие детали «покушения», которые обеспечили бы невредимость сухопарого Папена без ущерба для общего эффекта инсценировки.
После того как план был разработан во всех деталях, фюрер приказал ознакомить с ним будущего «потерпевшего». Специально прибывший из Берлина уполномоченный явился в кабинет фон Папена. На столе посла была разложена карта бульвара Ататюрка. Вот тротуар, по которому Папен ежедневно совершает свой традиционный моцион. Вот столб, у которого его должен был поджидать злоумышленник. Отсюда тот направится навстречу послу. Здесь злоумышленник к нему подойдёт. Два выстрела, разумеется, мимо и третий — в пакет с бомбой, которую бедняга будет держать в руках. Сразу после второго выстрела господин посол должен упасть на тротуар, поближе к краю, чтобы его не задела взрывная волна. Через три минуты должна подоспеть посольская машина, которую вызовет мотоциклист из немецкого посольства, «случайно» проезжающий мимо в этот момент на своём мотоцикле. Злоумышленника, разумеется, разорвёт в клочья. Но он этого не подозревает, полагая, что выстрел вызовет лишь дымовую завесу.
Фон Папен отлично изучил кухню такого рода операций. Он сам не раз проделывал их ещё в прошлую войну, будучи немецким дипломатом в США, где возглавлял всю диверсионно-разведывательную работу и, в частности, прославился широко задуманной и великолепно реализованной операцией по организации взрывов американских пароходов, направляемых из Нью-Йорка в Европу с грузом снарядов для англо-французских войск. Поэтому, когда фон Папену сообщили о решении организовать на него «покушение», он ничем не проявил ни удивления, ни испуга, хотя в глубине души, хорошо зная своего фюрера, не исключал смертельного исхода инсценировки…
— Если фюрер счёл это целесообразным, — протянул он, — то моя жизнь к его услугам…
— Господин Папен, я не совсем понимаю вас, — немедленно возразил приехавший из Берлина уполномоченный, — о вашей жизни не может быть и речи: она слишком дорога фюреру и Германии. Мы потому и докладываем план во всех деталях, чтобы решительно исключить какие бы то ни было случайности и чтобы вы шли в этот день на прогулку так же спокойно, как всегда.
— Случайности, мой друг, вовсе исключить невозможно. Особенно в подобных случаях. Но во время такой войны не думают о случайностях…
Тем не менее господин фон Папен посвятил плану несколько часов. Он взвесил самые мельчайшие детали, внёс свои предложения и даже сформулировал текст фразы, которую он должен будет произнести сразу после покушения в присутствии прибывших турецких полицейских: «Эта бомба предназначалась для меня, но господу было угодно сохранить мою жизнь для Германии. Уверен, что взрыв — дело этих нечестивцев» (гневный жест в сторону здания советского посольства).
В конце совещания, хотя был уже поздний вечер, господин посол увлёкся до такой степени, что, невзирая на возраст, подагру и седины, трижды шлёпался на ковёр, изображая момент падения, потерю сознания, временное забытье, первый стон и вздох облегчения, медленный подъём и обращение к полицейским и случайным очевидцам. Проделано это было артистически, в духе старой романтической школы, с придыханиями и трагическим шёпотом. Уполномоченный пришёл в восторг.
После этого работа закипела. Два агента немецкой разведки — студент Абдурахман, кокаинист, и парикмахер Сулейман, тупой, туго и медленно соображающий парень, были намечены как будущие обвиняемые — свидетели обвинения против русских, которые якобы действовали с ними сообща. Третий, исполнитель покушения, по хитро задуманному плану должен был погибнуть при взрыве бомбы, которую он держал в руках и в которую сам должен был выстрелить. В дальнейшем Абдурахман и Сулейман должны были дать показания, что этот третий был их друг Омер, которого вместе с ними якобы привлекли к покушению на фон Папена советские граждане Павлов и Корнилов.
Дело осложнялось тем, что как Абдурахман, так и Сулейман никогда не видели Павлова и Корнилова. Пришлось Абдурахмана и Сулеймана вывезти из Анкары в Стамбул, где агент гестапо часами гулял вместе с ними у здания советского консульства. Несколько раз он показывал им Павлова и Корнилова, выходивших из здания. В стамбульской полиции удалось добыть их фотокарточки.
После этого началась подготовка будущих показаний Абдурахмана и Сулеймана. Оба с трудом усваивали заданный текст, путались в деталях, плохо запоминали.
В таком виде их было опасно выпускать на гласный, открытый судебный процесс, который должен был явиться апофеозом всей инсценировки. Их могли сбить Павлов и Корнилов, и они могли окончательно запутаться. Дни проходили, а дело шло из рук вон плохо. Берлин уже начинал нервничать — дела на фронте осложнялись и надо было торопиться с этими упрямыми турками.
Уполномоченный из Берлина в свою очередь начинал терять терпение. Он набрасывался на участников подготовки с угрозами и бранью. Но это не способствовало продвижению дела. Тогда берлинский уполномоченный решил привлечь к этому делу и господина Петронеску, находившегося в это время в Стамбуле.
Господин Петронеску, узнав об этом, потерял обычную жизнерадостность. Чёрт возьми, так можно раз навсегда подорвать престиж, заработанный с таким трудом на протяжении десятилетий! Проклятые Абдурахман и Сулейман были тупы, как ишаки, и, кажется, глупели с каждым днём. Сулейман, который уже, казалось, начал запоминать тексты своих будущих показаний на следствии и в суде, вдруг обратился к господину Петронеску с идиотским вопросом:
— А что, если русские скажут, что они меня никогда не видели и не знали?.. Они могут так сказать?
— Конечно, могут, — ответил господин Петронеску, ещё не понимая, в чём смысл вопроса. — Они так и скажут, ведь так и есть на самом деле, вы же это знаете… Ну и пусть говорят. Вам какое дело?
— Так ведь все поймут, что мы говорим неправду. И нас могут осудить за ложные показания, — закончил свою мысль Сулейман.
Господин Петронеску едва удержался от смеха. Этот кретин боялся, что его осудят за ложные показания, даже не понимая, что ему грозит виселица как раз в том случае, если суд поверит его показаниям. Вот с таким быдлом приходилось работать, подготовляя мировую сенсацию! Нет, надо было любыми путями избавиться от участия в этом деле.
Однажды ночью господина Петронеску осенила великолепная мысль: на будущем судебном процессе Абдурахмана и Сулеймана следовало подкрепить умным юристом. Надо будет подобрать надёжного адвоката, который вёл бы процесс умело и ловко.
Среди агентов немецкой разведки был один турок-юрист, некий Захир Зия Карачай. В своё время он получил образование в Германии и ещё в студенческие годы был завербован гестапо. Теперь этот проходимец проживал без определённых занятий в Анкаре и использовался для всякого рода третьестепенных поручений. В адвокатуре он не состоял, так как не имел своей адвокатской конторы, без чего, по турецким законам, не мог быть зачислен в это сословие. Но он знал немецкий и французский языки, был пронырлив и полезен как мелкий шпион, провокатор и посредник во всяких грязных делах. Кроме того, он недурно подделывал подписи.
При всём том это был человек проверенный, на всё готовый и, как-никак, юрист по образованию. Господин Петронеску доложил свой план уполномоченному. Тот снёсся с Берлином и получил одобрение.
Захира Зия Карачая надо было срочно произвести в адвокаты. Средства, необходимые для открытия конторы, были ему переведены. И он был принят в анкарскую коллегию адвокатов. Увы, только значительно позже, уже в ходе судебного процесса, выяснилось, что сделано это было грубо: средства на открытие конторы были перечислены на имя Захира Зия Карачая через банк прямо со счета немецкой фирмы, которая была известна как филиал гестапо. Но кто мог подумать, что дотошные русские докопаются до такой мелочи! Казалось, никому и в голову не придёт выяснять, кто дал деньги Карачаю и почему он стал адвокатом как раз перед покушением на фон Папена.
Однако до процесса всё шло благополучно. Карачай отлично понял свою задачу и старательно зубрил полученные из Берлина инструкции.
Когда всё уже было подготовлено, господин Петронеску внезапно получил приказание немедленно выехать из Стамбула в Софию. Для «покушения» он уже не требовался, а в Софии его ждало новое и очень серьёзное поручение.
И вот он в Софии. О возвращении в Стамбул пока нечего было и думать. Там теперь обойдутся без него, а здесь он нужен до крайности. Правда, и в Софии можно было недурно работать.
Так размышлял господин Петронеску, выйдя из вагона на перрон софийского вокзала. Вечерний город встретил его сдержанным гулом плохо освещённых улиц, резкими выкриками газетчиков, глухим кряканьем таксомоторов и заунывными стонами редких трамваев.
Анкара и ярко освещённый Стамбул — всё это оставалось позади, было уже почти пройденным для господина Петронеску этапом. Впереди — София, новое, очень ответственное и опасное поручение, а следовательно, новые награды и, главное, деньги, деньги, деньги…
Улыбаясь этим перспективам, господин Петронеску стряхнул груз воспоминаний и двинулся в город.
«Чёрт с ним, со Стамбулом! — думал Петронеску. — Здесь будет не хуже».
Подозвав такси, он отправился в один из городских отелей.
Вечером «румынский коммерсант» встретился с владельцем немецкого кинотеатра, пожилым человеком неопределённой национальности. В маленьком кабинете, расположенном за кассой театра, они долго сидели вдвоём, беседуя, как старые знакомые. Они и в самом деле давно и близко знали друг друга: смуглый, худощавый господин Петронеску, румынский подданный, и тучный, страдающий одышкой господин Попандопуло, человек с бычьим затылком и квадратным подбородком, немец по внешности, грек по паспорту, турок по манерам, кинопредприниматель по вывеске и чёрт его знает кто на самом деле.
Софийские полицейские чиновники, когда заходила речь о господине Попандопуло, почему-то многозначительно улыбались, но охотно свидетельствовали его бесспорную благонадёжность и коммерческую солидность.
Но господину Петронеску вовсе не нужно было наводить справки в полиции о господине Попандопуло: они знали друг друга давно и отлично. Вот почему их беседа, хотя они и не виделись года три, не была перегружена взаимными расспросами, восклицаниями и отступлениями. Нет, беседа, что называется, с места набрала нужную скорость. Петронеску сказал, что прибыл в Софию к «русским друзьям», что пора восстановить старые связи, что «дома жалуются на трудности работы» и что им обоим, то есть ему и Попандопуло, поручено довести до конца одно небольшое «московское дельце».
Попандопуло поморщился и заметил, что, как это хорошо знают «дома», у него есть в Софии свои дела, трудности тут немалые и его поэтому удивляет, почему «московскими делами» надо ворочать из Болгарии.
— Вы не учитываете, дорогой Попандопуло, — возразил ему Петронеску, — что в военное время всегда легче работать на нейтральной территории. И, кроме того, так приказано.
Попандопуло сообщил собеседнику, что белоэмигрантская колония в Софии совсем уже не та, что раньше. Старики одряхлели, погрязли в собственных нехитрых делах — ресторанчики, чайные, лавчонки, — а молодёжь ненадёжная, дух в ней не тот, кое-кто даже открыто сочувствует Советской Армии.
— Признаться, — продолжал он, — я с ними особенно и не возился. Когда было предписано найти добровольцев для фронта, я кое с кем встретился, поговорил. И слушать не хотят, мошенники.
Петронеску сидел молча и о чём-то напряжённо думал. Потом он разъяснил своему собеседнику, что людей ему нужно не так уж много. Главное — он хочет найти здесь верное место для связи с Москвой, для того чтобы руководить отсюда выполнением одного специального задания. Попандопуло осторожно спросил, о каком задании идёт речь.
— Если нужно кого-нибудь ликвидировать, — добавил он, — то у меня есть на примете один экземпляр. Готов на всё. И в случае чего — не жалко…
— Нет, тут совсем иное дело, — ответил Петронеску, — работа очень тонкая, можно сказать, научная. «Дома» интересуются одним русским изобретателем — и даже не столько им, сколько его трудами.
Он затянулся сигаретой, глотнул чаю и мечтательно протянул:
— Хорошо бы заполучить его живым… Тёпленького. Помните, как в тысяча девятьсот пятнадцатом году…
Попандопуло сочувственно заржал. Ещё бы, он отлично помнил, как некогда он и Петронеску, тогда ещё совсем молодые шпионы, были переброшены по заданию немецкой разведки в Батум, откуда выкрали молодого конструктора подводных лодок. Они подсыпали инженеру в вино хлоралгидрата, а потом перевезли его, сонного, через турецкую границу.
— Помните, — хрипел Попандопуло, — помните, как этот младенец вопил, проснувшись уже в Турции?.. Это было чертовски смешно! А как мы инсценировали, что он утонул! Помните, оставили на пляже брюки, бумажник, пояс… А как радовался удаче капитан Крашке! Он тоже был ещё совсем молод.
— Ещё бы ему было не радоваться, — ответил Петронеску, — когда мы с вами рисковали своими головами, а он в это время спокойно прохлаждался с девками в Стамбуле и получил за наш риск крест и повышение в чине. Мы же с вами остались ни с чем… Он сейчас там, в России, под Смоленском. Перед войной у него случилась большая неприятность в Москве, но теперь им довольны. Он и тогда ловко получил награды за наш счёт…
— Да, да, — произнёс со вздохом Попандопуло. — Это был верх несправедливости. Я запомнил это на всю жизнь.
— Ну, довольно воспоминаний, — прервал его Петронеску, заметив, что разговор, начавшийся столь деловым образом, уклоняется в сторону. — Перейдём к делу. Итак…
Телеграмма
В деловой сутолоке, связанной с началом серийного производства нового орудия, Леонтьев забыл о странном происшествии с супругой профессора Зубова, тем более что сама она никак не напоминала о себе. С раннего утра инженер уезжал на завод, где осваивалось производство нового орудия, и там до поздней ночи работал, спорил с поставщиками и проверял анализы.
Поздно ночью Леонтьев возвращался на машине в гостиницу. Усталый от напряжённой работы, он обычно засыпал на своём месте рядом с шофёром.
На улицах затемнённого города ни на минуту не прекращалась жизнь. Проходили колонны машин, спешивших на фронт и с фронта, подмигивали зелёные и красные фонарики регулировщиков уличного движения, военные патрули проверяли на перекрёстках документы и пропуска.
Когда патруль открывал дверцу машины, шофёр тихо, чтобы не разбудить Леонтьева, протягивал пропуск и говорил:
— Тише, не разбуди. Это наш инженер. Совсем, бедняга, замытарился, целый день носится. Вот пропуск…
Красноармейцы улыбались и осторожно, стараясь не хлопнуть, притворяли дверцу машины после проверки документов.
Так незаметно пробежали два месяца. Однажды в гостиницу прибыл курьер с пакетом. Распечатывая конверт, Леонтьев волновался. Он догадывался, что это ответ на его просьбу разрешить ему выехать на фронт, чтобы присутствовать при боевом испытании первой партии выпущенных заводом орудий.
Да, это был ответ. В конверте оказался документ о том, что инженер Леонтьев командируется в Н‑скую артиллерийскую бригаду для проверки боевых свойств орудия «Л‑2». В коротком письме Нарком вооружений просил Леонтьева не задерживаться и помнить, что его присутствие на заводе в Москве более чем необходимо.
Два дня ушло на подготовку к отъезду, оформление фронтового пропуска и окончание заводских дел. Наконец всё было закончено. Рано утром выделенная в распоряжение Леонтьева маленькая юркая военная машина и шофер её Ваня Сафронов, смешливый лукавый парень с весёлыми глазами, поджидали конструктора у подъезда гостиницы.
За Леонтьевым зашёл в номер приехавший его сопровождать майор Бахметьев, молчаливый молодой человек с внимательным взглядом и спокойным приветливым лицом.
Леонтьев закрыл номер, передал ключ от него дежурной по этажу и спустился вниз. Подойдя к администратору гостиницы, он передал ему броню на номер, который оставался за ним, и на вопрос, скоро ли он возвратится, коротко ответил:
— Не знаю. При всех условиях номер остаётся за мной. Всего хорошего.
Леонтьев вышел из подъезда гостиницы и подошёл к машине. Ваня лихо откозырял и включил зажигание. Поставив свой чемоданчик на заднее сиденье, Леонтьев сел рядом с шофёром. Майор Бахметьев устроился за спиной Леонтьева.
— Батюшки, да куда же это вы, сударь, в такую рань собрались, да ещё на этаком драндулете? — раздался совсем рядом чей-то знакомый голос, и, обернувшись Леонтьев увидел Марию Сергеевну, которая стояла на тротуаре с неизменной сумкой и каким-то старомодным зонтиком в руках.
— Здравствуйте, Мария Сергеевна, — улыбнулся Леонтьев. — Вот собрался… Тут, собственно, недалеко… На фронт…
— Что же это вы, сударь мой, пропали? — спросила, как всегда добродушно, Мария Сергеевна. — Вовсе забыли свою даму…
Леонтьев извинился, сослался на перегруженность работой и обещал по возвращении немедленно навестить Марию Сергеевну. Простившись, он велел трогать. Мария Сергеевна приветливо помахала ему вслед платочком, и машина понеслась вперёд.
С минуту ещё добродушная женщина провожала машину взглядом, разглядела, что номер на машине военный, а не городской, запомнила этот номер — «10‑12», почему-то вздохнула и тихо побрела в вестибюль гостиницы.
В вестибюле она подошла к дежурному администратору и вежливо спросила:
— Не знаете случайно, где инженер Леонтьев, мой земляк? Стучу, стучу к нему в номер, а никого нет.
— Инженер Леонтьев уехал, — ответил администратор. — Номер остался за ним.
— Надолго уехал? — спросила Мария Сергеевна.
— На неопределённое время.
В то же утро дежурная международного отдела московского телеграфа приняла телеграмму в Софию:
«Хлопочу вашей визе въезда в Москву. Мама жалуется общую слабость. Сильно переживает отъезд Серёжи на фронт, волнуется за него. Целую. Ната».
Телеграмма была адресована Русаковым, проживающим в Софии на Балканской улице, и была сдана на московском телеграфе ровно в десять часов двенадцать минут, что и было обозначено на телеграфном бланке.
В пятнадцать часов тридцать минут телеграмму принял софийский городской телеграф, а немного спустя рассыльный телеграфа подъехал на мотоцикле к дому на Балканской улице. На стук вышел сам господин Русаков — бородатый человек с багрово-сизым носом и отёкшим лицом. От него несло чесноком и винным перегаром.
Он взял телеграмму, что-то буркнул и хлопнул дверью перед самым носом рассыльного, не дав ему ничего на чай.
Через час Русаков пришёл в бар-варьете «Лондра» и попросил швейцара вызвать господина Петронеску, который веселился там с дамой. Петронеску пришёл в вестибюль, прочёл телеграмму, и лицо его сразу вспотело. Он отёр лоб салфеткой, которую держал в руках, поспешно расплатился с официантом, извинился перед своей дамой и, выйдя из бара, сел в такси.
В ту же ночь софийский городской телеграф принял длинную телеграмму, адресованную в Бухарест. В ней сообщалось, что мосье Серж временно ликвидировал своё дело и выехал для подыскивания торгового помещения и что при этих условиях переговоры с ним лучше начинать в том месте, куда он выехал ровно в десять часов двенадцать минут.
Вскоре в кабинет начальника одного из отделов германской разведки доставили расшифрованное сообщение из Москвы, пришедшее через Софию — Бухарест. В этом сообщение говорилось, что изобретатель Леонтьев выехал на фронт на военной машине № 10‑12 и что выезд этот, по-видимому, связан с боевым испытанием его изобретения. Район фронта, куда он выехал, пока неизвестен.
Начальник отдела два раза прочёл сообщение, неодобрительно что-то промычал, а затем сказал подчинённому, принёсшему этот документ:
— Район фронта неизвестен… Чёрт возьми! Главное — неизвестно… Я очень боюсь, что в самом ближайшем будущем этот район станет нам слишком хорошо известен. Судя по всему, это какой-то дьявольский аппарат! Надо предупредить штаб.
Он быстро надел шинель и вышел из кабинета.
На фронте
Машина быстро поглощала километры. По обеим сторонам дороги тянулись поля и перелески, мелькали живописные деревни. По серому асфальту шоссе мчалось множество машин: грузовики всех марок, юркие малолитражки, штабные «эмки» и прыгающие тупорылые «виллисы». Апрель дымился на горизонте. Строгие девушки с бронзовыми от весеннего загара лицами, прозванные за это «индейцами», регулировали движение.
На контрольно-пропускных пунктах девушки придирчиво проверяли документы, путёвки и шофёрские права. Никакие попытки шофёра Вани Сафронова рассмешить их и побалагурить не имели успеха. Девушки оставались серьёзными и только в ответ на последнюю Ванину фразу «Умоляю не скучать и Ванюшку поджидать» сдержанно и лукаво смеялись одними глазами.
И опять вьётся фронтовая дорога, весенний ветер бьёт в лицо, а рядом, впереди, сзади и навстречу бегут непрерывно машины, тарахтя, проносятся танки, с треском мчатся мотоциклы офицеров связи.
Кое-где стоят, пережидая, вереницы машин. Прямо в них спят водители, черномазые, с обветренными лицами парни, столько раз проделавшие этот фронтовой рейс, подвозя красноармейцев и письма, продукты и боеприпасы, актёров фронтовых бригад и медсестёр.
Леонтьев приехал в намеченный пункт вечером. Командир бригады полковник Свиридов, предупреждённый заранее, уже поджидал изобретателя. В блиндаже был накрыт стол и приготовлен ужин, а в углу белели простыни заботливо приготовленной постели.
От ужина гость отказался: ему не терпелось посмотреть свои орудия. И командир повёл его на участки, где были замаскированы новенькие «Л‑2».
Леонтьев познакомился с расчётами орудий, побеседовал с командирами, сделал несколько замечаний. Волнение предстоящего боевого испытания всё более охватывало его. Ровно в пять часов по приказу командования «Л‑2» должны были вступить в действие и им, по выражению полковника Свиридова, «предоставлялось приветственное слово»…
Уже заканчивались приготовления. Боекомплекты снарядов были подвезены к орудиям. Механики в последний — который уж! — раз проверяли механизмы; у всех командиров орудийных расчётов были выверены и точно поставлены часы. Дежурные обошли участки и строго запретили курить на воздухе, зажигать фонарики и спички. Весенняя ночь мягко окутала мраком лагерь бригады, и людям было приказано отдыхать.
Леонтьев и Свиридов пошли к блиндажу. Прежде чем спуститься вниз, оба молча постояли у входа. В ночном небе, где-то над ними, высоко-высоко гудели моторы проходивших самолётов. Был ясно слышен прерывистый тяжёлый вой немецких бомбардировщиков, шедших на восток. Их сменял ровный звонкий рокот наших машин, которые шли на запад.
«Комбинат» под Смоленском
Давным-давно, ещё до отмены крепостного права, километрах в тридцати от Смоленска была воздвигнута пышная усадьба князей Белокопытовых. Рассказывали, что усадьбу эту — и помещичий дом, и все надворные постройки, и причудливые павильоны — строил какой-то итальянец, за громадные деньги вывезенный князем из заграничных странствий. А странствовать князь любил, ездил он много, и потому, быть может, дом его был выстроен столь несуразно. Князю хотелось, чтобы он был похож и на средневековые рыцарские замки, какие довелось ему видеть в Баварии — с башнями, бельведерами, тайниками, и на дворцы польских магнатов, какие сохранились и теперь ещё на Волыни и в Западной Белоруссии, и на итальянские палаццо, которыми не раз любовался он в Венеции.
Итальянец, как рассказывают, спорил тогда и горячился, но характер у князя был крутой и несговорчивый. Убедившись в этом, плюнул итальянец на чистоту стиля и в два года построил князю обыкновенную домину, смахивающую одновременно и на рыцарский замок, и на палаццо, и на дворец. Князь устроил пышное новоселье с охотой, крепостным балетом и фейерверком. На праздник съехалась знать со всей округи. Новоселье праздновалось добрую неделю.
С тех пор высится километрах в тридцати от Смоленска, в глухом бору, это огромное, в три этажа, каменное здание с башнями и подземельями, с двусветными залами, с хорами и мраморными колоннами, с потайными дверьми и подземными переходами. Липы запущенного парка и заросшие кувшинками старые пруды окружают его.
После революции в округе долго думали, как поступить с этим диким домом. Был там и сельсовет, и школа трактористов, и колхозно-совхозный театр. Пробовали даже расположить в нём дом отдыха союза работников земли и леса — уж очень хороши кругом места! — но отдыхающие ворчали, что здание напоминает им не то старинную тюрьму, не то крепость и плохо, дескать, действует на нервную систему.
Дом отдыха перевели в другое место, и с тех пор здание пустовало. В огромных залах и мрачных сводчатых комнатах расплодилось множество летучих мышей, филинов, крыс и прочей нечисти, и дом стоял в тяжёлом молчании, словно кого-то поджидая.
Когда пришли немцы, они сначала устроили в барском доме казарму, а потом прикатил на машине какой-то эсэсовский генерал, обошёл весь дом, внимательно осмотрел подземелье, одобрительно что-то промычал и уехал.
Через день войска вывели, а усадьбу со всех сторон огородили колючей проволокой, вокруг расставили часовых, которые никого не пускали, даже не всякий немецкий офицер мог туда пройти.
В доме поселились какие-то странные люди, многие из них были в штатском. В подземелье распоряжался юркий пожилой человек, которого звали герр Стефан, личность с европейским, можно сказать, именем: он был известен полиции всех стран и городов Европы как фальшивомонетчик высокой квалификации. Немцы нашли его в одной из парижских тюрем, где он отбывал очередной срок наказания. Герр Стефан работал у фашистов по своей прямой «специальности». В подземелье под его руководством изготовлялись фальшивые денежные знаки — советские сотенные, турецкие лиры, шведские кроны, английские фунты и иракские динары.
В распоряжение герра Стефана были предоставлены новейшей конструкции литографские станки, гравировальные машины, агрегаты для горячей обработки бумаги — дело было поставлено на широкую ногу.
В подземных лабиринтах, расположенных с другой стороны дома, тоже шла кипучая работа. Там изготовлялись фиктивные советские и партийные документы, а фотолаборатория печатала снимки «торжественных и радостных встреч германских войск с населением в оккупированных районах».
В разбросанных по усадьбе павильонах и флигелях расположились другие секции этого удивительного «комбината». В одном находилась школа-общежитие для перебежчиков и диверсантов, в другом обучались радисты-коротковолновики, в третьем изготовлялись различного рода замаскированные передатчики — в виде баянов, несессеров, деревенских сундучков, музыкальных шкатулок и т. п., которыми снабжались перебрасываемые в советские тылы шпионы и диверсанты.
В парке была построена парашютная вышка для учебных прыжков, которыми руководил долговязый рыжий мужчина в фельдфебельской форме. Среди будущих парашютистов были бывшие махновцы, петлюровцы и много прочего сброда, набранного в разных трущобах всего света.
Они взбирались на вышку довольно неохотно и, поднявшись на верхнюю площадку, останавливались там в глубоком раздумье.
— Шнеллер! — вопил снизу истошным голосом рыжий. — Шнеллер! — и виртуозно ругался по-русски.
Время от времени очередная партия обученных шпионов отправлялась к линии фронта для переброски в советский тыл. Предварительно все они проходили через гардеробную, где каждый получал соответствующее платье.
Оттуда выходили уже в полной готовности дряхлые украинские слепцы с бандурами, старушки гадалки с замусоленными колодами карт, бродячие музыканты с баянами и скрипками, «милицейские работники» в полной форме, снабжённые соответствующими документами, «красноармейцы» в поношенном обмундировании, якобы «вышедшие из окружения», даже подростки. Все они были соответственным образом проинструктированы, каждый имел определённое задание и был прикреплён к определённому району.
Вечером, после наступления темноты, их увозили на машинах к линии фронта, откуда разными способами и путями перебрасывали в советский тыл.
Всей этой сложной машиной, этим удивительным «комбинатом» руководил Крашке — тот самый Крашке, который в далёком 1915 году, в самом начале своей карьеры, так несправедливо обошёлся с Попандопуло и Петронеску, носившими тогда, впрочем, совсем другие фамилии. И тот самый Крашке, с которым случилось несчастье на Белорусском вокзале в Москве, ныне прощённый и получивший ответственное назначение.
Здесь, в усадьбе под Смоленском, господин Крашке развернул узловой пункт германской разведки, своеобразный штаб, который непосредственно ведал шпионской, диверсионной и подрывной деятельностью на этом участке фронта. Местопребывание и работа этого штаба были глубоко законспирированы.
Здесь задумывались, разрабатывали и подготовлялись самые «деликатные» планы и мероприятия немецкой разведки и пропаганды, здесь отбирались и проходили последнюю обработку новые «кадры», здесь по мановению режиссёрской палочки из Берлина репетировались наиболее эффектные инсценировки и изготовлялись «неопровержимые доказательства».
В башне главного здания день и ночь потрескивала радиостанция, поддерживающая непрерывную связь с Берлином и с переброшенными в советский тыл радистами.
Крашке, в спортивном костюме, с подёргивающимся ртом и остановившимися глазами, неустанно носился по дому, по подземным переходам и усадебным службам, спрашивал, приказывал, указывал, ругал, хвалил, требовал… И вся эта сложная машина вертелась под его холодным, пронизывающим взглядом покорно, бесшумно и слаженно.
К ночи машина эта как бы останавливалась, и дом засыпал. Ни один луч света не проникал сквозь наглухо зашторенные окна. В павильонах и флигелях после дневной учёбы крепко спали «курсанты». Движение по усадьбе прекращалось. Только радиостанция не прекращала работы.
И тогда Крашке выходил на свою ночную прогулку. Чуть поскрипывая толстыми подошвами своих спортивных башмаков, он обходил все здания усадьбы и шёл в парк подышать свежим воздухом.
Горячий деловой день был позади. Теперь требовалось что-то для души. Но и развлекался Крашке так же, как жил: не совсем обычно.
Он возвращался в дом и через потайную дверь в спальне спускался в фамильный склеп князей Белокопытовых, откуда особым ходом пробирался в самое секретное убежище дома. Там по ночам шли допросы. Туда в закрытых машинах доставлялись с фронта раненые или попавшие в плен советские офицеры и бойцы, которые отказывались выдать военную тайну, или мирные граждане, попавшие под подозрение.
Здесь господин Крашке давал волю своей фантазии. Под утро, синий от остроты пережитых ощущений, с отвисшей челюстью и блуждающими глазами, Крашке поднимался к себе, долго мыл окровавленные руки, а потом раздевался и ложился в постель.
Таков был новый хозяин старинной усадьбы под Смоленском.
Крашке сильно волновало неожиданное задание берлинского начальства, связанное с инженером Леонтьевым.
Задание пришло на рассвете, когда Крашке уже спал. Его пришлось разбудить: в шифровке приказывалось вручить её немедленно.
Когда радист разбудил спящего Крашке, тот сел на постели, протёр красные глаза, вытянул худые, поросшие рыжим пухом ноги и уставился сонным взглядом на радиста.
— Прошу извинить, герр Крашке, спешная телеграмма, — сказал радист.
Крашке взял листок. По мере того как он читал телеграмму, лицо его теряло сонливое выражение.
В телеграмме значилось следующее:
«По имеющимся достоверным данным, на один из участков вашего фронта выехал из Москвы инженер Леонтьев, изобретатель нового орудия, представляющего для нас чрезвычайный интерес. По-видимому, выезд Леонтьева связан с пуском опытных экземпляров этого орудия в дело. Как само изобретение, так и его автор находятся в поле нашего зрения. Ставка приказывает любой ценой заполучить в плен Леонтьева. Для этого необходимо точно установить его местопребывание, после чего будет проведена операция по окружению и пленению того соединения, в котором находится Леонтьев.
Сообщаем известные нам данные: Леонтьев выехал пятого апреля из Москвы на машине «виллис» № 10‑12. Он одет в костюм цвета хаки, военного покроя. Фото Леонтьева трёхлетней давности утром доставит самолёт».
Господин Крашке три раза прочёл телеграмму. Сон как рукой сняло. Опять этот проклятый Леонтьев, из-за которого он так пострадал! Крашке быстро оделся.
Через несколько минут все радиопередатчики «комбината» начали связываться с агентурой, переброшенной через линию фронта. Были спешно проинструктированы и увезены к переднему краю для переброски полтора десятка человек.
— Боюсь, — сказал Крашке своему ближайшему помощнику, повторяя мысль своего берлинского начальства, — боюсь, что местопребывание Леонтьева мы скоро узнаем более чем точно. По-видимому, его изобретение даст о себе знать.
Он оказался прав. Действительно, орудия инженера Леонтьева показали себя раньше, чем агентура Крашке смогла установить местопребывание изобретателя.
Случилось это дня через два, около шести часов утра. Генерал Штанге, командующий одним из участков фронта, потребовал к полевому телефону господина Крашке.
— Герр Крашке отдыхает, — ответил дежурный офицер.
— Разбудите его немедленно! — потребовал Штанге.
Крашке разбудили, и он подошёл к телефону. Генерал Штанге, задыхаясь от волнения, сообщил, что ровно в пять утра с советской стороны начался обстрел из орудия какой-то неизвестной конструкции.
— Вы знаете, я старый солдат, — хрипло кричал Штанге, — но то, что сейчас происходит, немыслимо! Это ад!.. Нет, ад — это детский сад по сравнению с этим ужасом!..
Генерал Штанге добавил, что он уже просил ставку о подкреплении, а главное — об организации массированного воздушного налёта на тот участок, с которого бьют новые орудия. Моральное состояние солдат катастрофически падает.
«Вот она, — подумал Крашке, — визитная карточка этого Леонтьева».
Он немедленно радировал в ставку, указав местопребывание изобретателя. Оттуда, ни минуты не колеблясь, дали команду, и к участку генерала Штанге двинулись резервы танков, артиллерии и самолётов. Было решено любой ценой прорваться на участке бригады Свиридова, обойти участок с флангов, выбросить в тыл мощный парашютный десант и таким образом взять весь район в полное окружение.
— Любой ценой добейтесь пленения Леонтьева! — приказывала ставка.
— Ищите Леонтьева! — радировал Берлин. — Прежде всего найдите Леонтьева! Головой отвечаете за жизнь Леонтьева! Нам нужен живой Леонтьев!
Фамилия Леонтьева неслась через леса, горы и поля по телеграфным и телефонным проводам, склоняясь на все лады в приказах и предупреждениях, выплёскивалась из микрофонов и мембран. Она стала как бы символом разворачивавшейся операции.
Но как раз в тот момент, когда спешно брошенные в дело резервы уже подходили к участку генерала Штанге, случилось нечто фантастическое. Такие же новые орудия внезапно вступили в дело совсем на другом участке фронта. Едва донесение об этом поступило в штабы и ставку, как ещё один участок фронта донёс, что там началось то же самое.
В восемь часов утра орудия «Л‑2» вступили в действие уже по всей линии фронта. Карты спутались. Где же, на каком из участков был сам Леонтьев? Разумеется, никто этого не знал.
Немецкие части в панике отступали, бросая технику и раненых. В штабах сбились с ног. Берлин неистовствовал и, потеряв реальное представление о положении, давал путаные и противоречивые приказания. Резервы то бросались на новые направления, то снова возвращались на прежние позиции, как шахматные фигуры, нелепо переставляемые растерявшимся игроком.
Исполнительница лирических песенок
Через несколько дней после отъезда Леонтьева на фронт Мария Сергеевна Зубова, жена профессора из Ленинграда, внезапно выехала из гостиницы «Москва». В заполненном перед отъездом листке она указала, что возвращается в город Челябинск, откуда приезжала в столицу.
Заплатив по счёту и простившись с администратором, добродушная женщина вышла из вестибюля гостиницы с небольшим саквояжем и неизменной своей хозяйственной сумкой.
Убедившись, что за нею никто не следит, Мария Сергеевна повернула за угол, спустилась в метро и доехала до Сокольников. Не спеша направилась она в парк. Был один из тех тихих подмосковных дней ранней весны, когда всё: и голые деревья, и сохранившийся на дорожках прошлогодний жёлтый лист, и бледное, грустное небо, и стоящая вокруг тишина — напоминает об осени и увядании.
Зубова одиноко бродила по пустынным аллеям. Вскоре издали появилась молодая женщина. Мария Сергеевна пошла навстречу ей и через две минуты пожала руку Наталье Михайловне, той самой спутнице, которая вместе с нею ехала из Челябинска в Москву.
Перебрасываясь короткими словами, они направились на окраину Сокольников и подошли к одному из стареньких деревянных домиков, какие и теперь ещё встречаются в Москве. Наталья Михайловна позвонила. Дверь открыла какая-то старуха и без единого слова пропустила их в дом. Они прошли в столовую, здесь никого не было. Мария Сергеевна села в старинное кресло и закурила. Наталья Михайловна устроилась рядом с ней.
— Мне велено передать вам, голубушка, — начала Мария Сергеевна, — категорический приказ: выехать на Западный фронт с актёрской бригадой. Сегодня же подайте заявление в ваш группком или в филармонию — одним словом, куда там у вас положено, — и проситесь на фронт. Туда выехал Леонтьев, и надо только осторожно выяснить одно — где именно он находится. Вот и всё, моя милая. Задание несложное.
Наталья Михайловна беспрерывно курила и была ещё бледнее, чем обычно. Потом, неожиданно и резко вскочив с места, она подошла к Марии Сергеевне и взволнованно заговорила:
— Ну, а дальше? Если я выполню и это поручение, что будет дальше? Дадите вы мне наконец спокойно жить? Ведь вы тогда дали слово, что будет всего одно поручение, что я буду абсолютно свободна… что это меня ни к чему не обяжет… Я не могу больше, вы понимаете, не могу! У меня нет больше сил! Каждую ночь мне мерещится, что за мной приехали. Каждая проходящая машина заставляет меня дрожать. Отпустите меня. Я буду вспоминать о вас всю жизнь… Я отдам вам всё, последние вещи. Обручальное кольцо… Всё, что угодно… Пожалейте меня, молю вас! Ведь вы мне в матери годитесь… Зачем я вам нужна?
У неё начиналась истерика. Мария Сергеевна смотрела, как вздрагивают её плечи и как она, совсем по-детски, не вытирая слёз, всхлипывает и, сморкаясь, плачет.
— Ну, будет, — произнесла наконец Мария Сергеевна, — у вас ещё вся жизнь впереди. И муженёк к вам вернётся, верьте мне. А пока, при вашей внешности, тоже можно перебиться… Вот вам моя рука — это последнее поручение. Потом, так и быть, пущу вас, моя птичка, на все четыре стороны. Чирикайте как хотите и с кем хотите… А теперь — за дело. Давайте укладываться. И вот что вам надо запомнить наизусть, как слово «мама»…
***
Через три дня на Западный фронт выехала актёрская бригада, организованная профсоюзом работников искусств. Бригада выезжала для проведения летучих концертов в воинских соединениях. В составе бригады была и малоизвестная исполнительница лирических песенок Наталья Михайловна Осенина.
Фронтовой автобус выскочил, пофыркивая, на Можайское шоссе. На заставе комендантский патруль проверил документы и разрешил следовать вперёд. На Минское шоссе выехали уже в начале ночи. Апрельские звёзды неслись над тёмным лесом, стоящим по обе стороны шоссе.
***
После первого боевого крещения своих орудий Леонтьев испытывал чувство огромного удовлетворения. Он был горд своим детищем.
Но творческая мысль конструктора ни на минуту не остывала. Уже новая идея увлекала его — идея переделки конвейерной ленты, подававшей снаряды в магазинную часть орудия. Это могло увеличить скорострельность и облегчить работу орудийной прислуги.
По ночам Леонтьев выходил из блиндажа, слушая рокот проходящих над ним самолётов, и думал о войне, о своей не очень удавшейся личной жизни, о том, что незаметно кончилась молодость и вот где-то впереди уже ковыляет потихоньку ему навстречу старость. И ещё он думал о том, что после войны начнёт изобретать какие-нибудь необыкновенно симпатичные и приятные машины, которые облегчат труд человека, украсят его быт, продлят его жизнь и принесут ему радость.
Бессонница, которой страдал Леонтьев в последнее время, способствовала его долгим ночным размышлениям. В такие ночные часы ему начинало казаться, что он один сейчас бодрствует во всём мире, что весь район и, может быть, весь фронт спит и только он один задумчиво похаживает у землянки и никто не слышит ни шороха его шагов, ни ровного стука его сердца, ни его дыхания…
Но это ему только казалось. С самых первых дней приезда на фронт майор Бахметьев неусыпно охранял жизнь изобретателя, его покой, документы и чертежи.
Но делалось это настолько умело и тактично, что ни Леонтьев, ни окружающие его даже не догадывались о том, как тщательно и любовно охраняет своего «подшефного» советская контрразведка.
Были приняты меры и к тому, чтобы пребывание Леонтьева на этом участке фронта не получило огласки. Офицерам строго приказали не говорить об этом, а бойцы вообще не знали, кто этот человек, так часто появляющийся с командиром бригады и так внимательно осматривающий новые орудия.
***
Выехавшая на фронт актёрская бригада уже два месяца давала концерты в разных соединениях, а Наталья Михайловна всё никак не могла напасть на след Леонтьева.
Актёры, из которых состояла бригада, были в большинстве своём молодые, весёлые люди. Они с искренней радостью и волнением выезжали на фронт. Концерты проходили в дружеском общении актёров и зрителей.
Перед отъездом актёров обычно устраивались «банкеты». Полковые повара взволнованно шептались, придумывая, чем бы удивить дорогих гостей, и действительно показывали чудеса кулинарной изобретательности. Полевой военторг безропотно поставлял «заветные» бутылочки, хотя ещё накануне его начальник клялся «сединами матери и светлой памятью покойного папаши», что ничего, решительно ничего из вин не осталось. Одним словом, провожали по-русски: тепло, ласково, хлебосольно.
На одном из таких банкетов рядом с Натальей Михайловной сидел за столом молодой светлоглазый лейтенант. Наталья Михайловна ещё во время концерта обратила внимание на его совсем юное лицо и блестящие, будто девичьи глаза.
Лейтенант вслух восхищался её пением, громче всех кричал «браво» и «бис» и вообще обнаруживал все признаки мгновенной, острой влюблённости, подчас возникающей в условиях фронта, где суровые будни войны и повседневная опасность порождают повышенную остроту чувств.
И вот за банкетом юный Лёня — так звали лейтенанта — сумел занять место рядом с понравившейся ему певицей. Наталья Михайловна, раскрасневшаяся от успеха и выпитого вина, откровенно кокетничала с «милым мальчуганом», как она мысленно назвала лейтенанта.
Шёл обычный разговор о войне, о коварстве противника, об атаках, о ночных боях. Лёня, охмелевший от вина, а ещё больше от соседства молодой, красивой женщины, начал рассказывать «боевые эпизоды», впадая при этом в тот чуть хвастливый тон, которым неопытные молодые люди рассчитывают обратить на себя внимание и придать значительность собственной персоне.
— Это что! — говорил он. — Бывают, Наташа (он незаметно для самого себя уже называл певицу по имени), такие перепалки, что и описать трудно. Конечно, это военная тайна, но я вам скажу по секрету: у нас теперь есть новые «сюрпризы», замечательные орудия, называются они «Л‑2»…
— Боже, как интересно! — сказала, почему-то вздрогнув, Наталья Михайловна. — Какое странное название — «Л‑2»! Наверно, по фамилии конструктора?
— Ну да, — ответил Леня, — фамилия изобретателя Леонтьев. Вот это парень, скажу я вам… Всё время на огневых позициях… Сам следит, как работают его игрушки. Конечно, это секрет, но вам…
— Милый мальчик, — сказала Наталья Михайловна, — да какой же это для меня секрет, когда Леонтьев, Коля Леонтьев — мой близкий знакомый. Я даже собираюсь его навестить. Он ведь недалеко отсюда?
— Тридцать километров, — ответил Леня. — Есть такая деревня Большие Кресты, там наш КП. Но только…
— Я думала, ближе, — перебила его Наталья Михайловна. — Ну, не беда, в Москве встретимся: он говорил, что скоро вернётся… Лёня, положите мне, пожалуйста, сардин. Знаете, у меня был знакомый, которого тоже звали Лёней. Вы будете мой «Л‑2».
— Есть положить сардин, — сказал Леня и исполнил просьбу своей дамы.
Наталья Михайловна съела сардину, выпила рюмку вина и перевела разговор на другую тему.
Между тем банкет продолжался. За столом было непринуждённо и весело.
Внезапно Наталья Михайловна поднялась и со стоном схватилась за сердце.
— Что с вами? — одновременно подбежали к ней несколько офицеров.
— Мне дурно… — едва проговорила Наталья Михайловна. — Я съела сардину, и вот… Я отравилась этими консервами…
Она пошатнулась и чуть не упала. Актёры и офицеры окружили её, стали предлагать различные средства, кто-то послал за врачом.
Наталью Михайловну перенесли в командирский блиндаж и там положили на постель. Очевидно, у неё было острое отравление. Она непрерывно стонала и молила только об одном: поскорее отправить её в Москву, где у нее есть дядя, профессор Венгеров, в институте Склифосовского.
Врач, осмотрев больную, сказал, что путешествие не представляет опасности.
Через час заболевшую певицу усадили в санитарный самолёт и отправили в Москву.
Едва машина поднялась в воздух и легла на курс, как Наталья Михайловна перестала стонать и тихо засмеялась. Вся история с отравлением была выдумана ею для того, чтобы быстрее вернуться в Москву и доложить Марии Сергеевне, где именно находится Леонтьев. Последнее поручение было выполнено.
На следующее утро Берлин сообщил шифрованной радиограммой в штаб фронта, а также Крашке, что инженер Леонтьев находится на Н‑ском участке фронта, в деревне Большие Кресты.
«Специалист по русской душе»
Господин Петронеску (настоящая его фамилия была Крафт) прожил нелёгкую, бурную жизнь профессионального шпиона с частыми и внезапными переменами фамилии, места жительства и внешности, с неожиданными переездами, переодеваниями, многочисленными пёстрыми связями и встречами, с пятью годами пребывания на каторге и парой «мокрых дел». Петронеску успел познакомиться с самыми различными профессиями: он был и землемером, и шофёром, эстрадным чечёточником, коммерсантом, пастором, коммивояжером, владельцем кафешантана, скупщиком скота и даже кладбищенским сторожем.
Однако при всех этих превращениях господин Петронеску оставался, разумеется, сотрудником германской разведки. Когда-то, в дни далёкой молодости, Петронеску считался среди разведчиков специалистом по славянским делам, а теперь, в дни войны, он уже значился как «специалист по русской душе».
Пребывая в Софии и занимаясь новыми делами, господин Петронеску, однако, очень внимательно следил за событиями в Анкаре. Им руководило при этом не простое любопытство. Он очень хорошо понимал, что от удачи или провала анкарской операции зависит многое в его личной судьбе.
Сначала всё как будто шло по намеченному плану. В заранее назначенный день к Папену, вышедшему для совершения моциона, подбежал злоумышленник, затем выстрелил в него, но, конечно, промахнулся, затем выстрелил в бомбу, которую он держал в руке, и был убит взрывом. Папен вовремя и точно упал на тротуар (не зря он шлёпался на ковёр в своём кабинете), очень картинно «потерял сознание», затем эффектно «пришёл в себя», не забыл произнести слова насчёт воли господней и нечестивцев из советского посольства, словом, безупречно сделал всё, что ему было положено.
В тот же день господин Сараджогло примчался к фон Папену и передал немецкому послу «своё соболезнование и прискорбие по поводу того, что случилось и что могло иметь, но, к счастью, не имело столь чудовищных последствий». Министр не без удовольствия подчеркнул слова «но не имело». Господин посол в ответ не преминул заметить, что «последствия, к сожалению, имели место, ибо, во-первых, самый факт злодейского покушения в центре столицы на жизнь посла Германии есть достаточно тяжкое последствие бездеятельности турецких органов власти и их непонятной благосклонности к работникам советского посольства, несомненно, причастным к этому делу». Во-вторых, добавил посол, он сильно контужен взрывной волной и перенёс столь ужасное нервное потрясение, что, по мнению домашнего врача, потерял по крайней мере десять лет жизни.
В дальнейшем разговоре фон Папен дал понять, что отделаться соболезнованиями и выражением прискорбия туркам не удастся и что речь идёт о разрыве дипломатических отношений с Советским Союзом и вступлении Турции в войну с ним.
На следующий день переговоры продолжались. Установить личность злоумышленника после взрыва было невозможно. Турецкие следственные власти сбились с ног, но ничего не могли выяснить. Тогда сам «потерпевший» любезно предложил господину Сараджогло помочь в раскрытии этого преступления.
— Я полагаю, господин министр, — сказал фон Папен, — что было бы полезным установить деловой контакт между турецкой полицией, занятой расследованием этого ужасного дела, и германской политической полицией, имеющей весьма интересные данные, несомненно, проливающие свет на интересующие обе стороны вопросы… Разумеется, при этом контакте мыслится полная суверенность турецких властей и турецкого правосудия, а верные и точные сведения, право, ещё никогда никому не мешали…
«Деловой контакт» был установлен. Гестапо недвусмысленно указало перстом на Абдурахмана и Сулеймана. Оба были немедленно арестованы. К удовольствию турецких следователей и заместителя генерального прокурора Турции господина Кемаля Бора, руководившего расследованием по этому делу, обвиняемые охотно сознались и назвали личность злоумышленника, заявив, что он Омер, студент Стамбульского университета, и что они все трое были привлечены для совершения преступления русскими гражданами Павловым и Корниловым, работавшими в советском консульстве и торгпредстве.
Получив столь ценные «признания», господин Кемаль Бора полетел к Сараджогло. Наутро газеты вышли с широковещательными сообщениями, что «тайна взрыва на бульваре Ататюрка» раскрыта благодаря оперативности турецкой полиции и мудрости заместителя генерального прокурора господина Кемаля Бора, проявившего недюжинные способности юридического мышления при анализе и оценке улик. Соучастники покушения Абдурахман и Сулейман, писали газеты, уже арестованы, и выясняется причастность некоторых иностранцев к этому покушению.
Через несколько дней Павлов и Корнилов были арестованы турецкой полицией. Им было предъявлено обвинение в организации покушения на германского посла.
Первые допросы шли в Стамбуле. Кемаль Бора и стамбульский губернатор состязались в тонкостях психологического подхода, убеждая арестованных сознаться в преступлении, к которому они, заведомо для допрашивающих, не имели никакого отношения. Маленький, пухленький, с розовыми щёчками и бегающими мышиными глазками, Кемаль Бора произносил пламенные речи, доказывая Павлову и Корнилову, сколь выгодным будет для них признание. Господин губернатор, сменяя уставшего прокурора, в свою очередь обещал все блага мира, свободу, деньги, почёт и турецкое подданство за «чистосердечное раскаяние и признание». Русские упрямо твердили, что не имеют никакого отношения к взрыву на бульваре Ататюрка.
Тогда их перевели в Анкару. Были проведены очные ставки с Абдурахманом и Сулейманом.
Первым в кабинет начальника анкарской тюрьмы, где проводилась очная ставка, был приведён Абдурахман. Павлов сидел у стены, направо от входа. За его спиной стояли два дюжих полицейских. Кемаль Бора и полицейские чиновники полукругом восседали за столом. Абдурахман вошёл в кабинет, развязно поклонился прокурору, полицейским и картинно встал у порога.
— Обвиняемый Абдурахман, — начал скрипучим голосом прокурор, раздувая щёки от сознания важности момента, — знаете ли вы человека, сидящего на этом стуле?
— Господин прокурор, — сказал Абдурахман, — встав на путь чистосердечного признания вины и искреннего раскаяния в совершённом преступлении, я отвечу вам правдиво и честно — да, я его знаю.
— Что вам известно об этом лице? — продолжал Кемаль Бора.
— Это русский гражданин Павлов. Он и его товарищ Корнилов склонили меня, моего друга Сулеймана и покойного Омера к убийству германского посла.
Прокурор торжествующе посмотрел на Павлова, спокойно сидевшего на своём месте. Переводчик перевёл Павлову вопросы прокурора и ответы Абдурахмана. Заметив улыбку Павлова, Кемаль Бора побагровел от злости.
— Передайте этому человеку, что он не в театре! — заорал он переводчику. — Правосудие требует от него признания вины, которая абсолютно доказана. Он напрасно улыбается. Вчера Корнилов уже всё признал, хотя он тоже раньше улыбался. Теперь его очередь. И пусть спешит признаться, пока не поздно! Он в руках турецкого правосудия. И мы найдём способ развязать ему язык!
Выслушав переводчика, Павлов коротко сказал:
— Мне нечего признавать. Совершенно очевидно, что всё это «покушение» — гестаповская провокация. И я уверен, что это ясно не только мне, но и представителям турецкого правосудия. Требую свидания с советским послом или его представителем. Никаких показаний больше давать не буду. Всё.
После Павлова допрашивался Корнилов. Ему, разумеется, также было объявлено, что Павлов «уже признался». Корнилов поднял Кемаля Бора на смех, заявив, что такое враньё прокурору не к лицу. Кемаль Бора завопил что-то насчёт «оскорбления, которое он занесёт в протокол». Корнилов, услышав эту угрозу, ответил, что он со своей стороны хочет, чтобы было зафиксировано лживое утверждение, что Павлов «признался».
Очная ставка с Сулейманом также ничего не дала. Сулейман, забыв инструкцию, полученную перед этим, назвал Павлова Корниловым, а Корнилова Павловым. Он переминался с ноги на ногу, тупо глядел в одну точку и тяжело вздыхал. Ему было невесело: накануне очной ставки из-за его забывчивости его безжалостно избили в карцере, обещанные сроки ареста истекли, дело затягивалось и вообще он начинал сожалеть о том, что согласился участвовать в этой комедии. Несмотря на свою тупость, он начинал догадываться, что жестоко обманут и что будущее сулит ему уйму неприятностей…
Поведение Сулеймана было замечено. Кемаль Бора охотно избавился бы теперь от такого «свидетеля», но в газетах уже было объявлено его имя, и исключение его из процесса сразу вызвало бы подозрения.
20 апреля 1942 года начался судебный процесс. Он шёл в анкарском «дворце правосудия». Судьи, прокурор и адвокат — в чёрных средневековых мантиях. Обвинял Кемаль Бора. Рядом с ним восседал и сам генеральный прокурор Джемиль Алтай, но тот больше молчал и только важно покачивал головой. Защитник был один — Захир Зия Карачай; он защищал Абдурахмана и Сулеймана. Павлов и Корнилов отказались от турецкого адвоката и заявили, что предпочитают защищать себя сами. Зал был набит до отказа: анкарские чиновники, их жёны, тайные агенты турецкой полиции, люди средних лет в штатском с беспокойно шныряющими глазами, многочисленные турецкие и иностранные журналисты. В первом ряду сидели представители дипломатического корпуса, с интересом следившие за процессом немцы и американцы, англичане и шведы, итальянцы и французы…
Заседание открылось ровно в двенадцать часов дня. Председатель суда исправно выполнил вступительные формальности, привёл свидетелей к присяге и объявил перерыв.
Карачай, кокетничая новёхонькой адвокатской мантией, похаживал среди публики со значительным видом независимого слуги правосудия. Сухопарый немногословный Джемиль Алтай важно проследовал в свой кабинет. Кемаль Бора, чувствуя себя главным героем дня, перемигивался с дамами и картинно стоял у входа в зал суда.
Провели подсудимых. Щебетавшие дамы бросились к проходу. Первыми провели Абдурахмана и Сулеймана, а потом Павлова и Корнилова. Они шли рядом, спокойно беседуя, иронически поглядывая на жадно рассматривающую их публику. Спокойствие и независимый вид Павлова и Корнилова удивили дам, ожидавших увидеть экзотические физиономии «русских разбойников», как окрестили их в этот день бульварные турецкие газеты.
Большая группа иностранных журналистов курила в углу коридора. Тут были главным образом англичане, американцы, французы и русские.
Из турок около них вертелся только один — пожилой человек с седыми волосами и холёным розовым, необыкновенно сладким лицом, в подчёркнуто модном длинном пиджаке и черепаховых очках. Это был турок по национальности, журналист по наименованию и давний иностранный агент по профессии. Он претендовал на роль представителя передовой либеральной прессы и очень любил подделываться под европейский стиль в манере одеваться, высказываться и даже писать. На этом этапе войны он выступал на страницах газет в поддержку союзной коалиции, но на всякий случай («одному аллаху известно, чем кончится эта всесветная кутерьма») был корректно сдержан и в отношении Германии, стараясь не очень задевать многочисленных немцев, орудовавших в Стамбуле и Анкаре.
Наутро все турецкие газеты вышли с отчётом о первом дне процесса, многочисленными фотографиями из зала суда и сенсационными заголовками.
Увы, уже первые судебные заседания принесли организаторам процесса немало огорчений: Павлов и Корнилов на суде твёрдо продолжали разоблачать провокационный характер «покушения». Упрямые русские не только отрицали свою вину, но сразу перешли от защиты к нападению и спокойно, но с дьявольской настойчивостью припирали к стене свидетелей, выясняли множество пикантных деталей, задавали вопросы, от которых Кемаль Бора приходил в полное смятение, и даже отпускали недвусмысленные замечания о методах расследования по этому делу.
Притом всё это делалось в безупречно корректном тоне, очень спокойно, со ссылками на права подсудимых, вытекавшие из турецких процессуальных законов, и вместе с тем с полным чувством собственного достоинства. Это вовсе сбило с толку прокурора и председателя. При такой линии самозащиты не было никакой возможности прервать подсудимых, отклонить задаваемые ими вопросы или вывести их из зала суда. Придраться было решительно не к чему.
Публика начинала недоумевать. Захир Зия Карачай в первые дни процесса сидел с открытым ртом и выпученными от удивления глазами. Потом, получив соответствующую взбучку, пошёл в лобовую атаку на подсудимых. Он начал с напыщенных заявлений о том, что Павлов якобы в последние три года уже занимался «покушениями»: в Риме — на Муссолини, в Софии — на царя Бориса и где-то ещё на кого-то. Павлов, смеясь от души, документально доказал суду, что он все эти годы безвыездно работал в Стамбуле.
Тогда в дело вступил Кемаль Бора. Он заявил, что сведения о прошлом Павлова господин адвокат привёл точно, так как ему, прокурору, о них также известно непосредственно от германской политической полиции. Павлов попросил суд занести это в протокол.
Зал загудел. Сидевшие в первом ряду немецкие дипломаты начали перешёптываться, проклиная неуклюжего турецкого прокурора. Карачай, вместо того чтобы замять этот эпизод, обрадовался и подтвердил источник этих сведений. Павлов в ответ попросил Карачая сообщить суду, когда он вступил в сословие адвокатов, где получил юридическое образование и откуда взял средства на открытие адвокатской конторы.
Побагровевший Карачай отказался отвечать «на наглые вопросы подсудимого» и в ответ начал что-то выкрикивать насчёт Центросоюза, который является «террористическим центром Коминтерна», и подсудимых — «агентов Центросоюза». Председатель дважды призывал адвоката к порядку, но тот продолжал нападать на Центросоюз, в котором видел корень всех зол.
Тем не менее Павлов просил суд обязать адвоката ответить на его вопросы. Карачай в конце концов пробормотал, что в сословие он вступил перед процессом, а юридическое образование получил в Берлине. Что же касается средств на открытие адвокатской конторы, то он воспользовался своими старыми сбережениями.
Тогда Павлов передал суду справку анкарского банка о том, что за два дня до открытия Карачаем адвокатской конторы ему была переведена крупная сумма такой-то немецкой фирмой.
Справка вызвала сенсацию. Все знали, что это за фирма. В зале откровенно смеялись, раздался чей-то свист, публика шумела. Иностранные журналисты дружно скрипели перьями. Дипломаты в первом ряду, кроме немцев, разводили руками и саркастически улыбались. Кемаль Бора сидел с таким лицом, что за него становилось страшно. Один генеральный прокурор молчал с невозмутимым и даже довольным видом. Он в глубине души был рад провалу своего заместителя, который явно метил на его пост и сильно рассчитывал на лавры по этому делу, почему-то порученному ему, а не Джемилю Алтаю.
Заседание закончилось коротким заявлением Павлова, который сказал:
— Господа судьи, заканчивая представление документов по этому эпизоду, я должен выразить своё соболезнование господину прокурору Кемалю Бора, попавшему публично в столь непристойное и тяжёлое положение своей ссылкой на сведения, полученные им непосредственно из гестапо. Я не могу в связи с этим не вспомнить старую турецкую поговорку: «Если ты пьёшь воду из мутного источника, не удивляйся, что у тебя испортился желудок».
Дружный взрыв хохота в зале. Кемаль Бора вскакивает и что-то кричит. Председатель суда изо всех сил звонит в колокольчик, но зал продолжает грохотать…
***
Господин Петронеску с волнением узнавал все эти подробности. Дело, которое стоило стольких трудов, явно не клеилось. Если и дальше пойдёт в таком же роде, будет полный провал.
Как бы в ответ на эти невесёлые мысли прибыл приказ вылететь в Берлин. Ничего хорошего это не предвещало.
И вот он в Берлине, у самого рейхсфюрера СС Гиммлера. В кабинете, кроме Гиммлера, его заместитель Кальтенбруннер и Канарис.
Гиммлер протёр пенсне, надел его на острый хрящеватый нос, вытянул маленькую, как у змеи, голову по направлению к Петронеску и начал его внимательно рассматривать. Канарис сидел в стороне. Кальтенбруннер молча курил.
Тяжёлая пауза продолжалась минуты три. У Петронеску так билось сердце, что он испугался, как бы это не услыхал Гиммлер. Наконец последний тихо спросил:
— Вы прибыли с добрыми вестями? С отличными известиями? С хорошим рапортом? У вас славно идут дела, не правда ли, румынская свинья?
— Я немец, господин рейхсфюрер, — пролепетал Петронеску.
— Враньё! Немец не может быть таким тупым скотом. Это клевета на нацию, негодяй! Мы ещё разберёмся, кто вы такой, мы ещё вас проверим… Каков подлец!.. Какой тупой мерзавец!..
Он вскочил с места и начал ходить по кабинету, продолжая что-то шипеть. Мелкие пузырьки слюны лопались в углах его тонкогубого рта. Глаза поблескивали за стёклами пенсне недобрыми зелёными огоньками. Худые пальцы рук непрерывно двигались, сжимаясь и разжимаясь. Но страшнее всего была его улыбка — тонкие губы широко раздвигались, обнажая кривые, редко посаженные зубы. Покачивая маленькой головой, венчающей длинную худую шею с большим кадыком, он продолжал шипеть:
— И это называется агент Германии! Старый мастер!.. Кого вы допустили на процесс, болван? Двух кретинов, не способных даже заучить детское стихотворение! Идиотов, которым место в клинике психиатра! Дегенератов, способных вызвать только смех!.. Их вы рекомендовали, мерзавец, на процесс мирового значения? Нет, скажите прямо: что это, умысел? Сколько вы получили за это, скажите, пока не поздно, иначе вы у меня скажете всё, абсолютно всё!.. Я сделаю из вас фарш!
Петронеску молчал. Возражать и спорить было бессмысленно. Он понял, что погиб. Сегодня же начнутся пытки, допрос в подвале, «признание» — и конец.
Между тем Гиммлер внезапно успокоился, подошёл к столу, сел, вытер платком углы рта и спокойно, почти ласково продолжал:
— Ошибки возможны всегда. Но есть предел ошибке и граница заблуждению. Я ещё могу понять просчёт с этими дураками… Как их зовут, Кальтенбруннер?
— Абдурахман и Сулейман, рейхсфюрер, — коротко ответил Кальтенбруннер.
— Да, да, они… Повторяю, я ещё могу это понять. Но как объяснить, посудите сами, что вы, специалист по русской душе, наметили в качестве обвиняемых Павлова и Корнилова? Посмотрите, как они себя ведут. Какое спокойствие, ирония, твёрдость!.. Наконец, я уверен, что они опытные юристы — это сразу чувствуется… Как вы смели предложить этих людей! Их одних достаточно, чтобы провалить процесс, не говоря уже об остальном. А это свинство с турецким адвокатом, которого я бы с удовольствием повесил… Кто переводит в таких случаях деньги через банк? Кто, я вас спрашиваю?
— Я не имею к этому никакого отношения, — пролепетал наконец Петронеску. — И мне казалось…
— Ну да, вам казалось… А мне вот теперь кажется, что так поступают только с умыслом, нарочно, обдуманно, в определённых целях. И, конечно, за определённое вознаграждение… Не так ли, мой дорогой?
Гиммлер опять начал улыбаться. Петронеску похолодел.
В этот момент вошёл адъютант Гиммлера и положил перед ним телеграмму. Гиммлер начал её читать. Лицо его постепенно заливало краской, руки чуть дрожали. Он бросил в пепельницу недокуренную сигарету, затем начал её мять и вдруг, схватив пепельницу, с силой швырнул её в угол. Фарфоровая пепельница с треском разлетелась на куски.
— Читайте! — крикнул он Петронеску. — Вот плоды вашей энергичной работы. Читайте!
Сквозь туман, застилавший глаза, Петронеску с трудом прочёл:
«Из Анкары. Рейхсфюреру СС.
Сегодня на процессе произошёл ужасный инцидент. Неожиданно для всех Сулейман обратился к председателю суда и заявил, что он отказывается от всех прежних показаний, что он никогда не знал Павлова и Корнилова, что и Абдурахман их также не знал и что Павлов и Корнилов вообще не имеют никакого отношения к покушению на Папена. Сулейман заявил, что давал раньше ложные показания по принуждению полиции, где его подвергали пыткам и требовали, чтобы он оговорил русских.
Заявление Сулеймана произвело сенсацию на процессе. В зале раздались крики: «Позор!». Прокурор Кемаль Бора до такой степени растерялся, что расплакался в присутствии публики. Председатель поспешно объявил перерыв.
Мы приняли меры к тому, чтобы Абдурахман не последовал примеру Сулеймана. Изыскиваем возможности повлиять и на последнего, чтобы восстановить его в прежних показаниях, хотя надежд на это мало. Павлов и Корнилов ведут прежнюю линию. Меры к смягчению отчётов о процессе в турецкой прессе нами предприняты».
***
На следующий день Петронеску снова имел личную беседу с Гиммлером и Кальтенбруннером. Ему сказали прямо, что он может себя спасти лишь одним — выполнить очень серьёзное поручение в России. Лишь в этом случае он снова завоюет доверие и сохранит жизнь.
На рассвете специальным самолётом Петронеску вылетел в район Смоленска, в «комбинат» Крашке.
Новое поручение
Когда Петронеску высадился из транспортного самолёта «Юнкерс‑52» на смоленском аэродроме, было ясное летнее утро, вселяющее бодрость и уверенность. Он сел в поджидавшую его машину и проследовал в «комбинат» Крашке, к товарищу своей молодости и свидетелю первых успехов.
Они не виделись несколько лет. Тем не менее встреча старых друзей была более чем сдержанной. Они не любили друг друга.
За завтраком хозяин угостил гостя русской водкой, русскими папиросами, и разговор сразу пошёл о русских делах.
Петронеску предъявил предписание, в котором Крашке предлагалось выделить в его распоряжение пять-шесть опытных агентов и вместе с ним перебросить их в советский тыл.
— Я не собираюсь долго здесь задерживаться, — сказал Петронеску, — но хочу лично отобрать людей и изготовить некоторые документы.
— Я и мои люди к вашим услугам, — довольно любезно сказал Крашке, обрадовавшись тому, что неприятный гость скоро уберётся. — Когда начнёте отбор?
— Хоть сегодня, — ответил Петронеску.
Крашке имел полное основание думать, что приезд Петронеску означает некоторое недоверие к его способностям со стороны начальства. Это недоверие могло быть вызвано не совсем удачным началом дела Леонтьева и участившимися случаями провала агентов Крашке, который в разговоре с Петронеску умолчал о том, что фамилия Леонтьева ему давно известна.
В настоящее время у Крашке было много неприятностей. Провалился один из лучших агентов Крашке — Филипп Борзов, много раз побывавший в советском тылу и всегда приносивший ценные сведения. Филипп, бывший махновец и кулак, пожилой, одинокий, неразговорчивый человек, был завербован в самом начале войны.
Проучившись три месяца в школе Крашке, Филипп был переброшен через линию фронта. В напарницы ему дали молодую девушку по имени Ванда. Они изображали бродячих музыкантов — отца и дочь. Филипп играл на баяне, Ванда — на скрипке. В баяне был радиопередатчик. Днём Филипп играл для проходивших частей на фронтовых дорогах, а по ночам передавал немцам данные о проходящих резервах, сообщал ориентиры для бомбёжек, старался обнаружить слабые участки обороны.
Пожилой баянист и его миловидная дочь не вызывали никаких подозрений.
Но вот однажды среди слушателей оказался лейтенант, который сам был отличным баянистом. Он обратил внимание на то, что баян срывается на переборах. Лейтенант сначала подумал, что мехи не в порядке, и вызвался исправить инструмент, но Филипп баяна не дал и продолжал играть. Внимательно вслушавшись, лейтенант понял, что внутри баяна что-то есть. Вырвав баян из рук Филиппа, офицер разрезал мехи и извлёк оттуда передатчик. Так провалился Филипп. Ванде удалось бежать.
Крашке был огорчен потерей ценного агента и провалом фокуса с баяном. Правда, он тут же придумал новый приём. Вызвав к себе начальника технической мастерской «комбината», Крашке сказал:
— Вы не учитываете психологии русской нации. Наши агенты проваливаются. Вы не понимаете славянской души… — Крашке самодовольно и загадочно улыбнулся. — Русские, мой друг, как и все славяне, весьма жалостливы. Мы должны использовать славянскую жалость. — И он начал объяснять: — Отныне надо посылать к русским калек. Да, калек. Человек с ампутированной ногой, инвалид войны — это, чёрт возьми, чего-нибудь да стоит! Одним словом, следует продумать, как поместить передатчик в деревянный протез. Если этот протез начинается от бедра…
— Но ведь для этого нужны люди, у которых ноги ампутированы от бедра, — наивно усомнился техник. — А это бывает довольно редко.
— Вы чудак! — возразил Крашке. — Не всё ли равно этим русским, как мы будем ампутировать: только ступню или всю ногу от бедра… Дайте секретную телеграмму в соседние госпитали. Протез — это мысль. Делайте!
Так были радиофицированы протезы. Но и это не помогло. «Инвалиды» тоже проваливались. Условия работы всё усложнялись. А тут накануне приезда Петронеску случилось новая неприятность.
К одному из участков советской линии обороны вплотную примыкала важная железнодорожная ветка, которую надо было вывести из строя. Лучше всего это можно было сделать, уничтожив железнодорожный мост. Многократные попытки разбомбить мост с воздуха ни к чему не привели. Тогда поручили это Крашке.
Мобилизовав лучшую свою агентуру, Крашке перебросил в прилегающий к намеченному объекту район несколько человек и значительное количество тола. Все переброшенные диверсанты были одеты в форму железнодорожников и явились на место под видом представителей НКПС, прибывших якобы для проверки технического состояния моста.
Начальник этого участка службы пути отсутствовал: он был вызван в управление дороги для доклада. Заменял его новый человек, не имеющий достаточного опыта, а главное, весьма доверчивый. Он приветливо встретил «комиссию» и прежде всего предложил гостям позавтракать. За столом один из гостей подбросил таблетку с сильно действующим наркозом в рюмку гостеприимного хозяина. Это заметила десятилетняя девочка, дочь дорожного мастера, которая была нездорова и лежала тут же в избе, на полатях.
Она тихо сползла с полатей и проскользнула к матери, возившейся на кухне. Хозяйка немедленно сообщила об этом командиру подразделения, охранявшего мост. Дом был оцеплен, и «комиссию» арестовали. В чемоданах был обнаружен тол, приготовленный для взрыва моста.
Крашке был в отчаянии. Начальство, которому поневоле пришлось обо всём доложить, разразилось весьма язвительным письмом.
«Я должен разъяснить вам, герр Крашке, — писал начальник, — что в компетенцию нашей службы, отнюдь не входит задача снабжения органов НКВД толом, как вы это, по-видимому, считаете. Нам совершенно непонятно, каким образом человек с вашим опытом и квалификацией мог попасть в столь глупое и непристойное положение…»
И теперь Крашке усмотрел в приезде Петронеску выражение крайнего недоверия к себе, а Петронеску не счёл нужным его разубеждать. Невесело было на душе у господина Крашке.
После завтрака Крашке повёл гостя осматривать свои владения. Герр Стефан показал свою продукцию и с достоинством выслушал комплименты. Когда гость увидел в «допросной» толстые плети со свинчаткой, резиновые палки и наборы щипцов, зубил, клещей и тому подобных инструментов, он многозначительно улыбнулся.
— Я вижу, вы верны своим вкусам, господин Крашке, — сказал он, — и по-прежнему любите эти развлечения.
— Поверьте, это не только развлекает, — улыбнулся Крашке, — но и приносит весьма существенную пользу. Если хотите, сегодня попозже, вечером, можете убедиться в этом. Доставлена девушка-партизанка. Пока она хранит молчание, но сегодня…
— Благодарю, это не по моей специальности. И, кроме того, я не выношу женского крика, — ответил Петронеску. — Я хотел бы поскорее заказать себе документы.
Они прошли в мастерскую, изготовлявшую документы. Петронеску тщательно ознакомился с оттисками гербовых печатей различных советских учреждений, всякого рода удостоверениями, паспортами, военными билетами, штампами милицейской прописки и т. п. Всё это было сделано очень аккуратно и выглядело отлично.
— В качестве кого вы намерены туда перебраться? — коротко спросил Крашке.
— Я думаю, лучше всего, если я и отобранные мной люди поедем под видом делегации какой-нибудь области, привёзшей на фронт подарки, — ответил Петронеску. — Во-первых, там это в моде; во-вторых, это обеспечит нам тёплый приём; в-третьих, это будет объяснять нашу естественную любознательность. Да, нынче наша служба совсем уже не та, что была когда-то. Увы, кончились времена, когда мы работали в кафешантанах, когда красивая женщина, любовница министра или генерала, делала нам игру! В Советском Союзе эти методы совершенно исключены! Уверяю вас, что здесь даже Мата Хари, звезда германской разведки, была бы арестована через два месяца. Нет, тут нужна более тонкая работа. Я считаю, что в Советском Союзе надо делать игру на чувстве патриотизма и любви к армии.
— Делегация — отличная выдумка, — ответил Крашке. — Но в таких случаях фронт, вероятно, получает извещение из Москвы.
— Я это предвидел, — ответил Петронеску. — Наши люди в Москве постараются всё организовать. А я на всякий случай запасусь у вас документами. Пока надо отобрать людей. Я думаю так: шесть человек, из них две комсомолки, один пожилой пролетарий, один представитель обкома — это я, ну и ещё кто-нибудь из интеллигенции… Они это любят.
— У меня есть несколько перебежчиков, которым я вполне доверяю, — сказал господин Крашке. — Тем более что они уже сожгли за собой все мосты.
— Отлично, — сказал Петронеску. — Надо будет приготовить подарки. Папиросы, шоколад, вино. Можно немного парфюмерии. Но чтобы всё это было солидно.
К вечеру люди были отобраны: две девушки, один пожилой человек и двое мужчин неопределённого возраста. Петронеску подробно поговорил с каждым в отдельности. Старшая из девушек, Вера, до войны служила в ателье мод, а когда пришли немцы, сошлась с офицером, а затем была завербована разведкой. Кукольное личико, бездумные, пустые глаза, густо намазанные ресницы и чрезмерная вертлявость обличали в ней особу определённого пошиба. Другая, Тоня, ещё совсем молодая, лет восемнадцати, была дочерью петлюровца, родилась и выросла в Германии, но хорошо владела русским языком. «Пожилой пролетарий» — старый агент немецкой разведки — работал до войны конторщиком на военном заводе. И, наконец, два человека неопределённого возраста были завербованы из числа лиц, дезертировавших из Советской Армии.
В тот же день началась индивидуальная подготовка членов «делегации».
Девушки должны были изображать комсомолок. С ними вели «практические занятия»: их учили, как надо разговаривать на фронте, как приветствовать бойцов, как вручать подарки, как отвечать на всевозможные вопросы. «Пожилой пролетарий», который должен был изображать старого мастера оборонного завода, получил инструкцию касательно всяких технических и производственных терминов и разговоров с бойцами. Дезертиры должны были представлять советскую интеллигенцию из областного центра, поэтому один из них готовился к роли агронома из облзо, а другой — к роли преподавателя географии из пединститута.
Сам Петронеску, взявший на себя роль представителя обкома партии, детально знакомился с материалами о работе партийного аппарата (по данным Крашке). Он выбрал фамилию Петров и упражнялся в произнесении приветственных слов и докладов.
Так проходило время. Ежедневно члены «делегации» проводили вместе по нескольку часов, детально обсуждая поведение каждого в самых различных ситуациях.
По окончании подготовки Петронеску и Крашке начали выбирать место, где было бы всего безопаснее выбросить парашютный десант. Они остановились на глухом, малонаселённом железнодорожном разъезде, в одном из районов Н‑ской области.
В Берлин радировали о принятом решении, и на следующий день было получено согласие.
Около двух часов ночи вся «делегация» была доставлена на ближайший аэродром и там погружена в транспортный самолёт.
Грузный самолёт с рёвом вырулил на старт, взял разбег, оторвался от земли и круто пошёл вверх, в тёмное ночное небо, прямо навстречу Большой Медведице. Набрав высоту, машина легла на курс и пошла через линию фронта в советский тыл, к глухому железнодорожному разъезду.
Минут через сорок стали подходить к намеченному пункту. Спокойная русская равнина с небольшим леском, вьющейся лентой реки и аккуратно вычерченной линией железнодорожного полотна раскинулась под крыльями самолёта. Пилот постучал в пассажирскую кабину.
Петронеску рассматривал в ночной бинокль расплывающиеся в сумраке мягкие контуры мирного сельского пейзажа. Ни одного огонька, ни одного движущегося предмета, ничего, что могло бы заставить усомниться, насторожиться, забеспокоиться. Да, надо прыгать…
Петронеску три раза постучал в кабину пилота. Мотор перешёл на малые обороты, и машина почти бесшумно стала планировать вниз. Петронеску с трудом открыл боковую дверку. Ночной воздух со свистом ворвался в самолёт. Петронеску вышвырнул один за другим четыре чемодана с подарками, снабжённых парашютами-автоматами, и молча указал девушкам на распахнутую дверцу.
Вера подошла к зияющей пропасти и, взявшись руками за боковые поручни, заглянула в неё. Где-то внизу, очень далеко, загадочно молчала земля.
— Ой! — тихо вскрикнула Вера. — Ой, боязно!..
Петронеску шагнул к Вере и, оторвав её руки от поручней, вытолкнул девушку из самолёта. Раздался крик, который ветром сразу отнесло в сторону. Вера камнем полетела вниз, но через несколько секунд купол её парашюта раскрылся.
За нею прыгнула Тоня, успевшая только воскликнуть перед прыжком: «Ой, мамочка!». Потом, перекрестясь и зачем-то разгладив усы, неуклюже выпрыгнул «пожилой пролетарий». Наконец очередь дошла до «представителей областной интеллигенции».
Когда Петронеску обернулся к ним, он даже засопел от злости: оба «интеллигента» забились в угол, судорожно вцепившись в бортовые поручни.
— Ну! — крикнул Петронеску. — Ну, прыгайте!.. Или вы думаете, что здесь шутят!.. Прыгать, скоты!
Но оба не двинулись с места и только ещё крепче схватились за поручни. Петронеску стукнул кулаком в пилотскую кабину. Оттуда сейчас же вышел помощник пилота, молодой офицер с револьвером в руке.
— Что, опять эти русские свиньи не хотят прыгать? — спокойно спросил он по-немецки. — Это обычная история… Сейчас я вам помогу.
Подойдя к первому из «интеллигентов», офицер ударил его револьвером по голове. От боли и испуга тот вскочил, на мгновение выпустив поручни.
В ту же секунду офицер схватил его за шиворот и потащил к двери. Петронеску помогал офицеру.
Они с трудом вытолкнули «интеллигента». Тогда настала очередь последнего.
— Рус, прыгай! — по-прежнему спокойно сказал офицер, наводя на него дуло револьвера. — Прыгай или рус капут…
— Н-не надо, — промычал тот, лязгая зубами. — М-мо-мочи нет… По-пот… Н-н-не сейчас… Сердце… Сердце…
Тогда, окончательно потеряв терпение, Петронеску выхватил револьвер и разрядил всю обойму — девять патронов — в полуоткрытый, жарко дышавший рот этого человека. Тот всхлипнул и медленно сполз на пол.
— О, вы очень правильно поступили, — произнёс офицер, — от него была бы слишком малая польза…
Вся высадка заняла не более трёх минут.
Не отвечая офицеру, Петронеску бросился к двери и, не останавливаясь, с разбегу прыгнул вниз. Ночной воздух со свистом обжёг его лицо. На мгновение перехватило дыхание. Петронеску яростно рванул кольцо парашюта и радостно ощутил, как его сразу, толчком, дёрнуло кверху. Затем он плавно понёсся вниз, к загадочно молчавшей ночной земле.
Лесная ночь
В июле на том участке фронта, где находился Леонтьев, наступило относительное затишье. Правда, немцы сделали несколько попыток вернуть потерянные позиции, но все их атаки были отбиты, и наши части прочно закрепились на новых рубежах. Лето в этом году наступило поздно и только теперь, в начале июля, окончательно вступило в свои права.
Артиллерийское соединение, в котором находился Леонтьев, стояло в глухом тёмном лесу, с обширными болотами, поросшими осиной, и лесными озёрами с чёрной крепко настоенной водой. Лес тянулся на десятки километров и в непогоду шумел, как океан. Ни недавние бои, ни скопление артиллерии, ни рокот ночных самолётов, проходивших часто над лесом, не могли нарушить его извечный угрюмый покой. В летние ночи здесь стояла глубокая тишина, верхушки сосен сонно перешёптывались, в озере лениво плескалась рыба. Неяркие летние звёзды потихоньку заглядывали в чёрное зеркало спящего озера.
Всё спит: лес, озеро, ночное небо; спят бойцы в палатках, орудия в брезентовых чехлах. В лагере ни огонька: костры запрещены, вспышка спички — преступление. Застыли на постах часовые.
Тёмная ночь стоит над уснувшим лагерем. Везде сон, только у одной землянки тихий разговор. Полковник Свиридов и Леонтьев беседуют по душам. За это время они привыкли друг к другу, вдвоём им было всегда интересно, всегда находилось о чём поговорить.
Леонтьеву был симпатичен Свиридов — живой, горячий, умный, никогда не унывающий человек. Он знал в лицо каждого бойца, понимал своих солдат с полуслова, был прост, но строг, требовал порядка, дисциплины. Лодырей и тупиц не терпел. Он был кадровый артиллерист, окончил артиллерийскую академию и, когда говорил об артиллерии, у него загорались глаза. Свиридов мог часами говорить о марках стали, огневом вале, прицельном огне. Он наизусть помнил калибры и наименования орудий всех армий мира. Полковник признавал мощь «Л‑2», радовался их поражающим свойствам, но указывал Леонтьеву на необходимость некоторых доделок, упрощения управления орудиями и увеличения прицельности огня.
Леонтьеву были приятны его прямота, знание дела, толковые советы. Он в свою очередь вызывал симпатии Свиридова своей скромностью, даже некоторой застенчивостью, уважением к чужому мнению, умением внимательно выслушать всякое критическое замечание, совет, предложение. Свиридову нравилось, что конструктор «не задаётся», советуется с артиллеристами, ведёт себя просто и «не лезет в гении».
Так началась их дружба. Постепенно круг их ночных бесед всё более расширялся. Много говорили о войне, о народе, показавшем в этой войне поразительные свойства души и характера. Суровые условия фронта, опасность, нависшая над Родиной, трудности и лишения только подняли боевой дух народа, укрепили его патриотизм, ещё сильнее сплотили его.
Свиридов рассказал Леонтьеву по секрету историю одного младшего командира Фунтикова, которого Леонтьев не раз видел. Это был молодой, лет двадцати пяти, сухощавый парень с живыми глазами и озорной, лукавой улыбкой, без которой его трудно было себе представить, так естественна она была на его лице.
— К вашему сведению, — рассказывал Свиридов, — этот Фунтиков — профессиональный карманник, имеющий не одну судимость. Он побывал в тюрьмах, с детских лет занимался карманными кражами. За месяц до войны, весной тысяча девятьсот сорок первого года, с ним случилась история, перевернувшая всю его жизнь. Я знаю о ней и с его слов, и из рассказов нашего уполномоченного контрразведки майора Бахметьева, работавшего до войны народным следователем. Характерно, что Фунтикова и Бахметьева теперь водой не разольёшь, до такой степени они привязаны друг к другу.
— В чём секрет такой привязанности? — улыбнулся Леонтьев.
— А вот сейчас я всё расскажу. История, как мне кажется, весьма любопытная.
История и в самом деле была любопытной. Она началась в одно ясное майское утро тысяча девятьсот сорок первого года. Следователь Бахметьев, как всегда, рано утром пришёл на службу и приступил к работе.
Следователи по уголовным делам разделяются на «бытовиков», «хозяйственников» и «сексуалистов». Разумеется, им приходится расследовать всякие дела, но у каждого следователя обычно имеется «своя струнка», склонность к расследованию определённых видов преступлений, а стало быть, и соответственные навыки.
Бахметьев принадлежал к довольно редкой группе следователей — любителей хозяйственных дел. Всякие там балансы, сальдо, двойные и прочие бухгалтерии, недостачи на оптовых базах, дерзкие растраты и запутанные торговые комбинации интересовали его гораздо больше, нежели вооружённые ограбления, убийства из ревности и прочие, как он выражался, «пережитки быта». Да, Бахметьев решительно предпочитал унылых растратчиков, в глубине души давно примирившихся с неизбежным приговором, заведующих оптовыми базами с беспокойным блеском в глазах и сухопарых, подвижных, молниеносно соображающих комбинаторов — специалистов по разного рода мошенническим операциям.
Роясь в кипах отчётных документов и колонках бухгалтерских записей, неумолимо нащупывая самые запутанные, мастерски завуалированные счета и бухгалтерские проводки, угадывая каким-то особым, профессионально выработавшимся чутьём преступные связи и комбинации, Бахметьев работал как одержимый, не зная усталости, с подлинно артистическим вдохновением.
В утро, о котором идёт речь, он, как всегда, склонился над папкой с очередным делом и погрузился в изучение кипы бухгалтерских документов. Внезапно раздался резкий звонок его настольного телефона. Оторвавшись от дел, Бахметьев взял трубку.
— Вас слушают.
— Мне нужен товарищ Бахметьев, Сергей Петрович, — послышался знакомый (у Бахметьева была отличная память на голоса) тенорок.
— Бахметьев у телефона. Кто говорит?
— Говорит ваш бывший клиент, Сергей Петрович… Одним словом, обвиняемый. Имею к вам спешное дело особой государственной важности…
— Кто говорит? — строго переспросил Бахметьев. — Я ничего не понимаю. Какой обвиняемый?
— Боюсь, не помните меня, много прошло времени. Докладывает Жора-хлястик, ежели изволите помнить… Проходил у вас по делу о похищении со взломом морских котов в мехторге… Одним словом, старый знакомый…
Бахметьев вспомнил. Да, лет пять назад действительно было в его производстве дело о похищении большой партии меховых товаров на оптовой базе Союзпушнины. По этому делу привлекалась целая группа воров во главе с заведующим базой, по инициативе которого и была инсценирована кража со взломом. Среди прочих обвиняемых по делу проходил и один молодой карманник, случайно затесавшийся в эту компанию.
Бахметьев заказал «бывшему клиенту» пропуск. Вскоре на пороге его кабинета появилась личность небольшого роста, в брюках неопределённого цвета и щегольской замшевой «канадке» на «молнии». Личность ещё на пороге отвесила изысканный поклон, молча поставила в угол небольшой чемодан из фибры ядовито-жёлтого цвета и выжидательно уставилась прямо в лицо Бахметьева озорными, с лукавой искрой глазами.
— Ваша фамилия? — суховато спросил следователь, не любивший называть обвиняемых по кличкам.
— Фунтиков, — быстро ответил пришедший. — В миру Жора-хлястик, а от папы с мамой — Фунтиков, Маркел Иваныч.
— Помню, — ответил Бахметьев. — Садитесь. Чем могу служить?
Фунтиков присел на самый краешек стула, разгладил на коленях пушистую кепку и озабоченно спросил:
— Каким располагаете временем?
— Я вас слушаю, — вежливо, но суховато ответил следователь.
— Прибыл по своей специальности, — начал Фунтиков. — Если изволите вспомнить, я по своей квалификации карманник и всегда работал по этой линии. По меховому делу я влип случайно, попал, как говорится, в дурное общество… Получил я, как пижон, пять со строгой, отбыл три, получил досрочное за ударную работу в лагере и вернулся к прежней специальности.
— По карманной части?
— Так точно. Между прочим, не стал бы этого касаться, если бы не вчерашнее происшествие на Белорусском вокзале, о чём и считаю необходимым доложить. Можно по порядку?
— Можно, — ответил Бахметьев, с интересом слушая.
— Вчерашний день прибыл я на работу на Белорусский вокзал, как всегда, к отходу заграничного поезда Москва — Негорелое. Между прочим, шикарный экспресс, интеллигентная публика, дамы с вуалетками и заграничные чемоданы. Правда, чемоданы не по моей епархии, но если чемодан крокодиловой кожи, кругом на «молниях» и весь в наклейках, то у такого пассажира и в кармане есть о чём поразмыслить. Ну, прихожу на перрон, второй звонок, сутолока, пассажиры прощаются, дамы уже вытащили платочки, носильщики огребают чаевые, паровоз пыхтит, как при грудной жабе. Одним словом, час пик для нашего брата. Я уже заранее выбрал себе подходящего карася — иностранец, стекло в глазу, перчатки. Пришёл он минут за пять, провожал какого-то типа, сунул ему что-то и ещё, видно, сунуть хотел, да не успел. В толкотне у международного вагона я бочком к нему прижался и очень деликатно вырезал у него задний карман. Увёл у него толстый на ощупь бумажник и отшвартовался влево. Здесь, Сергей Петрович, я довольно независимо прогулялся, бежать сразу вредно, потом звонок, свисток, поезд тронулся, и я тоже лёг на курс и вышел на площадь. Ну, натурально, зашёл в кафетерий, заказал пиво с раками, вынул бумажник, раскрыл — и аж похолодел…
— Почему именно? — спросил Бахметьев.
— Именно потому, что в бумажнике был чистый шпионаж, статья пятьдесят восемь дробь шесть, и коварные методы иностранных разведок… Вот посмотрите сами, Сергей Петрович, убедитесь.
И Фунтиков протянул следователю бумажник.
Бахметьев раскрыл бумажник и прежде всего увидел проявленную плёнку длиной около метра. На кадрах плёнки можно было рассмотреть переснятые технические чертежи и различные цифры. Кроме того, в бумажнике были записки на немецком языке, сделанные карандашом, визитная карточка какого-то Отто Шеринга, журналиста, американские доллары и немецкие марки. Документов, удостоверяющих личность владельца бумажника, не было, так как визитная карточка, судя по надписи на её обороте, принадлежала одному из его знакомых.
Рассмотрев содержимое бумажника, Бахметьев перевёл взгляд на Фунтикова. Тот сидел с серьёзным выражением лица, перебирая в пальцах кепку.
— Что это за чемодан? — спросил Бахметьев, указывая на чемодан, поставленный Фунтиковым в угол.
— Необходимый набор для домзака. Захватил на случай посадки, — ответил Фунтиков. — Ибо дело делом, а суд по форме. Я, Сергей Петрович, прежде чем к вам пойти, ночь не спал — раздумывал. Сами посудите — в кои веки такой случай мог произойти, что моя работа пользу государству принесла… Натурально, не выдержал и пошёл.
— Вы сможете опознать человека, у которого вырезали бумажник? — спросил Бахметьев.
— А как же! Да я его на всю, можно сказать, жизнь запомнил! Высокий блондин, худощавый такой… Извините, задом на ходу виляет.
Бахметьев подумал и коротко, очень серьёзно произнёс:
— Вот что, Фунтиков. Арестовывать я вас не буду, хотя вы правы, что дело делом, а суд по форме. Но адрес ваш может понадобиться. Понятно?
— Понятно, Сергей Петрович, — с чувством ответил Фунтиков. — Понятно и весьма приятно.
— Это не всё, — продолжал Бахметьев. — Вы должны мне дать слово, что перестанете воровать, иначе… сами понимаете…
Отпустив Фунтикова и записав его адрес, Бахметьев доложил о визите своего старого «клиента» прокурору. Заявление Фунтикова и бумажник были переданы специальным следственным органам.
Вскоре благодаря фотоплёнке, находившейся в бумажнике, удалось разыскать тот институт, в котором орудовала агентура германской разведки. Выяснена была и личность владельца бумажника, сотрудника германской миссии Крашке.
Фунтиков, не знавший всех этих подробностей, потерял покой, стараясь найти человека, у которого он вырезал карман. Ему очень хотелось довести дело до конца и найти шпиона. И хотя никто ему не поручал, он почти ежедневно посещал Белорусский вокзал, болтался у гостиницы «Метрополь», в которой обычно останавливались иностранцы, бродил по комиссионным магазинам. Но все его старания были тщётны — иностранца «с виляющим задом» не было, его и след простыл.
Дав слово Бахметьеву прекратить воровство, Фунтиков его сдержал, через месяц пришёл к Бахметьеву и попросил устроить его на работу.
— Месяц я продержался, — сказал он. — Были деньги, барахло. Теперь амба — всё кончилось. Жить не на что. Устраивайте, Сергей Петрович, а то не выдержу. Я человек культурный, мне надо кушать, курить и ходить в кино. Но только условие — чтобы никто меня не перековывал, карманником я не был и вообще я такой же, как все. А то приду на работу, все полезут с сочувствием, со вздохами и советами, местком шефство возьмёт… Не хочу! Я человек стеснительный и самолюбивый. Хочу без месткома. И без сочувствия. Можете так определить?
— Могу, — ответил Бахметьев.
И в самом деле, устроил Фунтикова администратором одного из кинотеатров. Работа Фунтикову — большому любителю кино — понравилась.
Но через полтора месяца началась война. В первые же дни войны Фунтиков пришёл к Бахметьеву, с которым он теперь нередко встречался.
— Сергей Петрович, я опять за помощью, — сказал он, — хочу на фронт. Пошёл в военкомат, а там к сердцу придрались, говорят: «Не подходите». А я во всяком случае сидеть в тылу не могу. Я своё сердце лучше знаю, а они говорят — давление повышенное. Так оно у меня оттого и повышается, что я здесь сижу. Одним словом, помогите…
Бахметьев позвонил в военкомат и попросил особенно не придираться к Фунтикову. В результате Фунтиков был зачислен в армию. Через неделю он уехал на фронт. Вскоре пошёл в армию и Бахметьев. И вот они оказались в одной бригаде…
***
— Оба теперь у нас. Дружат, — рассказывал Свиридов. — Надо вам сказать, товарищ Леонтьев, что Фунтикова любят все бойцы за его находчивость, смелость и удивительную жизнерадостность, которую всегда, а в особенности на фронте, так ценят люди.
Было уже очень поздно. С озера тянуло сыростью и запахом озёрной воды, смешанным с приторным, как наркоз, ароматом водяных лилий. Перед близким рассветом медленно умирали в далёком небе звёзды. Вокруг стеной стоял лес, загадочный и дремучий, как в детской сказке. Предутренняя роса садилась на сапоги.
Леонтьев молчал, жадно запоминая торжественность и богатство этой летней лесной ночи, до краёв налитой тишиной, покоем и густыми запахами. Всё это: люди, о которых они говорили со Свиридовым, и этот лесной океан, и бескрайняя земля, и далёкое, родное небо, и бледные звёзды — всё сливалось в душе Леонтьева в одно простое, нежное и великое слово — Родина.
Майор Бахметьев
А время шло. Как ни привык Леонтьев к Свиридову и всем артиллеристам бригады, в которой находился, но уже пора было подумывать об отъезде. За время, проведённое на фронте накопился богатый материал наблюдений над работой «Л‑2». Выяснились и положительные, и отрицательные стороны нового оружия. Надо было срочно, на заводе и в лаборатории, продолжать его усовершенствование.
Кроме того, за это время у Леонтьева появились новые замыслы, связанные уже с вооружением самолётов. Всё это, естественно, требовало определённых условий для работы.
Леонтьев стал готовиться к отъезду. Он собрал все свои записи, сложил немногочисленные вещи, но Свиридов уговорил его остаться ещё на несколько дней. Неудобно было отказать Свиридову, да ему и самому не очень-то хотелось уезжать. Он остался, договорившись со Свиридовым, что выедет через два дня.
Только теперь, перед самым отъездом, Леонтьеву стало известно, что сопровождавший его из Москвы майор Бахметьев является уполномоченным армейской контрразведки. Ему была поручена охрана Леонтьева на фронте.
— Я забочусь о том, чтобы вы были живы и невредимы, товарищ Леонтьев, — сказал он улыбаясь. — Имею такое указание.
Леонтьев засмеялся. Ему казалось странным, что здесь, в расположении наших войск, среди своих, его зачем-то охраняют. Он прямо сказал о своих мыслях Бахметьеву.
— Я имею такой приказ, — ответил Бахметьев, — а приказы обсуждению не подлежат. Их просто выполняют. Но если вы хотите знать моё личное мнение, то в такой предосторожности есть свой резон. Вы и ваши работы — военная тайна, товарищ Леонтьев. И её надо охранять как зеницу ока в любых условиях. Даже в мирных, не говоря уже о войне. И потом — война ведётся не только в окопах и на полях сражений, не только в воздухе и на море, она ведётся и в кабинетах разведок.
Они разговорились. Леонтьев, хорошо запомнивший рассказ Свиридова о младшем командире Фунтикове, осторожно спросил о нём Бахметьева. У майора сразу потеплели глаза. Обычно немногословный, он вдруг с видимым удовольствием заговорил на эту тему.
— Да, всё, что вам рассказал полковник Свиридов, точно соответствует действительности, — заявил Бахметьев. — Я довольно хорошо знаю уголовный мир. Я тогда же понял, что Фунтиков перестанет воровать. Случившееся так потрясло его, неожиданно в нём проснулись такие патриотические чувства, что жизнь его сразу перевернулась. Удалось-таки вытащить человека из трясины. Здесь никто не знает о его прошлом, он общий любимец. Смелый, живой, общительный. Уже имеет боевые награды, но, как говорится, это ещё не вечер… Я верю в него, в его будущее. Знаете, до войны я принимал участие в очень своеобразной «кампании», которую начала прокуратура СССР. Эта кампания «явки с повинной».
— Как же, я помню, об этом тогда много писалось в газетах, — живо откликнулся Леонтьев. — Уголовные преступники сами, добровольно, являлись в прокуратуру.
— Совершенно верно, — продолжал Бахметьев, — это началось в Москве, а затем перекинулось и во многие другие города. Были созданы специальные комиссии, принимавшие этих людей. Часть из них направлялась для отбывания наказания, а часть посылалась на работу, на разные предприятия, на заводы и в полярные экспедиции, на зимовки и в учреждения. Некоторых приходилось обучать определённым ремёслам, профессиям, специальностям, в зависимости от личных склонностей и способностей.
— И они не возвращались к своему преступному прошлому? — спросил Леонтьев.
— Подавляющее большинство навсегда порвало со своим прошлым, — ответил Бахметьев. — Среди них оказалось немало очень способных людей, они жадно учились, великолепно работали. Удалось спасти для Родины сотни людей, которых едва не засосало болото уголовщины.
Прибытие «делегации»
В понедельник полковник Свиридов пришёл к Леонтьеву и весело сказал:
— А у нас новость! Сообщили из штаба корпуса, что завтра приезжает делегация из Ивановской области. Подарки везут. Пять человек. Надо всё для них приготовить…
И он пошёл отдавать распоряжения.
Гостей встречали ранним утром в расположении тылов бригады. Леонтьев выехал туда же.
В прозрачном воздухе гудели пчёлы. От разогретой утренним солнцем земли поднимался лёгкий пар.
— Хорошо! — тихо сказал Леонтьев, любуясь и этим тихим, ясным утром, и горизонтом, таявшим в лёгкой дымке, и свежими, бодрыми лицами окружавших его людей. — Удивительно хорошо!..
— Недурно, — согласился Свиридов. — Утро что надо. И тихо, и гости… И солнышко… Да вот, никак, едут!..
Действительно, за поворотом дороги послышался шум мотора, и оттуда весело выскочила открытая штабная машина, в которой было несколько человек в штатском платье. Впереди сидели две девушки, приветливо махавшие руками.
Когда машина подъехала, из неё на ходу выскочил худощавый улыбающийся человек со шрамом на щеке и бросился к встречающим.
— Привет! — весело крикнул он и очень уверенно и крепко пожал руки Свиридову и Леонтьеву. — Привет, товарищи, от ивановцев. Разрешите пока без речей, запросто, по-рабочему. Ну, это наши Вера и Тоня — комсомольское племя, это вот Иван Егорович. Не смотрите, что старик, он молодых за пояс заткнёт. А это наш агроном Сергей Фёдорович. Вот и вся делегация да ещё я — Петров, работник обкома. Вот мои документы. Как говорится, для ясности картины. — И он предъявил Свиридову удостоверение.
Офицеры и Леонтьев поздоровались с гостями. Девушки, мило улыбаясь, протянули полковнику большой букет полевых цветов, собранных ими по дороге. Петров, вытащив «лейку», нацелился на группу и два раза щёлкнул.
— Это для нашей областной газеты, — поспешно сказал он, хотя его никто и не спрашивал. — А то наш редактор съест, даю честное пионерское, съест… Простите, что без разрешения.
— Ничего, ничего, — улыбнулся Свиридов, — здесь не беда, а вот дальше, уж извините, не полагается, товарищ Петров. «Лейку» до отъезда придётся сдать на хранение. Таков порядок…
— Разумеется, — ответил Петров, — какой может быть разговор? Как говорится, в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Прошу. Мне и в штабе корпуса об этом говорили. Мы ведь до полустанка по железной дороге добрались, а оттуда я по телефону со штабом связался и за нами машину прислали… — И он протянул командиру свою «лейку», которую тот спокойно положил в сумку.
Гостей встретили, как всегда на фронте, тепло и радушно. Все наперебой за ними ухаживали, старались получше накормить и развлечь. Гостям были приготовлены две землянки: одна — для девушек, другая — для мужчин, и надо было видеть, с какой любовью и заботой убирали бойцы эти землянки, наводя в них, по выражению одного из бойцов, «уют довоенного семейного класса».
Вечером в командирском блиндаже был устроен ужин на «десять кувертов», как сформулировал повар, служивший до войны в гостинице «Интурист» и приобретший там, по его словам, «квалификацию европейского масштаба».
За ужином гости и офицеры разговорились. Леонтьев, сидевший рядом с Петровым, расспрашивал его о текстильной промышленности, сильно развитой в той области, из которой приехала «делегация». Петров рассказал о новых фабриках, пущенных перед войной, вскользь сообщил данные о советских ткацких станках новой конструкции, отлично себя показавших, и в ответ на дальнейшие расспросы Леонтьева коротко пояснил, что сам он, к сожалению, не инженер, а партийный работник и потому имеет обо всех этих вещах общее представление.
— Места наши, — говорил он, — богатые, хлебные, работаем и на хлопке, и на местном сырье. Лён у нас есть. Продукцию нашу — верно, слышали — и заграница знает… Ситец наш на Востоке имел огромный сбыт и конкурировал с японским и европейским более чем успешно. Э, да что там говорить, если бы не война… Сейчас, конечно, в основном работаем на армию.
И он продолжал рассказывать об Ивановской области, которую, видимо, очень любил. Рядом за столом щебетали девушки. Агроном, оказавшийся человеком малоразговорчивым, сидел в углу и задумчиво посасывал папиросу.
Полковник Свиридов хозяйским оком озирал компанию, наблюдая, чтобы все гости были хорошо обслужены и накормлены, чтобы никто из них не скучал, — словом, чтобы каждому было оказано должное внимание.
Он обратил внимание на одиноко сидевшего агронома и направился было к нему, но его опередил майор Бахметьев. Бахметьев сидел за столом, разговаривал по очереди со всеми гостями, наливал им вино и, по-видимому, не меньше полковника был озабочен тем, чтобы никто из них не скучал.
— Я вижу, вам не очень весело, — сказал он агроному, застенчиво, по своему обыкновению, улыбаясь. — Может быть, вам следует отдохнуть?
— Да уж я со всеми, — ответил агроном, — а насчёт веселья не беспокойтесь, мы всем очень довольны. Здесь так интересно.
— Интересно? — переспросил Бахметьев. — А вы впервые на фронте?
— Да, — ответил агроном, — в первый раз.
Продолжая разговор с этим несловоохотливым гостем, Бахметьев не выпускал из поля зрения и остальных, особенно Петрова, оживлённо беседовавшего с Леонтьевым.
Ещё в начале ужина, когда все собрались в блиндаже, Бахметьев обратил внимание на то, что весёлый, немного шумливый руководитель делегации чрезмерно суетлив. Он старался как можно быстрее выпалить запас сведений об Ивановской области, поговорок, комплиментов. И переборщил. Во время ужина, когда младшая из девушек, чуть подвыпив, начала смеяться громче всех, Бахметьев перехватил взгляд, брошенный на неё Петровым. И хотя это продолжалось всего какую-нибудь долю секунды, майор заметил, как мгновенно изменилось выражение лица Петрова и как сразу перестала смеяться девушка, вздрогнув под его колючим, холодным, почти свирепым взглядом.
С этого момента Бахметьев незаметно, но упорно следил за Петровым, прислушиваясь к его разговору с Леонтьевым.
Петров не знал фамилии человека, сидевшего рядом с ним. На Леонтьеве была обычная военная форма. При знакомстве Петрову не назывались фамилии офицеров, кроме полковника Свиридова. Фотокарточки Леонтьева Петров-Петронеску не имел. Самолёт, с которым фотокарточку послали из Берлина, по пути наскочил на советский «Як» и был сбит. По оплошности немецкой разведки копии фотокарточки не сохранилось, и её единственный экземпляр, с большим трудом добытый в своё время, погиб. Это осложняло задачу Петронеску. Надо было очень осторожно выяснить, кто здесь Леонтьев.
Сейчас, беседуя с Леонтьевым, Петронеску как раз был занят этим. Он медленно кружил вокруг интересовавшей его темы. Сначала он завёл разговор об артиллерии вообще, затем о новых видах немецкой артиллерии.
***
— Кстати, в штабе фронта, — наконец произнёс он, — мне рассказывали об удивительном эффекте наших новых орудий. Об изобретении какого-то конструктора Леонтьева. Мне даже говорили, что мы будем иметь возможность с ним лично познакомиться. Это было бы очень интересно. Говорят, он в вашей бригаде, полковник?
— Да, он здесь, — вмешался в разговор Бахметьев. — Это я Леонтьев, — добавил он, застенчиво улыбаясь.
Петронеску сразу так заинтересовался, что даже не заметил удивления, с которым встретили эту фразу Бахметьева Свиридов и Леонтьев. Однако они промолчали.
— Очень рад познакомиться с вами, дорогой товарищ, — бросился Петров к Бахметьеву, сразу оставив Леонтьева. — Вот уж это, братцы, сюрприз, это уж просто подвезло, ей-ей, подвезло. Верочка, Иван Егорыч, Тоня, что же вы? Приветствуйте творца нового оружия!.. Да как следует!..
Все засуетились. Петров быстро налил себе и Бахметьеву вина и встал со значительным выражением лица, постучав ложечкой по тарелке. Все замолкли.
— Товарищи! — начал Петров. — Я выражу наше общее чувство, если скажу, без всяких выкрутасов и дипломатических, знаете, фокусов — спасибо тебе, товарищ Леонтьев, за твоё старание, за твой талант, за твой труд! И от нас, тыловиков, большое тебе пролетарское русское спасибо!
— Право, вы меня смущаете, — покраснел Бахметьев. — Ну зачем так торжественно?..
— Нет уж, батенька, — перебил его Петров, — как говорится, от каждого по способности, каждому по труду. Ты уж дай мне воздать тебе по заслугам, от души. Мы, знаешь, народ простецкий, без этих цирлих-манирлих. Братцы, итак, за здоровье, талант и преуспеяния Леонтьева!..
Он опрокинул рюмку. Все выпили. Бахметьев всё с тем же застенчивым выражением лица сидел за столом, Леонтьев и Свиридов незаметно переглядывались, решительно не понимая, в чём дело.
— Товарищ Леонтьев, — начал Петров, — мы завтра едем по домам. Не пора ли и вам в Москву?
— Ну как вам сказать, — отвечал Бахметьев, — я тоже… собирался. Ну что ж, может, и верно, вместе ехать… Я подумаю.
— Да чего тут думать! — загорячился Петров. — Вместе оно и веселее, да и время быстрей пройдёт. Одним словом, давайте решать. Да какой вам смысл отказываться?.. Девушки, да что же вы молчите?
— Товарищ Леонтьев, давайте вместе! Мы просим, просим! — защебетали девицы.
— Хорошо, — вдруг произнёс Бахметьев и поднялся. — Хорошо, мы поедем вместе. Даю слово!
После ужина гостей развели по землянкам. Бахметьев взялся проводить Петрова и двух его товарищей. В землянке всем были заботливо приготовлены постели. Бахметьев пожелал гостям спокойной ночи и пошёл к Свиридову, у которого застал и Леонтьева.
— Товарищи, я должен объяснить вам своё поведение, — улыбаясь, начал Бахметьев. — Прежде всего прошу, товарищ Леонтьев, извинения за присвоение вашей фамилии. Понимаете, мне не понравилось, что Петров проявляет к ней столь повышенный интерес. Кроме того, я сомневаюсь, чтобы ему сказали в штабе фронта о том, что вы находитесь здесь. Такие вещи не принято говорить людям, не имеющим отношения к вашей командировке. Поэтому на всякий случай я решил представить себя вместо вас.
В ответ на расспросы Леонтьева и Свиридова, чем именно показался ему подозрительным Петров, Бахметьев поделился своими соображениями.
По мнению Бахметьева, в излишней шумливости Петрова, в его манере щеголять псевдонародными оборотами речи, в его постоянном подчёркивании своей любви к Ивановской области и глубокой осведомлённости об её экономике, сырье, флоре и фауне, наконец, даже в том, как он смеялся — слишком заливисто и часто, неестественно, с напряжением запрокидывая голову (искренне смеющийся человек всегда свободен во всех своих движениях), — во всём этом была какая-то нарочитость, какая-то тонкая, хорошо продуманная, но всё-таки заметная игра.
Бахметьев обратил внимание и на речь Петрова, точнее на то, как он говорил. У него было безупречно правильное произношение, вовсе отсутствовал какой бы то ни был акцент. Но и самая безупречность его произношения была как-то чрезмерна: Петров чересчур чётко произносил слова, добросовестно выговаривая каждый слог, и Бахметьеву показалось, что в манере Петрова строить фразу и её произносить есть опять-таки какая-то нарочитость, напряжение, точнее всего — старательность. Так обычно говорят иностранцы, хорошо владеющие русским языком, но для которых, тем не менее, он остаётся языком чужим.
Наконец, привлекло внимание Бахметьева тонкое, едва ощутимое благоухание, которое как бы излучал руководитель делегации. Это был тот особый, годами въевшийся во все поры кожи аромат, которым отличаются мужчины, привыкшие к каждодневному употреблению душистого одеколона и курению пряного, с медовым запахом, табака. Этот аромат не вязался с простецкими манерами Петрова и его заявлениями (кстати, тоже чересчур частыми) о том, что он потомственный токарь и пролетарий «от станка».
Рассказав о своих наблюдениях и признав, что их всё же недостаточно для каких-либо определённых выводов, Бахметьев добавил:
— А в общем, конечно, всё это может оказаться чепухой и проявлением чисто профессиональной чрезмерной подозрительности. Я поэтому и решил поехать с ними вместе до штаба фронта; там, на месте, связаться с Москвой, а если понадобится, и с Ивановом и выяснить всё досконально. Ошибся — буду душевно рад и сам вместе с вами над собой посмеюсь, а лишняя проверка ещё никогда никому не мешала… Что же касается вас, товарищ Леонтьев, то мои ребята поедут с вами до Москвы и там сдадут вас, как говорится, с рук на руки. Мне же всё равно надо по делам заехать в штаб фронта.
Свиридов и Леонтьев с интересом выслушали Бахметьева, в глубине души не разделяя его подозрений.
Пока шёл этот разговор, над лесом разыгралась ночная гроза. Была тёмная облачная ночь. Тяжёлые тучи торопились куда-то на запад, подгоняемые резкими порывами сильного ветра. Где-то далеко на горизонте расщепила свинцовое небо фиолетовая молния. Низко зарокотал гром. Закричали разбуженные лесные птицы. Первые капли дождя тяжело упали на хвою деревьев.
Свиридов, Леонтьев и Бахметьев вышли из землянки.
Всё новые молнии зловеще освещали небо кривыми, ломаными росчерками. Ветер усиливался с каждой минутой. Верхушки сосен, раскачиваясь, гудели тревожно, как колокола. Начался ливень. Потоки воды с силой били по стволам деревьев, брезенту орудийных чехлов и насыпям землянок. Раскаты грома становились всё продолжительнее и чаще. Где-то с треском рушились старые сосны. Озеро выло от страха.
— Разошлась небесная артиллерия, — произнёс Свиридов, с интересом наблюдая грозу. — Прямо артподготовка перед наступлением.
Как бы в ответ на эти слова в небе вспыхнула огромная молния. Похожая по форме на гигантский раскольничий крест, она пылала, излучая мёртвый фиолетовый свет. С визгом, как шрапнель, посыпался град величиной с лесной орех. Чудовищный удар грома заколебал почву. Потоки воды стремительно пробивали в лесной чаще новые русла. Вокруг ухала, свистела и плавала ночная гроза.
Свиридов ушёл в обычный обход, а Леонтьев и Бахметьев вернулись в землянку.
— Давайте простимся, — сказал Бахметьев. — Вам давно пора отдыхать. Спите спокойно. После такой грозы будет великолепное утро.
— Да нет, совсем не хочется спать, — возразил Леонтьев. — Давайте ещё выкурим по одной, в темноте, без света. Садитесь на койку, будем мечтать, как в юности. Мне хочется иногда помечтать. Я говорю вам об этом откровенно, майор, во-первых, потому, что темно, а во-вторых, потому, что вы мне симпатичны. Мне приятна ваша сдержанность, даже то, что у вас немного грустные глаза. Простите, что я так прямо об этом говорю. Завтра мы разъедемся, и кто знает, увидимся ли когда-нибудь ещё… Впрочем, верю, увидимся! Мы должны увидеться! И знаете что? Давайте дадим друг другу слово — после войны встретиться у меня. На Чистых прудах. Там я живу. Я сварю вам чёрный кофе, сыграю Шопена: я немного играю… Будем сидеть всю ночь. Пусть это будет первая мирная ночь… Бахметьев, вы представляете себе первую ночь после такой войны, после победы? Мы распахнём все окна в квартире настежь — к дьяволу затемнение! Напротив увидим дома с такими же ярко освещёнными окнами. В небе будут бушевать фейерверки. На бульваре будут петь и смеяться девушки. И мы с вами вспомним эту ночную грозу… Так даете слово?
Бахметьев очень серьёзно ответил:
— Даю. Честное слово даю!
Они пожали друг другу руки. Леонтьев, помолчав, добавил:
— Вот видите, какой я мечтатель. Но это будет удивительно хорошо! Я не кажусь вам смешным?
— Нет, — ответил Бахметьев. — Это совсем не смешно. Это мудро. Должно, обязательно, необходимо мечтать! Так говорил Дзержинский! Мечтая, люди перестраивают свою жизнь, делают замечательные открытия, ломают оковы и движутся вперёд. И горе тому, кто разучился мечтать.
Домик в Сокольниках
Около трех часов ночи пост № 15 службы наблюдения и оповещения ПВО Московской зоны, расположенный в районе Клина, на расстоянии ста с небольшим километров от Москвы зафиксировал прерывистый рокот одиночного немецкого самолёта, шедшего на большой высоте по направлению к столице. В ту же минуту об этом были оповещены штаб ПВО и соседние посты. Через некоторое время этот же самолёт «засекли» посты № 16, 17, 19 и 21. Сомнений не было: вражеский самолёт шёл с разведывательной целью или для того, чтобы выбросить в удобном месте парашютистов.
В штабе приняли решение «снять» этот самолёт.
Вскоре советский истребитель обнаружил на высоте в две тысячи метров немецкий самолёт, который шёл вниз с приглушённым мотором. Очевидно, немец выбрал удобное место для выброски груза или десанта. Лётчик, не раздумывая, пошёл за немцем, неожиданно зашёл ему сверху в хвост и двумя очередями зажёг самолёт. Охваченная пламенем машина камнем полетела вниз, оставляя за собой длинный дымный след.
К месту падения самолёта выехал наряд ближайшего воинского соединения и нашёл там обломки машины, обгоревшие, изуродованные трупы летчика и двух мужчин в штатском платье. По-видимому, мужчины в штатском платье были немецкими агентами, которых собирались выбросить на парашютах в этом районе. И действительно, в кармане одного из них была обнаружена записная книжка с разного рода заметками подозрительного характера, несомненно, шифрованными.
Позднее следственным органам удалось расшифровать одну заметку. В ней значилось: «Сокольники… Зимнее утро… Лыжи… 17… Наталья Михайловна».
И через два дня в поле зрения следственных органов появилась «исполнительница лирических песенок» артистка Мосэстрады Наталья Михайловна Осенина, проживающая в доме № 17 по одной из просек в Сокольниках. Уже знакомый нам старенький домик в Сокольниках стал объектом тщательного и осторожного наблюдения. Среди многочисленных посетителей этого домика была отмечена и пожилая женщина с неизменной сумкой «авоськой» — Мария Сергеевна Зубова.
Хозяйка домика оказалась вдовой некоего Шереметьева, в своё время осуждённого за хищения и подлоги.
Вскоре и вдова Шереметьева, и «исполнительница лирических песенок», и, наконец, Мария Сергеевна Зубова были арестованы, и дело это было поручено старшему следователю Ларцеву.
Когда он спросил Зубову, почему она, жена ленинградского профессора, так долго живёт в Москве, та ответила, что ждёт от своего мужа из Ленинграда ответа, куда ей ехать и как дальше быть.
— Уж очень худо мне было в Челябинске, — сказала она. — Вот в Москву и бросилась, гражданин следователь.
— Откуда вы знаете Наталью Михайловну? — спросил Ларцев.
— Да мы с нею в поезде познакомились, когда я из Челябинска ехала.
Всё это Мария Сергеевна излагала со своим обычным добродушием и спокойствием.
Но именно в этом чрезмерном спокойствии Ларцев угадал многолетнюю тренировку и то особое, глубоко запрятанное напряжение воли, благодаря которому опытным преступникам удаётся произвести впечатление безразличия, простодушия и уверенности в себе.
Закончив допрос, следователь связался с Ленинградом и попросил срочно собрать все данные о Марии Сергеевне Зубовой, жене профессора Технологического института.
Ночью из Ленинграда сообщили, что Мария Сергеевна Зубова, равно как и её супруг, профессор Зубов, скончались несколько месяцев тому назад и оба похоронены на Преображенском кладбище.
А наутро самолётом были доставлены все необходимые документы, которые Ларцев прочёл с великим удовольствием.
Допрос начался в пять часов дня. Женщина, которую ввёл в кабинет Ларцева конвоир, вошла в комнату со спокойным лицом человека, уверенного в своей правоте и в том, что арест её — лишь неприятное недоразумение и оно не замедлит выясниться. Подойдя к столу, за которым сидел следователь, она выжидательно на него посмотрела.
— Прошу садиться, — очень корректно сказал Ларцев, чуть приподнявшись в своём кресле.
— Благодарю вас, — с достоинством ответила женщина и неторопливо опустилась в кресло.
— Ваша фамилия, имя, отчество? — спросил следователь таким тоном, как будто он задаёт этот вопрос лишь из привычной формальности.
— Зубова Мария Сергеевна. Я уже говорила, — произнесла женщина.
— Происходите из Ленинграда?
— Да, — ответила старушка, — и об этом я тоже уже говорила.
— Из Ленинграда, — повторил Ларцев, как бы не обращая внимания на её последние слова. — Профессор Зубов — ваш супруг?
— Мой муж, — ответила допрашиваемая. — Об этом мы говорили в прошлый раз.
— Совершенно справедливо, — очень вежливо сказал следователь. — Давно изволили воскреснуть?
— Я не совсем понимаю вас. О чём именно идёт речь?
— Речь идёт о вашей смерти, к сожалению, имевшей место восемь месяцев назад, — ответил Ларцев совершенно серьёзным тоном, глядя прямо в лицо сидевшей против него женщине. — Извините, что мне приходится касаться столь грустных обстоятельств вашей биографии, но по долгу службы…
Женщина выслушала эту фразу молча и внешне спокойно, чуть отведя взгляд в сторону. Пожалуй, это её безразличие было даже неестественно. Немного подумав и затем слегка улыбнувшись, она сказала:
— Простите, но я не понимаю ни вашего тона, ни ваших слов. Очевидно, вас следует понимать в каком-то иносказательном смысле?
— Нет, почему же, — возразил Ларцев, — напротив, я просил бы понимать меня именно в прямом смысле… Поскольку следствием установлено, что вы скончались восемь месяцев назад, то я прошу разъяснить, когда именно, при каких обстоятельствах и с какой целью вы воскресли?
Арестованная ещё раз очень внимательно посмотрела на следователя и сказала:
— Право, в моём возрасте и в моём положении не до шуток. Могу вам только сказать, что я ещё ни разу не умирала и пока делать этого не собираюсь.
Ларцев достал тогда из папки какие-то документы и тем же подчёркнуто серьёзным тоном произнёс:
— К сожалению, я никак не могу с вами согласиться, гражданка, ибо установлен не только факт вашей смерти, но даже и место, где вас похоронили… Погребли, так сказать… Преображенское кладбище, двадцать первый ряд, могила за номером десять тысяч четыреста пятьдесят шесть. Повторяю, мне не совсем удобно фиксировать ваше внимание на этих грустных деталях, но вы, сударыня, уже восемь месяцев, как мертвы: вы, извините, покойница… Так сказать, явление из загробного мира… Согласитесь, что при этих условиях самый факт вашего проживания в столице и пребывания в моём кабинете есть юридический нонсенс, явление, прямо скажем, неправомерное… Вот справка о вашей смерти, вот выписка из ленинградского загса, вот медицинское свидетельство о смерти и, наконец, справка Преображенского кладбища. Не угодно ли познакомиться?
И Ларцев очень любезно протянул сидящей перед ним женщине пачку документов.
— Угодно, — ответила она и очень внимательно прочла все справки, одну за другой.
Оба молчали. Матильда Стрижевская отлично поняла, что изобличена, и обдумывала, что именно может знать следователь, кроме того уже бесспорного факта, что она присвоила себе имя умершей. Каковы те границы, в которых она может оставаться, изобразив в то же время психологический надлом, готовность сдаться, а затем полное отчаяние, страх, раскаяние, а главное, решимость всё, абсолютно всё рассказать.
Ларцев тоже думал. Он уже ясно видел, что перед ним опытный, умный, нелегко сдающийся враг. Какой ход придумает сейчас эта женщина, чтобы объяснить своё проживание под чужим именем? С какой целью — скажет она — и каким образом это было устроено? Сейчас она сделает свой первый шаг, и начнётся их психологический поединок, единоборство следователя и преступника, напряжённая, острая, безжалостная борьба, в которой один борется за своё государство, за его интересы, за его безопасность, а другой — за себя, за свою судьбу, может быть, за свою жизнь…
— Ну что ж, — со вздохом прервала затянувшуюся паузу Матильда Казимировна, — я думаю, что надо рассказать вам всё.
— И я так думаю, — согласился следователь.
— Спорить с вами не буду и не хочу, — продолжала она. — Да, собственно, никаких причин у меня к тому и нет. Да, моя фамилия не Зубова, и теперь я должна объяснить случившееся… Я решила рассказать всё. Абсолютно всё.
— Слушаю, — коротко произнёс Ларцев.
Женщина резко повернулась к нему лицом и посмотрела прямо в глаза.
— Моя настоящая фамилия, — сказала она, — моя подлинная фамилия — кажется, так у вас говорят — Стрижевская. Зовут меня Матильда Казимировна. Отец мой был поляк, мать — обрусевшая немка. Родом я действительно из Ленинграда. По своей профессии, или, как теперь говорят, по своей квалификации…
— По профессии вы шпионка, — перебил её Ларцев. — А по квалификации — шпионка высокого класса… Это нам уже известно.
— Нет, — ответила женщина, — это неправда. Я присвоила себе документы покойной Зубовой, чтобы получить лишнюю продовольственную карточку. Позвольте, я всё расскажу. Разрешите по порядку…
— Как экспромт недурно, — произнёс следователь. — Но малоубедительно. Впрочем, продолжайте.
Зубова-Стрижевская начала свои показания. Она рассказывала, подробно останавливаясь на деталях, о своём детстве, о воспитании, об Анненшуле, в которой она училась, о первом женихе и о многом другом. Следователь несколько раз предлагал ей перейти к делу, но она отвечала, что может лишь последовательно излагать свои мысли и настойчиво просит предоставить ей такую возможность. Было ясно, что делает она это нарочно, чтобы выиграть время.
Стрелки на круглых, вделанных в стену часах в кабинете Ларцева подошли к десяти. Допрос продолжался уже пять часов. В этот момент подследственная внезапно прервала свой рассказ и заявила, что она очень устала и просит сделать перерыв.
— Не возражаю, — сказал Ларцев. — Когда вам будет угодно продолжать?
— Я думаю, часа через два, — сказала женщина. — Я поужинаю и отдохну…
Ларцев вызвал конвой и отправил арестованную в камеру, а затем приказал ввести Осенину.
Наталья Михайловна вошла в кабинет неверной походкой человека, впавшего в отчаяние. Лицо её было заплакано, глаза опухли.
— Садитесь, гражданка Осенина… — произнёс Ларцев, внимательно её рассматривая. — Я вижу, вы находитесь в тяжёлом моральном состоянии.
— Да, я чувствую, что погибла…
— Я много лет занимаюсь следственной работой и видел немало преступников. Наблюдая вас, я склонен думать, что вы в своём преступлении явились жертвой чьей-то злой воли… Так ведь?
— Нет, нет… — поспешно заявила Осенина. — Я ни в чём…
— Именно этому, — перебил её Ларцев, — именно этому я и приписываю ваше подавленное состояние. Между тем признание облегчит и ваше сердце, и вашу участь…
— Мне не в чем сознаваться, — начала лепетать Осенина, — я ни в чём не виновата.
— Допустим. Но если то, что вы говорите, правда, то как объяснить такие со всей достоверностью установленные факты: вы должны были ехать с актёрской бригадой на Волгу и отказались, для того чтобы поехать на фронт, несмотря на гораздо менее выгодные условия?
— Я хотела на фронт. Это мой долг актрисы…
— Допустим. Но почему же вы отказались от поездки на Волховский фронт и хотели ехать именно на Западный?
— Не знаю… Мне почему-то так хотелось…
— Не можете объяснить. Дальше: будучи у артиллеристов, вы почувствовали себя плохо и попросили отправить вас самолётом в Москву. Однако в Москве вы не обратились ни в одно лечебное учреждение.
— В дороге мне стало легче…
— Но вы, вернувшись в Москву, не ночевали дома. Где же вы были ночью?
Осенина вспыхнула и некоторое время молчала. Потом она тихо произнесла:
— Есть вопросы, на которые женщина может не отвечать.
— Вы намекаете на какой-то роман, на любимого человека, — улыбнулся Ларцев, — но вы же сами говорили моему помощнику, что горячо любите мужа, находящегося на фронте, и верны ему… В каком случае прикажете вам верить?
— По дороге домой я потеряла сознание… и добралась домой только утром.
— Как вам не стыдно лгать! — произнёс Ларцев. — Только что вы сказали, что почувствовали себя легче.
— В самолёте. А на улице мне снова стало хуже…
— Вам не могло стать хуже по одной простой причине, — улыбаясь, протянул Ларцев.
— По какой? — встревожилась Осенина.
— Консервы, которыми вы будто бы изволили отравиться, — медленно сказал Ларцев, в упор глядя на Осенину, — оказались аб-со-лют-но доброкачественными и пригодными к пище. Вот лабораторный анализ, тотчас произведённый на фронте.
— Значит, за мной следили ещё тогда, на фронте? — почти вскричала Осенина.
— Совершенно верно, — ответил Ларцев. — Кроме того, вы заявили, что в институте Склифосовского работает ваш дядя — профессор Венгеров.
— Но он действительно там работает, — неуверенно сказала Осенина.
— И он действительно дядя, — опять улыбнулся Ларцев, — но не ваш. Он чужой дядя. И к вам никакого отношения не имеет. Кто ваш муж?
— Военный, лейтенант.
— Где он сейчас?
— В плену…
— Откуда вы знаете, что он в плену?.. Ну, что же вы молчите? Откуда вы знаете, что ваш муж в плену?
— Мне сообщил один человек, — растерянно произнесла Осенина.
Ларцев внимательно посмотрел на неё и, осенённый внезапной догадкой, сверкнувшей, как молния, в его сознании, быстро подошёл к Осениной и, склонившись к ней, произнёс:
— И этот человек попросил вас выполнить одно маленькое поручение, пообещав, что немцы сохранят жизнь вашему мужу. Так ведь?
Осенина заплакала и сквозь слёзы спросила:
— Откуда вы знаете?
— Кто этот человек? — резко спросил Ларцев. — Кто этот человек?
— Зубова, — ответила Осенина. — Мария Сергеевна Зубова.
И она начала рассказывать. Вскоре после того как её муж пропал без вести на фронте, к ней явилась Мария Сергеевна и сказала, что её муж находится в плену. Мария Сергеевна заявила, что, если Осенина хочет спасти жизнь своему мужу, она должна выполнить одно небольшое поручение. Осенина согласилась и постепенно превратилась в послушное орудие шпионки. Она поехала вместе с Зубовой в Челябинск, где они прожили некоторое время, стараясь завести знакомство с Леонтьевым. Однако это им не удалось, так как Леонтьев жил очень замкнуто и избегал случайных знакомств. Тогда, случайно узнав, что он едет в Москву, они выехали в одном вагоне с ним.
Продолжая свои показания, Осенина рассказала о своей поездке на фронт и о телеграмме, отправленной в Софию, когда местопребывание Леонтьева было наконец установлено.
Допрос Осениной закончился в первом часу ночи.
Ларцев выключил в своем кабинете свет и открыл окно.
Ночь, военная, неверная, обманчивая ночь нависла над городом. В сумраке огромной, раскинувшейся подковой площади мигали красные и зелёные огоньки регулировщиков. Звеня, проносились редкие ночные трамваи и исчезали, растворяясь в зыбкой мгле разбежавшихся улиц. На минуту испуганно выглянула луна, но тут же, словно не желая нарушать правила светомаскирорки и требования ПВО, прикрылась густым мохнатым облаком. Аэростаты заграждения плыли, как фантастические рыбы, над погружённым во мрак городом, придавая ему какой-то сказочный вид.
А Ларцев, который не спал уже двое суток, всё продолжал стоять у открытого окна. Он думал о предстоящем повторном допросе старой шпионки и о том, как лучше заставить её поскорее всё рассказать, чтобы раскрыть все нити этого дела, которым он начал заниматься ещё до войны. Ларцев не знал, что в эту самую минуту Петронеску, который тоже никак не мог заснуть в своей землянке, взволнованно размышляет о том, что через несколько часов, ранним утром, он и его «делегация» выедут на машине из лагеря и вместе с ними будет наконец инженер Леонтьев.
Отъезд
Петронеску встал рано. Помятое, серое, опухшее лицо его хранило следы бессонной ночи. Он разбудил членов «делегации» и приказал им собираться к отъезду. Адъютант полковника Свиридова пригласил гостей к завтраку.
— Вы позавтракаете и можете ехать, — добавил адъютант. — Товарищ полковник уже распорядился заправить вашу машину.
— С нами как будто едет товарищ Леонтьев, — сказал Петронеску. — Он готов?
— Точно не знаю, — ответил адъютант. — Но вообще он встаёт рано.
Пошли в командирский блиндаж. Петронеску шёл впереди, задумчиво глядя куда-то вдаль. Ему было не по себе. Чем ближе подходил момент предстоящего отъезда, тем тревожнее и тяжелее становилось у него на душе. Он хорошо понимал, что надо взять себя в руки, что надо, так же как вчера, приветливо улыбаться, болтать, шутить, рассказывать, но вместо этого хотелось остаться одному, подумать, а главное — как можно скорее очутиться за линией фронта, подальше от этой непонятной ему страны.
Хотя господин Петронеску и числился много лет «специалистом по России и славянской душе», он давно уже мысленно признался себе, что страны этой не понимает и даже побаивается. Что же касается «славянской души», то господин Петронеску давно пришёл к заключению, что душа эта полна удивительных неожиданностей и что разумнее всего её не задевать…
В прошлые годы Петронеску не раз откровенно излагал свою точку зрения на Россию. Однажды, в самом расцвете своей карьеры, на запрос о новом виде вооружений в русской армии он ответил, что, по его мнению, страшен не столько новый вид вооружений, сколько душа русского солдата, которая, как известно, не является военной тайной, но, тем не менее, недостаточно учитывается германским командованием. В ответ на этот доклад Петронеску получил тогда (это было в 1914 году) строгое внушение от начальства, в котором, между прочим, указывалось что «германскую разведку интересуют не психологические изыскания о русской душе, а точные цифры, чертежи, планы и документы».
И вот сейчас, подходя к командирскому блиндажу, Петронеску дал себе слово, что, если ему удастся и в этот раз подобру-поздорову унести отсюда ноги, он ни при каких условиях не вернётся больше в Россию и вообще не будет браться за столь рискованные операции.
В блиндаже «делегацию» встретили полковник Свиридов и Бахметьев. Сели завтракать. Петронеску выпил стопку водки, закусил и коротко спросил Бахметьева, готов ли он к отъезду.
— Благодарю, — ответил Бахметьев. — Я вполне готов. Вот только не стесню ли я вас в машине? Мне полковник предлагает свою.
— Не беспокойтесь, места хватит, — сказал Петронеску. — Да и ехать вместе веселее.
Сидя рядом с Петронеску, Бахметьев снова ощутил тот еле слышный аромат, которым словно был пропитан этот человек. Вчерашнее смутное беспокойство опять охватило его. Пристально посмотрев на своего соседа, он заметил, что тот сегодня выглядит неважно. Бахметьев обратил внимание и на то, что, когда руководитель «делегации» поднял стопку с водкой, рука его чуть дрожала.
— Как вы себя чувствуете? — спросил его Бахметьев. — У вас усталый вид.
— Благодарю вас. Всё в порядке. Я отлично спал.
— Ночью вы курили. Я издали видел, как вы вышли из землянки, несмотря на грозу.
— Просто захотелось подышать ночным воздухом. А вы, очевидно, как и я, привыкли курить по ночам?
— Да, — коротко ответил Бахметьев, — иной раз приятно прервать сон ради папиросы. Но вы долго курили.
— Сначала курил, потом просто отдыхал. — Петронеску внимательно посмотрел на Бахметьева. — Как странно, что я вас не заметил.
— Я не хотел вас беспокоить и потому не подошёл. Мне показалось, что вам лучше побыть одному. Иногда хорошо побыть в одиночестве и хочется, чтобы никто его не нарушал.
— Я вижу, товарищ Леонтьев, вы мечтатель, — улыбнулся Петронеску. — Впрочем, кое у кого бывает такая блажь. Мечты, фантазии. Сомнения… Однако пора ехать. Товарищ полковник, разрешите мне от собственного имени, как и от имени всех членов нашей делегации…
И Петронеску, приподнявшись, произнёс тёплое слово и предложил выпить в последний раз за Советскую Армию, за артиллерию, за победу.
Потом все, гости и хозяева, вышли из блиндажа. Тупорылая открытая штабная машина, поданная к блиндажу, урчала, как старый сердитый бульдог; за рулём сидел шофёр — молодой щеголеватый парень с быстрыми глазами и отличной выправкой. Петронеску, Бахметьев и «пожилой пролетарий» сели сзади. На откидных сиденьях разместились девушки. «Представитель областной интеллигенции» занял место рядом с шофёром.
— Счастливого пути, — сказал полковник и взглянул на часы. — Сейчас десять часов двадцать минут.
— Спасибо за всё! — произнёс Петронеску. — До новой встречи после войны, после победы, товарищи!
— Будьте здоровы, не забывайте нас! — крикнули в один голос, как по команде, девушки.
— До свидания, друзья! — сказал Бахметьев.
Машина тронулась. Свиридов молча глядел ей вслед. Вот она уже мелькнула за поворотом; в последний раз показалось лицо Бахметьева и скрылось за столбом взвихрившейся пыли.
— Десять часов двадцать две минуты… — произнёс полковник, ещё раз взглянув на часы. Он хотел что-то сказать, но заметил своего адъютанта, бежавшего изо всех сил с каким-то белым листком в руке. — В чём дело? — строго спросил полковник.
— Шифровка из штаба фронта, товарищ полковник, — ответил адъютант. — Приказано немедленно вручить.
— Вызовите шифровальщика, — приказал полковник и, взяв шифровку, прошёл в свой блиндаж.
А через двадцать минут прибежавший шифровальщик прочёл Свиридову расшифрованный текст телеграммы.
«Находящаяся у вас «делегация» Ивановской области, как установлено, является немецкой диверсионно-шпионской группой, переброшенной для похищения или убийства Леонтьева. Если «делегация» не уехала, задержите её под благовидным предлогом, ничем не выдавая своей осведомлённости. Если эта телеграмма поступит после отъезда «делегации», организуйте погоню. Учтите при этом, что главное — сохранить Леонтьева, которого диверсанты, обнаружив свой провал, могут убить. Поэтому обычные методы ареста и задержания неприемлемы до надёжной изоляции Леонтьева от немцев».
Очная ставка
«Делегацию» Петронеску разоблачила Зубова-Стрижевская, которая в конце концов начала давать откровенные показания. Впрочем, сначала, вызванная Ларцевьм на повторный допрос, она опять стала излагать ему подробности своей биографии, уклоняясь от изложения конкретных фактов шпионской работы.
— Вот что, — резко прервал её Ларцев, — всё, что вы рассказываете, вероятно, очень интересно, но пора переходить к делу. С какой целью вы присвоили себе имя умершей Зубовой?
— Я всё расскажу по порядку, — настаивала подследственная, — я не могу отвечать на вопросы, не осветив всё последовательно, так, как было…
— Слушайте, — сказал Ларцев, — неужели вы думаете, что я не понимаю вашей тактики? Зря, вам уже ничего не поможет! Дальнейшее сопротивление бессмысленно. Вы схвачены за руку. Либо говорите всё, либо скажите прямо, что не будете давать честных показаний!
— Гражданин следователь, — начала уверять женщина, — я полна желания рассказать всё. Я хочу раскрыть свою душу!..
— Не кривляйтесь! — прикрикнул на неё Ларцев. — Намерены вы говорить или нет? Отвечайте!
— Почему вы со мной так разговариваете? — тихо ответила женщина. — Уважайте хотя бы старость. Ну, представьте себе, что так стали бы говорить с вашей матерью! Правда, это к делу не относится…
Ларцев быстро встал и подошёл к окну. После долгой паузы он приблизился к женщине и очень тихо, почти шёпотом, сказал ей:
— Вы упомянули мою мать. Это действительно не относится к делу, но вы правы. С моей матерью и в самом деле так не разговаривали… Когда гестапо арестовало её в Калуге — было это в тысяча девятьсот сорок первом году, — на неё не тратили слов. Её просто били. Били и пытали… Потом гитлеровцы отрубили ей руки. Потом они её расстреляли… Когда освободили Калугу, я нашёл во рву её труп. Рядом были трупы многих других. Женщин, стариков, детей. Всё!.. Перейдём к делу. Будете говорить? Да или нет? Нет или да?
Старуха молчала, о чём-то думая. Ларцев поднял телефонную трубку и коротко отдал приказание.
Привели Наталью Михайловну. Увидев свою партнёршу, она в первый момент даже как бы обрадовалась, а затем, побледнев, испуганно уставилась на неё.
— Вы знакомы? — спросил Ларцев.
— Да, — ответила Осенина, — это моя знакомая.
Стрижевская в ответ на вопрос следователя утвердительно кивнула головой. Один раз она мельком взглянула на Наталью Михайловну, но, встретившись с ней взглядом, быстро отвернула своё лицо. Она уже поняла, что Наталья Михайловна созналась во всём и сейчас будет её изобличать. Как вести себя дальше?
— Вам даётся очная ставка, — сказал Ларцев, — извольте смотреть друг другу в глаза и отвечать на мои вопросы. Гражданка Осенина, скажите, когда и каким образом вы познакомились с женщиной, которая сидит против вас?
— Мария Сергеевна ведь знает, — ответила Осенина, — и вам я тоже рассказывала…
— Повторите, — потребовал Ларцев.
Осенина повторила свои показания.
— Вы подтверждаете эти показания? — обратился Ларцев ко второй подследственной. — Да или нет?
— Да, — ответила она. — Да, подтверждаю. Прошу прекратить очную ставку. В ней нет нужды, я и так всё расскажу. И торопитесь, гражданин следователь, торопитесь, потому что Леонтьева каждую минуту могут выкрасть, как котёнка… Я хочу помочь вам в его спасении… Учтите и зафиксируйте это…
— Вы в этом уверены? — неопределённо спросил Ларцев, ещё не зная, как ему реагировать на её последние слова. — Вы уверены, что нам надо торопиться?
— Уверена вполне, — ответила она. — Ведь я сама организовала телеграмму из Москвы в штаб фронта о том, что к ним едет делегация из Ивановской области. Это было трудно — отправить такую телеграмму. Но мне удалось.
Ларцев, профессионально привыкший быстро ориентироваться в самых неожиданных ситуациях, сообразил, о чём идёт речь. Но ни единым звуком, ни единым движением не выдал он своего волнения. Он спокойно достал из портсигара папиросу, неторопливо закурил, затянулся и, пуская кольца дыма, небрежно и чуть снисходительно произнёс:
— О, я вижу, вы делаете некоторые успехи… Становитесь наконец более или менее откровенной… Что же касается вашего совета, то, хотя и я ценю вашу заботу, торопиться нам больше незачем… Мы уже поторопились. Ну что ж, продолжайте… А вы, гражданка Осенина, возвращайтесь в камеру.
Он позвонил и вызвал конвоира. Через минуту Наталью Михайловну увели, а «дама треф» рассказала всё, что могла, вплоть до того, что она с 1913 года сотрудничает в германской разведке под этой кличкой.
Исчезнувшая машина
Полковник Свиридов несколько раз прочёл расшифрованную телеграмму. Вызванный к Свиридову Леонтьев нервно ходил из угла в угол. Оба молчали…
Первым начал Свиридов. Он подошёл к карте и, взглядом остановив Леонтьева, сказал:
— Отсюда они выехали на Ольховское шоссе. Первые десять километров дорога идёт прямо, потом они могли повернуть влево — на Малые Корневища или вправо — на Печенегово. Могут ехать и прямо, потом они могли повернуть дальше по шоссе, в направлении Бердникова. Значит, сейчас самое важное установить, куда они повернули. Лучше всего бросить три «У‑2», с тем чтобы они на бреющем полёте прочесали все три дороги и радировали нам, где и куда движется их машина. Я направляю лётчиков Шевченко, Баринова и Шавера, так как все они видели эту машину и этих людей.
— Правильно, — сказал Леонтьев, — но как действовать дальше?
— Остаётся обсудить вопрос о том, как задержать машину, — продолжал Свиридов. — Эти мерзавцы, по-видимому, уверены, что они ещё не разоблачены. В этом наш козырь. Но с ними едет Бахметьев, которого они принимают за Леонтьева. Это их козырь. Поручить задержание ближайшим подразделениям нельзя: немцы могут убить Бахметьева. Значит, надо это задержание обставить так, чтобы оно выглядело вполне невинно и не вызывало у них никаких подозрений. Есть два способа: первый — использовать обычный порядок проверки документов на контрольно-пропускных пунктах дороги, второй — догнать их под каким-нибудь благовидным предлогом, например, для вручения благодарственного адреса от бойцов, о котором мы раньше, дескать, забыли. Мне лично больше нравится второй способ. Но это мы ещё обдумаем…
Через несколько минут с небольшого лесного аэродрома оторвались один за другим три самолёта и легли на курс: один — на Малые Корневища, другой — на Печенегово, третий — на Бердниково.
Свиридов вместе с Леонтьевым прошли на командный пункт авиачасти, где, вооружившись наушниками, приготовились принимать с воздуха донесения пилотов о движении машины.
Но время шло, а донесений не было. Наконец, минут через тридцать, пилот Шевченко доложил, что, обследовав всю дорогу до Малых Корневищ протяжением в пятьдесят километров, он не обнаружил никаких следов штабной машины. Вскоре заговорил лётчик Баринов. Он обследовал шестьдесят километров дороги на Печенегово и машины тоже не нашел. Третий лётчик, Шавер, также доложил, что по дороге на Бердниково штабной машины нет.
Свиридов посмотрел на часы. Было одиннадцать часов десять минут. Значит, машина могла сделать не более сорока-пятидесяти километров. Куда же она исчезла?
Свиридов связался со штабом армии и доложил обо всём. Были поставлены в известность все контрольные посты, регулировщики и узлы связи. Были проверены все маршруты и возможные отклонения от них. Но штабная машина исчезла, и никаких следов её не было. В последний раз её видели бойцы Н‑ского пропускного пункта в десять часов пятьдесят минут на шоссе, ведущем в Печенегово. Все пассажиры, в том числе майор Бахметьев, находились в машине и проследовали дальше. Однако на следующем контрольно-пропускном пункте, расположенном на расстоянии десяти километров от первого, машина уже не появилась.
Как только эти обстоятельства стали известны, полковник Свиридов помчался на Печенеговское шоссе. Вместе с ним поехали два сотрудника армейской контрразведки.
Но розыски исчезнувшей машины и не могли дать никаких результатов, так как Петронеску по дороге решил инсценировать гибель её в результате нападения немецкого самолёта. Эта мысль пришла ему в голову неожиданно, когда километрах в пяти от контрольно-пропускного пункта он заметил на дороге огромную воронку, образовавшуюся от разрыва тяжёлой фугасной бомбы. Несколько таких воронок он и раньше видел по дороге.
— Остановите машину, посмотрим, — сказал Петронеску шофёру.
Петронеску, а за ним остальные пассажиры вышли из машины и стали рассматривать воронку. Судя по ещё свежим комьям развороченной земли и по тому, что дорога в объезд воронки ещё не была готова, бомба была сюда сброшена сравнительно недавно.
Петронеску задумался. Ну конечно, надо создать видимость, будто он и все его спутники погибли от этой фугаски. Это объяснит исчезновение «делегации», и меры к её розыску не будут приняты, а значит, создастся сравнительно спокойная обстановка для того, чтобы вместе с Леонтьевым перебраться через линию фронта. Если даже будет выяснено, что «делегация» Ивановской области — фикция, то и в этом случае «делегаты» будут считаться погибшими, незачем будет их разыскивать. Словом, чем дальше Петронеску обдумывал свой план, тем больше он начинал ему нравиться. Оглянувшись, он увидел, что дорога примыкает к довольно большому лесному массиву, в котором можно будет пока укрыться и оттуда связаться по радио с Крашке, вызвав ночной самолёт.
В то время как Петронеску лихорадочно обдумывал все детали своего нового плана, его спутники и шофёр что-то рассматривали на самом дне глубокой воронки. Петронеску тихо подозвал к себе «пожилого пролетария», которого он считал наиболее надёжным из всех членов «делегации».
— Пора начинать, — шепнул он ему, — шофёра надо ликвидировать, а Леонтьева придётся временно успокоить.
Петронеску быстро достал из кармана вату и какой-то пузырёк, открыл его, смочил вату жидкостью и, передав её «пожилому пролетарию», сказал:
— Держите вату в кармане, подойдите к Леонтьеву и, когда я начну стрелять, немедленно ткните ему в нос. Можете особенно не миндальничать.
Взяв вату, старик вернулся к воронке. Петронеску направился вслед за ним и перевёл предохранитель револьвера на боевое положение.
Стоя на краю воронки, Петронеску видел, как «пожилой пролетарий» вплотную подошёл к Бахметьеву, который, наклонившись, что-то рассматривал на земле. Тогда Петронеску вынул револьвер и, подойдя ближе к шофёру, выстрелил ему в затылок. Шофёр упал навзничь.
В то же мгновение «пожилой пролетарий» бросился сзади на Бахметьева и, схватив его одной рукой за шиворот, другой зажал ему рот и нос смоченной наркозом ватой. Бахметьев мгновенно выпрямился, нанёс кулаком сильный удар «пожилому пролетарию» и, вырвавшись из его рук, бросился в сторону. Он успел было выскочить из воронки, но тут на него сбоку налетел Петронеску и свалил ловкой подножкой.
Бахметьев упал, на него навалились Петронеску и его соучастники. Бахметьев оказывал сильное сопротивление, но положение его было тяжёлым.
— Вату!.. Вату!.. — прохрипел Петронеску, продолжая бороться. — Идиоты! Вату!..
«Пожилой пролетарий» быстро поднял упавший кусок ваты, издававший пряный, противный запах, и поднёс его к лицу Бахметьева. Тот несколько раз судорожно дёрнулся, но потом наркоз подействовал, и Бахметьев беспомощно вытянулся.
Петронеску встал, громко выругался, подошёл к «пожилому пролетарию» и дал ему затрещину.
— Грязная свинья, — закричал он на старика. — Ты чуть не испортил всё дело! Кретин!
И ударил его ещё раз.
«Представитель областной интеллигенции», стоявший рядом, угодливо хихикал. Он не любил старика и почему-то его побаивался.
Всё ещё тяжело дыша, Петронеску подошёл к «интеллигенту» и, улыбаясь во весь рот, почти с нежностью сказал:
— А вы… вы молодец! Уфф… вы… вы… помогли… Дайте руку… Спасибо!
«Интеллигент» осклабился и подобострастно протянул руку. Петронеску пожал её почему-то левой рукой, но в тот же момент нанёс ему правой, в которой был револьвер, страшный удар в висок. Тот упал, и Петронеску, наклонившись над ним, проломил ему тяжёлой рукояткой череп.
Это была ещё одна деталь для задуманной инсценировки.
На этом предварительные приготовления были закончены. Петронеску сел на краю воронки и предложил сесть остальным членам «делегации».
— Коротко объясню, — сказал он, — надо торопиться, хотя это шоссе совершенно пустынно. Все мы погибли от немецкой бомбы. В этой самой воронке. Ясно?
«Делегаты» молчали. Петронеску продолжал:
— Леонтьев в наших руках. Чтобы нас не искали, я решил использовать эту воронку. Для большей достоверности нам пригодятся эти два трупа. Вот почему пришлось убить их… Впрочем, человечество не так уж много потеряло… Теперь — скорее за работу! Вот две шашки тола, положите на них трупы и взорвите тол. К сожалению, тола на всю машину не хватит, придётся взорвать некоторые её части, а кузов машины запрятать в лесу.
Когда всё было сделано, Петронеску и его спутники пошли в глубь леса. Бахметьева несли на руках. Шли долго, часто отдыхали и к вечеру прошли километров десять. Здесь Петронеску облюбовал местечко для привала. Это была глухая лесная поляна, расположенная, по-видимому, в самой глубине лесного массива. Никаких признаков жилья поблизости не было. Обширную поляну можно было использовать для посадки самолёта.
Связав Бахметьеву руки, Петронеску начал приводить его в чувство. Он дал ему понюхать нашатырного спирта. Вскоре Бахметьев открыл глаза. Он не сразу пришёл в себя и с удивлением рассматривал лесную поляну, склонившегося над ним Петронеску и девушек, сидящих в стороне.
— Здравствуйте, — как ни в чём не бывало сказал ему Петронеску. — Как вы себя чувствуете?
Бахметьев ничего не ответил и только поморщился от страшной головной боли. Он начал вспоминать все события прошедшего дня.
— Нам надо серьёзно поговорить, — сказал Петронеску. — Не удивляйтесь тому, что случилось. Поверьте, всё к лучшему. Не сомневайтесь, что придёт день, когда вы меня поблагодарите от всей души за то, что я для вас сделал. Короче говоря, вы военнопленный и находитесь в руках германских военных властей. Вы нам нужны, господин Леонтьев, и если будете разумно себя вести, то у вас не будет оснований для недовольства Германией и своей судьбой. Говорю это официально, по поручению германского верховного командования… Дня два, пока мы переберёмся через линию фронта, вам придётся помолчать. Предупреждаю: малейшее непослушание, попытка к бегству, обращение к случайным прохожим дадут мне право покончить с вами. Отныне инженер Леонтьев может существовать лишь как лицо, почётно состоящее на германской службе. Иначе он вообще не будет существовать. Вот всё, что я пока могу вам сообщить. Сейчас я по радио снесусь с немецкими властями. Что прикажете им передать от вашего имени?
— Передайте им, — ответил Бахметьев, — что всё, чем я до сего дня мог быть полезен немецким военным властям, я уже сделал. Надеюсь, что германское командование уже оценило мой «Л‑2» и не имеет оснований быть мною недовольным… Кроме того, во избежание лишних разговоров я прошу передать, что все чертежи и расчёты «Л‑2» я с собой не взял, а отправил в Москву. Вот и всё.
— Я вижу, вам угодно иронизировать, — ответил Петронеску. — Но ничего, в Берлине вы заговорите иначе… Уверяю вас…
Грубая работа
Около трёх часов дня военный прокурор корпуса полковник юстиции Дубасов, которому Свиридов сообщил о происшествии, прибыл вместе с сотрудниками контрразведки к тому месту, где Петронеску инсценировал гибель машины от прямого попадания фугасной бомбы. Дубасов сразу приступил к исследованию окружающей местности и, в частности, дна воронки, образовавшейся от разрыва бомбы.
Полковник Дубасов до войны в течение многих лет работал старшим следователем областной прокуратуры, а затем был выдвинут на должность следователя по важнейшим делам при прокуроре республики. Отсюда он в начале войны попал в военную прокуратуру.
Многие годы следственной работы выработали в нём чисто профессиональные навыки и методы расследования. Он понимал, какое огромное значение имеет осмотр места происшествия, нередко дающий возможность раскрыть самое запутанное, тщательно подготовленное преступление.
В данном случае всё на первый взгляд подтверждало факт гибели «делегации» и машины, в которой она следовала. В самом деле, искалеченные при взрыве, но поддающиеся опознанию тела одного из «делегатов» и водителя машины были налицо. Обломки самой машины — дверцы, мотор, номер, два колеса, даже радиаторная пробка — валялись тут же. Наконец, самая воронка, образовавшаяся в результате взрыва, не вызывала сомнений: это была типичная воронка от разрыва фугасной авиабомбы весом не менее ста килограммов. Отсутствие остальных трупов вполне могло быть объяснено силой взрыва.
— Товарищ полковник, всё ясно, — произнёс один из офицеров, когда осмотр места происшествия подходил к концу. — Взрыв был очень сильный, и после прямого попадания бомбы вряд ли кто из пассажиров машины мог уцелеть. А судя по всему, машина и её пассажиры находились в самом центре бомбового удара. Разрешите, товарищ прокурор, приступить к составлению протокола осмотра и доложить наши выводы штабу?
— Подождите, — спокойно ответил Дубасов, продолжавший копаться на дне воронки. — Доложить о том, что все погибли, никогда не поздно. Это как раз тот случай, товарищ Петренко, когда доклад не запаздывает.
— А жаль Бахметьева. Хороший был человек, — заметил Петренко, совсем ещё юный и розовый лейтенант.
— Подождите хоронить Бахметьева, — в том же тоне возразил Дубасов, доставая со дна воронки какой-то предмет и тщательно его рассматривая. — И вообще, товарищ Петренко, при вашей поспешности лучше служить в кавалерии, нежели в контрразведке.
Дубасов положил обнаруженный им предмет в свою полевую сумку, предварительно осторожно завернув его в носовой платок. И снова начал внимательно рыться в воронке.
Петренко не без ехидства подмигнул своим товарищам: он явно считал усердие Дубасова излишним.
Между тем прокурор перешёл к осмотру обнаруженных трупов, точнее — того, что от них осталось. Ему помогали сотрудники контрразведки. Дубасов начал с черепа водителя машины. Через несколько минут в густых, сильно обгоревших волосах искалеченной головы Дубасов нашёл то, что искал: входное отверстие пулевого канала. Дальнейший осмотр обнаружил, что выходного отверстия нет и, следовательно, пуля застряла в черепе.
— Товарищ Петренко, — сказал Дубасов, — поезжайте на машине в ближайший населённый пункт или часть и привезите оттуда бритву. Затем вызовите сюда по телефону судебно-медицинского эксперта, или патологоанатома, или, в крайнем случае, хирурга.
— Слушаю, товарищ полковник, — ответил Петренко. — Есть привезти бритву и вызвать сюда врача.
И Петренко помчался выполнять задание.
Дубасов принялся за осмотр черепа «представителя областной интеллигенции». Он внимательно рассмотрел замеченный им на виске покойного большой синяк со ссадиной, а затем нащупал в затылочной области осколки размозженной кости.
Потом он исследовал дверцы машины и радиаторную пробку, которую достал из сумки. С удовлетворением отметив, что дверная петля не сломана и даже не помята, Дубасов обмотал спичку клочком ваты и протёр петлевое кольцо. На вате сразу образовалось свежее масляное пятно.
Оказалась в полной исправности и радиаторная пробка. Дубасов прежде всего осмотрел резьбу той части пробки, которая ввинчивается в радиатор. Резьба была цела.
— Товарищ Федотов, — обратился Дубасов к своему помощнику, — осмотрите эту радиаторную пробку и дверцы и дайте своё заключение.
Федотов осмотрел дверцы и пробку и замялся. Ничего интересного он в этих предметах не обнаружил.
— Ну? — спросил его Дубасов. — Что скажете, мистер Шерлок Холмс?
— Я не совсем понимаю вас, товарищ полковник, — пробормотал Федотов. — Тут, стало быть, дверцы от машины и, так сказать, пробка…
— Несомненно, — улыбнулся Дубасов, — дверцы и пробка. И что же?
— Обломки машины, — произнёс Федотов.
— Осмотрите внимательнее, — предложил Дубасов. — Эти дверцы вырваны из кузова силой взрыва? Так, что ли, вы полагаете?
— Ну да, взрыв бомбы, — ответил Федотов.
— Какой, однако, интеллигентный взрыв, — улыбнулся Дубасов, — ведь петли на дверцах абсолютно целы, девственны, можно сказать. И, значит, эти дверцы сняты, понимаете, сняты, а не сорваны и тем более не вырваны силой взрыва. Сняты! Теперь осмотрите пробку. Резьба на ней также цела. Значит, и пробку, эту пробку тоже не вырвало силой взрыва из гнезда, а её вывинтили из него и в таком виде бросили в воронку… Рассчитывали на дураков.
Федотов покраснел и с новым интересом стал рассматривать дверцы и пробку. Он теперь понял Дубасова и вновь, не в первый уже раз, подивился его наблюдательности.
— Теперь перейдём к трупам, — продолжал Дубасов. — Вот этот череп размозжен. Я был бы готов допустить, что он размозжен осколком бомбы, это вполне вероятно. Но характер раны таков, что, скорее всего, она была нанесена каким-то тупым орудием. Например, камнем. При вскрытии мы это уточним. Но в другом черепе картина ещё определённее: в нём ясно прощупывается входное отверстие пулевого канала. Понимаете, пулевого? Сейчас привезут бритву, я сниму волосяной покров, и вы это ясно увидите… Судя по тому, что выходного отверстия нет, пуля застряла в черепе, и выстрел, стало быть, произведён на близком расстоянии, почти в упор, из пистолета среднего калибра, скорее всего — второго номера… Ну, как это всё называется, мистер Шерлок Холмс?
— Это называется инсценировка гибели от взрыва бомбы, товарищ полковник, с предварительным убийством двух человек, — ответил Федотов, почти влюблённо глядя на Дубасова.
— Справедливо, — с удовлетворением сказал Дубасов, — именно так это и называется. Но есть ещё одно название всему, что мы увидели, и название это — грубая работа. Да, грубая работа… Слов нет, сделано решительно, не без мысли, даже, если хотите, с размахом — своего даже стукнули для пущей убедительности, но сделано грубо. Очень характерно для гитлеровской разведки. Дескать, и так сойдёт. Русские не разберутся. Низшая, так сказать, раса…
Кто кого?
Оставив Федотова поджидать судебно-медицинского эксперта, Дубасов ринулся на «виллисе» к печенеговскому аэродрому, чтобы оттуда срочно связаться с Москвой и доложить о результатах своей поездки. Уже наступил вечер, и надо было торопиться, так как Дубасов подозревал, что этой ночью лжеделегация попытается перебраться через линию фронта и, скорее всего, сделает это на самолёте, который вызовет по радио, сообщив свои координаты.
Следовательно, времени оставалось в обрез, буквально каждая минута решала судьбу всего дела. Поэтому Дубасов приказал шофёру ехать на Печенегово через лес, что значительно сокращало путь.
Машина мчалась в глубь лесной чащи, взлетая на кочках, ныряя между густо растущими деревьями. Опытный водитель, не замедляя хода, гнал её всё дальше и дальше в лес, объезжая старые пни и замшелые корневища, разрезая колёсами огромные муравейники, разрывая нежный зелёный плюш моховых бугров, переваливая через балки и ручейки. Машина ввинчивалась, как штопор, в лесной массив, и Дубасов еле успевал нагибаться перед низко нависшей хвоей и уклоняться от гибких свистящих ветвей. Километры, отвоёванные у леса, стремительно проносились назад, а потревоженные деревья укоризненно покачивали мохнатыми ветвями вслед этой необычной машине, столь дерзко нарушившей их покой.
— Жми, Серёжа! — время от времени поддавал жару Дубасов, хотя шофёр и так делал всё, что мог.
— Есть, товарищ полковник, — отвечал шофёр, напряжённо вглядываясь в лесной сумрак.
Ехать становилось всё труднее, быстро наступавший вечер густо заштриховал просветы между деревьями, заливая серой мглой лесные поляны. Контуры деревьев сливались, и моментами казалось, что маленькую машину со всех сторон обступает тёмная, глухая стена. Дубасов не разрешал включать фары, и шофёр вёл машину почти чутьём, поразительно угадывая, где и как лучше проскочить.
Наконец машина вырвалась из леса и вышла к просёлку, за которым находился печенеговский аэродром.
Петронеску тоже спешил. Разумеется, он не предполагал, что инсценировка гибели «делегации» будет так быстро разоблачена. Независимо от этого Петронеску считал, что малейшая задержка в советском тылу бессмысленна, а главное — опасна.
Он быстро привёл в действие портативный передатчик и радировал о том, что Леонтьев уже взят и находится вместе с ним в таком-то лесу. Он просил Крашке этой же ночью прислать шестиместный транспортный самолёт и добавил, что лесная поляна, на которой они расположились, вполне пригодна для посадки и взлёта такого самолёта, имеющего небольшую посадочную скорость. На поляне будут выложены костры.
Наступил вечер. Связанный Бахметьев лежал на земле и молча глядел в вечернее небо. Несмотря на то что положение его казалось безвыходным, он не терял надежды на спасение. Главное, он был рад тому, что заменил Леонтьева.
Бахметьев видел, как Петронеску возился с передатчиком, и понял, что он радировал немцам.
По приказанию Петронеску «делегаты» сложили пять небольших куч хвороста, расположив их конвертом. Они приготовились зажечь костры к моменту появления самолёта, чтобы таким образом указать ему место посадки.
Когда все приготовления были закончены, Петронеску сел ужинать. Он выпил вина и приступил к еде, снисходительно пригласив своих спутников разделить с ним трапезу.
Поев, Петронеску подошёл к Бахметьеву и протянул ему кусок хлеба и колбасы.
— Не угодно ли? — любезно предложил он. — Это полковник снабдил нас на дорогу. Очень любезный товарищ. Поистине, гостеприимство — русская национальная черта!
Бахметьев ничего не ответил. Петронеску, немного выждав, в том же тоне добавил:
— Значит, не угодно? Ну что ж, упрямство — тоже русская национальная черта. Не одобряю.
И отошёл в сторону. Было уже около двадцати часов. Где-то вдали раздавались орудийные залпы, но это лишь подчёркивало тишину, царившую вокруг на этой лесной поляне. Петронеску нервно шагал, заложив руки за спину, часто останавливался и, запрокинув голову, вглядывался в тёмное небо. Он ждал самолёта.
Наконец донёсся рокот мотора на малых оборотах… Над лесом на сравнительно небольшой высоте шел самолёт. Он искал сигнала.
— Костры! — завопил Петронеску.
И все бросились поджигать хворост. Через минуту языки пламени метались по поляне. Самолёт снижался кругами. Лётчик дважды включил и выключил зелёный и красный огоньки самолётных фар: точка-тире-точка. Это был сигнал «Я вас вижу».
Самолёт сделал последний разворот и пошёл на посадку.
Через минуту он уже тормозил на поляне. Костры немедленно затоптали. Из кабины вылез пилот и приветствовал Петронеску. Они о чём-то тихо поговорили по-немецки, а затем Петронеску подвёл летчика к лежавшему на земле Бахметьеву.
Лётчик с любопытством стал рассматривать майора и даже бесцеремонно осветил его лицо карманным фонарем.
— Рус, здравствуй! — сказал он, с трудом подбирая слова. — Рус карашо будит… Зер гут!.. Бардзо добже… Тре бьен… О-кей… Вери гут…
Бахметьев продолжал молчать. Бессильное бешенство от сознания своей беспомощности, словно приступ астмы, сдавило ему дыхание. Но он так выразительно посмотрел на немецкого лётчика, что тот сразу выключил свой фонарь и отошёл с Петронеску в сторону. Там они опять пошептались и потом смеялись долго и заливисто. Внезапно лётчик, что-то вспомнив, вытащил из кармана и протянул Петронеску какой-то пакет и, щёлкнув каблуками, почтительно вытянулся.
Петронеску вскрыл пакет, побледнев от радостного предчувствия. Это был приказ о награждении его Железным Крестом.
Крах Петронеску
Немецкий лётчик, прибытие которого так обрадовало Петронеску, был не кто иной, как… следователь Ларцев. Когда в Москву поступило сообщение Дубасова о том, что Бахметьев, выдавший себя за Леонтьева, похищен и, по всей вероятности, будет переброшен через линию фронта, следователю Ларцеву, отлично знавшему немецкий язык, было предписано срочно вылететь на печенеговский аэродром и там переодеться в форму немецкого лётчика.
Из Москвы же было дано указание военной авиации фронта обеспечить усиленное барражирование района нашими самолётами, с тем чтобы заставить снизиться любой немецкий самолёт, который перелетит в эту ночь через линию фронта на любой высоте.
Все эти меры диктовались такими соображениями.
Во-первых, было ясно, что Петронеску постарается выбраться из советского тыла именно на самолёте, который он вызовет по радио; во-вторых, задерживать Петронеску и всю «делегацию» путём облавы, оцепления и тому подобных способов было опасно, так как немцы, обнаружив провал всей операции, могли в последний момент убить «Леонтьева»; в-третьих, единственная возможность задержания, гарантирующая безопасность Бахметьева, заключалась в том, чтобы явиться под видом специально присланного немецкого лётчика, нисколько не нарушая спокойствия Петронеску.
Командиру авиаполка, расположенного на печенеговском аэродроме, были даны соответствующие указания, и в тот самый вечер, когда Петронеску победно радировал Крашке о своих успехах, десятки наших истребителей и разведчиков поднялись в воздух и «закрыли» весь участок фронта. После полуночи появился немецкий самолёт, шедший на небольшой высоте. Он был замечен истребителями, которые сразу окружили его.
Немецкий лётчик, обнаружив, что спереди, сзади, сверху и с боков находятся советские самолёты, попытался, но не смог вырваться из кольца. То обстоятельство, что наши истребители не открывали огня, продолжая на него наседать в буквальном смысле этого слова, было истолковано немцем правильно: он пошёл на снижение. Послушно следуя за нашим истребителем, немец направился прямо на печенеговский аэродром. Когда он приземлился, в самолёт сели Ларцев и старший лейтенант Нестеров, переодетые в форму немецких лётчиков. Нестеров отлично знал немецкие машины, и потому выбор командира полка остановился на нём.
Через несколько минут машина оторвалась и взяла курс на лес, в котором, по показаниям пленённого лётчика, находился Петронеску со своими спутниками. Перед вылетом у сдавшегося немецкого лётчика был отобран пакет с приказом о награждении Петронеску-Крафта Железным Крестом.
Минут через двадцать, кружа над лесом, Нестеров и Ларцев увидели костёр, выложенный конвертом. Они пошли на посадку и встретились с Петронеску.
Безукоризненное немецкое произношение Ларцева, приказ о награждении, самый самолёт, на котором они прибыли, — всё это не вызвало подозрений даже у такого опытного шпиона, как Петронеску. Вся «делегация» весело погрузилась в самолёт.
Конец поединка
И в Москве, и в Берлине в эту ночь лихорадочно ждали известий.
— Самолёт вышел за вами в двадцать часов сорок минут, — радировал Крашке Петронеску.
— Самолёт с Ларцевым вышел за «делегацией», — радировал в Москву Дубасов.
— Ждём Крафта с минуты на минуту, — рапортовал Берлину Крашке.
— Главное обеспечьте безопасность Бахметьева, — ещё раз напоминала Москва.
— Немедленно сообщите подробности вылета и состояние Леонтьева, — беспокоился Берлин.
…Поединок продолжался. Берлин торжествовал — Леонтьев взят! Москва неустанно напоминала: обеспечьте безопасность Бахметьева и захват всей «делегации».
Около часа ночи командир авиаполка вполголоса сказал Дубасову одно только слово: «Идут!» — и приказал подсветить посадочное «Т». В ночном небе ничего не было видно, но, вслушавшись, Дубасов уловил рокот мотора. Да, самолёт приближался. Всё громче пел его мотор, вот уже засветились фары, и через минуту самолёт, сделав два круга над аэродромом, пошёл на посадку. Вот он приземлился, покатился по траве аэродрома, влажной от ночной росы. Вот, вздрогнув, замер на месте.
Хлопнула отворившаяся дверца, и из машины весело выпрыгнул Петронеску. За ним вышли «пожилой пролетарий» и девицы.
— С благополучным приземлением! — произнёс за спиной Петронеску Дубасов.
В то же мгновение сотрудниками контрразведки были схвачены и связаны девицы и «пожилой пролетарий». Передав пошатнувшегося Петронеску своим помощникам, Дубасов бросился в машину. Через минуту он вылез из неё, держа на руках Бахметьева и неуклюже прижимая его к груди, словно большого ребёнка. Бахметьев был ещё связан.
…А над великими просторами русской земли, над её реками и лесами, над равнинами и болотами, городами и селами ещё долго неслись в ночь, в звёздное небо тревожные запросы Берлина:
— Почему задерживаете сообщение о прибытии Петронеску Крафта? Каково состояние Леонтьева? Ждём вашего ответа… Ждём вашего ответа…
Встреча на Чистых прудах
Летом 1945 года в Москву из Берлина прилетели генерал-майор артиллерии Свиридов и его старый друг полковник Бахметьев. Много воды утекло за это время. И Свиридов, и Бахметьев участвовали в грандиозной операции по взятию Берлина. Оба были за годы войны не раз ранены, но после лечения в госпиталях возвращались в строй.
Москва была прекрасна, всюду весёлые, праздничные лица, смех, улыбки, радостно сверкающие глаза; много военных с орденами и медалями на кителях. Москва ликовала вместе со всей Родиной, пришедшей к победе. На бульваре Чистые пруды играл оркестр.
В квартиру Леонтьева, как было условлено несколько лет назад, пришли Свиридов и Бахметьев. Они сидели втроём за столом; окна квартиры были распахнуты настежь. Напротив, рядом и наискосок горели такие же ярко освещённые окна домов. Леонтьев и его гости пили вино и вспоминали те дни, когда они впервые познакомились друг с другом.
Леонтьев вспомнил и о «подшефном» Бахметьева — бывшем карманнике. Бахметьев сразу оживился.
— Как же, Фунтиков жив-здоров, — охотно стал рассказывать он. — Это уже настоящий офицер, которым можно гордиться. А знаете, ведь с ним произошла потом, уже под Берлином, интересная история. Хотите, расскажу?
— Слушаем со всем вниманием, — ответил Леонтьев.
— В конце апреля мы приближались к Берлину. Уже за Ландсбергом, в одном маленьком немецком городке, куда ворвалась наша часть, это и случилось. Ну, картина обычная. Остроконечные черепичные крыши, горящие здания, плакаты: «Мы не капитулируем», «Свобода или Сибирь» — и горы чемоданов, брошенных в паническом бегстве прямо на улицах.
Немцы развесили во всех окнах и подъездах белые флаги, нашили на рукава такого же цвета повязки и начали понемногу выползать изо всех щелей на улицы, отвешивая поклоны нашим офицерам и бойцам.
В этом городке мы заночевали.
Вечером Фунтиков вышел на главную улицу, пройтись. Стрельбы уже не было, на перекрестках дымились походные кухни, догорали зажжённые снарядами дома. На углу уже открылась дежурная аптека, на дверях которой висел большой, написанный по-русски плакат: «Только для господ русских военных». Оборотистый хозяин аптеки решил, по-видимому, таким способом подчеркнуть свои симпатии к Советской Армии.
Фунтиков подошёл к витрине и прочёл эту выразительную надпись. За зеркальным стеклом пылали разноцветные стеклянные шары и блестели полированные шкафы с лекарствами. За стойкой в выжидательной позе стоял хозяин в белоснежном халате. Это был мужчина лет сорока, сухощавый, в очках. На лице его было написано спокойное раздумье, готовое в любую минуту смениться вежливой улыбкой.
Что-то знакомое почудилось Фунтикову в этом лице. И он, чтобы проверить своё первое ощущение, точнее — предчувствие, вошёл в аптеку. Хозяин почтительно склонился ему навстречу.
«Чем могу служить господину русский офицер?» — спросил он, с трудом подбирая слова.
«Средство против гриппа есть?» — произнёс Фунтиков, подойдя вплотную к стойке.
«О да, — с готовностью сказал хозяин. — В моя аптека есть много хороший лекарства. От насморка, от грипп, от разный болезнь…»
«Вы давно говорите по-русски? — спросил Фунтиков. — Вы жили в России?»
«О нет, я никогда не бываль в России. Но я немного знаю русский слов. В России не бываль… Против грипп очент хорошо стрептоцид, кальцекс, уротропин. Прошу, господин офицер».
И он быстро пошёл к шкафу за лекарствами. Фунтиков посмотрел ему вслед, и его словно обожгло давнее, но живое воспоминание. Эта походка с виляющим задом, этот тусклый, какой-то стеклянный взгляд, этот тяжёлый подбородок… Ну конечно, это он, старый знакомый, тот самый немец с моноклем, у которого он тогда выкрал бумажник…
Достав пакетики с порошками, аптекарь вернулся к стойке.
«Вот, прошу вас, — сказал он, — тут есть лекарства против грипп. Это очень хороший лекарство, очень хороший фирмы Шеринг».
«Шеринг? — спросил Фунтиков, сразу вспомнив и эту фамилию. — Отто Шеринг?»
Немец спокойно, разве только чуть быстрее чем следовало, взглянул на Фунтикова.
«О нет, — медленно произнёс он, — почему Отто Шеринг? То есть просто Шеринг, а совсем не есть Отто. Шеринг самый крупный германский фирма лекарств».
«Понимаю. Но я имею в виду другого Шеринга, а именно, Отто Шеринга. Ведь вы его знаете?»
«Шеринг есть много немецкий фамилия. Это всё равно, что в России Иванов. Но я не имель знакомый Отто Шеринг. А что, господин офицер знает такого Отто Шеринг?»
«Господин офицер, — очень твёрдо произнёс Фунтиков, не спуская с немца глаз, — господин офицер знает не только Отто Шеринга, но и вас, господин аптекарь. Вы мой старый знакомый, ещё по Москве».
«Но я никогда не бываль в Москва, — уже не так спокойно, как раньше, сказал аптекарь. — И я совсем не имель честь знать господин офицер. Я есть хозяин этой аптеки, и я вовсе не зналь никакой Отто Шеринг… Я есть старый германский коммунист и даже сохраниль свой партийный книжка».
«Одевайтесь, господин «коммунист», — ответил Фунтиков, — и следуйте за мной».
И в тот же вечер, сидя перед столом следователя, старый немецкий шпион на отличном русском языке и уже без всякого акцента подробно рассказал о том, как в 1944 году он получил приказание поселиться в этом городе под видом аптекаря, остаться в нём в случае прихода Советской Армии и спокойно готовить кадры шпионов и диверсантов. Он рассказал и о том, как его снабдили на этот случай фиктивным партийным билетом, а месяца за три до прихода Советской Армии даже на некоторое время арестовали якобы по подозрению в «пораженческих настроениях».
«Было очень важно, — сказал он, — на всякий случай создать мне определённую репутацию. С этой целью была инсценирована слёжка за мной, обо мне «секретно» допрашивали моих соседей и квартирную хозяйку и меня даже внесли в списки «подозрительных лиц», заведённые в местной полиции, которые «случайно» остались не уничтоженными. Как видите, всё было продумано до мельчайших деталей. И, кто знает, если бы меня случайно не узнал этот «старый знакомый», то я и не сидел бы перед этим столом, а продолжал бы мирно торговать касторкой и ландышевыми каплями».
***
Когда Бахметьев закончил свой рассказ, было уже поздно. Но улицы Москвы всё ещё жили движением, смехом, музыкой. На бульваре гремел оркестр, смеялись девушки. Ярко светились окна домов, распахнутые всей столицей настежь в эту спокойную, мирную, послевоенную ночь.
Часть третья
Мирное время…
Нормальная жизнь
Господин Крашке, случайно встреченный и опознанный лейтенантом Фунтиковым в маленьком городке в Восточной Пруссии, при первом же допросе в армейской контрразведке поспешил сознаться.
Да, он действительно не аптекарь, а старый сотрудник гитлеровской разведки. Да, господин лейтенант, который его опознал, увы, абсолютно прав: именно с ним, Гансом Крашке, стряслась эта скандальная история на Белорусском вокзале в Москве в мае 1941 года, когда у него выкрали бумажник с плёнкой, на которой были сфотографированы чертежи нового советского орудия «Л‑2».
Теперь, будучи задержан, он, Ганс Крашке, заверяет уважаемого господина следователя, что не намерен решительно ничего скрывать от советской контрразведки и будет показывать, как говорят криминалисты, всю правду, одну правду и только правду… В этом маленьком городке он обосновался несколько месяцев назад под видом аптекаря по заданию разведки. Он собирался сообщать отсюда о количестве военных частей, проходивших на запад, об их вооружении.
Следователь слушал Крашке очень внимательно, задал целый ряд уточняющих вопросов и написал потом длиннейший протокол, который Крашке, хорошо знавший русский язык, лично прочёл и подписал.
Было уже довольно поздно, когда допрос закончился и Крашке отвели в комендатуру, где он временно содержался.
Молодой, румяный, как девушка, солдат принёс арестованному котелок с кашей, хлеб и коротко сказал:
— Вот, фриц, поешь и спать заваливайся. Одним словом, шляфен… И тебе лучше, и мне верней. Ферштеен зи?
— Господин солдат, вы можете говорить со мной по-русски, — ответил Крашке. — Я свободно владею русским языком…
— Да ну? — удивился солдат. — Где же это ты по-нашему говорить выучился?.. И для какой надобности?..
— О, я много лет прожил в России, — сказал Крашке. — Я даже имел, господин солдат, русскую жену… Это было давно, очень давно, когда я был таким же молодым и румяным, как вы, господин солдат… А теперь я больной и несчастный старик, доживающий свои последние дни… О да…
— Что ж ты, в шпионах состоял, значит? — хмуро спросил солдат. — Недаром тебя, старого чёрта, замели…
— О нет, господин солдат, — решил на всякий случай соврать Крашке, заметив, как помрачнел солдат. — Я просто тогда работал в России. И очень люблю вашу страну. О да!.. Я друг России, даю вам честное слово!..
— Избави нас бог от таких друзей, а с врагами, сам видишь, мы своими силами справляемся, — произнёс, ухмыльнувшись, солдат. — Так вот, фриц, поешь нашей каши, а потом спать ложись… И не вздумай чего отмочить, а то «Гитлер — капут!» будет, ферштеен зи? — И солдат выразительно показал на свой автомат.
— Не беспокойтесь, я ничего не отмочу, — быстро ответил Крашке. — Я человек надёжный, будьте уверены, господин солдат.
Отведав каши, Крашке прилёг на соломенный тюфяк, принесённый тем же солдатом, и погрузился в тяжёлые размышления. Разумно ли он поступил, что сразу признался? А с другой стороны, что ему оставалось делать после того, как его опознал и буквально за шиворот притащил в контрразведку этот проклятый лейтенант? Теперь, по крайней мере, в протоколе чёрным по белому записано, что он, Крашке, на первом же допросе стал говорить правду, а это, что бы там ни было, смягчающее вину обстоятельство…
Чёрт бы побрал такую дурацкую судьбу, при которой надо заботиться о «смягчающих обстоятельствах», будь они прокляты! Дьявольское невезение! Кто мог подумать, что эта ужасная история с бумажником, выкраденным почти четыре года назад в Москве, вдруг всплывёт через столько времени в Восточной Германии, в заштатном городишке, куда его направил этот тощий индюк Пиккенброк!..
Вообще эти четыре года перевернули мир: русские танки мчатся на полном ходу на Берлин, в небе полное превосходство советской авиации, а об их артиллерии нечего и говорить!
Что случилось с Россией, чёрт побери? Откуда у неё всё это взялось? Кто бы поверил летом 1941 года, что победит Москва, а не Берлин? О чём думал этот проклятый австрийский маляр с чёлкой и вытаращенными глазами, этот «великий фюрер», которого все слушали, разинув рот? Правда, если говорить по совести, — а как можно говорить иначе с самим собой? — если говорить по совести, то он, Ганс Крашке, в глубине души всегда считал, что этот сумасшедший фюрер не такой уж мудрец, хотя язык у него и здорово подвешен и второго такого крикуна Крашке никогда не встречал.
Правда, — нечего хитрить с самим собой, идиот! — эти мысли он всегда отгонял, и они его даже пугали. А что было делать, когда каждый второй сослуживец, знакомый, прохожий, родственник мог написать на тебя донос, когда приходилось опасаться собственной жены и детей… Что было делать в такое сумасшедшее время?!
Так, вздыхая и тяжело ворочаясь на жёстком тюфяке, размышлял господин Крашке, не будучи в состоянии заснуть и продолжая этот долгий ночной разговор с самым дорогим ему человеком — с самим собой. Да, будущее было туманно и в высшей степени мрачно. Если даже русские его не расстреляют, то уж Сибири не миновать. И пройдут его последние годы в неволе, за колючей проволокой, на студёном сибирском морозе… Бр-р-р‑р!
Бог мой, как глупо он сделал, не сбежав в последний момент из этого городишки куда-нибудь на запад, где можно было предложить свои услуги американцам или англичанам!.. Как-никак, он кадровый разведчик… специалист по России, а это, чёрт возьми, ещё может кое-кому пригодиться… Сумел же в своё время адмирал Канарис — сам начальник гитлеровской военной разведки и контрразведки — найти общий язык с мистером Алленом Даллесом, начальником американской разведки, став его тайным агентом.
Правда, адмиралу не повезло: в 1944 году он был расстрелян по приказу Гитлера. Однако, если бы не это существенное обстоятельство, господин адмирал теперь катался бы как сыр в масле…
До самого рассвета Крашке так и не удалось сомкнуть глаз, тем более что за окном его зарешечённой наспех камеры всю ночь лязгали и гремели гусеницы танков и самоходок, проходивших на запад.
Крашке уже не сомневался, что судьба «Третьего рейха» решена и Берлин падёт в самом недалёком будущем. Впрочем, это не так уж занимало Крашке. Теперь он был озабочен лишь своей собственной судьбой. Дело в том, что, признав своё сотрудничество в разведке, Крашке скрыл свою деятельность в «комбинате смерти» под Смоленском. Вот как бы следователь не докопался до этой страницы его жизни — чересчур много там крови, пыток и некоторых других «развлечений», до которых Крашке был такой охотник… Если и это станет известным, то нечего рассчитывать на снисхождение…
Рано утром весёлое апрельское солнце пробилось через решётку, а Крашке, бледный от бессонной ночи и бесплодных размышлений, всё ещё продолжал ворочаться и тяжело вздыхать. Потом загремел дверной замок, и тот же румяный солдат опять принёс котелок с кашей, хлеб и кипяток. Крашке попросился на двор.
Солдат вывел его в узкий темноватый коридор и указал, где он может сделать свой утренний туалет.
Через час Крашке снова повели на допрос. Всё тот же следователь, сухощавый спокойный майор в очках, угостил арестованного папиросой и стал его допрашивать об обстоятельствах, при которых его «внедрили» в том городке, где он был задержан. Крашке охотно отвечал на вопросы, верный принятому решению в этой части говорить правду. Видимо, следователь это почувствовал, потому что он слушал внимательно и спокойно, не пытался сбить Крашке контрольными вопросами и записывал всё, что показывал обвиняемый.
Закончив протокол, следователь, как и накануне, дал его прочесть и подписать, а потом сказал:
— Сегодня вас перевезут в другое место, Крашке. Но мы ещё встретимся.
— Куда же меня повезут, господин следователь? — взволнованно спросил Крашке.
— Пока вы будете двигаться на запад, — улыбнулся следователь. — Поближе к Берлину… Понимаете, мы спешим в Берлин.
Через пару часов Крашке вывели во двор, усадили в закрытый автофургон, и машина понеслась. Судя по тому, что Крашке успевал заметить через маленькое окошко машины, его в самом деле везли на запад по автостраде, ведущей в Берлин.
Кто из видевших эту автостраду в апреле 1945 года сможет её забыть?! Кому не запомнились на всю жизнь эти широкие людские потоки, катившиеся навстречу друг другу? Справа грохотала бесконечная лавина танков, самоходок, пушек, моторизованной пехоты, полевых кухонь, передвижных электростанций, сверкающих под апрельским солнцем прожекторов, установленных на тяжёлых грузовиках, заботливо укрытых брезентами «катюш», легковых автомобилей и мотоциклов.
А навстречу великой армии, выдержавшей неслыханные испытания, закалённой в битвах, каких не знала история, армии, которую ещё четыре года назад объявили уничтоженной её враги и которая теперь неудержимо шла вперёд, — навстречу этой армии струился другой человеческий поток. Автострада была затоплена толпами освобождённых рабочих и военнопленных, идущими на восток. Тысячи, десятки, сотни тысяч людей шли пешком, ехали на пароконных фургонах, велосипедах, в кабриолетах, старинных дворянских экипажах, в которые были запряжены огромные немецкие битюги, цирковые ослы и пони, ушастые мулы и даже один верблюд, видимо, уведённый из зоологического сада. Многие катили перед собой детские коляски, в которых был уложен их убогий скарб.
У большинства освобождённых ещё пестрели нашитые на груди и на спине лагерные знаки — разноцветные треугольники у французов и американцев, прямоугольники с надписью «ОСТ» у русских, вышитые трезубцы у украинцев. Все эти люди шли с наспех сделанными национальными флажками, переливавшимися всеми цветами радуги под щедрым апрельским солнцем последнего года мировой войны.
Десятки и сотни тысяч людей, согнанных фашизмом из всех стран Европы на всесветную каторгу, насильно оторванных от родных мест, людей, измученных годами непосильного труда, голодом, плетьми надсмотрщиков, уже отчаявшихся дожить до освобождения, теперь возвращались домой. Сияющими от счастья глазами они смотрели, не отрываясь, благодарно и восхищённо, на грохочущие стальные колонны, принёсшие им освобождение, радость, жизнь…
Иногда, на редких остановках, — редких потому, что правый поток неустанно спешил туда, в Берлин, на последнюю и решающую битву мировой войны, — обе человеческие реки смешивались, незнакомые люди — мужчины и женщины, старики и дети — целовали загорелых советских солдат, лепеча на всех языках мира слова благодарности и любви, дружбы и восхищения.
Случались и более удивительные сцены: солдат-отец вдруг встречал свою дочь, угнанную из какого-нибудь русского, украинского или белорусского села; жених вдруг узнавал невесту, о которой со времени оккупации не было ни слуху ни духу; старший брат с трудом узнавал младшую сестрёнку в исхудалой, вытянувшейся девушке, с криком бросившейся к нему на грудь: «Ваня, Ванечка, да ведь это я — Нюра!..»
Удивительная, торжественная и взволнованная тишина воцарялась при каждой такой встрече. Все вокруг: генералы и солдаты, вчерашние узники фашистских концлагерей и военнопленные — все без исключения обнажали головы и в сочувственном молчании стояли вокруг счастливцев, которым судьба подарила эту необыкновенную встречу.
Но вот наступал конец короткой остановке, звучали слова команды, и солдаты поспешно рассаживались по своим танкам, самоходкам и грузовикам. Снова взвывали моторы, и ещё долго махала платочком вслед родному лицу вся трепещущая, заплаканная и счастливая девушка.
Потом какая-нибудь из товарок по неволе брала её за руку, и они вместе, обнявшись, продолжали свой путь на восток, домой, домой, домой!..
***
К вечеру Крашке привезли в довольно большой город. Арестованный был снова помещён в здании военной комендатуры.
Через час его вывели во двор на прогулку. Крашке внимательно осмотрел узкий дворик, отделённый от улицы невысоким каменным забором. Крашке сразу узнал этот город, в котором ему не раз приходилось бывать ещё до войны. Он даже определил тот район города, в котором находился. В двух кварталах отсюда была улица, на которой жил его кузен, владелец трёх пекарен, Иоахим Рейнгольц.
Вернувшись в камеру, Крашке твёрдо решил совершить побег. Он стал лихорадочно обдумывать план. Конечно, бежать следовало именно в этом городе, где он имел возможность переодеться и получить необходимые вещи на дорогу у кузена.
Крашке рассчитывал пробраться в Берлин, в здание новой имперской канцелярии, где, как ему было известно, тогда находился Гитлер. Помощник начальника личной охраны Гитлера эсэсовец Вирт был старым приятелем Крашке. Они вместе работали в немецкой разведке ещё во время первой мировой войны. Когда Пиккенброк направил Крашке в тот немецкий городок, где он был задержан Фунтиковым, перед отъездом из Берлина Крашке зашёл к старому приятелю.
Они встретились тогда в бомбоубежище, расположенном в глубоком подземелье под рейхсканцелярией. Вирт провёл Крашке в свою комнату, притворил тяжёлую стальную дверь, вытащил бутылку коньяка и угостил приятеля. Начался разговор. Узнав, что Крашке направляется в Восточную Пруссию, Вирт покачал головой.
— Не могу тебя поздравить, Ганс, — сказал он. — Дела на фронте плохи. Вчера я сам видел телеграмму, полученную фюрером. Утром 14 января русские начали наступление с двух плацдармов на Висле, южнее Варшавы. Это одно из крупнейших наступлений за все годы войны. Начав его, русские преодолели три линии укреплений. Я сам видел эти укрепления, когда сопровождал фюрера, ездившего их осматривать. Никому бы не пришло в голову, что эти три линии можно прорвать. Но русские их прорвали. Когда фюрер получил об этом телеграмму, он пришёл в бешенство, стал кричать, что только измена может объяснить случившееся. Но измены не было, Ганс, можешь мне поверить… С тех пор фюрер так и не может прийти в себя. А телеграммы приходят одна хуже другой…
Вирт оглянулся, хотя в комнате никого не было, и, перейдя на шёпот, добавил:
— Надо быть готовым к самому худшему… Вот почему я недоволен твоим откомандированием. Если бы ты был здесь, я, разумеется, помог бы тебе эвакуироваться…
— Эвакуироваться? — спросил Крашке. — Неужели дело может зайти так далеко?
— Не будь наивным, Ганс. Во всяком случае, когда ты убедишься, что дела окончательно плохи, советую тебе плюнуть на всё и добраться сюда… Испанский паспорт и деньги я для тебя приберегу… Как-никак, Ганс, мы старые друзья и не раз выручали друг друга… В такое тяжёлое время надо быть вместе…
Теперь, вспоминая этот откровенный разговор с Виртом, Крашке решил, что пока не поздно, надо воспользоваться его обещанием. Как старый разведчик, Крашке понимал, что Вирт не зря сказал об испанском паспорте. Видимо, в случае полного краха именно туда будут пробираться наиболее видные эсэсовцы.
Итак, нужно сначала попробовать этот испанский вариант. Если же он почему-то отпадает, если Берлин рухнет раньше, чем Крашке успеет до него добраться, останется второй вариант: бежать к американцам и предложить им свои услуги…
Но побег — как устроить самый побег? Бежать из комендатуры было невозможно. Она хорошо охранялась. Румяный конвоир, сопровождавший Крашке, был исполнительным солдатом и пока не проявлял признаков усталости.
Значит, надо было прежде всего выбраться из здания комендатуры. Лучше всего прикинуться больным.
И наутро, когда конвоир принёс Крашке завтрак, он обнаружил арестованного в самом плачевном состоянии: Крашке лежал на тюфяке, держась за живот, и непрерывно стонал.
— Что стряслось? — спросил солдат.
— Ах, господин солдат, этот проклятый аппендицит… Приступ!.. Ой!..
И Крашке снова застонал.
— Ладно, позвоню, чтобы доктора прислали, — сказал солдат и вышел из камеры.
Минут через двадцать явилась молодая женщина в военной форме, с погонами лейтенанта медицинской службы.
Крашке, хорошо знавший симптомы аппендицита, довольно точно их изложил, отвечая на вопросы врача. Потом, когда она стала его исследовать, сильно нажимая рукой с правой стороны живота и резко отпуская её, Крашке понял, что она проверяет так называемый симптом Бломберга. Поэтому именно в тот момент, когда женщина резко отпускала руку, Крашке вскрикивал, как от нестерпимой боли.
После этого ему поставили термометр. Незаметными щелчками Крашке поднял ртуть градусника до 37,8°.
Женщина-врач вышла из камеры и позвонила следователю, за которым числился Крашке.
— Очень похоже на аппендицит, — сказала она. — Мы возьмём у него на исследование кровь, и тогда всё окончательно выяснится. Скорее всего, придётся оперировать…
— Хорошо, я дам распоряжение о переводе его в госпиталь, — ответил следователь. — Мы переведём его туда с конвоиром, а вы подготовьте для него отдельную палату…
И через два часа Крашке перевезли в госпиталь, где он был помещён в отдельную палату на втором этаже. Всё тот же румяный солдат поселился вместе со своим подопечным.
Крашке и в госпитале продолжал тихо стонать, жалуясь на боли в области живота. Несколько раз он вставал с койки, уверяя солдата, что, вставая, он чувствует себя лучше. Заглянув в окно, Крашке убедился, что оно выходит во двор, где разбита пышная цветочная клумба. На эту клумбу можно было спрыгнуть без особого риска.
Между тем в палату пришла медицинская сестра и взяла у Крашке кровь для исследования. Надо было спешить. Крашке выяснил у сестры, что анализ будет готов через пару часов — его делали срочно. Да, надо было торопиться!..
Прежде всего возникал вопрос — как избавиться от этого румяного солдата? И тут Крашке с благодарностью вспомнил о дантисте гестапо господине Вреде. За месяц до того как Крашке был направлен Пиккенброком в тот паршивый городишко, где он был задержан советским лейтенантом, среди офицеров гестапо распространился слух, что каждому из них придётся побывать в каком-то загадочном зубоврачебном кабинете, у никому не известного дантиста Вреде. И в самом деле, ежедневно офицеры гестапо вызывались один за другим и направлялись к дантисту, хотя у большинства из них в этом не было никакой нужды.
Возвращаясь от дантиста, офицеры гестапо отмалчивались в ответ на вопросы тех, до кого ещё не дошла очередь посетить загадочный кабинет.
Наконец, когда было решено, что Крашке придётся выехать в маленький городишко под видом аптекаря, его вне очереди вызвали к дантисту. Придя в зубоврачебный кабинет, Крашке увидел пожилого, тучного, рыжеватого человека в золотых очках, по виду самого обыкновенного дантиста. Рыжий улыбнулся своему новому посетителю, усадил его в кресло и пробормотал, что он, доктор Вреде, постарается угодить своему клиенту протезом. Крашке вскочил с кресла и испуганно пролепетал, что он, благодаря Всевышнему, пока не нуждается ни в каких протезах и вообще не жалуется на свои зубы.
— Это не имеет никакого значения, господин Крашке, — тихо произнёс дантист. — Вы включены в список, утверждённый рейхсфюрером СС, и я обязан сделать вам протез… Более того, мне приказано сделать вам два протеза…
— Два протеза?! — вскричал Крашке, приходя в ярость. — Ни о каких протезах не может быть и речи!.. Я с детства не переношу дантистов и хочу заявить вам об этом, доктор Вреде, со всей прямотой…
— Благодарю за откровенность, но это не меняет дела, — спокойно ответил Вреде. — Сейчас вы в этом убедитесь…
Он поднял трубку телефона, набрал номер и доложил невидимому собеседнику:
— Господин оберштурмбаннфюрер, у меня в кабинете находится господин Крашке. Да, он тоже отказывается и даже говорит, что с детства не переносит дантистов… Весьма признателен, господин оберштурмбаннфюрер…
И дантист спокойно положил трубку и начал просматривать газету, сказав Крашке, что придётся подождать несколько минут.
Вскоре в кабинет вошёл оберштурмбаннфюрер Крейц, начальник одного из самых засекреченных отделов гестапо, которого Крашке знал только в лицо. Поздоровавшись с дантистом, Крейц подошёл к вытянувшемуся Крашке, внимательно на него посмотрел и тихо сказал:
— Вы в самом деле не переносите дантистов, Крашке?
— Я не понимаю, что от меня требуется, господин оберштурмбаннфюрер, — осторожно ответил Крашке.
— Прежде всего, чтобы вы не были идиотом, — ответил Крейц. — Если вас включили в этот список, вы должны прыгать от радости, а не вести себя, как гимназист… Короче — два протеза!.. Доктор Вреде, покажите ему ампулы и разъясните суть дела…
Дантист тут же достал из шкафа и протянул Крашке две крохотные ампулы, в которых переливалась какая-то желтоватая жидкость.
— Вот они, — сказал он. — Содержимое каждой ампулы обеспечивает мгновенную и безболезненную смерть. Я изготовлю и поставлю вам два искусственных полых зуба с нарезными коронками. В них вы будете хранить эти ампулы, пока они вам не потребуются… В случае нужды вы сами без всякого труда сможете отвинтить коронку и достать ампулу…
Теперь Крашке понял, зачем ему нужны протезы. Нельзя сказать, что ему захотелось прыгать от радости, но выхода не было, и он безропотно сел в зубоврачебное кресло, отдав себя в распоряжение доктора Вреде.
Через три дня, когда работа была закончена, в кабинете дантиста снова появился оберштурмбаннфюрер Крейц и лично проверил, как освоил Крашке свои протезы. Три раза Крашке отвинчивал коронки протезов, осторожно поднимал их вместе с ампулами, верхушки которых были прикреплены к коронкам, а затем снова укладывал их на место и туго завинчивал.
— Отлично, господин Крашке, — произнёс довольный испытанием Крейц. — Учтите, что ампулы изготовлены из мягкой пластмассы и вы, в случае необходимости, можете вскрыть их ногтём, если будете лишены ножа или вилки. Наконец, если ампула вам понадобится, так сказать, для личного пользования — чего, видит бог, я ни в ком случае вам не желаю! — вы можете просто раздавить ампулу зубами, чтобы незамедлительно отправиться на тот свет… Понятно?
— Вполне, господин оберштурмбаннфюрер, — быстро ответил Крашке, мысленно посылая ко всем дьяволам этого рыжего Крейца с его сатанинскими советами. — Я приношу свою признательность за ценные указания…
Всё это теперь вспомнилось Крашке, и он подумал, что напрасно в своё время сердился на оберштурмбаннфюрера Крейца. Да, теперь, чёрт возьми, эти ампулы могут его спасти!..
После обеда, когда румяный солдат, сидевший напротив койки Крашке, закурил, старательно выдыхая дым в открытое окно, Крашке незаметно отвинтил коронку одного из протезов и достал вместе с нею ампулу. Зажав её между большим и указательным пальцами, Крашке попросил разрешения напиться. Он подошёл к столику, налил в один из стаканов воду, а затем, заслонив собою второй стакан, вскрыл ногтем ампулу и слил в этот стакан её содержимое, после чего вернулся на свою койку и незаметно подбросил под неё пустую ампулу.
Всё пока шло самым отличным образом, и теперь оставалось дождаться того момента, когда конвоиру захочется выпить воды. Крашке сделал вид, что дремлет, но внимательно следил за солдатом. Покурив, тот начал что-то про себя напевать, бросая, однако, время от времени внимательные взгляды на арестованного. Судя по всему, солдату пока не хотелось пить. Прошёл час, за ним другой, Крашке за это время дважды пил воду, но солдат не последовал его примеру. Уже наступал вечер, и Крашке опасался, что анализ крови будет готов и тогда выяснится, что никакого аппендицита у него нет.
Уже вечером снова пришла медсестра. Она сказала, что надо повторить анализ, чтобы проверить, не повысился ли лейкоцитоз. Крашке с великой радостью протянул палец для укола. Он понял, что повторный анализ потребует ещё два-три часа. Взяв кровь, сестра ушла, а через час санитарка принесла ужин и чайник. Крашке поужинал, потом налил в свой стакан чай. Солдат на этот раз последовал его примеру. Крашке с бьющимся от волнения сердцем посмотрел на открытое окно, за которым уже синели апрельские сумерки. Сейчас выяснится его судьба — спасение или смерть.
Между тем солдат достал сахар и принялся за чай. Он сделал всего два глотка и, сразу захрипев, с помутившимися глазами и посиневшим лицом откинулся к стене. Крашке вскочил с койки и в полосатой госпитальной пижаме подбежал к солдату.
— Что с вами, господин солдат? — взволнованно спросил Крашке, но тот тщётно пытался что-то произнести побелевшими губами. Крашке подбежал к окну, взобрался на подоконник и посмотрел вниз. Во дворе никого не было; в сумерках смутно темнели контуры цветочной клумбы. Крашке выбрался, держась за рамы окна, на внешний край подоконника и прыгнул вниз, на клумбу, пышную, как перина. Прыжок удался, и, сразу вскочив на ноги, Крашке выбежал со двора на улицу, пустынную в этот час. Сердце его стучало, как метроном, от волнения чуть кружилась голова. Надо было торопиться. Прячась в тени стен и заборов, Крашке со всей доступной ему быстротой побежал из этого квартала в тот район города, где жил кузен Иоахим Рейнгольц.
Найдя по пути развалины какого-то разрушенного дома, Крашке решил переждать здесь до наступления поздней ночи, чтобы не попасться на глаза военному патрулю или какой-нибудь случайно проходящей части.
***
Нельзя сказать, чтобы господин Рейнгольц очень обрадовался ночному появлению своего двоюродного брата.
Во-первых, Иоахим Рейнгольц, уже пожилой коммерсант с солидным брюшком и полированной, как слоновая кость, лысиной, всегда подозревал, что его кузен занимается какими-то тёмными делами, связанными с частыми и внезапными исчезновениями. Где он работает, Рейнгольц толком не знал, но догадывался, что у Крашке такая профессия, о которой не принято говорить и которая во всяком случае не имеет ничего общего с коммерцией.
Во-вторых, Иоахим Рейнгольц вообще терпеть не мог политики, полагая, что она до добра не доводит и солидный немец никогда не станет ею заниматься. Куда приятнее торговать хлебными изделиями и таким образом кормить людей, вместо того чтобы мучить их голодом в концлагерях и тюрьмах. По некоторым данным, Рейнгольц заключил, что его двоюродный брат занимался именно последним.
В-третьих, Рейнгольцу было известно, что Крашке не только член нацистской партии, но ещё и эсэсовец, а от такого «милого» родственника было благоразумнее всего держаться подальше.
Теперь, когда русские танки гремят на Берлинской автостраде, и ребёнку понятно, до чего довела бедную Германию эта тёмная компания во главе с их взбесившимся фюрером. Вот уже месяц, как пекарни господина Рейнгольца стоят без дела — нет муки, и когда она появится, одному богу известно.
Три дня тому назад город заняли русские, их войска день и ночь идут всё дальше, и не сегодня-завтра будет взят Берлин. В ратуше восседает советский военный комендант, молодой майор.
Ах, как прав был пастор Мюльке, который ещё четыре года назад, едва началась русская кампания, сказал доверительно Рейнгольцу за преферансом, что фюрер напрасно затеял эту войну. Мюльке напомнил завещание Бисмарка, мудро советовавшего никогда не лезть в берлогу к русскому медведю, которого опасно дразнить…
Теперь ясно, насколько Бисмарк был умнее фюрера: русские разъезжают на танках по немецким автострадам и городам, и грохот их артиллерии сводит с ума Иоахима Рейнгольца.
Но мало этого. Русские офицеры ведут себя более чем загадочно. Взять хотя бы того же военного коменданта. Не успели советские войска вступить в город, как герр комендант буквально на следующий день пригласил к себе всех владельцев городских магазинов, ресторанов, пекарен, пивных и аптек.
Получив этот вызов, Иоахим Рейнгольц простился с рыдающей женой и детьми, сразу догадавшись, что прямо от коменданта он будет отправлен в Сибирь. Боже мой, как плакала несчастная фрау Амалия, как дрожали дети и как, между нами говоря, дрожал он сам!..
Но что делать — приказ есть приказ, и его надо выполнять. Во всяком случае так приучен поступать каждый добропорядочный немец.
Уложив в рюкзак тёплое шерстяное бельё, Иоахим Рейнгольц напялил на себя старую меховую шубу, два свитера, шерстяные носки, тёплый вязаный шарф и в таком виде, обливаясь потом от жары и ужаса, поплёлся к коменданту по улице, на которой цвели деревья.
По пути он встретил многих знакомых, тоже направлявшихся к коменданту. Все они, как и Рейнгольц, были одеты так, будто собирались немедленно вылететь на Северный полюс.
Но, как всегда, лучше всех устроился этот ловкач Штумпе, владелец ресторана «Вагнер». На нём была роскошная медвежья шуба (удивительно, где он её раздобыл!), меховая шапка, поверх которой был надет башлык из верблюжьей шерсти, а на ногах красовались высокие сапоги из оленьего меха, какие Рейнгольц видал только в скандинавских фильмах. Несмотря на то что с оплывшего лица тучного Штумпе низвергался целый водопад пота, он был явно горд своим меховым превосходством и свысока глядел на окружающих. На вопрос Рейнгольца, как ему удалось так роскошно экипироваться, Штумпе хвастливо ответил:
— Немец должен иметь на плечах голову, а не дубовое полено, дорогой Иоахим (любопытно, на кого намекал этот нахал!). Я всегда предусмотрителен. Ещё 22 июня 1941 года, когда меня разбудило радио и я услышал истошные крики нашего дорогого фюрера, я сказал Марте — можете её спросить: «Марта, начни приобретать меховые вещи. Вся эта история кончится Сибирью. А там птицы замерзают на лету и со стуком падают на землю…»
Они вместе поплелись в ратушу. Все коммерсанты города уже были там и все были одеты так, как будто пришли на зимний карнавал с ценным призом за самую тёплую одежду.
Потом вышел советский военный комендант, молодой, курносый, плечистый, и, поглядев на собравшихся, как-то загадочно улыбнулся.
— Здравствуйте, господа! — сказал он. — Чем объяснить, что вы так странно одеты? На улице 18 градусов тепла, цветут яблони и вишни, к чему эти меха?.. В чём дело?.. Это же не Лейпцигская меховая ярмарка…
Рейнгольцу такой разговор показался странным, он подумал, что комендант попросту издевается над мирными коммерсантами. Как будто этот майор не понимает, в чём дело, чёрт бы его побрал!..
Однако все молчали, потому что каждый боялся заговорить. После продолжительной паузы комендант сказал:
— Так что же, будем играть в молчанку?.. Или кто-нибудь ответит на мой законный вопрос?
Тут вышел вперёд Штумпе, откинул на плечи свой верблюжий башлык, низко поклонился и сказал:
— Герр майор, вы видите перед собой мирных штатских и глубоко несчастных немцев. Мы имеем честь и одновременно удовольствие приветствовать в вашем лице советские военные власти. Гитлер капут, герр майор, и потому мы готовы ехать в Сибирь, ибо приказ есть приказ, а немцы умеют слушаться, достопочтенный господин военный комендант.
— В Сибирь? — спросил майор и вдруг начал так смеяться, что всем стало не по себе. — Вы уверены, что в Сибири не смогут обойтись без вас, господа? Или, может быть, вы не можете обойтись без Сибири?
— Нет, герр майор, — поспешно ответил Штумпе. — Мы как раз обошлись бы без Сибири, можете мне поверить… Но поскольку есть приказ… Немцы любят дисциплину, герр майор…
— Нет такого приказа, — резко заявил комендант. — Я вижу, вы всё ещё верите в брехню вашего доктора Геббельса… И его плакаты «Свобода или Сибирь» приняты вами всерьёз… Так вот, никто из вас не поедет в Сибирь. Вы все останетесь здесь. И каждый возьмётся за своё дело. Для этого я вас и пригласил… Короче — через сутки должны начать работать городские пекарни, столовые, аптеки, больницы, продовольственные магазины. Продукты будут отпускаться населению по нормам, утверждённым советским военным командованием.
Тогда Рейнгольц, набравшись смелости, тоже вышел вперёд и спросил:
— А где я возьму муку для своих пекарен, герр майор?
— Мука будет отпущена вам по ордеру на военном складе, — ответил майор, и было похоже, что он не шутит. — Хлеб будет отпускаться по карточкам… У нас с вами общая задача: восстановить нормальную жизнь… Ясно?
Совещание у коменданта затянулось на два часа. Его засыпали кучей вопросов, на которые он отвечал коротко, но ясно. Этот молодой майор, как видно, не любил много говорить, но зато твёрдо знал, чего он хочет. А хотел он, как выяснилось, одного — восстановить нормальную жизнь… Да, да, он несколько раз повторил эти слова!..
Хором поблагодарив майора, успокоившиеся и счастливые коммерсанты, аптекари, рестораторы, булочники и мясники выскочили, толкая друг друга, из ратуши и помчались в распахнутых шубах, красные от волнения, по домам, не переставая о чём-то галдеть на бегу.
Когда, вернувшись к себе, Иоахим Рейнгольц рассказал обо всём фрау Амалии, та долго ахала и удивлялась. Она даже высказала предположение, что всё это — лишь злая шутка. Иоахим Рейнгольц задумался, но в этот самый момент явился какой-то советский сержант, потребовавший, чтобы Рейнгольц отправился с ним за мукой.
И до поздней ночи Рейнгольц, весь в поту — теперь уже не от страха, а от радости, — носился по своим пекарням, наблюдал, как разжигают и замешивают тесто, и весело покрикивал на пекарей:
— Шнеллер, шнеллер!.. Есть приказ — восстановить нормальную жизнь…
И вот в ту же ночь, почти на рассвете, неожиданно явился Крашке в полосатой больничной пижаме…
Разбуженный приходом нежданного гостя, Иоахим Рейнгольц побледнел и схватился за сердце. Самый факт внезапного ночного появления своего кузена Рейнгольц оценил как нечто входящее в противоречие с этими короткими, простыми и ставшими для него дорогими словами советского военного коменданта: «В городе должна быть восстановлена нормальная жизнь…»
Последний акт
Иоахим Рейнгольц при виде своего кузена прежде всего ощутил здоровое стремление как можно скорее избавиться от дорогого родственника.
Когда же Крашке сказал, что он намерен немедленно выбраться из этого города и нуждается для этого в одежде, Рейнгольц очень искренне воскликнул, что охотно поможет милому кузену.
Достав из платяного шкафа старый костюм, плащ и шляпу, Рейнгольц великодушно протянул их Крашке. Тот поспешно переоделся, так и не ответив на вопрос кузена, почему он явился в одной пижаме.
Потом кузен попросил «на дорогу» хлеба и колбасы. Рейнгольц дал ему и это, после чего Крашке, пожав его руку и пробормотав «спасибо, желаю благополучия», ушёл прямо в ночь.
Когда калитка захлопнулась за неожиданным гостем, провожавший его Рейнгольц вздохнул с облегчением. Стояла тёплая апрельская ночь, чуть влажная от низко нависших туч, сплошь затянувших тёмное, тревожное небо. В городе было тихо, но издалека доносился гул артиллерийских разрывов, и тучи в той стороне часто окрашивались багровыми вспышками. Прямо над головой Рейнгольца рокотали моторы ночных самолётов, и в небе плыли красные и зелёные огни. Самолёты шли туда, откуда доносился грохот артиллерии, — туда, на Берлин…
Рейнгольц грустно вздохнул, покачал головой и поплёлся к себе в спальню, где его поджидала встревоженная фрау Амалия.
— Ушёл, благодарение господу, — коротко ответил он на немой вопрос, светившийся в глазах жены. — Неизвестно, откуда появился, неизвестно, куда пошёл, неизвестно кто он такой вообще!.. Всю жизнь он был для меня загадкой… Впрочем, чёрт с ним! А там всё стреляют, Амалия… День и ночь, ночь и день!.. И русские самолёты всё летят… Откуда у них столько самолётов?.. Ты помнишь, как этот пузатый хвастун Геринг поклялся, что ни один иностранный самолёт никогда не появится в немецком небе?
— Тише, Иоахим, — прошептала Амалия, уже давно усвоившая, что даже в супружеской постели опасно говорить на политические темы. — В конце концов и рейхсмаршал мог ошибиться…
— Рейхсмаршал?! — закричал Рейнгольц. — Он такой же рейхсмаршал, как этот сумасшедший фюрер — глава государства!.. Откуда свалились на наши бедные головы эти проклятые идиоты, я тебя спрашиваю?
— Иоахим, я тебя умоляю!.. Что ты говоришь? — залепетала насмерть испуганная фрау Амалия. Но Рейнгольц, не слушая её, продолжал клясть на чём свет стоит Гитлера и его министров, рейхсмаршалов, просто маршалов, генералов и фюреров всех рангов и мастей. Фрау Амалия уже перестала его успокаивать, с удивлением обнаружив, каким неуёмным темпераментом, оказывается, обладает её супруг, обычно такой спокойный, даже чуть флегматичный и тихий человек.
А Иоахим Рейнгольц ещё долго кричал, плевался, проклинал и ругался, выплескивая всё, что накопилось в его душе за эти проклятые двенадцать лет, всё, что он так тщательно таил в себе, о чём боялся даже думать и что теперь вдруг прорвалось и хлынуло…
***
…Между тем Ганс Крашке пробирался в Берлин. Опасливо обходя стороной автострады и города, приняв личину бедного немца, спасающегося от ужасов войны и разыскивающего свою семью, он всё шёл и шёл на запад. Где-то по пути ему удалось раздобыть детскую коляску, и он, как многие тысячи людей в те апрельские дни, катил её перед собой, ночуя в разрушенных домах, в перелесках и оврагах, присоединяясь иногда к группам жителей, пробиравшихся невесть откуда и куда…
В те дни десятки тысяч людей бродили вот так же по боковым дорогам и тропинкам в разных направлениях, и никому не приходило в голову их проверять или задерживать — просто было не до них.
И всё-таки было нелегко пробраться в Берлин, который уже почти со всех сторон был замкнут в огненном кольце наступающих советских армий.
Крашке, отлично знавший окрестности Берлина, сделал несколько попыток пробраться в город с разных сторон. При этом он, конечно, избегал больших магистралей и автострад, надеясь, что боковыми, малоизвестными, старыми и давно запущенными дорогами будет легче пройти. Но несколько раз, выходя с этих боковых дорог на основные подъездные пути к Берлину, Крашке натыкался на советские части, подступавшие буквально со всех сторон. И в каждом таком случае Крашке бросался обратно, прятался в развалинах какой-нибудь деревни или одного из бесчисленных городков, разбросанных на подступах к Берлину. Потом он понял, что самое безопасное — это влиться в потоки беженцев, которые целыми группами бродили по дорогам, отдыхали в придорожных лесах, на берегах озёр и рек или временно поселялись в домах, брошенных хозяевами в это тревожное время.
Всё в этих домах: разбросанные в спешке вещи, чемоданы, которые не успели увезти, разворошенные перины, столовое серебро, оставленное в незапертых буфетах, похожих на готические соборы, даже личные документы хозяев домов, так и не захваченные в горячке панического бегства, — всё это красноречиво говорило об обстановке, сложившейся в районе Большого Берлина в последние дни второй мировой войны.
После третьей неудачной попытки пробраться в Берлин Крашке вдруг вспомнил, что он ведь отлично владеет русским языком. Просто удивительно, как это раньше не пришло ему в голову! В самом деле, ведь десятки тысяч русских людей, в своё время угнанных с родных мест в Германию, тысячи освобождённых из лагерей военнопленных в эти дни движутся по всем немецким дорогам в самых различных направлениях. Почему бы ему, Крашке, не превратиться в одного из таких русских со всеми отсюда вытекающими последствиями?
Чем больше обдумывал Крашке этот план, тем яснее вырисовывались его преимущества. И Крашке, приняв окончательное решение, вновь поплёлся по дорогам, на этот раз с целью встретить хотя бы маленькую группу русских, направлявшихся на восток.
В конце дня, в одном из перелесков поблизости от какой-то автострады, Крашке заметил человек двадцать мужчин и женщин, расположившихся вокруг разведённого костра, на котором они готовили пищу. Крашке подошёл к ним поближе, и до него явственно донеслась русская речь. Тогда он подошёл к этим людям и поклонился.
— Никак наши? — коротко спросил он, обращаясь сразу ко всем.
— Наши, — хором ответили люди, сидевшие у костра. — А ты откуда пробираешься?
Крашке был готов ответить на такой вопрос и довольно складно, хотя и без особых подробностей, рассказал, что он — Михаил Иванович Обручев из Смоленской области, был в своё время угнан в Германию и теперь пробирается домой.
— Земляк, значит? — произнёс один из мужчин, сидевших вокруг костра. — Я тоже смоленский, из-под Велижа. Чего стоишь, присаживайся, и на твою долю хватит, Михаил Иванович…
Крашке присел, с удовольствием закурил сигарету, предложенную «земляком», и в свою очередь спросил его, откуда он теперь пробирается домой. «Земляк» ответил, что он, как и все остальные, работал на военном заводе недалеко от Берлина, а недавно, когда военная охрана разбежалась, они двинулись в путь.
Завязался общий разговор. К удовольствию Крашке, остальные русские были не из Смоленской области. Поэтому Крашке без опасения рассказал, что сам он из Дорогобужского района, работал до войны землемером. Вспоминая окрестности своего «комбината смерти», Крашке предался лирическим воспоминаниям о красотах природы Смоленщины.
Между тем котёл, в котором варилась похлёбка, закипел, и Крашке пообедал вместе с остальными. Его измученный вид, заросшие щёки, чистое русское произношение вызвали к нему полное доверие и сочувствие.
Вся группа, посовещавшись, решила заночевать в перелеске, а утром двинуться дальше. С наступлением сумерек усталые люди прикорнули у костра и заснули. Крашке прилёг рядом со своим «земляком», а ночью, когда все мирно спали, забрался в сумку соседа и вытащил его документы.
Засунув их за пазуху, Крашке нервно огляделся. Нет, всё в порядке: обворованный «земляк» спокойно похрапывал, спали и остальные. От догоравшего костра ещё струилось тепло, а над перелеском плыла среди маленьких белых облачков спокойная луна. Откуда-то слева доносился рокот танковых моторов. На горизонте, в той стороне, где агонизировал Берлин, почти непрерывно вспыхивали багровые зарницы.
Крашке осторожно отполз от «земляка» и, встав на ноги, бросился бежать туда, на багровые зарницы Берлина.
Уже рассветало, когда, выбравшись на одну из боковых магистралей, Крашке уверенно пошёл на запад, решив, что в случае проверки он покажет свой новый документ. В нём чёрным по белому было написано, что он — Сергей Алексеевич Дубов, уроженец Велижского района Смоленской области, был направлен по предписанию велижского бургомистра в Германию, где и работал в качестве «восточного рабочего» за № 128765 на заводе Герман Геринг-Верке с 1943 года…
И в самом деле, несколько раз у Крашке, когда он встречался с советскими частями, проверяли документы. Но ни они сами по себе, ни их обладатель — измученный старик в потрёпанной одежде, с его русской речью и жалким видом — не вызывали никаких подозрений. Загорелые советские солдаты, производившие проверку, не только не задерживали Крашке, но ещё угощали его табачком и желали счастливого пути. На вопрос, почему он пробирается по направлению к Берлину, а не на восток, Крашке отвечал, что в районе Нейдорфа живёт его единственная дочь, работавшая у местного помещика, и он должен разыскать и захватить её с собою…
Только 15 апреля, поздним вечером, Крашке наконец добрался до Берлина. В городе было много разрушений в результате частых бомбёжек, но при всём том ещё сохранилось относительное спокойствие. Пожарные части работали по ликвидации пожаров, действовали метро, электростанции, телефон, радио.
Это немного ободрило Крашке, который сразу разыскал уцелевший телефон-автомат и связался со своим старым другом Виртом. Услышав голос Крашке, Вирт очень удивился и даже как будто обрадовался.
— Признаться, я думал, что ты уже давно повешен большевиками, — усмехаясь, сказал Вирт. — Молодец, что сумел выбраться из этого вонючего городишки, куда тебя запихнул Пиккенброк… Где ты сейчас находишься?
Узнав, что Крашке говорит с окраины Берлина, Вирт смущённо произнёс:
— Постарайся сюда добраться… Я прислал бы за тобой машину, но трудно с бензином… И для посылки машины нужна санкция самого Бормана. Просить его неудобно…
— Ничего, я доберусь, — сокрушённо ответил Крашке и, положив трубку, задумался о том, что, если даже Вирт не может послать машину из-за нехватки бензина, значит, дела рейха совсем уж плохи.
Поздно вечером измученный Крашке добрался до огромного здания новой имперской канцелярии на Фосштрассе, близ Бранденбургских ворот. Именно под этим монументальным, тяжёлым зданием, на глубине восьми метров под землёй, находилось бомбоубежище Гитлера и его приближённых.
Огромный мрачный эсэсовец, встретивший Крашке в комендатуре, которая тщательно охранялась, долго расспрашивал, кто он такой и что ему нужно, и наконец согласился сообщить о его приходе Вирту. Тот подтвердил, что Крашке может быть пропущен, но эсэсовец ответил, что по новому приказу начальника личной охраны Гитлера бригаденфюрера СС Монке ни один человек не может быть пропущен в бомбоубежище без разрешения самого Гитлера, Бормана или Монке.
Вирт, впервые услыхавший об этом новом приказе — ещё накануне он имел право давать пропуск в бомбоубежище, — пошёл к Монке.
— Господин бригаденфюрер, — обратился он к Монке, который, сидя верхом на стуле, тянул из гранёного стакана кофе. — Ко мне пришёл из восточных провинций мой старый друг Крашке, он выполнял там специальные задания генерал-лейтенанта Пиккенброка. Мне кажется, господин бригаденфюрер, что вы должны немного знать этого Крашке.
— Как он сумел добраться сюда с Востока? — подозрительно спросил Монке, свирепый, похожий на гориллу мужчина, с длинным, вытянутым, как дыня, лицом и бегающими, как у хорька, мутными глазами. — Понятия не имею об этом Крашке, а что касается Пиккенброка, то это — негодяй, не заслуживающий политического доверия, и собако-свинья…
— Господин бригаденфюрер, — сказал Вирт, очень удивлённый характеристикой, которую дал Пиккенброку Монке, — дело в том, что Крашке, о котором идёт речь, хорошо и лично известен также и господину рейхсфюреру СС Гиммлеру…
— Гиммлеру?! — завопил Монке. — Я не желаю слышать имя этой болотной жабы, изменника и предателя!.. Если ваш Крашке действительно близок с Гиммлером, то его надо немедленно повесить!.. И я готов сделать это лично!..
Вирт похолодел. Впервые ему пришлось услышать такие эпитеты по адресу рейхсфюрера СС. У него даже мелькнула мысль, что Монке сошёл с ума или просто его провоцирует. Поэтому, на всякий случай, Вирт решил выразить протест.
— Господин бригаденфюрер, — начал он. — Я вас глубоко уважаю и считаю для себя высокой честью быть вашим помощником, но даже от вас я не считаю возможным выслушивать столь непочтительные слова по адресу рейхсфюрера СС…
— Идиот!.. — зарычал Монке. — Этот подлец Гиммлер обманул фюрера! Этот негодяй сказал фюреру, что поедет на запад сколачивать новые дивизии, а утром пришло донесение, что он самовольно начал изменнические переговоры с англичанами!.. И фюрер обвинил этого изменника вне закона. Он должен быть уничтожен и будет уничтожен!..
И Монке хватил по столу своим огромным кулаком.
Вирт пришёл в ужас. Сообщение об измене Гиммлера было новым подтверждением краха. Монке, внезапно замолчав, снова хлебнул кофе, а потом, почти перейдя на шёпот, сказал:
— Если бы один Гиммлер, это было бы ещё не так страшно, Вирт… Сейчас ясно, что фюрера окружали прохвосты и предатели… Да, да, предатели, которым место давно на виселице!.. Вчера сбежал Геринг…
— Геринг! — не веря своим ушам, воскликнул Вирт. — Рейхсмаршал Герман Геринг?!
— До вчерашнего дня я тоже считал его рейхсмаршалом, — горестно продолжал Монке. — Кто мог знать, что рядом с нами было столько сволочи, Вирт! В тот же день бежал Риббентроп… За Риббентропом исчезли Эрих Кох, Роберт Лей и Альфред Розенберг…
— Риббентроп, Лей, Кох, Розенберг, — лепетал Вирт, оглушённый этими новостями. — Господин бригаденфюрер, что всё это значит?! Как это понять?!
— Как это понять? — тихо переспросил Монке. — Как это понять?.. Буквально такой же вопрос мне задал час тому назад сам фюрер. Когда он узнал о Гиммлере, с ним была истерика. Когда стало известно о Геринге, фюрер сказал, что всегда считал его толстой скотиной. Когда сообщили о Риббентропе, фюрер молчал. Когда ему доложили, что Кох, Лей и Розенберг тоже сбежали неизвестно куда, он заплакал и сказал мне: «Монке, объясни мне, как это понять?». Что я мог ему ответить, Вирт?.. Я мог бы сам задать ему такой вопрос, но я его не задал… В этот момент в комнату вошла фрау Ева. Она стала гладить фюрера по голове, он заплакал ещё сильнее и прошептал: «Ева, Ева, ты одна верна своему фюреру». Она всё гладила его, а он неожиданно вскочил, рванул на себе китель и закричал, что все эти собаки получат по заслугам, они пожалеют о том, что потеряли веру в своего фюрера, что он ещё удивит весь мир разгромом русских и тогда все увидят, кто такой фюрер и какова его сила… И тогда, Вирт, я понял, что мы все спасены…
И тут Монке испытующе поглядел на бледного Вирта. Последнюю фразу он произнёс, вдруг решив, что напрасно был так откровенен с Виртом… А что если он побежит к фюреру с доносом?..
Но и Вирт вёл свою линию. Придав лицу торжественное выражение, медленно, тоже глядя прямо в глаза Монке, он произнёс:
— Фюрер обеспечит победу! Я никогда не сомневался в этом.
И Вирт, встав и вытянув руку, закричал изо всех сил:
— Хайль Гитлер!..
— Хайль! — ответил, тоже встав, Монке.
Потом он дал разрешение пропустить Крашке и даже выразил желание лично поговорить с ним о положении в восточных провинциях.
***
Когда Крашке наконец пропустили в бомбоубежище, Вирт повёл его к себе по тускло освещённым длинным коридорам, облицованным смутно мерцающим кафелем. На каждом шагу стояли эсэсовцы с автоматами. Все они были из лейб-штандарта, охранявшего Гитлера. Хотя мощные вентиляторы непрерывно нагнетали в бомбоубежище свежий воздух, было душно, сыро и сильно попахивало не то могилой, не то тюрьмой.
Вирт, когда Крашке заметил ему, что воздух в убежище оставляет желать лучшего, удивился и сказал, что он этого не чувствует. По-видимому, и Вирт, и все другие эсэсовцы, и, наконец, сам Гитлер уже настолько привыкли к этой подземной обстановке, что она казалась им естественной. Их, конечно, главным образом устраивало, что тут не надо бояться бомбёжек, грохот бомб, падающих на Берлин, едва слышен и вообще здесь относительно спокойно.
Пройдя с Крашке в свою комнату, отделённую от коридора, как и все остальные комнаты, тяжёлой стальной дверью, Вирт поставил на стол бутылку вина, ветчину с хлебом и начал потчевать старого приятеля.
Изрядно проголодавшийся за время своих мытарств, Крашке жадно набросился на еду. Пока он насыщался, Вирт шёпотком, то и дело озираясь и оглядываясь на дверь, рассказал о последних новостях, сообщённых Монке.
К удивлению Вирта, Крашке, ни на минуту не перестававший жевать, выслушал эти поразительные новости довольно безучастно.
— Этого следовало ожидать, — равнодушно протянул он. — Все хотят жить, и это не так уж глупо…
Крашке начал зевать. От сытости и тепла его разморило и очень хотелось спать. Вирт это заметил.
— Ложись пока отдыхать, — сказал он. — Проспишься, а утром обсудим, как быть. Потому что мы тоже хотим жить…
В задней части комнаты Вирта были две койки, расположенные, как в вагоне, одна под другой. Крашке забрался на верхнюю и мгновенно заснул. Впервые за последние недели он спал спокойно, не пробуждаясь.
Он проснулся оттого, что кто-то тряс его за плечо. Очнувшись, Крашке разглядел, как в тумане, Вирта, рядом с которым стоял огромного роста человек с вытянутым, длинным лицом. Это был Монке.
— Проснись, скорее!.. Тебя вызывает фюрер, — сказал Вирт.
— Кто меня вызывает? Я хочу спать, — пробормотал спросонок Крашке, но тут Монке рванул его своей огромной лапой за ворот, и Крашке слетел с койки.
— Вам сказано — вызывает фюрер! — прохрипел Монке, и Крашке мгновенно пришёл в себя. Он хотел побриться, прежде чем идти к фюреру, но Монке не разрешил.
— Некогда бриться, — сказал он. — Скорее…
Его снова повели по тускло освещённым коридорам, мимо эсэсовцев, застывших с автоматами. Впереди шёл Монке, за ним — Крашке, позади следовал Вирт.
Миновав несколько комнат, обставленных с некоторым комфортом в отличие от комнаты Вирта, они прошли в приёмную фюрера.
В ней уже находились генерал Гребс, начальник генерального штаба сухопутных войск, тучный человек с усталым, отечным лицом и набухшими мешками под глазами, новый командующий военно-воздушными силами генерал-полковник Риттер фон Грайм, назначенный вместо сбежавшего Геринга, высокий, сухой, с отличной выправкой, и комендант берлинского гарнизона генерал Вейдлинг, небритый, с опухшими, красными от бессонницы глазами.
Генералы с удивлением посмотрели на Крашке и его отрепья. Однако никто из них ничего не спросил — в такое время всё было возможно.
Потом из соседней комнаты вышел Мартин Борман, помощник Гитлера и начальник его канцелярии, и пригласил всех к фюреру.
Гитлер стоял за столом, разглядывая карту, всю испещрённую синими и красными стрелами. Рядом с ним переминался с ноги на ногу Геббельс, тощий, маленький, с кривым дёргающимся ртом.
Гитлер бросил недружелюбный взгляд на генералов, потом, увидев Крашке, коротко спросил у Монке:
— Этот?
— Да, мой фюрер…
Гитлер поманил Крашке пальцем, приглашая подойти поближе. Крашке, покашливая в кулак, приблизился к фюреру.
— Ты пришёл из Восточной Пруссии? — тихо спросил Гитлер.
— Да, мой фюрер.
— Каково состояние войск противника?.. У них есть бензин, боеприпасы, танки?..
И, не ожидая ответа, Гитлер поспешно добавил:
— Я имею точные данные, что русские войска деморализованы… Да, да, это факт. Одер станет их могилой… И Нейсе будет второй могилой… Провидение указало мне план: подпустить русских к Берлину и здесь уничтожить раз и навсегда… Вы слышите, господа? — обратился он уже к генералам.
Генералы молчали, хорошо зная, что малейшее возражение приводит Гитлера в бешенство.
— Я всегда верил в мой народ, — торжественно продолжал Гитлер. — Как мой народ всегда верил в меня… Верил и верит!.. Вот, смотрите, — и он указал пальцем на окончательно оробевшего Крашке. — Посмотрите на этого человека, на его измученное лицо, на его платье, на его обувь… Он прошёл сотни километров, занятых русскими, он выведал их секреты, он прошёл сквозь их ряды, как нож проходит сквозь масло… Он пришёл к своему фюреру, чтобы информировать его обо всём…
Неизвестно, чем бы закончился этот монолог, если б не запел зуммер полевого телефона, связывавшего Гитлера с командованием первой полосы укреплений. Гитлер нервно схватил трубку и несколько минут слушал своего невидимого собеседника.
Потом, положив трубку, он вытер платком сразу вспотевший лоб, криво улыбнулся и тихо, почти шёпотом, сказал:
— Полчаса назад русские начали наступление… Они начали его странно: включили сотни прожекторов, чтобы ослепить мою армию… По они сами слепцы… Запомните мои слова!..
И, неожиданно повернувшись, даже не кивнув головой молча стоявшим генералам, Гитлер прошёл в свои личные апартаменты.
Было так тихо, что явственно слышался скрип его шагов.
***
И действительно, за полчаса до этого началась Берлинская операция. Ровно в пять часов 16 апреля 1945 года начался разгром немецкой обороны на западных берегах Одера и Нейсе. В этой операции одновременно участвовали войска 1‑го Белорусского и 1‑го Украинского фронтов.
В пять часов советская артиллерия начала артиллерийскую подготовку такой мощи, какой ещё не знала история войн. Были включены 200 могучих прожекторов, ослепивших гитлеровцев, засевших на западном берегу Одера, и освещавших путь советским воинам. Беспощадный голубоватый огромной силы свет и чудовищный грохот артиллерии производили сами по себе такое впечатление, будто ночное небо раскололось и весь свет вселенной излился на весенний разлив реки, на остовы разрушенных домов, ещё кое-где сохранившиеся на берегах, на всю эту искалеченную, дымящуюся, исковерканную войной землю.
Через несколько минут после начала операции тысячи советских самолётов поднялись в небо и начали поливать бомбами и пулемётным огнём позиции гитлеровцев. Могучий рокот моторов сливался с громом артиллерии.
Немецкие солдаты, ослеплённые зловещим и беспощадным светом прожекторов, оглушённые канонадой тысячи орудий, разрывами бомб, пулемётными очередями, воем трассирующих реактивных снарядов, грохотом минных взрывов, всё нарастающим громом авиационных моторов, дрогнули. Многие, не выдержав всего этого, мгновенно сходили с ума, начинали истерически смеяться, плакать, кричать, выскакивали из траншей и дотов и, нелепо размахивая руками, а некоторые даже пританцовывая, бежали навстречу косившему их огненному смерчу…
А в это время советские войска ужо форсировали Одер, переплывая его на плотах, баржах, резиновых лодках, лошадях, амфибиях, откуда-то взявшихся досках и паромах.
Приблизившись к западному берегу, солдаты прыгали прямо в воду и завязывали с немцами рукопашные бои.
Первая линия немецкой обороны была прорвана.
Берлинская операция стремительно развивалась, поражая весь мир грандиозностью своих масштабов, количеством авиации, танков, миномётов, самоходных пушек, реактивных орудий, а главное — героизмом и натиском советских армий и их волей к победе…
***
Наряду с выполнением главной задачи, войска 1‑го Украинского фронта прорвались на западном направлении, взломав все линии немецкой обороны, и вышли 25 апреля широким фронтом к реке Эльбе, где в районе Торгау встретились с американскими войсками.
Так произошла историческая встреча на Эльбе, что явилось неожиданностью для американцев, никак не допускавших, что советским войскам удастся столь быстро прорваться на запад.
Впрочем, и американцев, и англичан ожидала ещё большая неожиданность: взятие Берлина советскими войсками.
***
Стремительный разворот событий вызвал полную растерянность Гитлера и его штаба.
Крашке, всё ещё находившийся в подземелье под зданием новой рейхсканцелярии, наблюдал эту зловещую растерянность. Гитлер, казалось, сошёл с ума. Он переходил от угроз к плачу, от плача и истерических припадков к угрозам. Генералы уже боялись докладывать ему о положении дел, потому что всякая неприятная новость приводила фюрера в бешенство и он начинал сыпать проклятия и отдавать самые противоречивые и бессмысленные приказы.
В эти же безумные дни пришла телеграмма от Геринга, которая окончательно взбесила Гитлера: Геринг предлагал фюреру отказаться от роли главы государства, поскольку, как выяснилось, фюрер для этого непригоден. В конце телеграммы Геринг скромно предлагал на пост главы государства собственную персону.
Телеграмма от Геринга поступила ночью, когда Крашке уже спал в комнате Вирта. Прибежавший Вирт разбудил Крашке и, дрожа от ужаса, рассказал об этой телеграмме и о том, что Гитлер, получив её, окончательно потерял разум и творит в своих апартаментах такое, что даже видавший виды Монке выскочил оттуда с перекошенным от страха лицом.
Каждое новое поражение своих дивизий Гитлер воспринимал только как результат измены, ежедневно сменял по телеграфу генералов и командующих, отказывался выслушивать советы или, выслушав их, поступал как раз наоборот.
Абсолютный невежда в военном деле, он всерьёз возомнил, что является гениальным полководцем, и объяснял свои поражения лишь тем, что продатели-генералы срывают его гениальные стратегические замыслы.
27 апреля на рассвете Вирт разбудил спящего Крашке и сказал ему:
— Скорее оденься, творится чёрт знает что!..
— Что случилось? — спросил Крашке, поспешно одеваясь.
— Сбежал генерал Фегелейн, — ответил Вирт. — Фюрер вне себя от возмущения… Ты же знаешь, кто такой Фегелейн…
Крашке действительно знал, что Фегелейн, генерал СС, женат на сестре Евы Браун, любовницы Гитлера, и что этот генерал был любимцем фюрера.
Узнав об его бегстве, Гитлер приказал бросить во все концы города сотрудников гестапо и во что бы то ни стало разыскать и доставить к нему сбежавшего генерала.
Приказ был выполнен, и десятки сыщиков помчались искать Фегелейна, которого в тот же день удалось обнаружить на одной из окраин Берлина. Генерала доставили в подземелье, и по приказу Гитлера он тут же был выведен во двор и расстрелян, невзирая на вопли и мольбы его жены.
На следующий день Крашке валялся на койке в комнате Вирта, мучительно пытаясь найти выход из положения, в котором он оказался, забравшись в гитлеровскую резиденцию, ставшую в эти дни огромной мышеловкой. Вошёл Вирт и присел на край койки, закрыв лицо руками. Крашке услышал судорожное всхлипывание.
— Всё летит к чертовой матери! — наконец пролепетал Вирт. — Одни бегут, другие стреляются, третьи валяются с девками… Началось повальное пьянство…
Вирт замолчал, и, как бы в подтверждение тому, что он сказал, откуда-то снизу донеслись приглушённые крики и звуки музыки. Крашке удивлённо посмотрел на Вирта.
— Это внизу, в столовой охраны, — объяснил Вирт. — Со вчерашнего дня там содом и гоморра… Пир во время чумы!.. Пустили в оборот винотеку фюрера. Пойдём, хоть выпьем, пока ещё что-нибудь осталось.
Крашке согласился, хотя ему совсем не хотелось пить. По внутренней винтовой лестнице они спустились на один этаж и прошли в столовую офицеров охраны, огромную длинную комнату с низким, потемневшим от табачного дыма потолком. Посреди столовой были сдвинуты вместе все столы, за которыми сидели пьяные эсэсовцы в обнимку с такими же пьяными, растрёпанными секретаршами. В углу под звуки радиолы кривлялись в фокстроте несколько пар. У буфетной стойки, уронив голову на спину стула, рыдал какой-то молодой офицер, его пыталась успокоить сидящая рядом с ним полуодетая и тоже плачущая женщина.
От криков и взрывов пьяного хохота, рёва запущенной на всю мощь радиолы, от спёртого воздуха, насыщенного винными испарениями, у Крашке закружилась голова, и он стал пробираться к двери. Здесь он неожиданно столкнулся лицом к лицу с ворвавшимся в столовую Монке.
— Встать! — заорал Монке таким голосом, что Крашке испуганно прижался к стенке. — Встать, пьяные свиньи!..
Однако в столовой стоял такой шум, что крик Монке не был услышан. Тогда, выхватив из кобуры револьвер, Монке два раза выстрелил в потолок. Это привлекло внимание. Кто-то выключил радиолу, танцующие пары остановились, крики стихли, и только офицер у стойки продолжал всхлипывать.
— Русские прорвались в метро! — снова закричал Монке. — Они пробиваются сюда… Фюрер приказал затопить соседнюю станцию… Открыть шлюзы Шпрее…
Вздох ужаса, как резкий порыв ветра, пронёсся по столовой. Какая-то женщина забилась в истерике, на неё зашикали. Плачущий у стойки офицер медленно поднялся, подошёл к Монке и прерывисто, всё ещё всхлипывая, произнёс:
— На станции тысячи женщин, детей, раненых… Фюрер сошёл с ума!..
— Молчать! — заревел Монке. — Я не позволю обсуждать приказ фюрера!
И снова выхватив револьвер, он выстрелил в офицера, сразу рухнувшего на пол. Женщины завизжали.
— Всякий, кто произнесёт хоть одно слово, будет немедленно расстрелян, — продолжал Монке. — Всем офицерам следовать за мной для выполнения приказа!..
Тяжело стуча сапогами, эсэсовцы, отрезвевшие от страха, пошли за Монке.
Вскоре мутные потоки Шпрее хлынули в подземку, затопив укрывшихся там женщин, стариков, детей, раненых офицеров и солдат. Так в последние часы своей жизни Адольф Гитлер успел увеличить на несколько тысяч человеческих жизней свой кровавый многомиллионный счёт.
— Надо как можно скорее бежать из этого проклятого подземелья, — уединившись с Крашке, шептал Вирт. — Этот сумасшедший теперь способен на всё…
Крашке согласился, что надо бежать. Но это было трудно осуществить, потому что эсэсовцы из лейб-штандарта, видимо, получив соответствующий приказ, ретиво следили за каждым человеком. Выход из подземелья охранялся особо тщательно, и на этот пост назначались только отборные эсэсовцы, в преданности которых не сомневался даже Гитлер, к тому времени не веривший уже почти никому. Ему всюду мерещились измена, заговоры, предательства.
Между тем советские войска, всё теснее сжимая железное кольцо, зажали остатки гитлеровцев в центре города, в районе Тиргартена и прилегающих к этому парку правительственных зданий.
Тогда генерал Вейдлинг набрался смелости и сказал Гитлеру, что надо, пока не поздно, бежать. Гитлер выгнал генерала из кабинета.
Через несколько часов он и его любовница Ева Браун покончили с собой. Но и в последние часы своей жизни этот комедиант остался верен себе. Накануне самоубийства он «осчастливил» свою старую любовницу, отпраздновав бракосочетание с нею в присутствии своей свиты.
Их трупы были облиты бензином и сожжены во дворе новой рейхсканцелярии эсэсовцами. Сожжение трупов происходило под зловещий аккомпанемент залпов.
Именно в это время Крашке и Вирт, присутствовавшие при сожжении, незаметно ускользнули со двора, решив пробираться на запад, искать новых хозяев.
Новые хозяева
Выбраться из района новой имперской канцелярии было не просто. Этот район уже был окружён со всех сторон советскими танками, миномётами, артиллерией. Страшно было на земле, но ещё страшнее было небо, багрово-чёрное от пламени и дыма пожаров. Огромный город выл и содрогался от взрывов реактивных снарядов, свиста и тяжкого грохота бомб, могучего грома сотен самолётов, пролетавших низко, почти над крышами пылающих домов.
Крашке и Вирт с трудом пробирались проходными дворами, через проломы разрушенных зданий, то бегом, то ползком. В штатском платье, с белыми повязками на рукавах, наспех сооружёнными из носовых платков, они упорно двигались на запад. Наконец, окончательно обессилев от страха и нервного напряжения, остановились среди развалин какого-то высокого дома, наполовину разрушенного фугасной бомбой.
Крашке с трудом отдышался. Его подташнивало. Это ощущение подступающей тошноты возникло у него ещё во дворе имперской канцелярии, когда эсэсовцы сжигали трупы Гитлера и Евы Браун. Их вынесли из спальни Гитлера на носилках, едва прикрытых белыми простынями.
На дворе, не глядя друг на друга, эсэсовцы молча подожгли смоченные бензином простыни, сразу вспыхнувшие со всех сторон. Синеватые языки пламени охватили всё, что осталось от Гитлера и его подруги. Один из эсэсовцев, черпая лейкой бензин из железной бочки, всё время поддерживал костёр. Отвратительный запах горящего мяса заставил Крашке вздрогнуть. Именно в этот момент к горлу подступила тошнота, от которой он не мог избавиться.
Теперь, прислонившись спиной к каменным обломкам дома, Крашке не мог справиться с рвотными судорогами. Его вырвало. Вирт с усмешкой поглядел на него.
— Я вижу, Ганс, — прокричал он в самое ухо Крашке, чтобы тот его услышал, — тебе дурно от страха. Ты прав, приятель, я никогда не думал, что небо может так грохотать… Надо скорее выбраться из этого ада, иначе — капут…
— Легко сказать — выбраться, — заорал в ответ Крашке. — И ещё неизвестно, что ожидает нас на западе…
Вирт вынул из потайного кармана пиджака какие-то бумаги и торжественно помахал ими перед самым носом Крашке. Но у того начался новый приступ рвоты, и Вирт, безнадёжно махнув рукой, спрятал свои бумаги.
Немного отдохнув, эсэсовцы двинулись в путь. Им удалось пробраться на западные окраины Берлина. Там, в каком-то опустевшем доме, видимо, покинутом владельцами, они снова отдохнули. Вирт достал из кармана бутерброды с ветчиной и угостил Крашке. Но едва они начали есть, фантастический, чудовищный гром, казалось, расколол небо, землю, всю вселенную. Они выглянули в окно и увидели огненный смерч, бивший со всех сторон по центру Берлина. С воем неслись молнии ракетных снарядов, тяжело ухали пушки, визжали сотни падающих с неба бомб. Весь этот невообразимый гром, вой, свист и уханье время от времени подчёркивало тысячеголосое «ура!», доносившееся даже до окраины города из центра.
Это выполнялась историческая команда: «Огонь на весь режим, изо всех видов оружия!», отданная ровно в 11 часов 30 минут утра тридцатого апреля 1945 года в пылающем Берлине.
Это были последние минуты агонии гитлеровской столицы.
***
Только через несколько дней, пробираясь главным образом ночами, обходя улицы и площади, пригородные посёлки, отдыхая в мёртвых, брошенных домах и каменных катакомбах, образовавшихся из развалин целых улиц, Крашке и Вирт выбрались наконец из района Большого Берлина.
Ни у кого не вызывали в те дни подозрений и интереса эти два пожилых, давно не бритых человека с белыми повязками на рукавах, устало бредущих по боковым дорогам. Тысячи таких же измученных, грязных и небритых людей, точно с такими же белыми повязками и измученными лицами, с потухшими от отчаяния глазами плелись в те дни по всем дорогам, копались в мусорных ящиках в поисках хлебных корок и окурков, а потом снова брели дальше, направляясь невесть куда, к кому, зачем. В эти майские дни вся Германия, казалось, была затоплена потоками беженцев, людьми, потерявшими кров и близких, с тупым отчаянием взиравших на развалины искалеченных городов и деревень, так выразительно свидетельствовавшие о возмездии, постигшем фашистских властителей.
Многие немцы, одичавшие за двенадцать лет гитлеровского режима, сбитые с толку, приученные во всём слепо полагаться на «божественный разум» фюрера, обещавшего господство над миром, лишь теперь начинали приходить в себя, с ужасом глядя на обломки «Третьей империи».
Одни, ещё продолжая верить в предостережения Геббельса, что всех немцев ожидает лютая Сибирь, спасались от неё бегством на запад. Другие, напротив, стремились из западных районов на восток, уже прослышав, что там советские военные коменданты налаживают питание населения, никого не отправляют в Сибирь и буквально в первые же дни организуют восстановление городов и предприятий.
Слухи доходили до западных районов Германии какими-то неведомыми путями, потому что ещё не было газет, не везде работала телефонная связь. Но так или иначе слухи эти доходили, всё более множились, дополняя друг друга, и всё здоровое, что было в немецком народе, инстинктивно, а иногда и сознательно тянулось к мирной жизни, к новой демократической Германии…
В эти смутные и смятенные дни наблюдательный человек уже мог уловить первые симптомы того, что окончательно определилось через несколько месяцев. Бросалось в глаза, что бывшие эсэсовцы и нацисты, как по команде, ринулись на запад, рассчитывая найти там спасение. Туда, именно туда, были вывезены секретные гитлеровские архивы. Туда пробирались всеми возможными и невозможными путями бывшие гестаповские чиновники, палачи, начальники концлагерей, министерские воротилы, битые гитлеровские генералы, крупные помещики и промышленники.
В то время как отдельные уцелевшие гитлеровские части продолжали ещё кое-где оказывать ожесточённое сопротивление Советской Армии, стремительно наступавшей с разных сторон, на западе целые дивизии и города сдавались англо-американским войскам без единого выстрела, иногда даже по телефону.
Это не было случайностью или цепью случайностей. Ещё 25 апреля британский посланник в Швеции секретно телеграфировал английскому премьеру Черчиллю:
«1. Шведский Министр Иностранных Дел попросил меня и моего американского коллегу прибыть к нему в 23 часа 24 апреля. Присутствовали также г‑н Бохеман и граф Бернадотт из Шведского Красного Креста.
2. Бернадотт возвратился из Германии через Данию сегодня вечером. Гиммлер, который находился на восточном фронте, просил его срочно прибыть из Фленсбурга, где он выполнял работу по поручению Красного Креста, для встречи с ним в Северной Германии. Бернадотт предложил Любек, где в час ночи 24 апреля и состоялась встреча. Хотя Гиммлер был усталым и признавал, что наступил конец Германии, он сохранял ещё присутствие духа и способность здраво рассуждать.
3. Гиммлер сказал, что Гитлер столь безнадёжно болен, что может быть уже умер или во всяком случае умрёт в течение следующих двух дней. Генерал Шелленберг, из ставки Гиммлера, сообщил Бернадотту, что это кровоизлияние в мозг.
4. Гиммлер заявил, что, пока Гитлер был жив, он, Гиммлер, не мог предпринимать предлагаемых им теперь шагов, но, поскольку Гитлер — конченый человек, он обладает всеми полномочиями действовать. Затем он просил Бернадотта сообщить Шведскому Правительству о его желании, чтобы оно приняло меры для организации его встречи с генералом Эйзенхауэром с целью капитуляции на всём западном фронте…»
Далее британский посол докладывал Черчиллю, что шведский «Министр Иностранных Дел полагал, что информацию Бернадотта следовало передать Правительствам Великобритании и Соединённых Штатов, которые, поскольку это касается Шведского Правительства, имеют полную свободу передать её Советскому Правительству, так как Шведское Правительство ни в коем случае не хочет быть орудием, содействующим любой попытке посеять раздор между союзниками, и не хочет, чтобы его рассматривали в качестве такого орудия. Единственной причиной, по которой Шведское Правительство не смогло информировать Советское Правительство непосредственно, является то, что Гиммлер обусловил, что эта информация предназначается исключительно для западных союзников». [8]
Как выяснилось в дальнейшем, Гиммлер обманывал Бернадотта: он заверил его, что Гитлер безнадёжно болен, чего на самом деле не было, и скрыл, что он бежал от Гитлера, чтобы вступить в переговоры с западными противниками Германии.
Но, обманывая Бернадотта в деталях, Гиммлер надеялся договориться с англичанами и американцами. Этого не случилось. Однако политика Гиммлера была подхвачена его подчинёнными и выразилась в их устремлении на запад.
Как только Крашке и Вирт очутились в Западной Германии, они сразу обрели бодрость духа. Их очень подбодрили многочисленные встречи с эсэсовцами, как и они пробиравшимися на запад и отлично себя здесь чувствовавшими. Никто из них не опасался преследований со стороны англо-американских военных властей. Напротив, некоторые уже нашли общий язык с этими властями, охотно пользовавшимися их услугами.
Разумеется, американские и английские военные власти делали вид, что намерены выполнять принятые на себя обязательства по денацификации и привлечению к судебной ответственности гитлеровских военных преступников. Пришлось арестовать наиболее известных деятелей «Третьей империи», имена которых были уже чересчур одиозны, а также особенно крупных чиновников гестапо. Так были арестованы Геринг, Гиммлер, Риббентроп, заместитель Гиммлера — Кальтенбруннер и некоторые другие.
Гиммлер был арестован англичанами, с которыми он ещё до этого вступил в переговоры. Когда представитель советских военных властей приехал для допроса Гиммлера (в этом британские власти, естественно, не могли ему отказать), он застал Гиммлера уже мёртвым. Показав своему советскому гостю труп Гиммлера, англичане рассказали, что он отравился, узнав, что приезжает представитель советских властей для его допроса. Англичане добавили, что Гиммлер, как оказалось, отравился особым ядом, хранившимся у него в ампуле, запрятанной в полости искусственного зуба, чего, к сожалению им своевременно не удалось обнаружить…
Были также арестованы и крупнейшие германские финансисты и промышленники, совершившие тягчайшие военные преступления вроде Шахта, Круппов — отца и сына.
Но — странное дело — арестованные промышленники и гитлеровские палачи почему-то не теряли надежд на лучшее будущее. В тюрьмах они пользовались удивительным комфортом, отлично питались, получали свидания со своими близкими и, судя по всему, рассматривали тюрьму, как временное и в данных обстоятельствах наиболее надёжное убежище…
— Нет, что ни говорите, джентльмены, но эти эсэсовцы — отлично вышколенные и деловые парни, — сказал на одном из секретных совещаний американских оккупационных властей видный генерал. — Они всегда понимают, что от них требуется, умеют держать язык за зубами и готовы решительно на всё… Если уж приходится иметь дело с немцами, то я — за бывших нацистов и эсэсовцев… Тем более что нам следует думать о будущем…
И генерал многозначительно улыбнулся, так и не уточнив, о каком именно будущем идёт речь. Впрочем, в таком уточнении и не было нужды, потому что коллеги генерала отлично понимали его без лишних слов.
Разумеется, это «будущее» пока держалось в большом секрете. Широкие массы американских солдат и строевых офицеров о нём не догадывались. Среди них было немало честных и простых парней, искренне ненавидевших фашизм, храбро дравшихся с общим врагом. Эти люди с уважением и симпатией говорили о подвигах Советской Армии, отдавая должное её мужеству, военному мастерству, решающей роли, которую она сыграла в борьбе с гитлеризмом и его разгроме.
Когда на Эльбе произошла историческая встреча советской и американской армий, она превратилась в мощную демонстрацию военного братства и дружбы. Американцы и русские сразу нашли общий язык, ездили друг к другу в гости, обменивались сувенирами. Русские песни нередко можно было услышать в американских частях. В личных встречах, задушевных разговорах и откровенных беседах росли симпатии простых американцев к советским людям.
Не потому ли очень скоро начался странный процесс: американских солдат и офицеров, принимавших участие в военных действиях, отличившихся в боях с гитлеровцами, начали энергично демобилизовывать или под разными предлогами возвращать на родину. Вместо них вызывались совсем другие люди, не принимавшие участия в войне, не встречавшиеся с советскими военными, отобранные по определённому принципу…
Состав американских оккупационных войск менялся с фантастической быстротой. Были значительно усилены группы «ЭМ ПИ» — американской военной полиции. Разрослись штаты военной и политической разведки, щупальца которой проникали в самые глухие углы.
И с самых первых дней после победы над гитлеровской Германией американские военные власти начали зловещую игру в отношении многих тысяч бывших советских военнопленных и так называемых «перемещённых лиц». Началось с того, что десяткам тысяч этих людей американские власти под самыми фантастическими предлогами не позволяли возвратиться на родину. Были пущены в ход всевозможные методы обработки, обмана, запугивания, подкупа, угроз. Специально подобранные среди эмигрантских подонков пропагандисты и шпионы были брошены в лагеря перемещённых лиц. К этой подлой и страшной «работе» были широко привлечены также многие бывшие эсэсовцы, гестаповцы и «специалисты» по организации концлагерей с особо суровым режимом и тюрем.
Пренебрегая элементарными нормами международного права и общепринятой морали, организаторы этой грязной игры проводили её не только с взрослыми людьми — бывшими военнопленными и насильно угнанными в своё время советскими гражданами, принудительно работавшими в немецкой промышленности, — но даже и по отношению к советским детям и подросткам, в годы войны насильно вывезенным в «Третью империю», на всесветную гитлеровскую каторгу.
***
Пробираясь на запад, Крашке и Вирт, конечно, рассчитывали, что они так или иначе устроятся у новых хозяев. Впечатления первых дней пребывания в американской зоне оккупации укрепили их расчёты и надежды.
Именно в эти дни Вирт, оставшись однажды наедине с Крашке, вернулся к разговору, неудачно начатому в развалинах дома в Берлине в тот день, когда они бежали со двора новой имперской канцелярии. На прямой вопрос Крашке — каковы конкретные планы приятеля и что за бумаги он показал ему в тот день в Берлине — Вирт, немного подумав, ответил:
— Скажу тебе откровенно, Ганс, я пришёл сюда не с пустыми руками. Полагаю, что американцы встретят нас наилучшим образом…
— Я вижу, ты большой оптимист, — произнёс Крашке, покачивая головой. — Можно подумать, что американцы не спят ночей, поджидая нашего прибытия… Чепуха!..
— Милый Ганс, ты сильно поглупел в последнее время, — добродушно огрызнулся Вирт. — Повторяю, нас встретят наилучшим образом. Я имею для дяди Сэма большие сюрпризы, Ганс.
И Вирт снова вынул из потайного кармана какие-то бумаги и торжественно помахал ими перед носом Крашке.
— Не иначе как ты везёшь им план обороны Берлина, — ядовито заметил Крашке. — Что и говорить, теперь этот план для американцев просто находка!.. От души поздравляю тебя!..
Вирт поморщился, начиная всерьёз злиться. Этот разговор происходил на самой окраине Нюрнберга, в маленькой пивнушке, где в этот час никого не было. В глубине комнаты, за стойкой, пожилая седая немка вязала чулок.
— Ну так слушай меня внимательно, Ганс, — осторожно оглянувшись, тихо начал Вирт. — У меня есть нечто гораздо более интересное, нежели план обороны Берлина. В течение последних двух лет мне приходилось выполнять некоторые особые поручения нашего дорогого Гиммлера… Господин рейхсфюрер СС оказал мне высокое доверие, Ганс… По его заданию я организовал секретные встречи германских промышленников с американцами…
— С американцами? — приглушённо воскликнул Крашке, не веря своим ушам. — Ты так сказал?
— Да, я не оговорился, — ухмыльнулся Вирт. — Именно с американцами. У тебя отличный слух, Ганс.
— А, понимаю, переговоры о сепаратном мире, — понимающе улыбнулся Крашке. — Я не сразу сообразил…
— Нет, дорогой Ганс, не о сепаратном мире, — медленно протянул Вирт. — Тогда ещё наш дорогой фюрер и не помышлял о мире. Речь идёт совсем о другом…
— Тогда я отказываюсь тебя понимать, — произнёс Крашке. — О чём ты говоришь?
— Я говорю о фактах, составляющих величайшую тайну этой войны. Дело в том, что даже в самом её разгаре наши промышленники не прекращали деловых связей с американскими промышленными королями. В Париже, например, эти переговоры велись с отделением банкирского дома «Дж. П. Морган энд Ко», а также с «Чейз нэйшнл бэнк». В Базеле переговоры велись с «Банком международных расчётов»… Но самое любопытное произошло в Лиссабоне: там секретно собрались и очень мило пили кофе за круглым столом наши промышленники с представителями монополий Америки, Франции и Италии. Я сам организовал эту встречу, точнее, мне было поручено обеспечить её абсолютную секретность. Кажется, я с этим справился, мой милый, наивный Ганс… Кстати, для девушки наивность — дополнительный козырь. Для старого разведчика — не сказал бы… О, ты даже не потерял способности краснеть!..
И Вирт обидно захохотал. Крашке сидел, разинув рот. Ему было не по себе.
— Слушай дальше, — продолжал Вирт, с выражением снисходительного превосходства глядя на смущённого Крашке. — Через три месяца я вылетел в Страсбург с личными представителями Круппа, Рехлинга и Мессершмидта. Если ты думаешь, что они встречались в Страсбурге с американскими промышленниками для игры в покер, то ты далёк от истины… Впрочем, не смущайся, в своё время я был так же наивен, как ты. Ещё в 1943 году мне удалось перехватить секретное письмо нашего финансового гения доктора Шахта, адресованное американским промышленникам. Я был счастлив, решив, что Гиммлер щедро наградит меня за такой материал. Я принёс ему лично перехваченное письмо, мысленно прикидывая, что я за это получу. Можешь себе представить моё удивление, когда рейхсфюрер СС, прочитав это письмо, начал почему-то улыбаться, а затем выгнал меня из кабинета, сказав, чтобы я не смел совать свой нос куда не следует… Мне даже послышалось что-то вроде слова «кретин»… Тогда я всё понял…
— Неужели это правда? — не выдержал Крашке.
Вирт опять рассмеялся.
— Как то, что мы сидим в этом сарае и пьём это ужасное пиво из древесных опилок, — ответил Вирт. — Боже мой, думал ли я когда-нибудь, что мне придётся отведать подобную дрянь? Ах, Ганс, Ганс, как нелепо устроена жизнь!.. Короче, война есть война, а коммерция есть коммерция. Какая фирма откажется продать товар на выгодных условиях?.. У меня хватило разума на всякий случай сохранить эти записи. Я сам принимал участие в отгрузке и транспортировке в Германию окольными путями американских стратегических материалов… В этих бумагах все данные — названия портов и пароходов, списки материалов, наименования фирм, через которые проводились эти операции, даты отправки, одним словом, всё… Любая экспертиза подтвердит, что этого не выдумаешь… Кроме того, у меня есть и косвенные доказательства… Если все адвокаты Америки соберутся вместе, чтобы опровергнуть мои данные, у них ничего не выйдет!.. Вечная память моему покойному отцу, который всегда мне говорил: «Михель, запомни раз и навсегда, что важные факты надо записывать, не полагаясь на память. Ведь её могут отшибить. Записанное храни, а при случае — выгодно продай. Запомни, Михель, что каждый торгует, чем может: фабрикант — товарами, поэт — стихами, содержатель публичного дома — девками, министры — самими собой. Мы, сыщики, можем торговать лишь одним — чужими секретами. И чем больше секрет, тем он дороже стоит»… Так говорил мне покойный фатер, служивший в полиции ещё при кайзере Вильгельме…
— Дай-ка мне взглянуть на эти документы, — протянул руку Крашке. — Кто знает, может и в самом деле они чего-нибудь стоят…
— Э, нет, милый Ганс, — перебил его Вирт. — Я вижу, ты вовсе не так глуп, как хочешь иногда казаться… Заруби себе на носу, что до этих документов тебе нет никакого дела!.. Ибо, как говорил мой отец, стоимость любого секрета, если он становится известным второму человеку, падает вдвое, если становится известным третьему — втрое, а если об этом секрете узнает хоть одна женщина, то он вообще уже ничего не стоит…
И худой, сильно отощавший Вирт обнажил в улыбке свои гнилые, прокуренные зубы, поблескивавшие золотыми пломбами и многочисленными коронками. Потом, почесав лысую яйцевидную голову и весело подмигнув обескураженному Крашке, Вирт сказал:
— Не огорчайся, я тебе помогу. Этих документов более чем достаточно, чтобы обеспечить на всю жизнь таких двух пожилых немцев, как мы с тобой. Тем более нет смысла обесценивать их. Пошли!..
И Вирт встал, потянулся, бросил на стол деньги за пиво и бодро направился к выходу. Крашке поплёлся за ним, раздумывая над тем, что ему только что стало известно.
***
Нюрнберг был сильно разрушен жестокими бомбёжками. Среди обломков старинных каменных зданий, замков, кирх чудом уцелел памятник великому немецкому художнику Дюреру. Он стоял среди уродливых каменных глыб, железных балок, одиноко торчавших труб, как бы с удивлением глядя на то, что осталось от старинного германского города. Именно в этом городе Гитлер любил устраивать пышные средневековые «факельцуги», здесь проводились пресловутые партейтаги — съезды нацистской партии. Здесь были приняты чудовищные Нюрнбергские законы, удивившие своей жестокостью весь мир.
Крашке и Вирт добрались до знаменитого нюрнбергского стадиона, выстроенного по приказу Гитлера специально для партейтагов и нацистских торжеств.
Стадион — весь из бетона и железа — был построен по вкусу Гитлера в стиле древнеримских форумов и цирков. Его огромная чаша, вмещавшая десятки тысяч людей, служила местом особенно пышных парадов и заседаний. Гитлер не раз выступал на этом стадионе.
Стадион совсем не пострадал от бомбёжек. Его серые громады мрачно высились над разрушенным городом. Крашке и Вирт обошли пустые трибуны, вспоминая торжества, которые здесь происходили ещё несколько лет тому назад. Гром оркестров. тысячи марширующих штурмовиков и эсэсовцев, знамена со свастикой, колыхавшиеся от звуков сотен фанфар и труб, восторженный рёв, который издавали десятки тысяч глоток при появлении на трибуне Адольфа Гитлера…
— Ах, дорогой Ганс, всё на этом свете дым, мираж и сон, — прочувствованно произнёс Вирт, склонный к философским рассуждениям. — Помнишь, как рявкали здесь «Хайль Гитлер!.. Зиг хайль!..» Голуби от воздушной волны, поднимаемой этими криками, взмывали в небо без взмахов крыльями!.. В эти минуты мне казалось, что дрожит даже бетон стадиона… А шёлк знамен, медь оркестров, шлемы штурмовиков? А ночные шествия с горящими факелами? Казалось, что улицы корчатся в пламени пожаров. Меня тогда назначили в личную охрану фюрера, и я, осёл, считал, что сделал фантастическую карьеру!.. Я забыл слова моего мудрого отца: «Михель, человека способны погубить пять пороков: шнапс, бабы, честолюбие, длинный язык и близость к начальству». Слушай, посмотри налево, будь я проклят, если это не Август Мильх!..
Крашке посмотрел налево и увидел сутулого, высокого человека, в унылом одиночестве пробиравшегося между трибунами стадиона. Кажется, это действительно был оберштурмбаннфюрер Август Мильх, любимец Гиммлера, ведавший охраной военных заводов, лабораторий и секретных испытательных станций, где, как не раз уверял Гитлер, создается новое, особо секретное оружие, которому суждено покорить мир.
Теперь этот важный эсэсовец, всегда гордившийся своей близостью к Гиммлеру, медленно шёл по стадиону, о чём-то задумавшись, с низко опущенной головой.
— Да, это он, — сказал наконец Крашке. — Интересно, что он тут делает, на пустом стадионе?
— Очевидно, предаётся воспоминаниям, как и мы с тобой, — ответил Вирт. — Пойдём, мне очень любопытно с ним поговорить…
Почти бегом Вирт, а за ним Крашке бросились к Мильху. Услыхав топот, звучавший особенно отчётливо на пустынном стадионе, Мильх поднял свои близорукие глаза, настороженно рассматривал бегущих. Видимо, он наконец узнал старых сослуживцев, потому что изобразил на своём длинном сухом лице с большим, загнутым книзу носом и тонкими губами некое подобие улыбки.
— Герр Август, какая встреча! — закричал Вирт, подбегая к Мильху. — Я сразу узнал вас, коллега!.. Это Крашке — вы узнаете этого старого волка?
— Да, да, Вирт, как же, я узнаю вас обоих, — ответил, подозрительно разглядывая Вирта и Крашке, Мильх. — Я тоже рад вас видеть, даже при таких обстоятельствах… Вы давно в Нюрнберге?
— Пару дней, герр Август, — ответил Вирт. — А вы?
— Я — около месяца. Вы надолго сюда?
— Кто может знать, господин оберштурмбаннфюрер, — по старой привычке назвал Мильха Крашке. — В такое время ни один немец не может знать, что с ним будет завтра…
— Но любой немец, господии Крашке, — сердито произнёс Мильх, — уже должен понимать, что упоминание старых чинов никому не доставляет удовольствия. Признателен за то, что вы так хорошо помните, кем я был, но буду ещё признательнее, если вы забудете об этом раз и навсегда… В свою очередь, любезный Крашке, я тоже обещаю забыть ваше блистательное прошлое… Надеюсь, вы не обидитесь на меня за это?
И Мильх язвительно усмехнулся.
— Извините, господин Мильх, — смущённо сказал Крашке. — Сила привычки…
— Понимаю. Но есть привычки, которые лучше бросить, если дорожишь своей головой, — в том же тоне произнёс Мильх.
— Вы правы, герр Август, — сказал Вирт. — Всякому немцу теперь стоит призадуматься над тем, как сохранить жизнь… Как раз на эту тему я был бы счастлив выслушать ваши мудрые советы…
Мильх самодовольно улыбнулся. Он всегда любил лесть, и это свойство его характера было хорошо известно Вирту.
— Что ж, я всегда готов дать совет тому, кто в нём нуждается, — благосклонно ответил Мильх. — Вы можете присесть вот здесь, кроме нас, тут никого нет, и можно спокойно поговорить о трудных обстоятельствах, в которых, к сожалению, мы все оказались…
Старые сослуживцы расположились на одной из трибун, и начался откровенный разговор. Оказалось, что Мильх уже связался с американской разведкой и работает по её заданиям.
— Мне пригодилась прежняя специальность, — заметил он улыбнувшись. — Вообще, по моим наблюдениям, американцы не собираются преследовать наших бывших работников. Конечно, надо учитывать политику, господа. Кое-кого им пришлось арестовать, и нюрнбергская тюрьма набита, как бочка сельдями, нашим бывшим самым высоким начальством. Но не пугайтесь. Полковник, с которым я теперь работаю, мне как-то прямо сказал, что всё это — дань политике… Сейчас иначе нельзя, сказал он, но в будущем найдётся работёнка и для тех, кто пока сидит в тюрьме…
— Так прямо и сказал? — с волнением переспросил Вирт.
— Да. И я ему верю. В общем, мы с ним сработались. Дело в том, что ему поручена работа по патентам… Особенно его занимает проблема наших «фау»… А так как я в этой области, как вам известно, достаточно осведомлён, то у меня нет оснований беспокоиться за свою судьбу… Американцы, как и англичане, не имеют своих ракетных снарядов… В самые последние месяцы войны наши «фау» причинили англичанам немало неприятностей…
— Русские имели свою ракетную технику, — вмешался в разговор Крашке. — Их орудия «Л‑2», сконструированные инженером Леонтьевым, стоили нам недёшево, господин Мильх…
Мильх внимательно посмотрел на Крашке и неожиданно хлопнул себя по лбу.
— Что значит склероз!.. — воскликнул он. — Я совсем забыл, что именно вы, дорогой Крашке, занимались этим московским инженером Леонтьевым… Да, да, конечно!.. Операция «Сириус», как мог я об этом забыть!.. Как забывчива старость, друзья!.. Какое счастье, что мы встретились!..
Вирт внимательно посмотрел на Мильха, сразу заметив, как резко тот изменил свой тон. Заметил это и Крашке. По-видимому, инженер Леонтьев и теперь как-то интересовал Мильха. Обменявшись взглядами, Крашке и Вирт без слов поняли друг друга. Надо было осторожно выяснить причины такой резкой перемены в тоне Мильха.
— Ах, это всё уже далёкое прошлое, господин Мильх. — со вздохом протянул Крашке. — Кому нужна сейчас операция «Сириус»? …Какое дело американцам до этого советского инженера Леонтьева?.. Вы сами говорили, что о нашем прошлом лучше позабыть… И, честное слово, вы глубоко правы!..
— Прошлое прошлому рознь, уважаемый Крашке, — горячо возразил Мильх. — К вашему сведению, все эти проблемы отнюдь не потеряли своего значения… Да что же мы сидим на этом пустынном стадионе, друзья?.. Как будто не найдется другого места, где старые товарищи могли бы побеседовать, как положено, за бутылкой шнапса, вспомнить свою молодость и помочь друг другу в беде, чёрт возьми!.. Да, да, помочь! Пойдём ко мне, я живу здесь поблизости, у меня найдётся для такой приятной встречи всё, что полагается по нашим старым добрым немецким обычаям!
И Мильх весело вскочил, улыбаясь самым приветливым и простодушным образом. Куда девались его важность, его подозрительный взгляд, его настороженный тон!.. Всего несколько минут назад он отчитывал Крашке, а теперь глядел на него нежно и доброжелательно, с такой милой и приветливой улыбкой…
— Ну что ж, можно и пойти, — тоже с наигранным добродушием протянул Крашке, сразу внутренне собравшись. Он уже понял, что этот старый волк Мильх почему-то очень заинтересован подробностями, связанными с именем советского конструктора Леонтьева, того самого Леонтьева, из-за которого Крашке довелось пережить такую уйму неприятностей. Кто знает, может быть теперь благодаря тому же Леонтьеву он, Крашке, сумеет прилично устроиться в это ужасное время! Во всяком случае надо вести себя сдержанно и больше слушать, чем говорить.
Повеселел и Вирт, сразу оценивший перемену в настроении Мильха. Если этот старый мерзавец так мило улыбается и даже готов угостить своих бывших сослуживцев, то это значит… это многое значит, чёрт возьми!.. Скорее всего, что советский конструктор Леонтьев причинил немало хлопот не одним немцам, иначе Мильх не проявлял бы к нему интереса. Ну что ж, посмотрим, чем всё это кончится. Надо предупредить Крашке, чтобы он пока не выкладывал на стол все свои козыри и взял хорошую цену за свои сведения о Леонтьеве. Пусть они пока занимаются этим делом, которому грош цена по сравнению с теми материалами, которыми располагает он, Вирт, благодаря всевышнему… Уж он-то знает цену тому, что знает!.. Сто тысяч долларов — вот минимальная цена!.. И ни цента меньше!.. Нет, двести тысяч долларов — и никаких разговоров, джентльмены!.. Иначе весь мир узнает о том, как вы в самый разгар войны тайно встречались с германскими промышленниками и поставляли стратегические материалы Адольфу Гитлеру, чёрт бы вас побрал!.. А пока идём к этому Мильху, пусть угощает своих старых сослуживцев!
И три бывших эсэсовца, дружелюбно похлопывая друг друга по плечу, весело пошли, очень довольные своей неожиданной встречей.
***
Полковник Артур Грейвуд, которого (не назвав его фамилии) упомянул оберштурмбаннфюрер Мильх в разговоре с Крашке и Виртом, был старым работником американской разведки. Теперь, обосновавшись в Нюрнберге, Грейвуд энергично собирал данные о немецком ракетном оружии.
Для своих пятидесяти лет полковник Грейвуд выглядел молодо. Это был высокий, хорошо сложенный человек со спортивной выправкой и отличным цветом лица. Его седая шевелюра лишь подчёркивала совсем молодой румянец щёк, всегда гладко выбритых, отменно выхоленных, свежих.
Мистер Артур Грейвуд внимательно следил за своим здоровьем, аккуратно соблюдал раз и навсегда установленный режим. Утром, ещё до завтрака, он выпивал полагающийся стакан джюза — сока из грейпфрута, отдавал пятнадцать минут гимнастике, и затем с аппетитом завтракал — чашка овсянки, два яйца, поджаренная горячая ветчина и крепкий кофе. Так проходил весь день по строгому расписанию.
Фрейлейн Эрна, молоденькая, хорошенькая, большеглазая немка, выполнявшая обязанности экономки, но успешно справлявшаяся и с некоторыми дополнительными нагрузками, была отлично вышколена и твёрдо соблюдала раз и навсегда установленный порядок. Утром, подавая хозяину стакан джюза, она уже была, как требовал строгий мистер Грейвуд, в полной парадной форме, в обязательном кружевном фартучке и со старательно «сделанным» лицом, надушенная, улыбающаяся, кокетливая.
В первые же дни своего приезда в Нюрнберг, познакомившись с фрейлейн Эрной в парикмахерской «Грандотеля», где она работала маникюршей, полковник Грейвуд сделал ей деловое предложение — стать его экономкой. Фрейлейн сразу приняла все условия и теперь была очень довольна своей карьерой. Грейвуд тоже был доволен своей экономкой. Она хорошо готовила, была исполнительна, поддерживала идеальный порядок в занимаемой им вилле, а главное — умела держать язык за зубами и никуда не отлучалась.
Со своей уже довольно обширной агентурой полковник Грейвуд встречался где угодно, кроме своей виллы. Он придерживался правила, что власть требует престижа, а престиж требует дистанции между начальником и подчинёнными.
Вот почему мистер Грейвуд очень удивился, когда однажды вечером в его кабинет, где он, лёжа на диване, перелистывал свежий номер «Лайфа», вошла фрейлейн Эрна и доложила, что его спрашивает «по весьма срочному делу» какой-то Мильх.
Грейвуд недовольно поморщился и хотел было послать этого Мильха ко всем чертям за появление без разрешения в его вилле. Однако, подумав, он сообразил, что если этот корректный, исполнительный и старательный немец позволил себе прийти в неурочное время и в неположенное место, то для этого имеются серьёзные основания.
— Пригласите его сюда, Эрна, — сказал полковник, и молодая женщина, легко постукивая каблучками, вышла из кабинета.
Через две минуты, почтительно покашливая, в комнате появился Мильх.
— Добрый вечер, мистер Грейвуд, — начал он. — Извините, что я пришёл без разрешения, но есть важная новость…
— Именно? — сухо спросил Грейвуд, не поднимаясь с дивана и не приглашая Мильха присесть.
— Мне удалось разыскать того человека, который в своё время занимался операцией «Сириус», — многозначительно ответил Мильх. — Если господину полковнику будет угодно вспомнить, он ставил передо мной такую задачу…
Господину полковнику, видимо, было угодно вспомнить, потому что он сразу вскочил с дивана, но тут же, пожалев, что выдал свою заинтересованность, сделал вид, что поднялся за сигаретой.
— Гм… Операция «Сириус»… Я что-то не совсем припоминаю, Мильх… О чём там шла речь?
— О советском орудии «Л‑2», мистер Грейвуд, и конструкторе Леонтьеве, — поспешно ответил Мильх. — Вы обнаружили в архивах гестапо дело по операции «Сириус» и подробно меня расспрашивали, мистер Грейвуд…
— Да, да, что-то было… — с самым рассеянным видом произнёс Грейвуд, хотя отлично знал, о каком деле идёт речь. — Если я не ошибаюсь, Мильх, ваша фирма весьма оскандалилась с этой операцией, ха-ха… Вам удалось сфотографировать чертежи орудия, но в последний момент на вокзале в Москве фотоплёнку выкрали у вашего сотрудника… Кажется, так?
— Меня всегда восхищает ваша память, мистер Грейвуд, — улыбнулся Мильх, отлично разгадавший игру, начатую шефом. — Всё было именно так…
— Значит, вы говорите о сотруднике, который попал в столь непристойное положение? — язвительно спросил Грейвуд.
— Да, мистер Грейвуд, о нём. Но этот сотрудник всё же добыл чертежи. Он всю жизнь работал по русскому профилю, мистер Грейвуд. Его фамилия Крашке.
— Где же этот Крашке?
— У меня дома, мистер Грейвуд. В любую минуту он к вашим услугам…
— Откуда он появился?
— Из Берлина, мистер Грейвуд…
И Мильх подробно доложил полковнику о случайной встрече на стадионе с Виртом и Крашке, рассказавшими о всех своих злоключениях.
— Им известно что-либо о судьбе Леонтьева? — спросил Грейвуд.
— Нет, мистер Грейвуд. Наша служба, как я вам в своё время докладывал, в последний раз имела сообщение о Леонтьеве в связи с его приездом в Дебице, мистер Грейвуд… Я вам докладывал об этом неделю тому назад, если вы помните.
— Дебице? Дебице? — пробормотал Грейвуд. — Да, был какой-то разговор. Вы мне показывали донесение из Дебице, если не ошибаюсь.
— Совершенно верно. Позвольте напомнить. На нашей экспериментальной станции в Дебице, в Польше, мы производили испытания летающих ракет. Потом, когда советские войска прорвались в Польшу, нам пришлось эвакуироваться из Дебице. Вследствие спешки, вызванной неожиданным прорывом русских, наше командование не сумело своевременно эвакуировать все агрегаты станции, и в панике многое там оставило… Лица, виновные в этой панике, были строго наказаны…
— Слушайте, Мильх, — сердито произнёс Грейвуд. — Если вы думаете, что меня интересует вопрос об этих виновных…
— Извините, мистер Грейвуд, я просто докладываю всё по порядку. Итак, русские заняли Дебице. К счастью, там сохранился один наш агент. И он потом прислал нам донесение, что в Дебице приезжала целая комиссия, в том числе и англичане… Вместе с ними приезжал и Леонтьев…
— Да, да, теперь припоминаю, — сказал Грейвуд, который знал о Дебице гораздо больше, чем Мильх. — Хорошо, привезите мне этого Крашке завтра утром… На третью точку, Мильх…
— Слушаю, мистер Грейвуд. Ровно в десять?
— Да, как всегда…
— Всего хорошего, мистер Грейвуд. Ещё раз извините, что явился без разрешения. Я полагал, что это срочное дело…
— Ничего срочного в этом деле не нахожу, — пробурчал Грейвуд и кивком головы дал понять Мильху, что аудиенция окончена.
Как только Мильх ушёл, Грейвуд подошёл к сейфу, стоявшему в его кабинете, и достал толстую папку с надписью по-немецки: «Абсолютно секретно. Операция «Сириус». Личное поручение рейхсфюрера СС».
***
Обстоятельства, связанные с операцией «Сириус», настолько интересовали полковника Грейвуда, что папку с документами, относящимися к этой операции, он даже взял в свой домашний сейф, время от времени перелистывая страницы пухлого «дела».
Этот повышенный интерес к операции имел свою историю. Она началась летом 1944 года, когда полковник Грейвуд находился в Лондоне, будучи прикомандирован к британской разведывательной службе. В качестве представителя союзной разведки полковник был любезно принят своими британскими коллегами, и они совместно выполняли некоторые задания.
В то время англичане проявляли особый интерес к работе немцев над ракетными летающими снарядами. Однажды Грейвуд был приглашён к одному из руководителей британской разведки. Здесь полковнику было доверительно рассказано, что после длительных усилий англичанам удалось получить важные сведения: в Польше, в районе Дебице, недалеко от Кракова, расположена секретная испытательная станция по запуску ракет весом в пять тонн.
— Теперь, когда наши русские союзники прорываются в Польшу, — сказал Грейвуду его английский коллега, пожилой человек в звании вице-адмирала, длинный, сухой, с усталыми глазами, — у нас есть кое-какие шансы посмотреть на эту испытательную станцию, будь она проклята…
Грейвуд усмехнулся:
— Вы серьёзно на это надеетесь?
— Как вам сказать, — ответил вице-адмирал. — Я вчера просил сэра Уинстона Черчилля обратиться к русским с соответствующим представлением. Он тоже не уверен в результате такого обращения, но, тем не менее, подписал шифрованную телеграмму Сталину. Вот, посмотрите…
И он протянул Грейвуду текст телеграммы:
«Личное и строго секретное послание от г‑на Черчилля Маршалу Сталину.
1. Имеются достоверные сведения о том, что в течение значительного времени немцы проводили испытания летающих ракет с экспериментальной станции в Дебице в Польше. Согласно нашей информации, этот снаряд имеет заряд взрывчатого вещества весом около двенадцати тысяч фунтов, и действенность наших контрмер в значительной степени зависит от того, как много мы сможем узнать об этом оружии, прежде чем оно будет пущено в действие против нас. Дебице лежит на пути Ваших победоносно наступающих войск, и вполне возможно, что Вы овладеете этим пунктом в ближайшие несколько недель.
2. Хотя немцы почти наверняка разрушат или вывезут столько оборудования, находящегося в Дебице, сколько смогут, вероятно, можно будет получить много информации, когда этот район будет находиться в руках русских. В частности, мы надеемся узнать, как запускается ракета, потому что это позволит нам установить пункты запуска ракет.
3. Поэтому я был бы благодарен, Маршал Сталин, если бы Вы смогли дать надлежащие указания о сохранении той аппаратуры и устройств в Дебице, которые Ваши войска смогут захватить после овладения этим районом, и если бы затем Вы предоставили нам возможность для изучения этой экспериментальной станции нашими специалистами.
Грейвуд внимательно прочёл телеграмму.
— Очень мило написано, — сказал он, возвращая её вице-адмиралу. — Сомневаюсь, однако, чтобы русские на это согласились…
Вице-адмирал уловил насмешку в тоне Грейвуда, сдвинул свои лохматые брови, нависшие над выцветшими, глубоко сидящими глазами, и медленно произнёс:
— Людям, дорогой полковник, свойственно иногда судить о поступках других по своей мерке… Гм, гм… Я не имел удовольствия быть лично знакомым с русскими, но, судя по тому, что слышал о них, это — люди слова. Они понимают, что такое долг союзника… Во всяком случае, полковник, ни мы, ни вы пока не можем жаловаться на усилия русских… Я говорю вам об этом как разведчик разведчику…
— В мои намерения не входит разочаровывать вас, господин вице-адмирал, в русских союзниках, — ответил Грейвуд. — Да, красные умеют драться, нельзя это отрицать… Но в трофейных ракетах они смогут разобраться и без нашей помощи, тем более что сами владеют ракетным оружием, как вам известно…
— Да, их «Л‑2» — грозное оружие, — согласился вице-адмирал. — Наши военные эксперты, наблюдавшие его действие на Восточном фронте, дали этому оружию высокую оценку… По мнению экспертов, русский инженер Леонтьев — автор «Л‑2» — добился очень многого… Впрочем, надо полагать, что дело не в одном Леонтьеве. Русские умеют и любят работать коллективно. Это их несомненное преимущество, полковник…
Теперь уже Грейвуд уловил в последних словах вице-адмирала язвительный намёк. Англичане были обижены упорным отказом американцев информировать их о ходе секретных работ в области атомной энергии, которые тогда велись в США при помощи физиков, приглашённых из разных стран Европы, в том числе из самой Англии.
На этом разговор о Дебице закончился. Грейвуд мысленно несколько раз возвращался к этой теме, всё более укрепляясь в своей уверенности, что на письмо Черчилля последует вежливый, но твёрдый отказ. Велико было его удивление, когда вице-адмирал через три дня с торжествующей улыбкой сказал ему:
— Сегодня сэр Уинстон сообщил мне, что он получил ответ из Москвы относительно Дебице. Маршал Сталин просит уточнить, о каком именно Дебице идёт речь, так как в Польше, оказывается, есть несколько пунктов под этим названием… Как видите, полковник, я был прав, что русские понимают долг союзника…
— Я буду рад присоединиться к вашему мнению, сэр, после того как Москва даст визы вашим специалистам, чтобы они побывали в Дебице, — снова, не скрывая улыбки, произнёс Грейвуд. — Пока же ответ Москвы очень похож на уловку…
Вице-адмирал снова нахмурил свои рыжие брови. Улыбки полковника Грейвуда начали ему надоедать. Американские офицеры плохо воспитаны, дьявол им в глотку!.. Что за неуместная ирония по адресу старшего по званию, во-первых, и хозяина дома, во-вторых? Вице-адмирал — не начинающий юнец, и этому американскому верзиле сие хорошо известно…
Вот почему примерно через две недели вице-адмирал был искренне рад сообщить Грейвуду, что тот ошибался.
— Итак, мой дорогой полковник, — сказал вице-адмирал своему американскому коллеге, — могу вам сообщить нечто приятное…
— Я вас слушаю, сэр, — сразу насторожился Грейвуд, заметив озорной огонёк в глазах вице-адмирала. — Приятные вести всегда приятно выслушать.
— Мой опыт меня не подвёл, — продолжал вице-адмирал. — Сегодня сэр Уинстон познакомил меня с ответом маршала Сталина по поводу Дебице. Вот копии телеграмм…
И вице-адмирал протянул Грейвуду два листка. На первом из них была копия телеграммы Черчилля:
«В Вашем послании от 22 июля Вы соблаговолили сообщить мне, что Вы дали необходимые указания касательно экспериментальной станции в Дебице.
Группа британских специалистов находится в Тегеране несколько дней в ожидании виз на въезд в Советский Союз, хотя Послу сэру А. Кларку Керру ещё 28 июля было поручено просить Советское Правительство дать указание советскому представителю в Тегеране выдать визы.
Вы любезно сообщили мне, что Вы возьмёте это дело под Ваше личное наблюдение. Смею ли я поэтому просить Вас дать необходимые указания, с тем чтобы наши специалисты смогли немедленно продолжить свой путь?
3 августа 1944 года».
Ответ последовал на следующий день и гласил:
«Ваше послание от 3 августа относительно экспериментальной станции получил. Советскому Послу в Тегеране поручено незамедлительно дать британским специалистам визы для въезда в СССР.
Грейвуд очень внимательно прочёл текст обеих телеграмм, закурил сигарету, сделал несколько затяжек, а затем, глядя прямо в глаза вице-адмиралу, медленно протянул:
— Ну что ж, рад вас поздравить, коллега… Хотя, если говорить откровенно, я не уверен, что нам надо поздравлять друг друга… Скорее наоборот… Имею честь!..
И, щёлкнув каблуками, полковник повернулся и неожиданно вышел из кабинета вице-адмирала, который в глубокой задумчивости смотрел ему вслед. За два часа до разговора с Грейвудом вице-адмирал был принят Черчиллем и ознакомился с телеграммой. В ответ на поздравление вице-адмирала британский премьер странно усмехнулся и произнёс:
— Мой друг, нам обоим много более ста лет, а в таком возрасте не следует поздравлять в тех случаях, когда уместнее соболезнование… Любезность, с которой русские готовы нас познакомить с Дебице, не есть ли свидетельство их превосходства, старина?.. Превосходства не только в том, как драться, но и чем драться… Каждый день приносит мне всё новые доказательства, что коммунистическая Россия — ящик с неисчерпаемыми сюрпризами… Как опасно этого не видеть и с этим не считаться!..
Слова Черчилля перекликались с фразой, только что произнесённой полковником Грейвудом. Вот почему так задумался вице-адмирал.
***
Так или иначе Дебице было разрешено осмотреть. Полковник Грейвуд, получив соответствующее указание из Вашингтона, вылетел в Тегеран, а оттуда в Москву. Виза была дана и ему.
Вместе с британскими специалистами он побывал в Дебице. Русские военные инженеры любезно показали им экспериментальную станцию, расположенную в дремучем лесу, окружённую со всех сторон заборами с колючей проволокой и вышками, на которых ещё уцелели пулемёты.
Часть агрегатов была расположена под землёй, в отлично построенных подземельях.
Действительно, в результате паники гитлеровцы не успели всё уничтожить, хотя несколько зданий было взорвано. Тем не менее по остаткам заготовок корпусов снарядов, отдельным сохранившимся механизмам, агрегатам и лабораториям квалифицированные специалисты могли получить некоторые данные о новом оружии.
Британские специалисты и Грейвуд провели несколько дней в обществе советских военных инженеров. Полковник с особым интересом присматривался к русским. Не будучи специалистом в области техники, он больше занимался людьми. Русские инженеры — впрочем, тут был и армянин, и казах, и даже коми, Грейвуд впервые услыхал о такой народности, — были любезны, более чем корректны, гостеприимны, скромны.
В беседах со своими гостями они обнаружили высокую техническую квалификацию и, по общему мнению английских специалистов, были широко образованными инженерами.
Грейвуда особенно заинтересовал инженер Леонтьев, автор орудия «Л‑2», о котором так много говорили в Англии и США. Это был очень спокойный, даже тихий человек, с задумчивым и немного грустным лицом, иногда, впрочем, озарявшимся чуть застенчивой улыбкой. Он был немногословен, но приветлив, совсем не чванился, смущённо выслушал горячие комплименты гостей по поводу «Л‑2», тут же поспешив заявить, что это оружие — плод коллективного, а не единоличного труда. Вообще он был менее всего склонен говорить о себе.
Грейвуд был достаточно наблюдателен и умён, чтобы заметить это.
Впрочем, он заметил не только это. Всё поведение Леонтьева и других советских инженеров свидетельствовало о том, что, осмотрев станцию в Дебице, они потеряли к ней интерес. Видимо (хотя никто из советских инженеров об этом не сказал), немцы не добились ничего такого, что могло бы представлять большой интерес для советской техники.
Грейвуд не раз ловко заговаривал на эту тему с Леонтьевым, стараясь выпытать его мнение о немецких ракетах. Леонтьев очень сдержанно отвечал на вопросы Грейвуда, но не скрывал, что всё осмотренное — «вчерашний день»…
Вначале Грейвуду казалось, что Леонтьев хитрит и не желает высказать своё подлинное мнение. Но потом, внимательно наблюдая за Леонтьевым и его товарищами, уловив несколько раз их улыбки, вызванные теми или иными деталями ракет, а главное, убедившись в их равнодушии к тому, что они увидели в Дебице, Грейвуд понял — немцы действительно ничем не удивили русских инженеров.
И Грейвуд всё более укреплялся в выводе, что в области ракетной техники русские идут своим, особым путём.
Не будучи сам инженером, полковник, естественно, не мог понять всей широты технической проблемы. Да это и не входило в данном случае в его задачу.
Но зато он уже твёрдо знал, что широко распространённое в американских и английских военных кругах мнение о том, что русские — бравые и храбрые солдаты, но их техника отстаёт от их доблести, глубоко ошибочно и необоснованно.
Увы, эта ошибка была не первой. Вспомнилось Грейвуду, как в первые дни войны, начатой гитлеровской Германией против Советского Союза, крупнейшие военные специалисты Америки согласно утверждали, что судьба Советского Союза предрешена и русская армия будет побеждена. События первых месяцев войны как будто подтверждали эту точку зрения. Кто бы мог тогда предположить, что дело обернётся так, как оно сложилось в последующие три года?
Сразу после поездки в Дебице полковник Грейвуд вылетел в США, где подробно доложил о своих впечатлениях. Да, он твёрдо и окончательно убедился, что советские военные инженеры не нашли ничего интересного для себя в Дебице. Можно не сомневаться, что немецкая ракетная техника не представляет для русских особого значения. Именно этим он, Грейвуд, может объяснить лёгкость, с которой Москва пошла на то, чтобы допустить в Дебице своих союзников.
Можно считать установленным, что в области ракетной техники русские ушли далеко вперёд.
Этот доклад был выслушан начальством Грейвуда довольно холодно. Грейвуд понял, что его выводы не встречают сочувствия.
— Не могу с вами согласиться, полковник, — произнёс в заключение один из трёх генералов, которым Грейвуд докладывал результаты своей поездки в Дебице. — Равнодушие советских инженеров к тому, что они видели в Дебице, может быть с равными основаниями объяснено тем, что они ушли далеко вперёд в области ракетной техники, как и тем, что они отстали настолько, что не в состоянии разобраться в том, что увидели. И, если говорить откровенно, вторая версия гораздо больше соответствует нашим сведениям о Советской России. Нельзя забывать, что это отсталая страна…
— Но эта отсталая страна, генерал, разгромила гитлеровскую армию и идёт к окончательной победе, — не выдержал Грейвуд. — Позволю себе также напомнить, что русские ещё в начале войны создали своё ракетное оружие «Л‑2», о котором я вам докладывал.
— Вы придаёте слишком большое значение этому ракетному оружию, полковник Грейвуд, — улыбнулся генерал. — Я давно заметил, что стоит нашим офицерам побывать в России или встретиться с русскими, как они заражаются иллюзиями о могуществе коммунизма. Всё это чепуха, мой дорогой полковник, могу вас заверить. Тем более что будущее принадлежит не ракетному оружию, а атомным бомбам — пора это понять! И в этой области русским не суждено нас догнать… Вы знаете, что я имею в виду, полковник Грейвуд…
Грейвуд действительно имел некоторое представление о вопросе, затронутом генералом. Ему было известно, что в США ведутся работы над атомной бомбой и в них принимают участие многие иностранные физики-атомщики, свезённые из разных стран в Америку.
При всём том Грейвуд не разделял уверенности генерала, что советские учёные не смогут догнать США и в этой области. Как человек большой наблюдательности и опыта, Грейвуд давно понял, что иллюзии о могуществе коммунизма менее опасны для американских военных кругов, нежели иллюзии о том, что Россия — отсталая страна. Но спорить с генералом Грейвуд не хотел: он знал, что точка зрения, высказанная генералом, разделяется теми кругами, с которыми не стоило ссориться и спорить. Это была, так сказать, официальная точка зрения, и люди, оспаривавшие её, рисковали своей карьерой. А своей карьерой полковник Грейвуд рисковать не любил. Вот почему он почтительно выслушал замечания генерала и с наигранной наивностью заявил:
— Ваша логика, как всегда, безукоризненна. Но прошу понять, что я, как разведчик, всегда предпочитаю преувеличивать опасность, нежели вовсе её не заметить… Именно этому меня научили вы, генерал…
Эта реплика понравилась. Генерал снисходительно похлопал Грейвуда по плечу и сказал, обращаясь к своим коллегам:
— Да, да, друзья, я не раз высказывал эту формулу полковнику Грейвуду, не раз… И, как видите, мои усилия не пропали даром… Что и говорить, в лице полковника Грейвуда мы имеем настоящего разведчика. Я предлагаю принять к сведению его доклад о поездке в Дебице. Кроме того, на всякий случай дадим предписание нашей стратегической службе поинтересоваться работой русских в области ракетного оружия. Это никогда не мешает, друзья…
Через несколько месяцев тот же генерал вызвал к себе Грейвуда.
— Война близится к концу, полковник, — с озабоченным видом сказал он. — Мне поручено форсировать наши мероприятия по изучению состояния советского ракетного оружия. Надо заняться не только работами немцев в этом направлении, но и работами русских. Этому придаётся большое значение. Сразу после оккупации Германии вам придётся поселиться там и приступить к выполнению задания. Когда меня спросили, кого я могу рекомендовать, я не задумываясь, назвал ваше имя и хочу верить, что не ошибся… Не так ли, мой дорогой полковник Грейвуд?..
— Я постараюсь оправдать ваше доверие, генерал, — почтительно ответил Грейвуд.
Обо всём этом полковник Грейвуд вспоминал теперь, летом 1945 года, в Нюрнберге. Перелистывая страницы пухлого архивного дела гестапо «Операция «Сириус», Грейвуд с удовольствием думал о том, что завтра встретится с Крашке, которого давно искал. Сама судьба шла навстречу Грейвуду!..
***
«Третьей точкой» именовалась одна из конспиративных квартир, находившихся в распоряжении полковника Грейвуда в Нюрнберге. Здесь он встречался со своей новой агентурой, состоящей главным образом из немцев.
«Третья точка» помещалась в пригороде Нюрнберга, неподалёку от замка знаменитого «карандашного короля» Фабера. Замок этот отлично сохранился, и вообще тот район пострадал от бомбёжек меньше других.
На боковой улочке, примыкавшей одним концом к замку Фабера, издавна существовала старинная пивнушка под пышным названием «Золотой гусь». Над дверью пивной висел бронзовый, потемневший от возраста гусь.
Теперь, после некоторого перерыва, пивная снова открылась. В тёмном продолговатом зале с низкими деревянными и тоже очень древними потолками стояли массивные дубовые столы. Справа помещалась буфетная стойка, за которой восседал на высоком табурете новый хозяин этого заведения, уже немолодой немец с угрюмым лицом, отпускавший пиво и нехитрую закуску того времени.
Две официантки разносили по столам пиво. В отличие от обычных кёльнерш такого рода заведений эти немки были одеты очень скромно, не заигрывали с посетителями, не принимали угощений и вообще держались с большим достоинством. «Хозяин» пивной, в действительности являвшийся сотрудником Грейвуда, сообщал завсегдатаям что он родом из Дрездена, где при бомбёжке погибла его семья, что сам он чудом остался жив и теперь, оказавшись в Нюрнберге, занялся привычным делом, открыв эту пивную. Герр Вольпе, несмотря на несколько угрюмый вид, охотно вступал в разговор с посетителями пивной, сам, по-видимому, был не дурак выпить и вскоре приобрёл репутацию солидного и симпатичного человека, незаслуженно и жестоко пострадавшего от войны.
Посетителями пивной были в основном жители этого района. Они хорошо знали друг друга, обрадовались, что «Золотой гусь» снова ожил, и были благодарны герру Вольпе, достававшему в столь трудное время пиво. Обязанное своим существованием древесным опилкам, а не ячменю, пиво всё-таки имело несколько градусов крепости, нормальный соломенно-жёлтый цвет и даже чуточку пенилось.
В левом углу пивной находилась дверь, ведущая в коридор, где были расположены уборные. Но не все посетители пивной знали, что в конце коридора имелась потайная дверь, ведущая в квартиру, примыкавшую к коридору. Дверь была замаскирована большим деревянным шкафом, являвшимся своего рода тамбуром.
Квартира имела и свой самостоятельный выход со двора.
Ровно в десять утра, как было условлено, Мильх, Крашке и Вирт вошли в пивную и заняли столик. Оставив Крашке и Вирта, Мильх прошёл через коридор в квартиру, где в богато обставленном кабинете его встретил Грейвуд.
— Господин полковник, здравствуйте, — поздоровался со своим шефом Мильх. — По вашему приказанию я привёл Крашке и Вирта.
— Хорошо, Мильх, — ответил Грейвуд. — Сначала я хочу побеседовать с Крашке, приведите его сюда. А с Виртом посидите пока в пивной…
Мильх поклонился, молча вышел из кабинета и вскоре явился туда в сопровождении Крашке, который был на этот раз гладко выбрит, подтянут и даже надел новый костюм, одолженный ему Мильхом.
Войдя в кабинет и представ перед полковником Грейвудом, сидящим в глубоком кожаном кресле, Крашке щёлкнул каблуками и почтительно поклонился, не произнося ни одного звука.
— Здравствуйте, Крашке, — благосклонно протянул Грейвуд, с интересом разглядывая своего нового посетителя и мысленно одобрив молчаливость и почтительность этого старого волка. — Хотя нам не пришлось встречаться раньше, я имею довольно точные сведения о вашем прошлом… Садитесь.
— Благодарю вас, господин полковник, — почтительно произнёс Крашке садясь.
— Мильх мне сообщил, что вы готовы сотрудничать с нами, — продолжал Грейвуд, внимательно разглядывая Крашке. — Это действительно так?
— Если моя готовность встретит сочувственное отношение господина полковника, я буду весьма счастлив, — ответил Крашке.
— Как старый разведчик, вы, вероятно, понимаете, Крашке, что сочувствие возникает по мере полезности. Таким образом, многое будет зависеть от вас…
— Господин полковник, я постараюсь быть полезным.
— Хорошо, посмотрим. Мильх, пройдите пока к Вирту, а я побеседую с Крашке, — произнёс Грейвуд, и Мильх сразу покинул кабинет.
— Меня пока интересует офицер, который вас задержал в аптеке, — начал Грейвуд. — Если Мильх мне точно доложил, этот офицер в своё время украл у вас бумажник на Белорусском вокзале в Москве. Так?
— Именно так, господин полковник.
— Более чем странно. Я уж не говорю о таком почти невероятном совпадении, но самый факт, гм… несколько необычен. Если этот офицер вас в своё время обворовал, то, следовательно, он вор?
— Получается так.
— Но если он вор, то как он мог стать офицером и зачем он вас в таком случае задержал? Разве он не скрывал своего прошлого?
— Господин полковник, мне самому многое непонятно в этой загадочной истории, — поспешно произнёс Крашке. — Сначала я подумал, что этот офицер — сотрудник советских следственных органов… Однако когда он меня задержал и доставил в контрразведку, то из некоторых деталей выяснилось, что он никакого отношения к этим органам никогда не имел… Из протокола, который был составлен, мне известно, что он просто рядовой офицер, лейтенант, и что его фамилия Фунтиков… Но, поверьте мне, всё мною сказанное — чистая правда… Если позволите, я доложу вам подробно, как всё это было…
Грейвуд слушал очень внимательно, ему важно было убедиться в том, что Крашке вполне откровенен. Видя, что рассказ Крашке вполне соответствует материалам архивного дела «Операция «Сириус», Грейвуд с чисто профессиональным интересом выслушивал подробности, которых в деле, естественно, не было. Особенно заинтересовал полковника психологический вопрос: как объяснить поведение Фунтикова?
Крашке, подбодрённый явным интересом к его рассказу, старался произвести наилучшее впечатление на полковника, с которым намеревался связать свою судьбу. Беседуя, Крашке в свою очередь внимательно изучал своего будущего шефа. Он заметил, что Грейвуд, несомненно, умён, немногословен, подозрителен и — самое важное — очень заинтересован подробностями операции «Сириус». Крашке понимал, что этот интерес связан с работами Леонтьева.
В конце разговора, продолжавшегося около двух часов, Грейвуд объявил, что он зачисляет Крашке своим секретным сотрудником «с испытательным сроком», получил от Крашке письменное обстоятельство, выдал ему аванс и назначил новую встречу для получения конкретного задания.
Отпустив Крашке, полковник пригласил к себе Вирта.
Увы, в отличие от Крашке Михель Вирт попал в довольно глупое положение. Вирт надеялся, что его данные о карательных связях и секретных переговорах американских промышленников с немецкими в период войны — находка для полковника Грейвуда. Вирт полагал, что, получив столь сенсационный материал, полковник либо сделает карьеру, дав этому материалу законный ход, либо напротив, замяв этот скандал, получит огромный гонорар от американских промышленных «королей», которые, естественно, захотят спастись от разоблачения.
Вот почему, в отличие от Крашке, Вирт вёл себя довольно уверенно, сразу дав понять, что он знает цену своим материалам, а следовательно, и самому себе.
Грейвуд внимательно выслушал Вирта, посмотрел его записи и документы, а затем очень спокойно спросил:
— Это всё, что вы можете предложить, господин Вирт?
— Мне кажется, что это не так уж мало, — развязно ответил эсэсовец.
— Значит, это — всё?
— Ну да.
— Следовательно, Вирт, вы являлись особо доверенным сотрудником Гиммлера?
— Я об этом сказал, господин полковник.
— И в последнее время были помощником начальника личной охраны самого Гитлера?
— Я и не пытался это скрыть.
— Это и невозможно скрыть, — произнёс Грейвуд и нажал кнопку звонка. В кабинете сразу появился дюжий американский сержант.
— Наручники, — коротко бросил Грейвуд.
Вирт не успел и оглянуться, как сержант надел на него наручники.
— Вы эсэсовец и военный преступник, — обратился Грейвуд к обомлевшему от неожиданности Вирту. — Обращаясь ко мне, вы забыли о том, что американские военные власти поставили своей задачей осуществление денацификации и предание суду военных преступников. Мы отправим вас на виселицу, негодяй!.. Генри, отвезите этого подлеца в тюрьму и передайте моё приказание — строгий надзор, наручники, одиночка…
— Господин полковник, послушайте, я умоляю… — залепетал Вирт, но сержант схватил его за шиворот и так рванул, что Вирт сразу потерял способность продолжать разговор и безропотно, подталкиваемый в спину сержантом, вышел из кабинета. В коридоре его повели куда-то вниз и заперли в совершенно тёмной каморке. Ночью Вирта перевезли в старинную нюрнбергскую тюрьму, предварительно обыскав и отобрав все документы, на которые он ставил такую большую ставку…
А через несколько дней Мильх, распив с Крашке бутылку шнапса и придя оттого в самое добродушное настроение, ответил на настойчивый вопрос о загадочном исчезновении Вирта такими словами:
— Американские власти, дорогой Крашке, готовы простить бывшим гестаповцам всё, кроме наивности… Наш бедный Михель, как это ни странно, оказался чересчур наивным…
Тут Мильх сделал ещё один глоток и задумчиво добавил:
— Вообще, я пришёл к выводу, что наша профессия имеет свои странные законы. Плохо, когда наш брат знает слишком мало, но ещё хуже, когда он знает слишком много…
После чего Мильх, как ни расспрашивал его Крашке, не промолвил ни одного слова о судьбе Вирта.
Зато в отчётах американской комиссии по денацификации появилась ещё одна фамилия немецкого военного преступника — новое свидетельство того, сколь добросовестно выполняют американские власти обязательства по денацификации своей оккупационной зоны.
Двоюродный брат
Как раз в те дни, когда в Нюрнберге в беседах полковника Грейвуда с Крашке часто упоминалось имя конструктора Леонтьева, сам Николай Петрович, прикомандированный к 5‑й гвардейской ударной армии, находился в Берлине.
Командующий этой армией генерал-полковник Берзарин, старый знакомый Леонтьева, был назначен военным комендантом Берлина. Сидя с Леонтьевым в своём кабинете, в доме, занятом военной комендатурой города, Николай Эрнестович Берзарин , оживлённо рассказывал конструктору о своей новой деятельности. Открытое, молодое лицо Берзарина, его невысокая, ладная фигура, живые умные глаза, густые, чуть тронутые сединой волосы, смуглые, немного скуластые щёки и белозубая улыбка давно были знакомы и симпатичны Леонтьеву. Он с интересом слушал рассказ о первых шагах коменданта на новом поприще.
— Признаться, Николай Петрович, — говорил Берзарин, — когда мне объявили о назначении комендантом Берлина, стало малость не по себе… Всю жизнь был военным, а тут, сами понимаете, надо заниматься водопроводом, продовольствием, электроэнергией, банями, пекарнями, больницами, школами… С утра приходят делегации немцев из разных районов Берлина, тьма самых разнообразных вопросов, тут надо быть и юристом, и дипломатом, и хозяйственником, и бог знает ещё кем… Честное слово, на фронте было как-то спокойнее и, знаете ли, проще… Когда ворвались мы в Берлин и начались бои в городе, я как-то подумал: ну вот, на днях кончится война, почти четыре года провоевал, всего нахлебался, можно и отдохнуть… Выпрошу отпуск, поеду на Волгу, недели две буду отсыпаться, а потом можно и порыбачить… И вот, полюбуйтесь, рыбачу…
И Берзарин широким жестом обвёл кабинет, огромную карту Берлина на стене, списки районных комендатур, доску с первыми приказами военного коменданта, отпечатанными жирным шрифтом на немецком и русском языках.
— Да, дело хлопотливое, — улыбнулся Леонтьев.
— Скажу больше, Николай Петрович, — продолжал Берзарин. — Мало того, что с немцами полно забот, так ещё и со своими приходится возиться, разъяснять да уговаривать… Сегодня пришёл ко мне один районный комендант, майор Щукин. Хороший парень, знаю его два года, отличный офицер, храбро воевал… Приходит ко мне и чуть не со слезами говорит: «Товарищ генерал, как хотите, а комендантом быть не могу». — «Почему?» — спрашиваю. — «Не могу, говорит, делайте, что хотите… У меня, говорит, немцы в Николаеве мать убили, сестрёнку в Германию насильно увезли, и здесь она, видимо, погибла… Не могу я об их питании заботиться, магазины им открывать и возиться с их водопроводом, который они сами же, дьяволы, и разрушили».
— Что же вы ему ответили?
— Сначала прикрикнул — извольте выполнять приказ и не вступать в дискуссии! А потом посадил его вот в это кресло и полчаса втолковывал, что мы не с народом воевали, а с гитлеровцами. Что, завоевав Берлин, мы обязаны заботиться о его населении. Что мы должны помочь немцам создать новую Германию…
Берзарин прошёлся по кабинету, подойдя к Леонтьеву, положил руку ему на плечо и тихо добавил:
— И ещё я ему сказал, Николай Петрович, что хотя война и кончилась, но начинается другая, может быть, не менее трудная война — война за мир, за демократию, за то, чтобы больше не было войн… И за то, чтобы никто не мог снова превратить немцев в убийц… Тут Щукин мой встал, вытянулся, смотрит мне прямо в глаза: «Всё понятно, товарищ генерал. Разрешите выполнять?»… И пошёл майор Щукин в районную комендатуру Берлина возиться с водопроводом, пускать электростанцию, открывать булочные и питательные пункты для немецкого населения… И знаете, что я вам скажу, Николай Петрович? Ушёл Щукин, ушёл, остался я один, и стыдно мне вдруг стало перед самим собой за собственную досаду на судьбу, на то, что меня назначили комендантом… Стыдно стало за свои мечты о рыбалке, об отдыхе. Нет, рано ещё отдыхать нам, рано… Не всё ещё сделано, не всё ещё в мире устроено так, как надо, как должно быть и как в конце концов будет… Будет, Николай Петрович, будет!.. Никогда, в самые трудные дни войны, ни на минуту не сомневался в этом, не сомневаюсь и теперь!..
Взволнованно прозвучали эти слова Берзарина, и Леонтьев, сразу почувствовав и оценив это волнение, подумал про себя: «Хорошо, что его назначили комендантом Берлина и что есть у нас вот такие, как он…»
Запел полевой телефон на столе Берзарина, и он, переговорив с кем-то, улыбаясь, обратился к Леонтьеву:
— Ну, пляшите!.. Вчера вы попросили узнать, где находится ваш двоюродный братец, полковник Сергей Павлович Леонтьев… Узнали мои ребята… Он и его полк в Букове… Полтора часа езды на машине…
***
Через полчаса обрадованный Леонтьев уже мчался на машине в Буков повидаться после почти пятилетней разлуки со своим двоюродным братом.
Детские годы братья провели неразлучно. Их отцы жили в одном доме, оба служили машинистами на железной дороге.
Коля и Серёжа были одногодки, вместе играли во дворе, потом незаметно подросли, поступили в школу, сидели несколько лет на одной парте.
После окончания школы Николай уехал в Ленинград, поступив в Технологический институт, Сергей пошёл в военное училище. Один стал инженером, другой — офицером танковых войск. Теперь братья встречались редко. Николай Петрович работал в Москве, Сергей Павлович служил в разных районах страны. Последний раз они встретились в августе 1940 года, когда Николай Петрович проводил свой отпуск на Днепре, под Киевом. В конце отпуска, зная, что Сергей Павлович служит в маленьком местечке под Ровно, Николай Петрович приехал к нему на несколько дней. Сергей Петрович уже давно был женат, имел одиннадцатилетнего сынишку, названного Колей в честь двоюродного брата.
Тепло встретились братья, всё свободное время были вместе, вспоминая далёкие годы, родителей, школу. Николай Петрович сразу подружился с женою брата — Ниной Петровной, миловидной, приветливой, ласковой женщиной, без ума любившей мужа и сынишку.
Полюбился Леонтьеву и племянник, светлоглазый, шустрый Коленька, весёлый крепыш, в котором родители и Дарья Максимовна — мать Нины Петровны — не чаяли души.
Николай Петрович, всё ещё не изживший горечи развода с женой, провёл в этой слаженной, дружной семье несколько счастливых, тихих дней. Дарья Максимовна и Нина Петровна трогательно ухаживали за дорогим гостем, закармливали его домашними пышками, украинскими галушками и всяческой, как шутя говорил он, «вкуснотой». Целыми днями Коленька водил его по живописным окрестностям местечка, или они вместе рыбачили на речке, небольшой, но богатой рыбой, ловя на спиннинг щук, а на удочку — краснопёрых, жирных окуней.
Вечерами, когда Сергей Павлович возвращался из части, вся семья собиралась в душистом саду, у самовара, под мирное гудение которого начинался долгий, задушевный разговор. В сумерках, как бы подчёркивая свежесть августовского вечера, плыл густой аромат спелых яблок, которыми были усыпаны стоявшие вокруг яблони, а из близкой степи доносился чуть горьковатый, приятный запах чебреца.
Чаепитие всегда затягивалось до поздней ночи. После долгих препирательств бабушка уводила спать начинавшего клевать носом внука, а Сергей Павлович, сменивший портупею и китель на пижаму, в который уж раз самолично заваривал чай, утверждая, что это — занятие чисто мужское и женскому полу недоступное, поскольку секрет хорошей заварки состоит именно в том, что надо засыпать много чаю, а они этого как раз делать и не умеют и никогда уметь не будут. Нина Петровна, добродушно огрызаясь, замечала, что Сергей Павлович давно известен «феодально-байским отношением к женщине» и потчевала Николая Петровича каким-то особым сортом домашнего варенья, сваренного накануне.
С удовольствием прихлёбывая крепкий, душистый чай, Николай Петрович вдыхал полной грудью свежий аромат сада, ночную прохладу и те особые, смутные и волнующие запахи украинской степи, которые всегда удивительно успокаивают душу и освежают кровь. Бледный августовский месяц плыл над тёмным садом, тишину которого только подчёркивал изредка мягкий стук падающего где-то рядом яблока.
— Хорошо сидим! — произносил после долгой паузы Сергей Павлович, и все начинали смеяться, потому что это было любимое его выражение, которое он частенько повторял.
— А ведь и в самом деле хорошо, — тихо отвечал Николай Петрович. — Я вот сижу и думаю: всего несколько дней прожил у вас, но за эти дни, кажется, отдохнул так, как никогда ещё не отдыхал…
— Вот и отлично, — замечала Нина Петровна. — И поживите у нас подольше. Куда вам торопиться, Николай Петрович?
— С радостью бы здесь задержался, — отвечал он. — К сожалению, мой отпуск на исходе, пора в институт — работа ждёт… И важная, прямо скажем, работа… Сергей Павлович может подтвердить — я ему немного рассказывал…
— Да, дело стоящее, — подтверждал Сергей Павлович. — А главное, и нашему брату спокойнее будет, в случае ежели придётся воевать… Ты как полагаешь, придётся?
— Как тебе сказать, Сергей, — отвечал Николай Петрович. — Обстановка в мире сложилась такая, что исключить это нельзя… Фашизм есть фашизм, и Гитлер наглеет с каждым днём… Но если и придётся воевать, то, как мне кажется, не раньше чем лет через пять-шесть… Впрочем, кто его знает…
— Вот именно, — взволнованно воскликнула Нина Петровна. — Кто его знает?! Случается, Николай Петрович, что иногда у меня просто сердце сжимается от страшного предчувствия войны… Два раза мне даже снилось, что война началась и я провожаю Серёжу на фронт, а Коленька плачет, плачет… Потом трогается поезд, весь из красных теплушек длинный такой, конца ему нет… И так жалобно свистит паровоз…
— Чему быть, того не миновать, — тихо сказал Сергей Павлович. — А в сны я вообще не верю, Нинушка…
…Теперь, сидя в машине, мчавшей его в немецкий город Буков, вспоминал Николай Петрович Леонтьев те далёкие августовские вечера в маленьком украинском местечке под Ровно, и взволнованный ночной разговор о войне, и погружённый в душистый сумрак сад, в котором они тогда сидели вместе, и крохотные голубовато-зелёные огоньки светлячков, вспыхивающие меж деревьев, и горьковатый, неповторимый запах чебреца, доносившийся из степи… И кому могло прийти в голову тогда, в августе 1940 года, что война, о которой говорили, как о чём-то маловероятном и уж во всяком случае очень далёком, в которую, даже говоря о ней, никто сердцем не верил, потому что не хотелось верить, что эта самая война уже лихорадочно готовится, наносится на секретные карты, планируется в секретных кабинетах германского генерального штаба, расцвечивается условными знаками на голубой кальке сверхсекретных планов, приказов и морских лоций!..
Да, кто бы мог подумать в ту тихую августовскую ночь, что так скоро грянет буря, разметет эту дружную, крепко слаженную семью, погубит Дарью Максимовну и Нину Петровну, забросит невесть куда Коленьку, а добродушный, жизнерадостный и весёлый Сергей Павлович останется вдруг один, без жены, без сына, без семьи, которую он так беззаветно и верно любил?..
В апреле 1941 года Сергей Павлович получил приказ о переводе на Дальний Восток. За годы военной службы Сергей и его семья привыкла к неожиданным переводам — таков удел всякого офицера.
На семейном совете было решено, что Дарья Максимовна и Коленька до конца учебного года останутся в местечке, а Сергей Павлович и Нина Петровна будут пока устраиваться на новом месте.
Так и сделали. Только в середине мая Сергей и Нина добрались до места назначения, стали понемногу устраиваться. Привыкшая за одиннадцать лет семейной жизни к частым переездам, Нина быстро освоилась с новой обстановкой, приобрела самые необходимые вещи, стараясь как всегда, при весьма скромных возможностях поуютнее обставить маленькую двухкомнатную квартиру, которую им предоставили.
А Сергей Павлович с первых дней приезда, как всегда, стал много работать, поздно возвращаться домой и очень скучал без сынишки. Тосковала без Коленьки и Нина Петровна.
К тому же молодую женщину начало беспокоить состояние её здоровья. У Нины Петровны было сердечное заболевание, до сих пор мало её тревожившее. Но, видимо, новый климат был для неё неблагоприятен, и Нина Петровна начала это ощущать. Не желая огорчать мужа, она не рассказывала ему о появившихся симптомах ухудшения болезни.
По секрету от мужа Нина Петровна обратилась к врачу. Осмотрев молодую женщину, врач сказал, что для неё особенно важен покой, что, по-видимому, разлука с сынишкой тоже отражается на состоянии её здоровья, что к климату она в конце концов, как он надеется, привыкнет. Врач прописал Нине Петровне и лекарство, которое она аккуратно принимала, делая это опять-таки тайком от мужа.
Дарья Максимовна писала, что она и Коленька здоровы, мальчик хорошо учится и с нетерпением ждёт конца учебного года, чтобы выехать к родителям.
В каждом письме была собственноручная приписка Коленьки, сделанная родным и таким знакомым детским почерком. Мальчик писал, что скучает без папы и мамы, ждёт, когда они наконец снова будут вместе. Он прочёл в какой-то книге, что на Дальнем Востоке водятся тигры и леопарды, и надеется стать знаменитым охотником на тигров.
Так шли дни. Сергей Павлович в настенном календаре аккуратно вычёркивал число за числом, с удовольствием отмечая, что до 1 июля, когда ему был обещан отпуск для поездки за сынишкой и тёщей, осталось не так уж много.
1 июня от Дарьи Максимовны пришла телеграмма: Коленька успешно закончил учебный год. Бабушка предлагала, не ожидая приезда Сергея Павловича, выехать с внуком.
Сергей Павлович задумался. Дарья Максимовна была ещё бодрой и энергичной женщиной, пожалуй, она отлично добралась бы с Коленькой и без всякого сопровождения. Это на целый месяц приблизило бы встречу с сынишкой. Нина Петровна, однако, не согласилась с мужем. Конечно, и ей очень хотелось ускорить приезд матери и сына, но она всё-таки боялась долгого пути — а вдруг с Дарьей Максимовной что-нибудь случится в дороге, как-никак, старая женщина, мало ли что может быть…
Выслушав жену, Сергей Павлович согласился с её доводами. И на следующий день он телеграфировал Дарье Максимовне, что в начале июля сам за ними приедет, а пока пусть не спеша готовятся к отъезду…
Кто мог знать, что эта телеграмма, такая разумная сама по себе, будет иметь роковые последствия?..
***
21 июня, в субботу, в гарнизонном клубе был вечер танцев. Чтобы развлечь жену, всё сильнее тосковавшую в эти дни по Коленьке, Сергей Павлович уговорил её пойти в клуб.
Нина Петровна, хорошо чувствовавшая себя в этот вечер, надела любимое платье цвета морской волны, который очень шёл к её зеленоватым глазам, причесалась, надушилась, и они пошли.
В клубе уже собралось много народу. Полковой оркестр без устали исполнял вальсы, танго, мазурки. Нина Петровна пользовалась успехом, многие офицеры приглашали её танцевать. Сергей Павлович не без удовольствия отметил это.
В первом часу ночи они вернулись домой. За распахнутыми окнами квартиры, расположенной во втором этаже, мирно мерцали тихие июньские звезды. Умываясь на ночь, Нина Петровна неожиданно рассмеялась.
— Ты чего, Нинуша? — спросил, услышав её смех, Сергей Павлович.
— Я вспомнила, что когда мы жили в Николаеве и Коленьке было три года, мама пошла принимать ванну. Коленька, подойдя к двери и заметив клубы пара, спросил: «Баба, ты уже сварилась?». Помнишь, какой он был забавный?
— Да, очень, — ответил Сергей Павлович. — Ну вот, через несколько дней вылечу за ним… Сегодня начальство мне подтвердило, что первого июля дадут двухнедельный отпуск…
В полдень Сергея Павловича вызвали. Ординарец передал приказание командира дивизии, — немедленно явиться в штаб. Сергей Павлович быстро оделся, поцеловал жену и, выходя из квартиры, взглянул на стенные ходики, мерно отстукивавшие время. Было начало первого.
Через два часа он вернулся и сообщил жене, что в эту ночь началась война…
***
Конечно, ни о каком отпуске для поездки за сыном и тёщей уже не могло быть и речи. Сергей Павлович послал телеграмму Дарье Максимовне, что она должна выехать самостоятельно. На следующий день пришла ответная телеграмма: Дарья Максимовна принимает меры к выезду, но это не так просто…
Сергей Павлович и сам понимал, что в связи с начавшейся войной, передвижением войск в районе, близком к границе, изменением железнодорожных расписаний выехать будет не просто.
Между тем военные действия стремительно развивались, и через некоторое время то местечко, в котором находилась Дарья Максимовна с Коленькой, оказалось отрезанным…
Каждый день Нина Петровна и Сергей Павлович трепетно ожидали какого-нибудь сообщения, надеясь, что Дарье Максимовне удалось в последний момент эвакуироваться. Но дни проходили за днями, и никаких вестей не было.
Мучительная тревога за судьбу матери и Коленьки подтачивала и без того хрупкое здоровье Нины Петровны. Как все советские люди в те месяцы, она тяжко переживала грозное положение на фронте.
Не легче было и Сергею Павловичу. Он старался успокоить Нину Петровну и в то же время настойчиво добивался отправки на фронт. Когда появились надежды на то, что его просьба будет удовлетворена, Сергей Павлович сообщил об этом жене. Он ещё раз оценил её характер, когда, выслушав осторожное сообщение мужа, она тихо произнесла:
— Ты правильно сделал, Серёжа… В такие дни тебе легче будет там… Я знала, что ты так поступишь и точно так же поступила бы на твоём месте… А теперь поговорим обо мне…
И она сообщила мужу о своём решении: ехать на фронт вместе с ним… Оказывается, ещё в первые дни войны Нина Петровна поступила на курсы медицинских сестёр, организованные при гарнизонном клубе. Сергей Павлович был так занят по службе, что даже не знал о том, что Нина Петровна ежедневно по нескольку часов занимается на этих курсах.
Теперь, выслушав жену, говорившую очень спокойно, но твёрдо, мысленно прикинув положение, создавшееся в их семье, Сергей Павлович понял, что самое страшное для Нины Петровны — остаться в тылу одной, без матери, мужа и сынишки.
— Ты права, Нинуша, — сказал он жене. — Единственное, что меня беспокоит — твоё сердце… В военкомате могут придраться.
И там действительно придрались, когда возник вопрос о годности к военной службе медсестры Нины Петровны Леонтьевой.
Никогда в прошлом не прибегал к протекциям Сергей Павлович, человек твёрдо сложившихся правил и большой душевной чистоты. Но в этом случае, после долгих размышлений, пошёл прямо к командиру дивизии.
Он рассказал генералу обо всём, что случилось в семье, о положении, в котором окажется Нина Петровна, если одна останется в тылу.
— Верно, верно, Сергей Павлович, — ответил генерал. — Я не врач, но тоже понимаю, что при состоянии здоровья Нины Петровны и страшной неизвестности о судьбе сынишки и матери ей лучше всего поехать с вами на фронт… Так и быть, похлопочу… Здесь тот случай, когда самое правильное — нарушить правила… Бывает в жизни и так…
И правила были нарушены.
***
В декабре 1941 года, после разгрома немцев под Москвой, Николай Петрович Леонтьев получил письмо с фронта от брата. В этом письме Сергей сообщал, что Дарья Максимовна и Коленька вероятнее всего остались в оккупированном немцами местечке, а он и Нина Петровна находятся теперь на Западном фронте. Брат писал, что дела пошли лучше, он и жена очень хотели бы повидаться с Николаем Петровичем и при первой возможности постараются это сделать…
Вскоре после получения письма Николай Петрович сам уехал на фронт для боевого испытания «Л‑2», а когда вернулся в Москву, то узнал, что сюда приезжал Сергей Павлович и очень огорчился, не застав брата.
А в ноябре 1943 года Николай Петрович, которому так и не удалось свидеться с братом, получил от него горькую весть: на фронте, при бомбёжке медсанбата, была убита Нина Петровна…
Николай Петрович написал большое, взволнованное письмо, стараясь, как мог, поддержать брата в его горе.
И тогда, и позже Николай Петрович не раз собирался навестить Сергея, но события на фронтах развивались так стремительно, а работа Николая Петровича для фронта была так важна, что до самого окончания войны братьям так и не довелось встретиться.
Теперь, по пути в Буков, Николай Петрович вспоминал подробности их последней встречи и всё, что случилось за эти пять лет в их личной жизни, в жизни всей их Родины и всего мира…
***
Буков, маленький, тихий, уютный немецкий городок, стоящий в густом лесу, на берегу озера, почти не пострадал от войны, как бы прошедшей мимо него.
В своё время Буков считался курортным городком, и сюда любили приезжать из Берлина на отдых уже немолодые люди, которых привлекали провинциальная тишина, хороший воздух, богатое рыбой озеро и маленькие, но комфортабельные пансионы. До войны в этих пансионах сравнительно дёшево и сытно кормили, окрестности городка были очень живописны, а если некоторые солидные берлинские коммерсанты, приезжая сюда отдохнуть, захватывали с собой молоденьких, кокетливых секретарш, то хозяйки пансионов отнюдь не придирались, не строили постных мин, а напротив, относились к таким парочкам самым доброжелательным образом.
По дороге, подъезжая к Букову, Николай Петрович разглядывал рекламы буковских пансионов: «Маргарита», «Фрау Эрна», «Грета», «Мадам Рекамье» и многих других. На рекламных плакатах, щитах и ярких двухметровых картинах были изображены элегантные кавалеры и дамы, мирно распивающие кофе и ликёры, купающиеся в озере, гуляющие, нежно прижавшись друг к другу, по лесу, или танцующие в летнем буковском дансинге.
Надписи поясняли, что «в Букове не любят сплетен», «любители уединения найдут здесь уютный уголок» и что «в пансионе «Венера» созданы все условия для пылких влюблённых»…
Но вот за крутым поворотом узкой асфальтированной дороги блеснуло озеро, на берегах которого стояли хорошенькие двухэтажные, с красными черепичными крышами, виллы. Почти в каждой из них в довоенное время был пансион.
Через десять минут в обширной, отделанной морёным дубом столовой бывшего пансиона «Фюрстенгоф» братья Леонтьевы с блестящими от волнения глазами изо всех сил хлопали друг друга по плечу, целовались, крякали, вздыхали, подозрительно кашляли и все никак не могли насмотреться друг на друга…
Потом, когда ординарец Сергея Павловича накрыл на стол, поставив бутылку московской водки и разнообразную закуску — от военторговской колбасы до буковских карасей в сметане, — встали Николай и Сергей Леонтьевы у стола, подняли налитые до краев гранёные рюмки старинного богемского хрусталя и разом, не сговариваясь, тихо произнесли:
— Ну, за Родину, за Победу, за нашу встречу в Германии, браток!..
Всю ночь напролёт ни на минуту не сомкнули глаз братья. Уже порозовели от восходящего солнца стволы сосен, стоявших за распахнутым в спальне окном, а Сергей Павлович всё рассказывал о том, что довелось пережить за эти годы.
О том, как в 1943 году позвонили ему на КП полка, которым он командовал, что стряслась беда в медсанбате. Как по грязной осенней дороге примчался он туда и узнал, что осколком бомбы тяжело ранена Нина Петровна. Как долго стоял он у её койки, а она всё металась в бреду и не сходило с уст её имя сынишки Коленьки… Как потом, за несколько минут до конца, она неожиданно пришла в себя, узнала мужа и тихо, еле шевеля запекшимися губами, прошептала:
— Серёженька, поклянись, что будешь беречь себя для него… Для Коленьки… Я, одна я, виновата во всем… Я уговорила тебя послать телеграмму, чтобы мама без тебя не выезжала… А ты ни разу меня и не упрекнул… Спасибо, мой любимый, мой единственный, мои дорогой… Спасибо за всё!..
Не слабого характера человеком был полковник танковых войск Сергей Леонтьев, но тут не выдержал. Бросился на колени перед койкой умирающей, всхлипывая, как ребёнок, целовал ей руки, и его крепкие плечи сотрясались от рыданий, и всё хотел он успокоить её и лепетал, что всё обойдётся, она выздоровеет, что кончится война и найдётся Коленька и они опять будут вместе, вместе, навсегда…
Но Нину Петровну уже нельзя было обмануть, и в эти последние свои минуты она, как во всю их совместную жизнь, пыталась успокоить его, и всё не уставала повторять — береги, береги себя для Коленьки…
…Вот и в эту бессонную майскую ночь в маленьком Букове, рассказывая обо всём брату, в дымной от множества выкуренных папирос немецкой спальне с широченной кроватью карельской берёзы, стёгаными шёлковыми пуховиками, пошловатыми фривольными картинками на стенах, обтянутых розовым репсом, и пухлым голубым ковром Сергей Леонтьев то и дело, не выдержав, замолкал, кашлял и скрипел зубами от нестерпимой душевной боли.
И всякий раз Николай Петрович, тоже с мокрыми от слёз глазами, обнимал брата и шептал ему:
— Да не сдерживайся ты, чего стесняешься, дурень!.. Плачь, говорю тебе, плачь!.. Иначе не выдюжишь!.. Ты слышишь меня, Сергей?
Потом, немного успокоившись, Сергей рассказывал о том, как он воевал и всё ждал, когда же наконец освободят Ровенскую область, чтобы мог он узнать судьбу своих близких.
А когда это случилось, выяснилась вторая беда: Дарью Максимовну убили немцы, а Коленьку со многими другими подростками угнали в Германию, на фашистскую каторгу…
Обо всём этом рассказали Сергею Павловичу соседи Дарьи Максимовны, старожилы этого местечка.
Когда полк Сергея Павловича ворвался в Восточную Пруссию и начались бои за Берлин, полковник Леонтьев расспрашивал сотни людей, освобождённых Советской Армией из разных концлагерей. Никто не мог сказать, где находится его сынишка. Среди сотен тысяч несчастных, согнанных из всех стран в гитлеровскую Германию, было множество подростков и даже детей, которых тоже заставляли работать на военных заводах или отдавали в кабалу немецким помещикам. Очевидцы рассказывали, что для детей и подростков были созданы особые концлагеря, в которых был установлен тот же каторжный режим. Полуголодный паёк, непосильная работа, издевательства и побои, колючая проволока и озверевшие эсэсовцы с немецкими овчарками — всё было в этих лагерях для детей, как и в лагерях для взрослых.
Теперь, после окончания войны, Сергей надеялся разыскать своего Коленьку в западных районах Германии, где, как он выяснил, ещё находились многие русские люди, в своё время вывезенные гитлеровцами из оккупированных районов.
— Чуется мне, Николай, — говорил Сергей Леонтьев, — понимаешь, чуется, что жив Коленька… Сам помнишь, какой он был у нас крепыш… Не может быть, чтобы он погиб — не верю!.. Вообще, говорят, дети оказались в этом аду более живучими, чем взрослые… Недавно я случайно встретился с одной женщиной, вывезенной из Краснодара… Она мне рассказала, что под Мюнхеном год назад был большой детский лагерь… В нём по большей части были ребята с Украины… Они работали на авиационном заводе Мессершмитта… Говорят, были и другие лагеря для детей и подростков. В общем, я не теряю надежды!.. Я уже подал заявление, сам ездил к нашим в Берлин. Мне обещали, что примут все меры, снесутся с американцами и англичанами. А главное, подтвердили, что много наших детей и подростков находится в западных районах… Ах, Коленька, Коленька!.. Каков он теперь, как выглядит, узнает ли меня? Как ему сообщить о матери?.. Ведь ему теперь, шутка сказать, шестнадцать лет исполнилось… Вытянулся, наверно, ведь он весь в меня…
***
Два дня прожил Николай Петрович у брата в Букове. Братья ни на минуту не расставались в эти дни — было что вспомнить, о ком погоревать, чем поделиться друг с другом…
Когда наступил час отъезда — Леонтьеву уже пора было возвращаться через Берлин в Москву, — опять зашла речь о Коленьке. Сергей Павлович, твёрдо веривший, что ему удастся найти сына, заговорил о его будущем.
— Я всё думаю, — сказал он, — где мне Коленьку пристроить, пока выяснится моя судьба… Ну, первое время поживёт он со мной, отдохнёт после всего, да и мне с ним расстаться не по силам… А ведь к осени надо подумать и об учёбе… Четыре года, что ни говори, из жизни вычеркнуты… Надо среднюю школу кончать, а там видно будет… Что делать — ума не приложу… У меня теперь ни кола ни двора… Прошлый раз, когда я в Берлин ездил, с начальником встретился… Разговор какой-то странный был, право, не пойму… Одним словом, намекнули, что какие-то на меня новые виды есть… А какие именно — не сказали. Ну, ты мой характер знаешь, я допытываться не стал…
— Погоди, Сергей, — перебил брата Леонтьев. — Какие бы на тебя виды ни были, дело не в том… При всех условиях Коленьке надо будет учиться. Это — главное. И будет он учиться в Москве, а жить у меня… Что может быть лучше?
Сергей Павлович задумался.
— Не скрою — была у меня и такая мысль… Однако, Николай, хочу сказать прямо…
— Ну-ну, ты ближе к делу, без предисловий! — нетерпеливо бросил Николай Петрович. — Какие там ещё «однако»?
— Человек ты вроде теперь холостой, — деликатно начал Сергей. — Но ведь в бобылях оставаться не собираешься. Пора и тебе своей семьёй обзаводиться… И, наверно, есть уже кто-нибудь на примете… Так вот, одним словом, как бы это тебе не помешало?.. Как к этому твоя будущая жена отнесётся, и вообще…
Николай Петрович грустно улыбнулся.
— Всё ясно, — тихо сказал он. — Так вот, Серёга, уж если зашёл об этом разговор, скажу по совести: нет у меня никого на примете, нет… Одним словом, жениться пока не собираюсь… Все эти военные годы, сам понимаешь, не до того было… Вам на фронте было не просто, но и нашему брату, тыловику, тоже хватало…
— Знаю, о чём говорить… — произнёс Сергей Павлович.
— А потом, Серёга, — продолжал Николай Петрович, — с головой я ушёл в свою работу… Такие, брат, раскрываются перспективы — голова кружится… Сам знаешь, я — ракетчик, а это дело с фантастическим будущим, можешь мне поверить!..
— Что ж не верить, — сказал Сергей. — Твои «Л‑2» теперь весь мир знает… Поработали на славу!..
— Да что там «Л‑2»! — горячо воскликнул Николай Петрович. — Это всё вчерашний день, детский лепет, пройденный этап… И вообще, ты же меня как облупленного знаешь, я хоть и полковник, а ведь работать мечтаю не на войну… И хочу верить, что больше войны не будет… Во всяком случае, мы сделаем всё для того, чтобы не было… Так ведь, Серёга?
— Гм… Так-то оно так, Николай… Мы-то всё будем делать, да ведь не от нас одних зависеть будет… Мало ли ещё на свете всякой сволочи?.. И одно из средств, чтобы не было войны, — иметь крепкие кулаки… Как это поётся в песне: «Мы — мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути»…
— Песня была хорошая, — ответил Николай Петрович. — И смысл в ней недурен. Правда, бронепоезда не очень нынче в моде, но дело не в том. Ты прав в одном — хорошие кулаки нужны… Но, видишь ли, Серёжа, дело, которым я теперь увлечён, — увлечён до последнего вздоха, до последней мысли, до последней мечты! — это дело, без всякого преувеличения, откроет новую эру человечества!.. Верю, знаю, мы, советские учёные и инженеры, это сделаем, сделаем на радость всему свету!.. Сделаем, Серега, поверь мне, сделаем!.. Ради одного этого стоит жить, стоило родиться, стоит работать до зари!..
Адъютант Сергея, пришедший доложить, что машина подана, увидел двух братьев, стоявших в саду, глядящих прямо в глаза друг другу. Он услышал голос Николая Петровича, и было в этом голосе такое глубокое человеческое волнение, и так внимательно слушал его Сергей Павлович, и так блестели у обоих братьев глаза, что адъютант невольно остановился, а потом повернул обратно.
Через несколько минут он снова вошёл в сад и доложил, что машина подана.
Братья обнялись. Оба надеялись, что вскоре встретятся снова.
Николай Петрович сел в машину, она тронулась и помчалась вперёд. На повороте, на самом берегу озера, Николай Петрович оглянулся и увидел высокую фигуру брата, всё ещё глядевшего ему вслед.
Николай Петрович сорвал с головы фуражку и помахал ею брату, который в ответ сделал приветственный жест рукой.
Неведомы пути, которыми приходит иногда человеческое сердце к предчувствию беды. Именно в этот момент, на повороте дороги, Николай Петрович ощутил вдруг, невесть почему, обжигающий холодок такого предчувствия и с трудом преодолел желание остановить машину и вернуться к брату, одиноко стоявшему у подъезда виллы «Фюрстенгоф», на окраине маленького курортного городка Буков.
Новое назначение
Приехав в Берлин, Леонтьев снова повидался с генерал-полковником Берзариным и рассказал ему о судьбе брата и его сынишки. Внимательно выслушав Леонтьева, Берзарин обещал помочь в розысках мальчика и при этом добавил:
— Вообще в этом вопросе американцы ведут себя странно. В их зоне оккупации, как нам точно известно, находится много советских людей, в том числе подростков, в своё время угнанных гитлеровцами в Германию. Так вот, под разными предлогами, ни взрослым, ни подросткам пока не разрешают вернуться на Родину. Наши работники, занимающиеся вопросами репатриации, сталкиваются с самыми удивительными препятствиями — отговорками, отписками, прямым отрицанием фактов и всякого рода подтасовками. Тут ведётся какая-то подлая игра, имеющая довольно зловещий характер, Николай Петрович… Эх, больно об этом говорить!..
И Берзарин с досадой махнул рукой.
С особенным чувством Берзарин рассказывал о детях, раньше других завязавших самые живые связи с советскими воинами. Немецкие ребятишки уже запросто приходили в гости к нашим танкистам, пехотинцам, артиллеристам, вступали с ними в разговор, и, несмотря на различие языка, хозяева и гости каким-то загадочным образом превосходно понимали друг друга…
— Это просто удивительно, — улыбаясь, продолжал Берзарин. — Причём, Николай Петрович, это не исключение, а правило… Всякий раз, видя, как наши солдаты играют с немецкими детьми, охотно их кормят, ласкают, дарят им какие-то безделушки, с гордостью думаю о нашем народе… Какое сердце надо иметь для того, чтобы так относиться к детям людей, причинивших нам столько зла?.. Конечно, мы все понимаем, что воевали не с немецким народом, нам чужда национальная рознь, всё это так, но ведь столько жертв понесли наши люди, столько потерь, а не озлобились, не поддались мстительным чувствам…
Леонтьев радостно ощутил глубокую убеждённость этого человека, глубину и ясность его мышления, пленительность всего его облика — живых и умных глаз, смотревших с моложавого, открытого и мужественного лица, скупых и выразительных жестов. Леонтьев с гордостью думал о том, каких чудесных людей удалось воспитать партии, каких командиров она выковала для своей армии. Поистине, такие командиры были достойны своих солдат, как их солдаты — своих командиров…
На следующий день, утром, Леонтьев вылетел из Берлина в Москву. В самолёте, под мерный гул моторов, он вспоминал свой вчерашний разговор с генералом Берзариным, уговор непременно встретиться в Москве…
Но не суждено было состояться этой встрече. Через некоторое время Берзарин, страстный мотоциклист, выехал под вечер проветриться после напряжённого трудового дня. На одном из перекрёстков Берлина на его мотоцикл на полном ходу наскочила грузовая машина, и он, прошедший через столько битв и сражений кровавой войны, погиб на мостовой Берлина, в который первой ворвалась его армия и в котором он был первым советским комендантом…
Ничего удивительного не было в том, что десятки тысяч советских офицеров и солдат со слезами провожали гроб с телом своего командира и боевого друга. Иначе и быть не могло.
Гораздо удивительнее, что этот гроб провожали со слезами и десятки тысяч немцев, жителей Берлина, уважение и любовь которых успел завоевать «герр советишер милитер комендант».
И уж совсем удивительно, что слёзы немцев, провожавших гроб советского генерала, почему-то испугали и заставили недовольно нахмуриться кое-кого из представителей союзных оккупационных властей…
В самом деле, почему?
***
Через три дня после того как Сергей Леонтьев простился с братом, его вызвали из Букова в Берлин. Здесь полковнику Леонтьеву объявили о назначении его военным комендантом одного из городов, находящихся на границе с американской зоной оккупации. Сергей Павлович пробовал было отказаться, ссылаясь на то, что он, танкист, ничего не понимает в городском хозяйстве, но ему резонно указали, что все коменданты тоже люди военные и, ничего, справляются по мере сил и в силу необходимости с новыми обязанностями.
И через несколько дней, с грустью простившись с любимым полком, Сергей Павлович выехал в Берлин, а оттуда в город, где ему суждено было теперь работать. Перед отъездом из Берлина полковник вновь зашёл к товарищам, ведавшим вопросами репатриации, и узнал от них, что розыски его сына ведутся. Получены новые данные о том, что в американской зоне оккупации, где-то между Нюрнбергом и Мюнхеном, имеется лагерь, в котором содержатся многие советские подростки, в своё время угнанные в Германию, но переговоры о возвращении их на Родину пока идут туго.
Тем не менее офицер, ведавший этими вопросами, надеялся, что в конце концов удастся добиться согласия американских военных властей на возвращение подростков в Советский Союз.
Списка советских подростков, находящихся в лагерях, американцы пока не дали, поэтому неизвестно, есть ли среди них сын Леонтьева.
Теперь, сидя в машине, мчавшейся по широкой автостраде Берлин — Лейпциг, Сергей Павлович с тревогой думал о том, удастся ли выяснить судьбу Коленьки.
В Лейпциге полковник остановился в военной комендатуре и после завтрака подробно ознакомился со структурой комендатуры, штатами, планом работы. Комендант Лейпцига охотно делился своим опытом, дал много полезных советов.
Уже вечером Сергей Павлович выехал из Лейпцига на запад, к месту своего назначения.
В Цвикау Сергей Павлович заночевал у местного военного коменданта и опять, как и в Лейпциге, долго расспрашивал майора о его работе, а тот охотно рассказывал обо всех своих делах, трудностях, печалях и радостях.
Рано утром, простившись с майором, Сергей Павлович выехал из Цвикау и часа через полтора приехал наконец в город, комендантом которого был назначен.
Оставив машину на площади, между городской ратушей и стрельчатой розовой кирхой, Сергей Павлович решил прежде всего погулять по городу. Он пересёк площадь. Напротив кирхи его внимание привлёк красивый трёхэтажный дом с красной черепичной крышей и широким подъездом. Над домом реял красный флаг, подъезд с обеих сторон декорирован широкими алыми полотнами с лозунгами на русском и немецком языках. Часовой с автоматом похаживал у подъезда. Это была советская военная комендатура.
Перед домом стояли легковые машины разных марок. Их водители, военные шофёры в пилотках, лихо сдвинутых набок, собравшись у одной из машин, о чём-то весело беседовали. Завидев полковника, шофёры вскочили, вытянулись, взяв под козырёк. Ответив на их приветствие, Сергей Павлович пошёл дальше, отметив про себя, что в подъезд комендатуры то и дело входят посетители — женщины с детьми, два пожилых немца в старомодных котелках, какие носили ещё в начале века, оба в крахмальных воротничках и чёрных костюмах, несколько немецких юношей в брюках «гольф» и, судя по одежде, двое крестьян. Все они свободно входили в комендатуру, не обращая внимания на солдата с автоматом, как и он, по-видимому, не обращал на них никакого внимания, привыкнув к потоку посетителей.
Полковник долго ходил по этому довольно большому городу, который был мало разрушен. Внимательно разглядывая улицы, скверы и переулки, Сергей Павлович поймал себя на том, что замечает и фиксирует в своём сознании ещё заколоченные витрины многих магазинов, очередь у булочной, неубранные кучи щебня и мусора в одном из переулков, запертые двери школы… Он уже входил в свою новую роль.
С любопытством он разглядывал уличную толпу — озабоченных женщин с хозяйственными сумками, группу немцев, столпившихся у щита, на котором был вывешен приказ военного коменданта, немецких девушек, с интересом следящих на перекрестке за тем, как военная регулировщица в пилотке и хорошо пригнанной гимнастёрке, загорелая, тоненькая, очень хорошенькая, ловко и строго командует проносящимися машинами, водители которых на ходу бросают ей какие-то весёлые приветствия.
В большом сквере, где Сергей Павлович присел на скамью покурить, шумно играли светлоголовые, аккуратно одетые дети. Их матери, сидя неподалёку с вязаньем в руках, о чём-то болтали. Заметив его, они стали шептаться, бросая любопытные взгляды на высокого советского полковника. В этот момент большой красно-синий мяч, брошенный кем-то из детей, угодил прямо в лицо Сергею Павловичу.
Женщины в испуге вскочили. Одна из них, по-видимому, мать ребёнка, бросившего мяч, подбежала к Сергею Павловичу и, вспыхнув от волнения, стала извиняться.
— О, герр оберст, ради бога, извините моего малыша, — лепетала молодая стройная женщина. — Ему всего пять лет, и он недостаточно ловок… Ради бога, извините, герр оберст!..
— Вы напрасно так волнуетесь, фрау, — ответил по-немецки Сергей Павлович, не без труда подбирая слова. — Как зовут вашего ребёнка?
— Генрих, — ответила молодая женщина. — Поди сюда, маленький, и попроси прощения у герр оберста, — обратилась она к малышу, который, стоя поблизости, с совершенным спокойствием и любопытством наблюдал за этой сценой.
Малыш послушно подошёл к матери и, улыбаясь, посмотрел на полковника. Сергей Павлович взял его на руки, поднял на уровень своего лица и спросил:
— Ну, Генрих, скажи, хороший ли ты человек?
— О да, я хороший, — очень убеждённо ответил мальчик. — Вы не думайте, что если я попал в вас мячом, то я плохой…
— Я вовсе этого не думаю, — засмеялся Сергей Павлович. — Ведь война уже кончилась, и если ты попал в меня мячом, то это просто случайность. Или, может быть, ты хотел поиграть в войну?
— Ах, герр оберст, — поспешно вмешалась в разговор мать ребёнка. — Даже немецкие дети не хотят больше играть в войну! Поверьте, что это так… Его бедный отец…
И она со слезами отвернулась.
— Мутти, не надо плакать, ты же мне обещала, — потянулся к матери ребёнок, сразу перестав улыбаться.
Сергей Павлович передал малыша на руки женщине и, вынув из сумки плитку шоколада, протянул её ребёнку.
— Вот, Генрих, возьми на память о том, как ты залепил мне мячом в лоб, — сказал он. — Береги свою маму и старайся её не огорчать.
— Спасибо, — ответил малыш и, взяв плитку, стал с интересом разглядывать обёртку.
— Вы очень любезны, герр оберст, — смущённо произнесла, покраснев, мать ребёнка. — Это слишком дорогой подарок, я, право, не знаю, как быть?
— Зато Генрих уже знает, как быть, — ответил Сергей Павлович, указывая на ребёнка, который уже срывал обёртку и фольгу. — Позвольте пожелать вам всего хорошего, фрау… Простите, я не знаю вашего имени…
— Лотта… — окончательно смущаясь, произнесла молодая женщина. — Лотта Вайнберг, герр оберст…
— Очень приятно. Всего хорошего, фрау Лотта…
И, поклонившись, Сергей Павлович вышел из сквера, провожаемый любопытными взглядами фрау Лотты, других женщин, видевших эту сценку, и детей.
Генрих, которого мать уже спустила на землю, внезапно бросился вдогонку за полковником.
— Герр оберст, герр оберст!.. — кричал малыш. — Приходите ещё раз, я бываю здесь каждый день! Приходите — я буду осторожен с мячом!..
Этот белокурый, аккуратно остриженный малыш так трогательно смотрел на Сергея Павловича, его глазёнки были полны такого искреннего желания, чтобы высокий русский полковник снова пришёл (а может быть, и принес ещё одну плитку шоколада), что Сергей Павлович опять поднял его в воздух и, глядя ему прямо в глаза (чем-то эти глаза напоминали Коленьку, тогда, до войны, когда Коленьке тоже было пять лет), сказал:
— Да, да, — мы ещё увидимся, Генрих… Я обязательно приду…
И, поцеловав ребёнка, Сергей Павлович опустил его на землю.
***
Заместитель военного коменданта города (комендатура была также и окружной) подполковник Глухов, исполнявший обязанности коменданта, искренне обрадовался появлению Леонтьева, о назначении которого ему уже было известно.
Коренастый, грузный подполковник с грубоватым, но добродушным лицом и маленькими, быстрыми, с хитринкой глазами принимал посетителей в тот момент, когда в его кабинет вошёл Сергей Павлович.
Увидев полковника и сразу догадавшись, что это и есть новый комендант, Глухов встал со словами «Здравия желаю, товарищ полковник» и тут же, обратившись к посетителю — это был один из двух немцев в котелках, замеченных Сергеем Павловичем ещё утром, — произнёс, путая русский язык с немецким:
— Битте, придётся подождать… Вартен… Ферштеен?
— Яволь, герр комендант! — щёлкнул каблуками сообразительный немец и, отвесив низкий поклон Сергею Павловичу, вышел в приёмную, где сидело много других посетителей.
— Здравствуйте, товарищ Глухов, — полковник пожал руку своему заместителю. — Рад познакомиться. Будем вместе работать. Леонтьев, Сергей Павлович…
— Очень приятно, товарищ Леонтьев, — ответил Глухов. — Мне ещё вчера по телефону сообщили из Берлина о вашем выезде. По совести сказать, не мог дождаться вашего прибытия — совсем запарился…
— Много работы? — коротко осведомился Леонтьев.
— Тьма!.. А главное — куча самых, знаете ли, загадочных дел…
— Загадочных?
— Точно. Таких, проще сказать, что не знаешь, как и поступить. С утра всё ходят и ходят, каждый с вопросами, а что на эти вопросы отвечать? — сам чёрт не разберёт!.. С одной земельной проблемой можно голову сломать!.. Начали раздел помещичьих земель, а многие бауэры боятся землю брать — это, говорят, не положено… Рядом американская зона — там свои порядки. Наши немцы ходят к ним, их немцы к нам, одним словом, столпотворение… За день такого наслушаешься, таких тебе навалят вопросов, просьб, жалоб, доносов, что к вечеру голова кругом идёт…
— Переводчик у вас есть, товарищ Глухов? — спросил Сергей Павлович. — Я заметил, что в немецком языке вы не так уж…
— Есть одна переводчица, из репатриированных, — ответил Глухов. — Четыре года здесь на заводе работала. Сама она из Харькова, чертёжница… Впрочем, я и без неё кое-как обхожусь… Скажешь одно слово по-русски, одно по-немецки, третье — руками объяснишь… Находим общий язык…
Сергей Павлович засмеялся.
— Я и сам заметил, — произнёс он улыбаясь, — что наши солдаты и офицеры как-то научились разговаривать с немцами, и те их отлично понимают. Однако, товарищ Глухов, посетители ждут… Продолжайте приём, а я послушаю.
— Есть. — Глухов, открыв дверь в приёмную, произнёс: — Битте!..
В комнату вошёл тот же пожилой немец.
— Итак, герр комендант, — произнёс он по-немецки, — я могу продолжать?
— Битте, — любезно ответил Глухов.
Немец начал излагать своё дело. Он оказался владельцем городского варьете и просил «уважаемого и достопочтенного герр коменданта» подействовать на майора Пискунова, помощника коменданта по культурным вопросам. Герр майор Пискунов, оказывается, просмотрел программу варьете, подготовленную с большим трудом, и, увы, запретил два номера, являющихся, без всякого сомнения, гвоздём программы…
— Вас ист дас за номера? — спросил на том же немецко-русском диалекте Глухов, и немец действительно отлично его понял.
Оказывается, оба номера строгий майор запретил на том основании, что счёл их безнравственными.
— Герр комендант, — лепетал хозяин варьете, — не является ли баптистом господин майор? Уверяю вас, в программе нет ничего безнравственного. Наконец, у меня варьете, а не воскресная служба в кирхе, герр комендант!.. Да, фрейлейн Грита, исполняющая песенки, действительно выходит на сцену в газовой тюнике, но что тут плохого, уважаемый господин комендант, особенно если учесть, что у фрейлейн Гриты божественный бюст? Что же касается фрейлейн Вероники, которая танцует мексиканское танго и, по ходу танца постепенно раздеваясь, даёт возможность публике обстоятельно всё рассмотреть, так это же балет, а не что-либо иное… Почему же уважаемый майор Пискунов так беспощаден к балету?
— Если не ошибаюсь, — обратился Леонтьев к хозяину варьете, — вы пришли на приём вдвоём?
— Совершенно верно, герр оберст, — ответил немец. — Это мой компаньон. Он ожидает в приёмной решения господина коменданта, так как мы распределили между собой обязанности: он ведает программой, а я хлопочу о разрешении…
— Вы давно стали хозяином варьете?
— Три года тому назад, герр оберст.
— А ваш компаньон?
— Как вам сказать, герр оберст… Моим компаньоном он стал недавно, точнее, на днях… Поскольку комендатура закрыла его заведение…
— А какое у него было заведение?
— Я не знаю, как лучше выразиться, господин полковник, — замялся хозяин варьете. — Мой компаньон… Одним словом, у него было такое заведение, о котором не принято говорить при дамах, господин полковник…
— Здесь, кажется, нет дам…
— У него был бордель, господин полковник, прошу меня извинить.
— Уже если извинять, то его, а не вас, — ответил Сергей Павлович. — И ваш компаньон порекомендовал эти два номера из бывшего своего заведения… Так?
— В какой-то мере, господин полковник…
— Как видите, майор Пискунов беспощаден не к балету, а совсем к другим вещам. Хорошо, идите, мы проверим этот вопрос.
Пятясь и непрерывно кланяясь, хозяин варьете вышел из кабинета. Глухов и Сергей Павлович посмотрели друг на друга и рассмеялись.
— Ну, кто там ещё? — спросил Сергей Павлович.
— Сейчас. — Глухов, снова открыв дверь, произнёс привычное «битте».
В кабинет вошла сухая, высокая женщина, в расшитом чепце и тёмном, закрытом платье крестьянского покроя. За нею, держа в руке зелёную тирольскую шляпу с пером, осторожно следовал маленький, круглый, как шар, человечек с выражением крайнего испуга на красном, обветренном лице.
— Гутен таг, герр комендант!.. — басом пропела женщина и сделала нечто вроде книксена.
— Гутен таг, герр комендант! — тоненьким голосом повторил как эхо мужчина и низко поклонился.
— Гутен таг! — ответил Глухов. — Зецен зи, битте…
— Вот такое дело, герр комендант, — решительно начала женщина. — Я есть Анна-Мария Глезер. Это есть Карл Глезер. Между прочим, герр комендант, Карл Глезер есть мой муж…
— Я вас слушаю, фрау Глезер, — сказал Глухов и тут же шепнул сидящему рядом с ним Леонтьеву: «Ручаюсь, пришли отказываться от земли…»
— Вчера, герр комендант, меня, Анну-Марию Глезер, и моего мужа Карла Глезер вызвали в контору поместья господина фон Равеца и там объявили, что я, Анна-Мария Глезер, и мой муж, Карл Глезер, должны взять землю господина фон Равеца… — начала женщина.
— Да, да, ровно три гектара, герр комендант, за прудом, недалеко от беседки, где господин фон Равец всегда играл в преферанс, — добавил её муж.
— Понятно. Вас волен зи по такому случаю? — быстро спросил Глухов.
И опять поразился Сергей Павлович тому, что эти немецкие крестьяне отлично поняли подполковника.
— Их данке, герр комендант, — произнесла женщина и опять сделала нечто вроде книксена.
— Их данке, — пропищал её муж.
Глухов смутился и растерянно посмотрел на Сергея Павловича.
— Смотрите, берут… — шепнул, смутившись, Глухов. — Удивлён!..
И, обращаясь уже к крестьянам, произнёс:
— Зеер гут. Одним словом, в добрый час… Гуте ур!..
— Мы пришли сказать, господин комендант, — снова произнесла женщина, — что я, Анна-Мария Глезер, и мой муж, Карл Глезер, не можем взять эту землю…
— Да, да, мы никак не можем! — повторил Карл Глезер.
— Что я вам говорил?! — сразу успокоившись, прошептал Леонтьеву Глухов. — Уж я их знаю!..
— Неужели такая плохая земля? — сделав вид, что не понимает причины отказа, обратился Леонтьев к супружеской чете.
— О, что вы говорите, герр оберст! — почти с испугом ответила женщина. — Превосходная земля!.. Это же земля барона фон Равеца!.. Разве у него могла быть плохая земля?
— У барона фон Равеца не могло быть плохой земли, — подтвердил Карл Глезер. — На то он и барон…
— Но если земля хороша, то почему же вы не хотите её брать? — улыбаясь, спросил Леонтьев.
— Потому что это земля барона фон Равеца, — ответила женщина.
— Да, да, это же его земля, — произнёс её муж.
— А разве вы не знаете, что помещичьи земли теперь будут отданы крестьянам? — спросил Леонтьев.
— Нам сказали, что хотят так сделать, герр оберст, — ответила крестьянка. — Но ведь барон не оставил такого завещания.
— А барон разве умер?
— Нет, он удрал на запад, герр оберст. Он не умер. Тем более мы не можем взять его землю без его согласия…
— Как же можно без согласия барона? — удивленно пропищал Карл Глезер. — Три дня назад от барона пришло письмо — он запрещает бауэрам брать землю…
— Да, да, и господин барон пишет, что скоро вернётся обратно, в своё поместье, герр оберст…
— Я сомневаюсь в этом, — произнёс Леонтьев. — Но если барон и вернётся, то никто не вернёт ему поместья… Он может получить такой же надел земли, как и любой из вас, не больше…
— Но это же его земля, — воскликнула женщина.
— Нет, это народная земля, — уже рассердившись, сказал Леонтьев. — И вам пора это понять… Где вы живёте?
— Деревня Шпигельдорф, рядом с поместьем барона фон Равеца, герр оберст…
— Через пару дней я приеду в вашу деревню, соберу всех бауэров и мы вместе решим этот вопрос, — произнёс Глухов. — Ждите моего приезда…
— Хорошо, мы будем вас ждать, герр комендант, — сказала женщина и, снова присев, направилась к двери.
— Мы будем ждать, — повторил, как всегда, её муж и тоже направился к выходу.
— Одну минуту, — остановил их Леонтьев. — Присядьте, пожалуйста.
Супруги Глезер снова подошли к столу и послушно сели.
— Остальные крестьяне вашей деревни тоже отказываются от земли?
— Да, господин полковник, за исключением трёх человек.
— Понимаю. А как вы поступите, если я дам вам приказ взять землю? Понимаете, приказ?
— Приказ есть приказ, господин полковник. Как можно не выполнять приказ? — пропищал Глезер, неуверенно поглядывая на жену.
— Но приказ должен быть в письменном виде, — добавила женщина. — Чтобы господин барон мог убедиться, что мы не могли иначе поступить…
— Хорошо. Вы получите такой приказ, — сказал Леонтьев, и крестьяне, заметно повеселев, ушли из кабинета.
— Видали? — спросил Глухов.
— Видал. И вовсе не удивлён, — ответил Леонтьев. — Чудес на свете не бывает, товарищ Глухов. Они так воспитаны веками. Но сила революционных идей как раз и состоит в том, что вековые предрассудки, обычаи и взгляды этими идеями взрываются в сравнительно короткий срок. Ничего, немецкий народ пережил Гитлера, переживёт и барона фон Равеца, Анна-Мария Глезер ещё поймёт, что баронская земля принадлежит ей, а не барону. И, насколько я успел заметить, если это поймёт Анна-Мария, то вместе с нею поймёт и её муж, — с улыбкой добавил Леонтьев. — Помните, знаменитый немецкий стратег Клаузевиц писал, что для армии момент наивысшей победы может иногда превратиться в поражение. Наша армия победила гитлеровскую Германию, заняла Берлин. Огромная победа!.. Но если Анна-Мария Глезер не поймёт, что баронская земля принадлежит ей, если мы не сможем её в этом убедить, это будет настоящее поражение, Глухов, прошу меня верно понять… И мы с вами обязаны победить снова, потому что никто не простит нам поражения… Условимся же с самого начала, товарищ Глухов, что и за эту победу мы будем бороться так же настойчиво, терпеливо и смело, как боролись за первую…
И, подойдя к Глухову, Сергей Павлович крепко пожал ему руку.
***
Уже вечером, познакомившись с работниками комендатуры, полковник в сопровождении своего заместителя поехал на приготовленную для него квартиру. Глухов сообщил, что Леонтьеву отведён второй этаж в вилле, принадлежащей известному немецкому физику профессору Иоганну Вайнбергу.
— Вайнберг? — спросил в машине Леонтьев. — Я где-то слышал эту фамилию…
— Возможно, Сергей Павлович, — ответил Глухов. — Это довольно крупный учёный. Он никогда не был нацистом и даже находился под наблюдением гестапо, как нам удалось выяснить. Не будь он таким крупным физиком, его давно бы упрятали в концлагерь. Правда, этот профессор, как мне говорили, чуждается политики, но в антифашистских кругах он всегда пользовался репутацией честного человека… У него хорошая вилла, сад, и я считал, что поселиться вам в этом доме со всех точек зрения удобно… Профессор два года назад овдовел, живёт с невесткой и её сынишкой. Сын профессора Вайнберга погиб на фронте.
— Сегодня утром, гуляя по городу, я познакомился с одной молодой женщиной и её сынишкой, — сказал Леонтьев. — Её фамилия Вайнберг… Но, может быть, это случайное совпадение…
— Когда я осматривал виллу, — сказал, чуть улыбнувшись, Глухов, — я познакомился с невесткой профессора Вайнберга… Хороша, ничего не скажешь!.. Такая высокая, стройная блондинка?
— Кажется, я не очень её разглядел, — неохотно ответил Леонтьев, несколько смущённый улыбкой Глухова. Теперь он не сомневался, что Лотта Вайнберг — невестка того самого профессора, в доме которого ему отведена квартира.
Машина подъехала к двухэтажному красивому дому с черепичной крышей, расположенному на одной из тихих боковых улиц, недалеко от центра города. Высокие цветущие липы обрамляли с обеих сторон нарядные виллы.
Глухов подошёл к узорчатой чугунной калитке и нажал кнопку звонка. Через несколько секунд с мерным гудением включилось автоматическое реле и калитка отворилась.
Офицеры вошли в палисадник, поднялись по ступенькам подъезда, на пороге которого стояла Лотта Вайнберг. Увидев и сразу узнав Леонтьева, молодая женщина вспыхнула от неожиданной встречи.
— Гутен таг, фрау, — поздоровался с Лоттой Глухов. — Дас ист герр оберст Леонтьев… Милитер комендант…
— Здравствуйте, фрау Лотта, — произнёс по-немецки Леонтьев, здороваясь с молодой женщиной. — Я уже рассказал моему товарищу, что мы случайно сегодня познакомились…
— Да, да, господин полковник, — произнесла Лотта. — Нас предупредили, что здесь поселится господин военный комендант, но, встретившись с вами, я не думала, что это вы… Прошу вас, заходите в дом…
Они вошли в просторный холл, облицованный полированным орехом. Прямо из холла начиналась деревянная, не очень широкая лестница, ведущая на второй этаж. Пока Леонтьев и Глухов снимали плащи, Лотта прошла в глубину дома. Через матовые стеклянные двери донёсся её голос.
— Отец, приехал господин комендант, — говорила она. — Можно проводить его к вам?
— А зачем он мне нужен? — ответил на её вопрос спокойный мужской голос. — Проводи его наверх, пусть устраивается, как хочет…
— Но, может быть, господин комендант выразит желание познакомиться с хозяином дома, отец? — робко спросила Лотта.
— Теперь ведь они сами здесь хозяева, — ответил мужчина. — Во всяком случае, так они считают!.. Ещё бы, победители!..
Леонтьеву стало не по себе. Диалог за дверью, по-видимому, понял и Глухов, выразительно покачавший головой. В холл вышла окончательно смущённая Лотта.
— Господин профессор не очень хорошо себя чувствует, — произнесла она в тоне извинения. — Позвольте проводить вас наверх, господа?
Наверху фрау Лотта показала Леонтьеву все комнаты, предоставленные в его распоряжение: светлую гостиную, обитую зеленоватым штофом, большой кабинет с мягкой кожаной мебелью и книжными шкафами во всю стену, спальню с туалетной комнатой и, наконец, просторную столовую с буфетом, смахивающим на кафедральный собор, натюрмортами на стенах и массивными дубовыми стульями.
Все эти комнаты были обставлены несколько старомодно, но солидно и не претенциозно. Не было в обстановке и того особого бюргерского стиля, замеченного Леонтьевым во многих немецких квартирах с их пузатыми полированными комодами, огромными двухспальными кроватями, фривольными картинами на стенах и вышитыми бисером на всевозможных дорожках, салфетках и ковриках поучительными сентенциями.
Всё в этих просторных, светлых комнатах с большими окнами, мягкими тонами стен, удобной мебелью, отличными гравюрами и хорошо подобранной коллекцией старинного фарфора говорило о прочно устоявшемся быте интеллигентной, притом давно и вполне обеспеченной семьи.
Сергей Павлович, осмотрев комнаты, подумал про себя, что ему такая большая квартира, в сущности, ни к чему. Но, посмотрев на открытое, милое лицо фрау Лотты и уловив в её лучистых, ясных глазах самую искреннюю приветливость, Сергей Павлович поблагодарил милую хозяйку — если он не стеснит семью профессора, то будет рад здесь поселиться.
На следующий день, после ночёвки у Глухова, полковник Леонтьев переехал в свою новую квартиру. Когда машина Леонтьева подъехала к вилле, Леонтьев был встречен радостными криками Генриха, которому мать ещё утром сообщила, что тот самый герр оберст, с которым он познакомился в парке, будет у них жить.
Поскольку у Генриха сохранились самые приятные и даже сладкие воспоминания о герр оберсте, он с нетерпением ожидал его приезда, очень волновался, что герр оберста долго нет, и даже два раза спрашивал своего деда, не передумал ли герр оберст поселиться у них.
Дед, не чаявший души в своём пятилетнем внуке, заинтересовался, почему Генрих с таким нетерпением ждёт полковника. И тогда Генрих рассказал деду обо всем, что произошло в скверике, где он угодил этому русскому полковнику мячом прямо в лоб, а полковник подарил ему шоколад.
Профессор Вайнберг, обратившись к Лотте, сидевшей в стороне с вязаньем в руках, заметил с улыбкой:
— Лотта, дитя моё, не замечаешь ли ты, что русские офицеры довольно быстро завоёвывают симпатии немецких детей и молодых женщин?
Лотта вскинула глаза на старого профессора, которого нежно любила:
— Мне кажется, что вы правы, отец. Но, может быть, это объясняется тем, что дети, в отличие от взрослых, лишены предрассудков?
Сухощавый, с белой как лунь головой, профессор чуть нахмурил кустистые брови, нависшие над глубоко сидящими глазами, и, поглядев на невестку поверх очков, проворчал:
— А может быть, дело не в предрассудках, а в том, что дети, как и женщины, любят победителей?..
Фрау Лотта вспыхнула, но промолчала.
Шум подъехавшей машины прервал этот разговор. Генрих бросился встречать долгожданного оберста, а его старый дед, выйдя на балкон, не без удивления увидел, как высокий русский полковник, схватив малыша на руки, легко поднял его и крепко поцеловал.
Профессор не желал, чтобы жилец заметил его присутствие при этой сцене. Покачав головой, он быстро покинул балкон и спустился по внутренней лестнице на первый этаж, в комнату, куда уже перенесли его рабочий стол, самые необходимые книги и портреты покойной жены и сына Вальтера, погибшего на русском фронте.
Плотно притворив дверь своего нового кабинета, профессор Иоганн Вайнберг сел в старое, дедовское кресло, подлокотники которого протирали многие поколения их семьи, и поразился мысли, блеснувшей как молния в его сознании: а что, если этот самый русский полковник, там, в далёком и легендарном Сталинграде, убил отца малыша, которого он так нежно и, по-видимому, вполне искренне поцеловал. И, если есть хоть малая вероятность такого совпадения, почему он, старый немецкий профессор, дед Генриха и отец бедного Вальтера, не пришёл в ужас от этого поцелуя?..
Вторая встреча
Полковник Грейвуд, сидя в своём служебном кабинете, читал только что расшифрованную телеграмму из Вашингтона, подписанную генералом Маккензи, начальником отдела американской разведки, в котором работал полковник.
Генерал Маккензи отмечал оперативность полковника Грейвуда, сумевшего довольно быстро перебросить в США немецкого физика профессора Майера. Майер работал в области атомной энергии и сравнительно легко принял предложение Грейвуда переехать за океан для продолжения своей научной деятельности.
К сожалению, вторая часть телеграммы носила весьма язвительный характер:
«…Успешно закончив переговоры с Майером и добившись его согласия, вы не дали себе труда выяснить степень полезности указанного специалиста. Между тем, как выяснили наши эксперты при беседе с Майером, он являлся лишь одним из помощников профессора Иоганна Вайнберга, с которым работал много лет. Вайнберг, не разделявший нацистских взглядов Майера, относился к нему без особого доверия, чтобы не сказать больше. Поэтому профессор Вайнберг допускал Майера лишь к работам второстепенного значения, не открывая ему своих главных секретов.
По характеристике Майера профессор Вайнберг далёк от политики, ведёт довольно замкнутый образ жизни и, будучи противником фашизма, в то же время отрицательно относится к коммунистам. Если учесть, что единственный сын Вайнберга убит в России, мы имеем определённые перспективы в смысле работы с этим человеком. В настоящее время Вайнберг проживает в своём родном городе, в советской зоне оккупации. Вместе с ним живёт его невестка, вдова его сына, и её ребёнок.
Сообщая эти данные для ориентировки, обязываю вас приступить к операции по вывозу профессора в США. Предоставляя вам полную свободу в разработке плана операции, обращаю ваше внимание на желательность применения в данном случае методов психологической обработки, ибо, судя по тому, что сообщает Майер о характере Вайнберга, последний принудительно работать не будет…»
Далее в телеграмме Маккензи был указан точный адрес профессора, а также сообщалось условное наименование нового задания — «Нейтрон».
Прочитав телеграмму, Грейвуд помрачнел. Он терпеть не мог своего начальника генерала Маккензи, с которым много лет назад был на равном положении. Потом Маккензи удалось продвинуться при помощи своего дядюшки, крупного американского банкира, дочь которого вышла замуж за одного из руководителей стратегической разведки. Поговаривали, что этот брак был выгоден для обеих сторон: жених соблазнился миллионным приданым, невеста, точнее, её отец — положением жениха, облегчавшим доступ банкира к секретным военным заказам.
Став начальником Грейвуда, Маккензи страшно заважничал. Он всячески придирался к работе своего подчинённого и любил выставлять его перед высшим начальством в смешном свете. Грейвуд был гораздо способнее как разведчик, чем Маккензи, и это в своё время никем не подвергалось сомнению. Теперь Маккензи мстил Грейвуду за старые обиды.
Взять хотя бы сегодняшнюю телеграмму. Маккензи было отлично известно, что Грейвуд затратил немало сил на то, чтобы разыскать Майера и уговорить его переехать за океан. В своё время, перед выездом Майера, не кто иной, как сам Грейвуд информировал этого олуха Маккензи, что Майер не бог весть какой гений и что он может быть полезен главным образом как человек, знавший всех немецких физиков-атомщиков. Его можно было использовать для установления личных контактов с ними. Именно поэтому Грейвуд предлагал Маккензи пока не отправлять Майера в Америку, с тем чтобы при его помощи продолжать работу по вывозу немецких учёных в США. Маккензи, вместо того, чтобы принять это разумное предложение, потребовал немедленной отправки Майера. Делал он это, по своему обыкновению, из карьеристских побуждений: ему не терпелось похвастаться перед начальством своей оперативностью.
А когда выяснилось, что Майер сам по себе не представляет большой ценности, Маккензи, чёрт бы его побрал, изображает дело так, как будто бы торопился не он, а Грейвуд!..
Мало того, этот олух ещё «обязывает» полковника перебросить профессора Вайнберга из Германии в США. Легко «обязывать», сидя в Вашингтоне и проводя все вечера в кабаках и мюзик-холлах! Как будто Маккензи не знает, что работать в советской зоне оккупации не так-то просто… Советская контрразведка уже отлично разгадала политику американских властей в отношении немецких специалистов, патентов и военных секретов. Напрасно Маккензи делает вид, что не понимает, как трудно работать в Восточной Германии. Грейвуд считал, что вообще политика американских оккупационных властей оставляет желать лучшего. Не только в отношении русских, но и в отношении немецкого населения игра ведётся грубо, примитивно.
Полковник Грейвуд был опытным разведчиком и умным человеком. Лишённый каких бы то ни было убеждений, он сам был заядлым циником, уже давно ни в кого и ни во что не верившим. За благообразной внешностью Грейвуда скрывалось холодное, опустошённое сердце, неизлечимое равнодушие ко всему, кроме своих эгоистических интересов.
Но, будучи всё же образованным и трезво мыслящим человеком. Грейвуд не мог не видеть всего, что происходило вокруг. Он понимал, что проводимая американскими властями политика чревата серьёзными последствиями. Беззастенчивый грабёж немецких патентов, грубая работа разведки, пьянство и дебоши американских офицеров и солдат, откровенная поддержка крупных немецких промышленников и помещиков и многое другое вызывали естественное возмущение широких слоев немецкого народа. Гитлеровская накипь льнула к американским властям, и это тоже хорошо видел народ. Полное отсутствие заботы о нуждах населения со стороны оккупационных властей находится в разительном противоречии с политикой советских военных комендантов, и об этом, к несчастью, становится широко известно…
Грейвуд был врагом коммунизма, врагом Советского Союза. Поэтому его раздражали грубые промахи американской политики в Германии. Задумываясь над причинами таких промахов, Грейвуд относил их за счёт недальновидности, тупости, чрезмерной прямолинейности отдельных высоких чинов, не понимал, что дело не только в этом…
…Однако задание есть задание, и полковник, ещё раз прочитав телеграмму Маккензи, стал обдумывать план реализации операции «Нейтрон». После долгих размышлений он решил лично побывать в том городе, где жил профессор Вайнберг. Справившись по карте, Грейвуд с удовольствием отметил, что этот город находится почти на границе американской зоны. Тогда, выбрав соседний город, находящийся в американской зоне, полковник Грейвуд выяснил, кто является военным американским комендантом в этом городе. Оказалось, что этот пост занимает полковник Джемс Нортон.
Грейвуд связался с Нортоном по телефону и договорился с ним о встрече.
Джемс Нортон, ещё недавно командовавший танковым полком, а теперь изнывавший от скуки в немецком городе, где его оставили комендантом, по-видимому, искренне обрадовался и сказал, что с нетерпением ждёт приезда полковника Грейвуда.
— Выезжайте как можно раньше, полковник, — сказал он по телефону. — Очень рад, что вам пришла в голову мысль посетить эту немецкую дыру!.. Я прикажу в честь вашего приезда показать самых хорошеньких девочек в программе местного варьете… С нетерпением жду вас, коллега!..
Наутро, после визита немки-массажистки, полковник Грейвуд позавтракал, простился с фрейлен Эрной и выехал из Нюрнберга на восток.
Полковник Джемс Нортон, невысокий, смуглый, подвижный человек средних лет, с весёлым, живым лицом, встретил Грейвуда радушными приветствиями на пороге своей роскошной виллы.
Он угостил коллегу превосходным коктейлем «Мотокар», отличным завтраком и за столом рассказал Грейвуду массу забавных историй, связанных со своей деятельностью.
— Во всём виноват русский язык, — говорил Грейвуду Нортон, весело поблескивая тёмно-серыми, смеющимися глазами. — Дело в том, что я в прошлом изучал русский язык, когда служил в «Дженерал моторс». Какой-то болван уверил меня, что наша фирма намерена завести широкие связи с Россией, — это было задолго до войны, — и я, представьте себе, развесил уши и решил изучать русский язык, втайне рассчитывая, что это поможет мне стать представителем «Дженерал моторс» в Москве… Одна хорошенькая русская эмигрантка — её родители удрали в Америку в первые годы революции — взялась меня обучать, и учительница мне так понравилась, что я стал делать недюжинные успехи… Ах, дружище, дело кончилось более чем печально: я, правда, изучил русский язык, но потерял свободу, женившись на своей учительнице. Сами понимаете, что, став её мужем, я получил возможность совершенствовать свои познания в русском языке. Первые два года нами спрягался глагол «люблю», затем мы стали иногда поругиваться, разумеется, тоже по-русски. В общем, моя супруга родила мне двух превосходных парней, которые тоже начали лопотать по-русски… Вот посмотрите…
Нортон показал Грейвуду фотографию, на которой были изображены его жена, миловидная женщина со вздёрнутым носиком, и двое малышей, очень похожих на Джемса Нортона.
— Простите, полковник, пока я не нахожу оснований для жалоб на русский язык! — галантно произнёс Грейвуд. — Скорее напротив… В чём же дело?
— В том, что меня запихнули в эту дыру, — ответил Нортон. — Генерал, узнав, что я владею русским языком и даже женат на русской, вызвал меня и сказал: «Полковник Нортон, вам придётся стать комендантом в этом городе, поскольку он находится на границе с советской зоной… Нам очень важно, чтобы наш комендант в этом районе владел русским языком, ему будет легче найти общий язык с соседями…»
— Чем же вы так огорчены, мистер Нортон? — снова задал вопрос Грейвуд.
— Тем, что рухнули мои надежды скоро вернуться домой, — ответил Нортон. — На заводах «Дженерал моторс» я работал много лет. Когда началась война, меня, как специалиста по танковым моторам, мобилизовали. Я кончил войну в качестве командира танкового полка, но теперь, видит бог, мне здесь нечего делать… Мне надоели немецкие олухи… Кроме того, я дьявольски соскучился по жене и ребятам… Если бы вы знали, мистер Грейвуд, как мне дьявольски хочется по утрам услышать наконец, как моя жена ворчит на меня по-русски!..
— Вы уже познакомились со своим русским соседом и коллегой? — спросил Грейвуд.
— Нет, он лишь недавно приехал, как я слышал. Но я обязательно нанесу ему визит. Говорят, что полковник Леонтьев тоже танкист…
— Его фамилия Леонтьев? — быстро спросил Грейвуд.
— Да, так мне говорили. Рассказывают, что с первых часов своего приезда он развил лихорадочную деятельность. Впрочем, как говорят, все русские коменданты вообще занимаются странными делами — открывают магазины, больницы, заботятся о школах, утверждают программы варьете, раздают землю крестьянам… Эти русские — славные ребята и боевые солдаты, не понимаю, зачем им тратить силы на эту чепуху и заботиться о немцах, которые причинили им столько зла. Как только познакомлюсь с полковником Леонтьевым, прямо спрошу его об этом, как танкист танкиста, как солдат солдата… И, наконец, как муж русской — русского, — с улыбкой добавил Нортон.
— Любопытно было бы услышать, что он ответит на ваш вопрос, — сказал Грейвуд. — Я тоже не очень понимаю, в чём тут дело. Вернее всего, что это политика пропаганды коммунизма… Они завоевали часть Германии, а теперь хотят завоевать симпатии немецкого народа. Что ж, это не так глупо, мой дорогой Нортон, если говорить серьёзно…
— Но и не так умно, — быстро ответил Нортон. — Я лично убеждён, что немцам нельзя доверять. Немцы способны уважать только силу. Они любят исполнять приказ, и это действует на них гораздо лучше всех уговоров. Когда же их начинают уговаривать, они воспринимают это как свидетельство слабости и задирают нос…
Грейвуд внимательно посмотрел на своего собеседника. Как видно, этот Нортон был славным малым, храбрым солдатом, но ни черта не смыслил в политике. К сожалению, мысли о немецком народе, только что высказанные Нортоном, разделяли лица, занимающие гораздо более высокое положение, нежели этот полковник. Грейвуд тоже не любил немцев, но как умный человек понимал, что так примитивно судить о целом народе по крайней мере неразумно.
Однако, не желая вступать в откровенный разговор по этому поводу, полковник Грейвуд сказал:
— Мне трудно судить о политике русских, пока я не побывал лично в их зоне. Давайте-ка съездим к ним…
И через полчаса полковники мчались на военном «виллисе» с визитом к своим русским союзникам.
Полковник Леонтьев работал в своём служебном кабинете, когда к нему вошёл Глухов и сказал:
— Сергей Павлович, звонили с погранпункта — к нам едут американцы. Один — комендант соседнего города, полковник, другой, кажется, из Нюрнберга. Скоро прибудут…
— Очевидно, едут знакомиться, — сказал Сергей Павлович. — Ну что ж, это естественно. Визит вежливости, как говорят дипломаты… Где их будем принимать?
— Сначала здесь, в комендатуре, — ответил Глухов. — Я договорюсь с военторгом, чтобы в моём кабинете подготовили «ленч», как они говорят. Ну, «поленчуемся», угостим их нашей водочкой — она им всегда по душе, потом покатаемся по городу, а вечером можно сводить в варьете. Жаль, что майор Пискунов самые пикантные номера из программы вышиб, а то гости были бы весьма довольны. Это как раз в их вкусе…
— Ничего, пускай привыкают к нашим вкусам, — произнёс Леонтьев. — Но я думаю, что, кроме «ленча» в комендатуре, надо бы, пожалуй, принять их у себя. Как-никак, союзники…
— Вы, правы, — оживился Глухов. — Если разрешите, Сергей Павлович, я дам необходимые указания… Наш повар — великий мастер для таких «чепе». И скажу, чтобы приготовили всё по-русски… Одним словом, выдержим национальный колорит… Сервировку попрошу у вашей фрау Лотты, она, наверно, охотно всё сделает… Разрешите выполнять?
— Действуйте, — улыбнулся Леонтьев и погрузился в свои дела.
Минут через сорок за распахнутым окном раздался шум круто заторможенной машины и чьи-то весёлые голоса. Выглянув в окно, Леонтьев увидел высокую фигуру Грейвуда, с его розовым, отменно выхоленным лицом и седой шевелюрой.
Рядом с ним стоял, отдавая какие-то распоряжения негру-шофёру, невысокий, но очень складный, смуглый человек с погонами полковника танковых войск.
«Один танкист, а второй невесть кто», — подумал про себя Леонтьев, привычно оправил портупею, одёрнул китель и пошёл навстречу своим гостям.
Он встретил их в коридоре, где они шли в сопровождении дежурного по комендатуре старшего лейтенанта Фунтикова.
Это был тот самый Маркел Иванович Фунтиков, который в конце войны лично задержал Крашке и доставил его в советскую контрразведку. По окончании войны старший лейтенант, о прошлом которого в полку не было известно (знал о нём лишь полковник из контрразведки Бахметьев, «крёстный» Фунтикова), был командирован на службу в комендатуре как находчивый, дисциплинированный офицер, хорошо себя зарекомендовавший во всех отношениях.
Теперь быстроглазый, ловкий Фунтиков, в отлично пригнанном кителе и щегольских, надраенных до немыслимого блеска сапогах (пожалуй, отлично начищенная обувь была единственной склонностью, оставшейся у него от прошлого), непринуждённо сопровождал американских гостей.
Увидев Леонтьева, Фунтиков вытянулся, ловко щёлкнул каблуками и отрапортовал:
— Товарищ полковник! Дежурный по комендатуре старший лейтенант Фунтиков.
Леонтьев отметил, с какой особой, значительной торжественностью представился старший лейтенант, чьё лукавое, смышлёное лицо ему давно понравилось.
— Вольно, товарищ старший лейтенант, — ответил Леонтьев и обратился к гостям.
— Здравствуйте, полковник, мой дорогой сосед, — сказал Нортон Леонтьеву на русском языке с сильным акцентом. — Хотя есть известная у вас поговорка — незваный гость хуже татарина, — я и мой коллега, полковник Грейвуд, сочли своим приятным долгом нанести вам дружеский визит. О, да!.. Джемс Нортон…
— Здравствуйте, господа! — приветливо ответил Леонтьев. — Я рад приветствовать в вашем лице наших доблестных союзников в войне против общего врага. Полковник Леонтьев, Сергей Павлович… Прошу ко мне. Товарищ старший лейтенант, вы свободны.
— Слушаю, товарищ полковник! — гаркнул Фунтиков и, взяв под козырёк, так повернулся и зашагал обратно, что Нортон и Грейвуд поощрительно улыбнулись ему вслед.
В кабинете Леонтьев усадил гостей в кресла, стоявшие перед круглым столом, и, сев рядом с американцами, вынул коробку «Казбека». Грейвуд, с интересом рассматривая коробку и мундштуки папирос, в свою очередь протянул Леонтьеву пачку «Честерфильд».
— Если не ошибаюсь, полковник Нортон, вы танкист? — обратился Леонтьев к Нортону, заметив обозначения на его петлицах.
— О да, мистер Леонтьев, — ответил Нортон. — Я уже знаю, что вы тоже танкист и, как я, были командиром полка… За это стоит выпить, коллега!.. Если советские и американские танкисты встретились здесь, в центре Германии, мистер Леонтьев, это значит… Это многое значит, коллега!..
— Совершенно с вами согласен, полковник Нортон, — ответил Леонтьев. — За такую встречу действительно надо выпить!.. Я надеюсь, что полковник Грейвуд не расходится с нами в этом вопросе?
Нортон быстро перевёл слова Леонтьева Грейвуду, тот подчёркнуто дружелюбно захохотал и что-то сказал Нортону.
— Мой друг, полковник Грейвуд, к сожалению, не владеет русским языком, — обратился к Леонтьеву Нортон. — Но он говорит, что, не зная языка, отлично понял, о чём идёт речь. Это не должно вас удивлять, говорит полковник, потому что русские и американцы нашли общий язык и доказали это в минувшей войне.
В этот момент, распространяя сильный аромат цветочного одеколона, в кабинете появился грузный Глухов, которого Леонтьев представил своим гостям.
Пожав им руки, Глухов пробормотал «весьма рад» или что-то в этом роде, а затем тихо спросил Леонтьева: «Разрешите приступить?»
Леонтьев только кивнул головой и Глухов, сказав «Прошу извинить, на одну минуту», вышел из кабинета. Сейчас же вернувшись, он одним мановением ресниц доложил своему начальнику, что, дескать, всё в порядке и гостей можно «ленчевать»…
— Господа, прошу вас к завтраку, — произнёс, встав, Леонтьев.
В кабинете Глухова уже был накрыт стол, расставлены рюмки и бокалы. Две официантки из военторговской столовой заканчивали последние приготовления. Леонтьев быстрым, хозяйским взглядом окинул стол и остался доволен распорядительностью Глухова. Вся закуска была подобрана с учётом «национального колорита». Большая астраханская селедка «залом» соблазнительно раскинулась на блюде, украшенном луком, петрушкой и укропом. Матово поблескивала зернистая икра в только что открытой банке. Консервированная осетрина в томате была выложена на другом блюде. Ветчина, копчёная «московская» колбаса и фаршированный перец дополняли меню. Ко всему этому на большом блюде была подана горячая картошка в мундире, испечённая каким-то загадочным образом так, как будто её только что вынули из горячей золы полевого костра.
Гости и хозяева сели за стол, Глухов налил в рюмки водку, настоенную на чесноке и красном перце, Леонтьев встал и провозгласил тост за победу над общим врагом. Все, встав, чокнулись и выпили.
— Дьявольский напиток! — воскликнул, еле переводя дух, Нортон. — У меня такое ощущение, как будто мне выстрелили в желудок… Мой дорогой сосед, я беру с вас слово выдать мне секрет этого жидкого пламени… Вы, кажется, хотите что-то сказать, коллега? — обратился он к Грейвуду, который продолжал стоять, закрыв лицо салфеткой, кашляя и пытаясь отдышаться.
— Мистер Грейвуд говорит, — перевел Нортон, — что он зря прожил пятьдесят лет, так как лишь впервые пил такой божественный напиток…
— Поэтому надо выпить вторично, чтобы наверстать упущенное время, — с улыбкой сказал Леонтьев и снова налил рюмки.
Теперь с рюмкой в руке поднялся Нортон.
— Я провозглашаю тост, — сказал он, — за нашу боевую дружбу, за советских солдат и офицеров, поразивших весь мир своим мужеством, за великолепную Советскую Армию — в вашем лице, господа!..
Опять все встали и, чокнувшись, выпили. Всё понравилось гостям — и зернистая икра, и астраханский «залом», и фаршированный перец, и картошка в мундире. Всё чаще и веселее становились тосты, гости помаленьку освоились с «огненной настойкой», находя в ней всё новые и новые качества, и уже Грейвуд перестал прикладывать салфетку к лицу, а Нортон не жаловался на обожжённый желудок.
Всё непринуждённее становился и разговор. Между тостами Нортон, подмигнув Грейвуду, вдруг прямо спросил:
— Скажите, дорогой сосед, вам ещё не надоело заботиться о немцах, чёрт бы их побрал? Признаться, я очень удивлён тем, как вы с ними возитесь. Мне лично на них наплевать…
— Пока не сформируются и не будут избраны немецкие органы самоуправления, мы считаем своей обязанностью заботиться о населении, полковник, — серьёзно ответил Леонтьев.
— Понимаю, вы имеете в виду эти… горсоветы? — спросил Нортон.
Леонтьев и Глухов рассмеялись.
— Здесь не Советский Союз, полковник, — улыбаясь, ответил Леонтьев. — И мы вовсе не собираемся организовать горсоветы. Кстати, их не организуют, а избирают согласно нашей конституции.
— А я слышал, что вы и здесь хотите организовать советскую власть, — продолжал Нортон. — И, говоря между нами, почему бы вам этого действительно не сделать? Вы же победили Германию… Вы воевали с Германией, чёрт возьми!.. Почему же вам не воспользоваться плодами своей победы? Это было бы логично, дорогой полковник Леонтьев…
— У каждого своё представление о логике, мистер Нортон, — ответил Леонтьев. — Прежде всего мы воевали с фашизмом. Мы не собираемся навязывать немецкому народу свои порядки и единственное, чего мы хотим, — это создания миролюбивой, демократической Германии. Этого же — я глубоко в этом убеждён, господа, — хочет и подавляющее большинство немецкого народа…
Нортон слушал Леонтьева с нескрываемым интересом. Грейвуд с корректным, но равнодушным лицом размышлял в это время совсем о другом. Какое отношение имеет этот полковник Леонтьев к конструктору Леонтьеву? Как, не вызывая подозрений, выяснить, находится ли теперь в городе профессор Вайнберг и что он делает?
Наконец, позавтракав, гости и хозяева встали из-за стола. Глухов предложил совершить прогулку по городу. Предложение было охотно принято.
Поехали на двух машинах — Леонтьев с Нортоном, Глухов с Грейвудом. Так как Глухов не владел английским языком, а Грейвуд русским, разговор у них не клеился.
Напротив, в другой машине Нортон продолжал оживлённо беседовать с Леонтьевым, засыпая его множеством вопросов, нередко довольно наивных, но искренних и прямых.
Отвечая американцу и глядя на его смуглое лицо, живые глаза и белозубый рот, Леонтьев всё более проникался симпатией и доверием к этому весёлому и, по-видимому, честному человеку. С чисто детским любопытством и непосредственностью он задавал всё новые вопросы, внимательно, как-то по-детски нахмурив брови, выслушивал ответы и всякий раз выражал искреннее удивление. Видимо, ответы Леонтьева опрокидывали ошибочные представления Нортона о том, что происходит в советской зоне. Более того, эти лаконичные и прямые ответы пробуждали в Нортоне какие-то чувства и мысли, никогда раньше не приходившие ему в голову. Понравилась Леонтьеву и прямота, с которой Нортон ответил на его вопрос — кто такой Грейвуд?
— Мой дорогой сосед, — добродушно произнёс Нортон. — Я сам только утром познакомился с ним, когда он приехал из Нюрнберга… Скорее всего, полковник Грейвуд занимается вопросами денацификации. Вероятно, поэтому его интересует, как проводится эта работа в вашей зоне.
После осмотра города, местного музея, старинного и хорошо сохранившегося замка, в котором гости с интересом обошли все залы и комнаты с древней мебелью, фигурами рыцарей в латах, старинным оружием и даже поднялись в башню пыток, Леонтьев пригласил американцев к себе на обед.
Когда машины подъехали к вилле профессора Вайнберга и Грейвуд прочел на табличке номер дома и название улицы, он не поверил собственным глазам: это был тот самый дом, ради которого он сюда и приехал…
Разумеется, как опытный разведчик, Грейвуд ничем не обнаружил своей радости от такого неожиданного сюрприза. Но его ждал другой, ещё более значительный сюрприз.
Когда Николай Петрович Леонтьев приезжал к брату в Буков, один майор, фотограф-любитель, по просьбе Сергея Павловича сфотографировал братьев и сделал большой, сильно увеличенный портрет, который преподнёс своему командиру.
Теперь, устраиваясь на новой квартире, Сергей Павлович повесил портрет в кабинете над своим письменным столом.
Американцы вместе с Сергеем Павловичем и Глуховым поднялись на второй этаж, в квартиру. Хозяин усадил гостей в кабинете, а сам прошёл в столовую, проверить стол. Оставшись в кабинете, Грейвуд с самым рассеянным видом начал рассматривать комнату, мебель, стеклянную дверь, выходящую из кабинета на балкон, подошёл к письменному столу и увидел фотографию. Он сразу узнал конструктора Леонтьева, с которым встречался в Дебице примерно год тому назад.
И опять подивился полковник Артур Грейвуд такому счастливому стечению обстоятельств. Да, теперь уже не было сомнений, что конструктор Леонтьев имеет прямое отношение к полковнику Леонтьеву, в гостях у которого он, Грейвуд, теперь находится!..
Когда Сергей Павлович вернулся в кабинет, Грейвуд при посредстве Нортона обратился к нему с вопросом — кем ему приходится человек, вместе с которым он сфотографирован.
— Это мой двоюродный брат, — спокойно ответил Сергей Павлович. — А почему он заинтересовал полковника Грейвуда?
— Я обратил внимание на большое сходство, — ответил Грейвуд.
На самом деле братья вовсе не были похожи друг на друга. Сергей Павлович удивился словам Грейвуда, но отнёс их за счёт его желания сказать приятное и перевёл разговор на другую тему.
Уже в конце обеда Леонтьев рассказал своим гостям о Коленьке и попросил их совета, как лучше организовать его поиски.
Как только Нортон перевёл Грейвуду рассказ Сергея Павловича о судьбе его сынишки, американец встал и, пожав Сергею Павловичу руку, взволнованно произнёс:
— Мистер Леонтьев, хорошо, что вы мне сообщили об этом. Поверьте, я сделаю всё, что в моих силах, чтобы навести справки о вашем сыне и как можно скорее вернуть его вам!.. О, я взволнован до глубины души этой трагической историей!.. У меня тоже есть сын, и потому мне легко понять всё, что вы переживаете…
Насчёт сына Грейвуд солгал, потому что не имел детей. Но он действительно взволновался: рассказ Леонтьева был для него третьим сюрпризом за этот день. Внутренне ликуя, Грейвуд уже прикидывал, какие оперативные комбинации возможны в связи с этой историей для проникновения в семью Леонтьевых…
Ещё не зная, как именно использовать этот случай, Грейвуд решил принять все меры к розыску Коленьки Леонтьева.
После обеда Грейвуд предложил перейти в сад, подышать свежим воздухом. Он надеялся, что в саду хоть издали увидит профессора Вайнберга, ради которого, собственно, и приехал сюда. Теперь, когда перед операцией «Сириус» (Грейвуд сохранил её прежнее название) раскрывались новые возможности, имело смысл вернуться к заданию Маккензи.
Отдав распоряжение, чтобы кофе был подан в садовую беседку, Леонтьев повёл туда своих гостей. В саду в самом деле было хорошо в этот вечерний час. Кусты сирени обрамляли аккуратные, посыпанные жёлтым песком дорожки. В глубине сада, где находилась беседка с разноцветными стеклянными окнами, уже отцветали яблони. Профессор Вайнберг в синем брезентовом комбинезоне с садовыми ножницами в руках внимательно осматривал деревья, за которыми всегда ухаживал сам. Его внук, строгавший с очень сосредоточенным видом какую-то палочку, увидев Сергея Павловича, с весёлым криком бросился к нему. Леонтьев, искренне привязавшийся к мальчугану, высоко поднял его на руки и поцеловал.
— Я хотел прийти к вам, герр оберст, — сказал мальчик, — но мутти меня не пустила — она сказала, что у вас гости и вы очень заняты…
— Как видишь, у меня действительно гости, — ответил Сергей Павлович. — Но я всегда рад тебя видеть.
— Мистер Нортон, спросите полковника, чей это ребёнок? — обратился к Нортору Грейвуд, заметив, как ласков Леонтьев с ребёнком.
— Это внук профессора Вайнберга, — ответил Сергей Павлович. — И очень славный малый. Не так ли, старина? — обратился он уже к ребёнку.
Мальчуган рассмеялся. Профессор Вайнберг, стоявший в стороне, молча поклонился Леонтьеву, встретившись с ним взглядом.
— Добрый вечер, господин Вайнберг, — произнёс Леонтьев. — Мы тоже решили подышать свежим воздухом. Отличный вечер…
— Да, погода недурна, герр оберст, — сдержанно ответил старик. — И в саду сейчас действительно хорошо…
— Мы собираемся, профессор, пить кофе в беседке, — продолжал Сергей Павлович. — Я и мои американские гости. Мы будем рады, если вы и фрау Лотта примете в этом участие… Посидим за круглым столом…
— Разве побеждённые могут сидеть за одним столом с победителями? — усмехнулся старик. — Я не уверен, что это принято, герр оберст… Это против всяких традиций…
— Есть традиции, от которых лучше отказаться, профессор, — медленно произнёс Сергей Павлович, глядя в упор на старика. — Что же касается побеждённых, то, насколько я осведомлён, вы никогда не были фашистом и потому не имеете оснований относить себя к числу побеждённых… Не так ли?
— На вопрос, который задан так прямо, герр оберст, — ответил, улыбаясь, профессор, — нельзя не дать прямого ответа. Вы осведомлены лишь об одной стороне дела: я действительно не был сторонником фашизма. Но я не являюсь и вашим сторонником, герр оберст…
— Что ж, я всегда ценил откровенность, профессор Вайнберг, — спокойно ответил Сергей Павлович. — И тем не менее повторяю своё приглашение.
Старик чуть удивлённо посмотрел на Леонтьева и после небольшой паузы произнёс:
— Благодарю. Я только сменю костюм и предупрежу фрау Лотту…
И он, поклонившись, пошёл в дом.
— Это ваш хозяин? — спросил Леонтьева Нортон.
— Это хозяин дома, в котором я живу, — ответил Леонтьев. — Немецкий учёный…
— Нортон, спросите полковника, как фамилия этого человека, — попросил Грейвуд, хотя он уже расслышал фамилию Вайнберга.
— Это профессор Вайнберг, — ответил Леонтьев на вопрос Нортона.
В просторной беседке на столе дымился кофейник и были расставлены чашки, когда Леонтьев и его гости вошли туда после прогулки по саду. Вечерняя прохлада проникала в беседку через открытые окна. Тихие летние сумерки заполнили сад. Утомлённые впечатлениями дня, хозяева и гости задумались, каждый о своём. Сергей Павлович думал о Коленьке, об обещании Грейвуда помочь в розысках мальчика. Нортон размышлял о том, что всего несколько часов, проведённых в обществе русских офицеров, изменили некоторые его представления о советских людях, о положении в советской зоне оккупации и политике, которая проводится в ней. Глухов добродушно улыбался, считая, что его начальник отлично провёл приём иностранных гостей и что в свою очередь он, Глухов, тоже показал класс распорядительности в отношении завтрака и обеда. Грейвуд, очень довольный ответом Вайнберга на приглашение Леонтьева, теперь обдумывал, как лучше вступить в контакт с профессором, так откровенно высказавшим своё отрицательное отношение к коммунистам…
Затянувшуюся паузу прервал приход профессора Вайнберга и фрау Лотты. Старик явился в чёрном, несколько старомодном костюме, со строгим галстуком и твёрдым, туго накрахмаленным воротничком. На фрау Лотте было простое, но милое летнее платье.
При их появлении встали, и Леонтьев представил Вайнберга и фрау Лотту своим гостям. Грейвуд окинул молодую женщину быстрым, оценивающим взглядом, сразу отметив её тонкую, стройную фигуру с высокой грудью, покатыми плечами и пышными бёдрами. Её тонкое продолговатое лицо с чуть удлинёнными синими глазами, пухлым ртом и застенчивой улыбкой, открывающей ровный ряд плотно слитых зубов, тоже понравилось Грейвуду, и он подумал, что полковник Леонтьев, наверно, имеет виды на эту красивую немку.
Ещё более внимательно Грейвуд рассмотрел профессора Вайнберга, крепкого, сухощавого человека лет за шестьдесят с совершенно седой густой шевелюрой и глубоко сидящими строгими глазами. Он держался с большим, может быть, чуть подчёркнутым достоинством, был немногословен, хотя корректен, и, разговаривая с собеседником, смотрел на него открытым, прямым, испытующим взглядом.
Фрау Лотта разливала кофе, мужчины курили, за исключением профессора, который отказался от предложенной ему Грейвудом сигареты, сказав по-английски:
— Благодарю вас, полковник. Полгода назад я перестал курить.
— По медицинским соображениям, профессор? — спросил Грейвуд, очень обрадовавшись тому, что Вайнберг так свободно владеет английским языком.
— Не совсем, — улыбнулся старик. — Дело в том, что я курил почти сорок лет. И всё, что никотин мог сделать с моим здоровьем, он уже сделал… Мне пришлось оставить эту дурную привычку по не зависящим от меня обстоятельствам — теперь невозможно достать сигареты.
— Понимаю, профессор. Но человек, куривший сорок лет, вряд ли в состоянии заниматься умственным трудом без привычной порции никотина. Я могу судить об этом по себе.
— Вам тоже приходится заниматься умственным трудом? — с едва уловимой иронией спросил профессор. — Разве это входит в обязанности офицера?
Грейвуд сделал вид, что не понял иронии.
— О, господин профессор, — сказал он. — Современная война — занятие весьма интеллектуальное… Времена луков и стрел прошли. Теперь на войну работают не только солдаты и офицеры, но даже крупные учёные, физики, вроде вас, господин Вайнберг… Не так ли?
Вайнберг быстро вскинул взгляд на Грейвуда. Какой-то огонёк на мгновение мелькнул в его глазах и тут же потух.
— Вам обязательно требуется моё подтверждение, полковник Грейвуд? — тихо спросил Вайнберг. — Или вы как-нибудь обойдётесь без него?
Грейвуд, сидевший рядом с Вайнбергом, осмотрелся. Фрау Лотта о чём-то беседовала с Глуховым, Леонтьев, прихлебывая из чашечки кофе, слушал рассказ Нортона.
— …и когда я увидел первый советский танк марки «Т‑34», — говорил Нортон, — я понял, дорогой коллега, что утверждения моего бригадного генерала — лучшее свидетельство его неосведомлённости и глупой чванливости, да, да! Толщина брони…
Убедившись, что все заняты разговором и не обращают внимания на него и профессора Вайнберга, Грейвуд решил идти напролом.
— Послушайте, профессор Вайнберг, — тихо сказал он. — Никто из этих русских ни слова не понимает по-английски. Тем не менее на всякий случай я постараюсь говорить так, чтобы слышали только вы. Я такой же полковник, как вы фельдмаршал. Мне пришлось надеть этот мундир, чтобы иметь возможность приехать сюда, чтобы вас видеть, чтобы вам сказать…
— Что именно, мистер Грейвуд? — спросил Вайнберг, настороженно глядя на своего собеседника. — Впрочем, эта фамилия, возможно, имеет к вам такое же отношение, как и полковничий мундир?
— Нет, это моя подлинная фамилия, хотя она и не имеет никакого отношения к существу дела, о котором идёт речь, профессор, — быстро произнёс Грейвуд. — Я могу быть с вами откровенен?
— У меня нет никаких секретов, господин Грейвуд, а ваши секреты ни в какой мере не занимают меня, — ответил Вайнберг.
— Хорошо. Мы знаем, что вы крупный учёный. Мы знаем, кроме того, что вы противник коммунизма. Следовательно, нам легко понять друг друга…
— Допустим. Что же из этого следует?
— Многое. Прежде всего вам, конечно, нельзя оставаться здесь. Вы каждый день рискуете оказаться арестованным, а затем насильно вывезенным в Советский Союз… В Сибирь…
— Да? Странно, однако мистер Грейвуд, что я уже слышал об этом… И знаете от кого?
— Да?
— От доктора Геббельса, — усмехнулся Вайнберг. — Разумеется, не лично.
— Вы напрасно улыбаетесь, профессор. Мы просто хотим вам помочь.
— Это очень мило с вашей стороны, мистер Грейвуд. Любопытно, однако, чем вызвано столь трогательное ко мне отношение? Ведь если ваши утверждения верны, такая участь ждёт не только меня…
— Но и других немецких учёных, вы правы. В меру наших сил мы хотим им помочь.
— Но начали с меня?
— Вы — крупнейший. Неужели это трудно понять? Итак, прошу меня выслушать.
— Охотно.
— В любой день, по вашему усмотрению, мы можем организовать ваш переход на запад. Разумеется, с вашей семьёй. Мы гарантируем вам дом, машину, офицерский паёк, абсолютную свободу и все условия для научной деятельности. Наконец, если вы пожелаете, Америка может стать вашей второй родиной, профессор. Кстати, там уже немало ваших коллег… Я не тороплю вас с ответом, но советую, в ваших интересах, не слишком долго размышлять…
— Это всё, что вы имеете мне сказать?
— Всё, что я мог сказать в этих условиях, профессор…
— Я подумаю, — медленно протянул Вайнберг.
— Отлично. Через несколько дней к вам придёт человек, ваш соотечественник, который передаст привет от меня. Он назовёт вам адрес, по нему в любой день вы сможете его найти и через него передать мне всё, что вы найдёте нужным. Для того чтобы вы могли доверять этому человеку, он назовёт вам пароль — «Нейтрон»…
— Это мне легко запомнить, — усмехнулся Вайнберг. — Работая в области атомной физики, я всё время имел дело с нейтронами… Любопытно, что они уже используются не только в физике…
— Это чистая случайность, профессор.
— В которой есть, вероятно, своя логика, — произнёс Вайнберг и снова так улыбнулся, что Грейвуд подумал: «Кажется, этот старый алхимик соображает не только в физике… Не ошибся ли я, сделав сразу ход конём?».
В этот момент Леонтьев, обращаясь к Грейвуду, сказал:
— Господин полковник, как я вижу, нашёл интересного собеседника в лице профессора Вайнберга… Как и профессор Вайнберг в лице полковника… Не так ли, господа?
Пока Нортон переводил слова Леонтьева, фрау Лотта с тревогой смотрела на профессора. Она хорошо знала его и сразу заметила, что профессор чем-то серьёзно озабочен.
И в самом деле, выдержав в разговоре с Грсйвудом спокойный и даже иронический тон, профессор Вайнберг в глубине души был встревожен, отлично поняв, что к нему проявлен специальный и весьма определённый интерес…
— Да, я очень рад знакомству с профессором, — простодушным тоном ответил на вопрос Леонтьева Грейвуд. — Я всегда преклонялся перед людьми науки, господа… И всегда немного завидовал им.
— А какова ваша профессия, господни Грейвуд, если это, конечно, не секрет? — в таком же простодушном тоне спросил Леонтьев, пристально поглядев на Грейвуда. Беседуя с Нортоном, Сергей Павлович всё-таки заметил, что между Вайнбергом и Грейвудом произошёл какой-то не совсем обычный разговор.
— Какие секреты могут быть у солдата после окончания войны? — произнёс Грейвуд. — Я такой же военный и такой же полковник, как наш милый хозяин.
Нортон стал переводить эту фразу, а Вайнберг подумал, что Грейвуд совсем напрасно считает Леонтьева наивным человеком.
***
Гости уехали довольно поздно. Подвыпивший Нортон веселился от души. Он исполнил народный американский танец: «Индюк в соломе» и отлично спел популярную песенку «Ура, ура, собрались все ребята». Глухов счёл себя обязанным сплясать русскую, а затем он и Нортон дуэтом спели «Катюшу». Грейвуд энергично подпевал и кричал, что давно так не веселился.
Сергей Павлович после отъезда американцев долго не мог заснуть. Утомлённый этим днём, он всё не мог отделаться от неприятного впечатления, которое оставил Грейвуд. Теперь, анализируя все подробности его поведения, Сергей Павлович пришёл к выводу, что Грейвуд проявил какой-то повышенный интерес к Вайнбергу. Нортон ведь прямо сказал, что Грейвуд только утром приехал из Нюрнберга. Чем он занимается, Нортон толком не знал. Вспомнилась Сергею Павловичу и фраза, брошенная Грейвудом, о несуществующем сходстве с братом.
Размышляя обо всем этом, Сергей Павлович решил в докладе о неожиданном визите американских полковников подробно остановиться на Грейвуде и указать некоторые подозрительные детали его поведения.
Утром, придя в комендатуру, он написал доклад, в котором, между прочим, изложил своё впечатление о повышенном интересе Грейвуда к профессору Вайнбергу.
Отправляя доклад, Сергей Павлович, разумеется, не знал и не мог знать, что, независимо от его доклада, полковник контрразведки Бахметьев, недавно вернувшийся из Москвы, получил указание обеспечить неприкосновенность группы немецких специалистов, в том числе профессора Вайнберга, за которыми уж очень цинично начала охотиться американская разведка.
Вот почему Бахметьев выехал из Берлина в тот город, где жил профессор Вайнберг. Бахметьев знал от Николая Петровича Леонтьева, у которого он провёл вечер в Москве, что Сергей Павлович работает в этом городе комендантом, и теперь был рад передать полковнику привет от его двоюродного брата.
Когда Бахметьев вошёл в вестибюль комендатуры, первым, кто ему встретился, был старший лейтенант Фунтиков, старый знакомый и «крестник» Бахметьева.
Фунтиков так обрадовался, что забыл о субординации, бросился на своего «крёстного» и начал его целовать. Обрадовался неожиданной встрече и Бахметьев, не знавший в последнее время, где находится его воспитанник.
Они сговорились встретиться вечером, когда Фунтиков сдаст дежурство, а Бахметьев освободится от своих дел.
Судьба Коленьки
Вернувшись в Нюрнберг, полковник Грейвуд прежде всего принял меры к выяснению судьбы Коли Леонтьева.
В то время в американской зоне оккупации находилось много советских подростков, юношей и девушек, угнанных гитлеровцами в Германию. Часть из них работала на военных заводах, другие были отданы в кабалу крупным помещикам и работали у них в качестве батраков.
Теперь американские власти стремились любыми путями задержать этих подростков, на которых имели особые виды.
Полковник Грейвуд, приняв меры к розыску Коли Леонтьева, тотчас начал разрабатывать план своих действий. Со слов Сергея Павловича Леонтьева ему было теперь точно известно, что Коле идёт семнадцатый год. Отец не видел его больше четырёх лет, как раз в те годы, когда мальчик становится юношей. Если сын Леонтьева жив, то над ним нужно основательно поработать, сделать его агентом американской разведки и, убедившись, что он достаточно надёжен, отправить к отцу. Правда, отец сам по себе не представляет интереса, но он, разумеется, захочет дать сыну образование и отправит его в Советский Союз. Если мальчишку хорошо проинструктировать, он подаст идею, чтобы его отправили к дяде, живущему в Москве. Тогда всё устроится наилучшим образом: в квартире объекта операции «Сириус» будет жить и выполнять все задания надёжный агент, который, кстати, ни у кого не вызовет подозрения. В самом деле, кому придёт в голову, что племянник Леонтьева, юноша, почти подросток, сделался сотрудником американской разведки?
Конечно, для надёжной обработки мальчишки потребуется время. Тут спешка недопустима. Но зато, если этот план будет реализован, какие откроются превосходные перспективы для осуществления операции «Сириус»! Этот чванливый кретин Маккензи никогда в жизни не додумался бы до такой тонкой комбинации!.. Вот почему надо пока сохранить её в секрете от Маккензи. Иначе он обязательно присвоит все лавры, сделав вид, что сам придумал такой тонкий ход, а Грейвуд был лишь исполнителем…
Приняв решение, полковник Грейвуд заснул в своей роскошной спальне, отлично спал и утром проснулся в самом отменном настроении. Выпив положенный стакан джюза, Грейвуд отдал себя в распоряжение массажистки, пожилой и очень старательной фрау Эмилии, которая обходилась ему до смешного дёшево: пачка сигарет за сеанс. Нет, что ни говори, оккупация превосходная вещь — всё к услугам победителей по баснословно дешёвым ценам, а иногда и вовсе бесплатно. Странно, что советский военный комендант ограничился лишь вторым этажом виллы Вайнберга, а не занял её целиком. Впрочем, может быть, он не такой уж чудак: фрау Лотта лакомый кусочек и Леонтьев, скорее всего, устроился с нею не менее удобно, чем он, Грейвуд, со своей фрейлейн Эрной… Тем огорчительнее будет для господина коменданта момент, когда эта красавица, фрау Лотта, исчезнет вместе со своим свёкром и мальчишкой… Тогда операция «Нейтрон» может принести ему, Грейвуду, кое-какие дополнительные удовольствия, чёрт возьми!..
Весело рассмеявшись, полковник оделся и пошёл в столовую, где его хорошенькая экономка уже почтительно поджидала строгого хозяина.
После завтрака он поехал в свой «офис» и занялся подготовкой операции «Нейтрон». Судя по тому, как профессор Вайнберг реагировал на сделанное ему предложение, с этим стариком можно найти общий язык. По-видимому, Вайнберг тяготится обстановкой в советской зоне, если он так прямо высказал полковнику Леонтьеву своё отрицательное отношение к коммунистам. Следовательно, надо подобрать подходящего человека для связи с Вайнбергом. Подумав, Грейвуд остановился на кандидатуре Мильха, тем более подходящей потому, что Мильх в гитлеровские времена работал в гестапо именно по линии секретных научных работ, лабораторий и испытательных станций.
Грейвуд послал машину за Мильхом и, когда тот явился, изложил ему суть нового задания.
— Мы перебросим вас в советскую зону оккупации, в этот город, — сказал в заключение Грейвуд. — Там вы вступите в контакт с Вайнбергом и, когда он назначит день перехода к нам, сообщите об этом мне…
— Одну минуточку, господин полковник, — неуверенно начал Мильх. — Есть некоторые обстоятельства, которые исключают возможность моего участия в этом деле…
— Что такое? — резко спросил Грейвуд. — Какие обстоятельства?
— Дело в том, что два года тому назад у меня был серьёзный конфликт с профессором Вайнбергом, — поспешно ответил Мильх. — Мы знали, что он настроен весьма оппозиционно к фюреру, и одно время даже обсуждали вопрос об его аресте. Рейхсфюрер СС поручил мне тогда встретиться с Вайнбергом и дать ему понять, что если он не изменит своих взглядов, а главное, не прекратит разговоров в своей среде на политические темы, то для него найдётся подходящее местечко в Дахау или другом «санатории» подобного типа… Не будь Вайнберг крупным учёным, с ним это случилось бы гораздо раньше…
— И вы имели разговор с профессором?
— Да, господин полковник. Я поехал к нему в тот самый город, где он живёт и теперь, остановился в местном управлении гестапо, и вечером, когда профессор совершал свой моцион, агенты схватили его на улице, посадили в машину и доставили в гестапо. Мы считали, что такая интродукция к нашему разговору будет весьма полезна. Профессора посадили в подземную камеру, а потом, поздно ночью, привели ко мне. К моему удивлению, старик вёл себя довольно спокойно, чтобы не сказать больше. Я сказал ему всё, что мне было поручено. Знаете, что он мне ответил?
— Ну, ну, любопытно…
— Он сказал мне так: передайте господину рейхсфюреру СС, что в его власти арестовать профессора Вайнберга, заключить его в концлагерь и даже убить. Это в его силах. Но взять голову профессора Вайнберга и пересадить её на плечи какому-нибудь нацистскому болвану не сможет даже рейхсфюрер СС. Это уже не в его возможностях. Он, профессор, не уверен, что Германии следует отказаться от его головы. Но если, вопреки логике, так будет решено, — что ж, ему уже за шестьдесят, а средняя продолжительность жизни в наше милое время — сорок пять лет. Следовательно, он может считать, что ему и так повезло — по крайней мере на пятнадцать лет…
— Неужели так и сказал? — удивился Грейвуд.
— Дословно. Я начал его убеждать, но он только посмеивался, или потому, что, как он думал, никто не решится его арестовать, или потому, что он действительно безразлично к этому относился… На фронте погиб его единственный сын, и старик после этого на всё махнул рукой…
— Чем же всё это кончилось?
— Я сообщил о нашем разговоре господину Гиммлеру, который, выругав, как водится, меня, приказал освободить профессора и лично отвезти его домой. Я это выполнил. А когда, высадив профессора из машины, на прощанье протянул ему руку, он сказал, что не подаёт руки незнакомым людям вообще, а знакомым гестаповцам в особенности… Таков этот гусь, мистер Грейвуд. Вы сами понимаете, что мне…
— Вы были в курсе его научных работ? — прервал Грейвуд.
— Более или менее. Этим работам придавалось большое значение. Мы окружили профессора своей агентурой. Но я не уверен, что он был достаточно откровенен со своими помощниками. Тем не менее я примерно знал, о чём идёт речь…
— Любопытно. Расскажите, — произнёс Грейвуд.
— Слушаю, только прошу учесть, мистер Грейвуд, что я не физик и потому моё изложение будет несколько примитивным. Весною 1939 года я получил сообщение от нашей агентуры в Норвегии, что местным физикам удалось добыть небольшое количество тяжёлой воды, необходимой для работ, связанных с получением атомной анергии. Как говорили, норвежцы добились успеха благодаря очень дешёвой электроэнергии, вырабатываемой их сетью гидростанций. Но, так или иначе, они получили тяжёлую воду. Об этом было доложено Гитлеру, и он приказал оккупировать Норвегию ранее первоначально намеченного срока. Однако когда Норвегию оккупировали, то выяснилось, что весь запас тяжёлой воды какие-то французские и польские физики, понимавшие её значение для атомной проблемы, успели купить у норвежцев и вывезли тайком, чуть ли не на рыбачьей шхуне, в Англию, чтобы эта вода не попала в наши руки… Гитлер тогда пришёл в бешенство и приказал восстановить запас тяжёлой воды, снова пустив завод, сооружённый в горных районах Норвегии. Однако норвежские партизаны взорвали этот завод и его уникальное оборудование.
— Так-так, — произнёс Грейвуд, отлично знавший эту историю, но желавший проверить степень осведомлённости Мильха, — какова же судьба той партии тяжёлой воды, которую отвезли в Англию?
— Нашей агентуре в Лондоне и США удалось это выяснить, господин полковник, — ответил Мильх. — Когда начались бомбёжки Лондона, американцы уговорили англичан отправить тяжёлую воду в США, мотивируя это тем, что там она будет в сохранности. Англичане согласились и отправили тяжёлую воду в США, о чём в дальнейшем весьма сожалели…
— Почему вы так думаете? — быстро спросил Грейвуд.
— Так доносила наша агентура. Теперь я могу перейти к работам профессора Вайнберга. Он, как физик-атомщик, работал, в частности, над получением тяжёлой воды. Другие стороны его деятельности мне неизвестны, господин Грейвуд.
— У меня есть к вам ещё один вопрос, Мильх, — сказал Грейвуд. — Представляет ли, по-вашему, этот профессор интерес для русских?
— Трудно сказать, господин Грейвуд. Русские имеют очень сильную контрразведку, и потому нам мало известны их научные секреты. Должен прямо сказать, что ни в одной другой стране наша служба не сталкивалась с такими трудностями, как в России. И тут дело не только в их контрразведке, но и в особенностях их быта, психологии, всего образа жизни…
— Что вы имеете в виду, Мильх? — спросил Грейвуд.
— В России нет игорных домов, притонов, кафешантанов, частных кабаре и гостиниц. Отношение к деньгам в этой стране более чем своеобразно. Советские учёные, как правило, неподкупны и не желают продавать свои секреты. Наконец, стоит любому советскому человеку, начиная с академика и кончая шофёром такси или горничной в отеле, заметить что-либо подозрительное, как они немедленно и по большей части бескорыстно поставят об этом в известность органы власти…
— Вы преувеличиваете, — заметил Грейвуд.
— Ни в какой мере, господин полковник. Эти русские просто фанатики, уверяю вас!.. Чего стоит хотя бы случай с Крашке, о котором я вам докладывал. Подумайте только — карманный вор, обокрав Крашке на вокзале и убедившись, что в его бумажнике секретные плёнки и документы, сам идёт к следователю и отдает ему всё, что украл!.. Вы думаете, он рассчитывал при этом на награду? Ни в коем случае!
— Тогда почему же он пошёл?
— Потому, что он — русский. И для них, даже для карманников, характерно чувство патриотизма в их понимании этого слова. Нет, это невозможная страна!..
— Ближе к делу, Мильх, — перебил своего сотрудника Грейвуд.
— Извините, я просто хотел объяснить, почему бедны наши сведения о секретных работах русских учёных. Вы спрашиваете, нужен ли им профессор Вайнберг? Не знаю… Я припоминаю одну любопытную деталь: в числе донесений о настроениях и разговорах Вайнберга было одно, косвенно отвечающее на ваш вопрос. Один из помощников Вайнберга, профессор Майер, был, как вы знаете, моим секретным осведомителем. И вот однажды он донёс мне, что Вайнберг в одной из бесед со своими помощниками расхваливал советских физиков и, в частности, атомщиков…
— О, это любопытно, — оживился Грейвуд. — О ком именно шла речь и откуда об этом был осведомлён Вайнберг?
— Сейчас доложу. Я отлично помню этот эпизод, так как специально докладывал о нём начальству и даже получил задание проверить то, что говорил Вайнберг. Дело в том, что в 1933 году русские физики провели в Ленинграде всемирный конгресс по атомному ядру. На этот конгресс приехали многие иностранные учёные, в том числе и профессор Вайнберг. И вот на этом конгрессе молодой русский физик Иваненко поразил всех своей моделью атомного ядра, доказывая, что оно состоит из нейтронов и протонов. Иностранные физики, и в том числе профессор Вайнберг, оспаривали это утверждение. Но через несколько лет выяснилось, что русский учёный был абсолютно прав… Именно об этом факте Вайнберг и рассказывал своим помощникам, признавая, что он, как многие другие учёные, ошибался, споря с этим Иваненко.
Грейвуд задумался. Дело в том, что факт, рассказанный Мильхом, не был известен Грейвуду, хотя он до самого окончания войны занимался как раз установлением учёных разных стран, работающих в области атомной физики. Вместе с тем Мильх, по-видимому, был прав, так как эпизод с вывозом тяжёлой воды из Норвегии в Англию, а затем из Англии в США действительно имел место, и Грейвуд сам принимал участие в организации перевозки этой тяжёлой воды из Англии. Грейвуд был уверен, что знает всех атомщиков мира, он потратил немало труда и средств на то, чтобы выяснить их фамилии, биографии, их настроения и привычки. Многих из них он сам в течение последних лет, самыми различными методами — прямым подкупом, обманом, лживыми заверениями, игрой на их ненависти к фашизму или на их патриотических чувствах, разжиганием их самолюбия, стремления к роскоши, — одним словом, любыми методами заманил в США, где они и работают. Чёрт возьми, среди этих учёных и в самом деле нет ни одного русского, и, более того, ему неизвестна ни одна фамилия советского физика-атомщика!.. Не есть ли это результат грубейшей оплошности со стороны американской разведки и, в частности, его лично?..
— Как объясните вы, Мильх, что русские в 1933 году поделились открытием с учёными всего мира? — наконец спросил он.
Мильх с трудом удержался от улыбки. Ведь этим вопросом полковник Грейвуд невольно выдал тот факт, что он начал заниматься проблемами атомной физики лишь в самые последние годы.
— Я объясняю это тем, господин полковник, — осторожно начал Мильх, — что в 1933 году атомной проблеме ещё не придавалось то особое и специальное значение, которое было ей придано в годы войны. В тридцатых годах проблема атомного ядра носила вполне абстрактный и чисто научный характер, и, видимо, потому русские физики не считали нужным скрывать свои работы. Кому тогда могло прийти в голову, что атомная физика привлечёт к себе внимание военных кругов, разведчиков, политических деятелей?.. Кроме того, позволю себе заметить, что модель атомного ядра сама по себе ещё не решала проблемы получения атомной энергии, как не решала её и работа над тяжёлой водой. Это были лишь ступеньки крутой и трудной лестницы, по которой современная физика взбиралась и ещё долго будет взбираться к вершинам атомной проблемы…
Произнеся эту фразу, Мильх не без гордости взглянул на Грейвуда. Пусть видит этот розовый, чванливый верзила, что, хотя при данных обстоятельствах он является начальником Мильха, всё же его подчинённый разбирается в предмете куда лучше своего начальника!.. Как не хватает этим надутым заокеанским индюкам немецкой обстоятельности! Подумать только, старый разведчик, седой человек в звании полковника, а задаёт самые дурацкие вопросы по предмету, который он обязан знать, как таблицу умножения!..
— Хорошо, Мильх, — произнёс Грейвуд. — После того, что вы рассказали о своём знакомстве с Вайнбергом, я готов согласиться, что вам не следует снова встречаться с ним. Такая встреча не вызовет у него большого энтузиазма… Я подумаю, кого послать вместо вас, Мильх… Можете идти…
Довольный таким решением, Мильх почтительно откланялся. Грейвуд задумался над вопросом, кого лучше направить для связи с профессором Вайнбергом. Крашке? Нет, пожалуй, это опасно: Крашке уже известен советской контрразведке. Кроме того, эта кандидатура отпадала потому, что Крашке больше других подходил для работы с сыном полковника Леонтьева…
И Грейвуд решил искать другую кандидатуру…
***
Коля Леонтьев томился, как сотни других советских ребят, в одном из специальных лагерей для перемещённых лиц, созданных американскими властями.
Лагерь, в котором его содержали, был расположен между Мюнхеном и Нюрнбергом, вблизи маленького городка Ротенбург, в живописной местности. Сюда из разных городов и поместий американской зоны оккупации были свезены по особому секретному приказу советские подростки, юноши и девушки, ранее работавшие на военных заводах или у помещиков.
Среди этих подростков пятнадцати-семнадцати лет были русские и украинцы, белорусы и латыши, эстонцы и литовцы. Взрослых в лагере не было, за исключением трёх изменников Родины, которым американские власти поручили «руководство» лагерем, предварительно убедившись, что на этих субъектов можно положиться.
Старший из «руководителей» — и по возрасту и по положению — бандеровец Пивницкий был в прошлом связан с английской разведкой и выполнял ещё до войны шпионские задания во Львовской и Дрогобычской областях.
Это был уже немолодой человек с довольно пёстрой биографией. В молодости Георгий Павлович Пивницкий работал в парикмахерской, был смазлив, очень следил за своей внешностью и старался одеваться по последней моде. Может быть, отчасти благодаря таким данным ему и удалось пристроиться актёром в один маленький театр на третьестепенные роли.
Его слащавая, подобострастная и вместе с тем наглая физиономия, какой-то выдуманный, вкрадчивый, «вазелиновый» голос и такая же придуманная, пресыщенно-ленивая, расслабленная походка с покачиванием бёдер довольно быстро снискали ему в театре дружное презрение.
Жоржика презирали за скупость, жадность, за нахальство и откровенное стремление «пристроиться» к какой-нибудь богатой вдове или влиятельной в театре актрисе. При этом он любил разглагольствовать о «святом искусстве», врождённом «призвании», «мучительных поисках зерна роли» и «высокой принципиальности актёра», хотя был до смешного бездарен и ему удавались только роли сутенёров и подлецов, в которых он, по существу, играл самого себя, или, как говорят актёры, «самовыражался».
Этот «Актёр Актёрыч», как его прозвали в театре, довольно быстро понял, что сделать сценическую карьеру ему не удастся. Не очень везло ему и с пожилыми вдовами, хотя на этом поприще он старался изо всех сил.
Тогда Пивницкий ринулся в общественную деятельность. Он неизменно выступал на всех собраниях, произносил пламенные речи, однажды даже был избран в местком, но вскоре выведен из его состава за жульнические комбинации с кассой взаимопомощи. Ему пришлось бросить театр. Став эстрадником, он пробовал выступать с какими-то «музыкальными фельетонами», затем сошёлся с пожилой, довольно известной певицей, долго жил на её счёт, занимаясь картёжной игрой.
Однако, убедившись, что связь с пожилой певицей не сулит ему больших барышей, тем более что и сама певица стала гораздо меньше зарабатывать, Пивницкий внезапно бросил эту женщину, переехал из Дрогобыча во Львов и там случайно познакомился с одним бандеровцем, агентом английской разведки. Присмотревшись к Пивницкому, бандеровец понял, что имеет дело с законченным и ловким негодяем, способным решительно на всё. Он завербовал Пивницкого и даже познакомил его с приехавшим однажды во Львов под видом католического ксендза резидентом разведки. Новая «работа» пришлась по душе Пивницкому. Теперь он получал большие деньги, хорошо одевался, бывал в ресторанах, заводил широкие знакомства. Его эстрадные выступления были отличным прикрытием и давали возможность вполне легального существования.
Сойдясь с молоденькой чертёжницей, работавшей на военном заводе, Пивницкий добыл через неё кое-какие секретные чертежи и получил за это солидный куш.
Увы, недолго продолжалось это благополучие. В конце 1940 года и Пивницкий, и его чертёжница, и старый бандеровец, привлёкший его к шпионской деятельности, были арестованы.
Но через семь месяцев, когда следствие по делу Пивницкого уже было закончено и он ждал суда, началась война. Его уже перевезли из тюрьмы в арестантский вагон, стоявший на станции Львов-товарная в ожидании прицепки к поездному составу. Ночью при очередной бомбёжке Львова был разрушен вагон, в котором находились заключённые. Конвоиры и большая часть заключённых были убиты. Пивницкий отделался испугом и неожиданно оказался на свободе. Он побежал в город, к которому уже подходили гитлеровские войска.
Несколько дней Пивницкий прятался на окраинах города, ночуя в парке и в развалинах разрушенных бомбёжками домов, а когда советские войска оставили Львов и в него вошли гитлеровцы, явился в немецкую комендатуру и предложил свои услуги, разумеется, умолчав о своих связях с английской разведкой и выдав себя за убеждённого бандеровца.
Так началась его новая карьера.
Его назначили бургомистром в небольшом городке, а когда к этому городку подошли советские войска, Пивницкий ушёл с гитлеровцами. В конце концов он оказался в Германии. Одно время жил в Дрездене, затем перебрался на запад и стал сотрудником американской разведки. Присмотревшись к этому проходимцу, американцы назначили его начальником специального лагеря для советских подростков.
Помощником Пивницкому был прислан некий Мамалыга, маленький, сутулый, пожилой человек, бывший нотариус в Орле, где он в период оккупации служил в «русской полиции», затем стал заместителем бургомистра. Перед освобождением города от гитлеровских оккупантов Мамалыга бежал с немцами и оказался вместе со своим сыном в Германии.
Начальником охраны лагеря американцы назначили власовца Воскресенского, поповского сынка, в прошлом судившегося за растление малолетних.
Таково было подобранное американскими властями «руководство» специального лагеря для подростков, пышно именуемое «воспитательно-педагогической частью».
***
Около пяти часов дня, закончив обход лагеря, Пивницкий, Мамалыга и Воскресенский расположились в беседке, построенной в небольшой рощице, примыкавшей к лагерной ограде. Лагерь для подростков был размещён на территории одного из гитлеровских концлагерей, и теперь, в сущности, всё осталось таким же, каким было прежде. Высокий забор окружал территорию лагеря со всех сторон. По углам — четыре деревянные вышки для часовых. Внутри — одноэтажные серые бараки, построенные в два ряда, с маленькими, как в конюшнях, зарешечёнными оконцами. В бараках — сплошные нары в два этажа, на которых спали заключённые. Наконец, между бараками находилась хорошо утоптанная «линейка», где по утрам и вечерам выстраивались для проверки несчастные обитатели этого мрачного «педагогического учреждения».
Воздух здесь был насыщен испарениями уборных, расположенных между бараками, и трудно было поверить, что за оградой лагеря зеленеют деревья и травы, свободно живут люди.
До вечерней поверки оставалось четыре часа. Пивницкий предложил своим помощникам отдохнуть в беседке и за кружкой пива перекинуться в «очко». Мамалыга и Воскресенский не очень обрадовались этому предложению — Пивницкому не нравилось проигрывать, и его партнёры для поддержания добрых отношений с начальством всегда были обязаны играть так, чтобы их шеф оставался в выигрыше. В сущности, это была завуалированная форма вымогательства, но Мамалыга и Воскресенский понимали, что, если они на это не пойдут, Пивницкий рано или поздно добьётся их увольнения.
Игра была в самом разгаре, и начальник, довольный «удачей», весело посмеивался над своими партнёрами, становившимися всё более унылыми, когда в беседку вбежала молоденькая горничная Ядвига. Хорошенькая литовка, отобранная Пивницким из числа девушек, содержавшихся в лагере, доложила, что прибыл «сам господин майор Гревс».
Американский майор был высшим начальством Пивницкого. Игра была немедленно прекращена к вящему удовольствию Мамалыги и Воскресенского, и Пивницкий опрометью бросился в небольшой флигель, где находились его квартира и «офис», как он торжественно выражался.
В «офисе» его в самом деле ожидал майор Гревс, средних лет человек с надменным лицом, безупречным пробором и неподвижным, холодным взглядом глубоко сидящих глаз, таких синих, что они, казалось, были сделаны из эмали. Рядом с ним сидел незнакомый Пивницкому пожилой угрюмый немец.
— Здравствуйте, господин майор! — по-немецки приветствовал Пивницкий начальство, с любопытством поглядывая на незнакомца. — Я как раз проводил совещание со своими помощниками…
— Вот что, мистер Пивницкий, — бесцеремонно перебил его Гревс. — В вашем лагере содержится Николай Леонтьев?
— Одну минуту, господин майор, — поспешно ответил Пивницкий и достал из шкафа регистрационный журнал, в котором значились фамилии его подопечных. — Вы сказали, если не ошибаюсь, Леонтьев?
— Да, Николай Леонтьев, — нетерпеливо ответил Гревс. — Пора бы отвечать на такие вопросы без журнала…
— Ах, господин майор, их так много, что всех не запомнишь, — произнёс Пивницкий, перелистывая страницы журнала. — Вы себе не представляете, сколько хлопот причиняют эти мальчишки и девчонки.
— Насколько я осведомлён, Пивницкий, — криво улыбнулся Гревс, — вам доставляют хлопоты главным образом девчонки…
— Всегда найдутся люди, способные оклеветать честного человека, — с пафосом возразил Пивницкий, поняв, что американец намекает на его похождения, из-за которых в лагере две недели тому назад повесилась пятнадцатилетняя Шура Колосова. — Есть Николай Леонтьев! — добавил он, найдя в журнале эту фамилию.
— Очень хорошо. Что вы можете сказать о нём?
— Сейчас я вызову своего помощника Мамалыгу, — заторопился начальник лагеря, — и он даст подробную характеристику… Пока же я прочту вам те данные, которые занесены в журнал…
Послав за Мамалыгой, Пивницкий прочёл Гревсу:
— »Леонтьев, Николай Сергеевич, — читал он, — родился в январе 1929 года, привезён из Ровенской области. В Германии работал на авиационном заводе в сборочном цехе. Состояние здоровья удовлетворительное. В 1944 году состоял под следствием в отделении гестапо по подозрению в причастности к подпольной молодёжной организации, возникшей среди русских подростков. Трижды за нарушение дисциплины подвергался телесным наказаниям. Занесён в список особо подозрительных лиц, нуждающихся в строгом надзоре…» Всё, господин майор…
— Гм… Данные не столь уж утешительны, — произнёс Гревс, обращаясь к сидящему рядом с ним пожилому человеку, внимательно слушавшему оглашаемые сведения. — Что вы скажете, Крашке?
— Пока это данные гестапо, господин майор, — уклончиво ответил Крашке. — Любопытно, как этот юноша ведёт себя теперь. Как-никак, трижды подвергался телесным наказаниям… Это способно исправить самый упорный характер…
Однако характеристика, данная Леонтьеву Мамалыгой, отнюдь не свидетельствовала в пользу предположения Крашке.
— Это, позвольте доложить, весьма дерзкий, дурно воспитанный и упрямый молодой человек, — почтительно доложил явившийся Мамалыга. — Все мои попытки как воспитателя установить с ним взаимопонимание и душевный контакт, господин майор, успехом не увенчались… Считаю важным заметить, что, по моим наблюдениям, а также по сообщениям внутренней агентуры, которой мы располагаем в лагере, Николай Леонтьев имеет весьма вредное влияние на многих подростков и является одним из наиболее активных сторонников возвращения в Советский Союз…
Гревс и Крашке переглянулись. Выполнение полученного ими задания, судя по всему, было связано с немалыми трудностями…
— Что ж, доставьте его сюда, — сказал, подумав, Гревс, — я хочу лично поглядеть на этого парня, а потом поговорим с одним из ваших осведомителей. Кого из них вы считаете наиболее надёжным?
— Не поймите, что во мне говорит чувство отца, — скромно потупился Мамалыга, — но самым надёжным является мой сын…
— Ваш сын? — искренне удивился Гревс.
— Да, господин майор. В интересах дела, по совету господина Пивницкого, мне пришлось поместить в лагерь своего единственного сына… Разумеется, никто не знает о нашем родстве… Более того, он, чтобы войти в доверие к остальным, является активным участником группы Леонтьева, хе-хе…
Гревс весело засмеялся и, подойдя к Мамалыге, благосклонно похлопал его по плечу.
— Весьма, весьма похвально, господин Мамалыга, — произнёс Гревс. — Это отличный ход. Не сомневаюсь, что ваша находчивость будет отмечена и поощрена… Пивницкий, представьте господина Мамалыгу к денежной награде.
— Слушаю, господин майор, — поспешно ответил Пивницкий, многозначительно добавив: — Мы совместно с господином Мамалыгой придумали эту комбинацию…
Но майор Гревс не обратил внимания на этот намёк и приказал доставить Николая Леонтьева.
Пока Мамалыга ходил за Леонтьевым, Гревс расспрашивал Пивницкого о том, как идёт «перевоспитание» подростков.
— Мы точно выполняем полученные инструкции, господин майор, — докладывал Пивницкий. — Три раза в неделю читаем лекции по утверждённой программе. Цикл лекций «Советский Союз — страна без демократических свобод» читаю я. Господин Мамалыга, как юрист в прошлом, прочёл две лекции на тему «Что ожидает по советским законам людей, вернувшихся в СССР». Лекции на тему «Америка — страна свобод и изобилия» читает мистер Свиридов, рекомендованный вами…
— О, Майкл Свиридов — отличный лектор, — сказал Гревс. — Прожив в Америке последние тридцать лет, он превосходно знает предмет… Надеюсь, он сопровождает свои лекции демонстрацией диапозитивов?
— Да, всякий раз, господин майор. В двух случаях он даже привёз кинопередвижку и демонстрировал нашим воспитанникам американские фильмы… Наконец, помимо лекций, мы ведём индивидуальную обработку…
И Пивницкий начал подробно рассказывать о том, как он и его помощники выполняют инструкцию мистера Гревса. Крашке с интересом слушал этот рассказ, дающий примерное представление о методах обработки советских людей, оказавшихся в американской зоне. Эта «работа» шла по трём основным направлениям. Во-первых, людей, оторванных в силу различных обстоятельств от родины, запугивали тем, что в случае возвращения в СССР их неизбежно ожидают арест и осуждение на длительный срок заключения. Во-вторых, лекциями и демонстрацией специальных фильмов этих несчастных стремились убедить в том, что в свободной и демократической Америке их ожидают все блага жизни, там они обретут подлинное счастье и вторую родину. Наконец, «лекторы» утверждали, что в Советском Союзе в результате войны царит разруха, население голодает, нет жилищ и все без исключения объявлены мобилизованными в какие-то особые «трудармии». Для того чтобы «перемещённые лица» поверили этому, им давали ловко подобранные вырезки и статьи из советских газет, в которых приводились данные о разрушенных гитлеровцами городах и деревнях, о громадном материальном ущербе, причинённом народному хозяйству войной, о трудностях в колхозах.
Человеку, долгое время оторванному от родины и получающему такую однобокую и специально подтасованную информацию, могло показаться, что положение является катастрофическим и что его родина, победившая в войне, находится в отчаянном, безвыходном положении.
***
Когда Мамалыга привёл Колю Леонтьева, Гревс и Крашке стали пристально и бесцеремонно рассматривать юношу, так заинтересовавшего американскую разведку. Паренёк, ещё не достигший семнадцати лет, благодаря высокому росту, широким плечам и выпуклой груди выглядел старше своего возраста. При крепком сложении, унаследованном от отца, Николай был сильно истощён. Ещё много детского было в его открытом, ясном взгляде, но бледное, осунувшееся лицо с синими кругами под глазами, с не по годам подчёркнутыми углами рта красноречиво рассказывало обо всём, что пришлось пережить этому юноше за последние годы, искалечившие его детство и заставившие преждевременно повзрослеть…
— Я имею удовольствие видеть господина Николая Леонтьева? — с приветливой улыбкой обратился Гревс по-немецки к юноше, едва тот вошёл в комнату.
Коля, вскинув глаза на майора в американской форме, тихо ответил:
— Да, я, — Николай Леонтьев… а вот господином зваться не привык…
— Извините меня, — продолжал улыбаться Гревс, — мне казалось, что за годы, проведённые в Германии, вы уже привыкли к европейской форме обращения… Если вам угодно, я могу называть вас камрадом… Как-никак, наши народы в этой войне были союзниками…
— Тем более странно, господин майор, — угрюмо ответил Коля, — что нас, советских ребят, почему-то держат под замком и не разрешают нам вернуться на родину.
— О, камрад Коля, это чистое недоразумение, смею вас заверить. Просто необходимо соблюсти формальности, уточнить списки, наконец, выяснить, кто из вас не хочет возвращаться в Советский Союз… Америка — страна свобод, мы обязаны считаться с желанием каждого человека… Вы хотите вернуться на родину — вы и вернётесь… Другие — их, кажется, большинство — не хотят возвращаться в Советский Союз — их никто туда не заставит возвращаться… Для нас демократия, индивидуальная свобода — понятия священные, камрад Коля… Вы меня понимаете?
— Я понимаю одно, — ответил Коля. — Ещё больше месяца назад к нам приезжал американский офицер и говорил те же слова. Несмотря на это, нас не пускают домой… Вы сказали, что большинство будто бы не хочет возвращаться — это неправда!.. Слышите, неправда!.. Или вы хотите обмануть меня, или вас обманывают Пивницкий и его помощники.
— Леонтьев, не забывайтесь! — злобно крикнул Пивницкий.
— Господин Пивницкий, извольте не орать! — строго произнёс Гревс. — Камрад вправе говорить всё, что думает. Не забывайте о принципах американской демократии!..
— Извините, господин майор, — покорно произнёс Пивницкий. — Мне просто стало обидно…
— Я говорю не только от своего имени, — продолжал Коля. — Я и другие ребята хотим говорить с представителем Советской власти… Это наше право.
— Пожалуйста, — ответил Гревс. — Боже мой, конечно! Сегодня же я позвоню в советскую зону оккупации и попрошу приехать к нам представителя Советской Армии… Это вас устроит?
— Да. Мы хотим говорить с нашими офицерами, — ответил Коля.
— Ваше желание вполне законно, и оно будет исполнено. Камрад Коля, я даю вам слово… Слово американского офицера…
Лицо юноши просветлело. Чем моложе человек, тем легче верит он в счастье…
— Спасибо, большое спасибо, господин майор!.. Данке шейн!.. — горячо воскликнул Коля, путая в волнении русские слова с немецкими, — это было одним из последствий вынужденного отрыва от родины. Многие ребята незаметно для себя иногда начинали говорить на каком-то странном, смешанном диалекте, и не кто иной, как Коля на одном из тайных собраний молодёжной группы завёл об этом разговор. Было принято решение: строго следить за чистотой своей речи, поправлять друг друга, не коверкать родного языка.
— Меня не за что благодарить — это мой долг офицера союзной армии, — с чувством произнёс Гревс. — Идите к себе, камрад Коля, соберите ваших друзей и выберите комитет, ну, скажем, из пяти наиболее активных и пользующихся авторитетом юношей…. Комитет поедет с нами, чтобы совместно провести все подготовительные мероприятия… Надеюсь, вам достаточно двух часов для выборов этого комитета?
— Конечно, господин майор, мы отлично знаем друг друга! — так же горячо произнёс Коля, окончательно поверив в добрые намерения американского майора.
— Хорошо. Господин Мамалыга, отведите Леонтьева в лагерь, чтобы зря не терять времени. Камрад Коля, я не прощаюсь, мы ещё не раз увидимся…
Колю увели. Едва он скрылся за дверью, как Гревс, самодовольно улыбаясь, обратился к Пивницкому:
— Ну, господин Пивницкий, — сказал он. — Теперь видите, что все ваши фокусы с организацией, как вы любите выражаться, внутреннего осведомления ничего не стоят по сравнению с хорошим комбинированным приёмом. Через два часа они сами принесут мне список своих вожаков, и мы увезём их отсюда, оставив ваших баранов без зачинщиков…
— Да, господин майор, — с наигранным восхищением ответил Пивницкий. — Признаться, мне не приходила в голову такая остроумная идея… Хотя, с другой стороны, господин майор, они не поверили бы моим словам… Это тоже надо учитывать…
— Я думаю сейчас о другом, — перебил Пивницкого Гревс. — Изберут ли они в этот комитет сына Мамалыги… Под какой фамилией он с ними живёт?
— Он представился им и внесён в лагерные списки как Игорь Крюков, господин майор, — ответил Пивницкий. — Мне кажется, что ему удалось завоевать их доверие…
— Если они его изберут, будет прекрасно, — задумчиво произнёс Гревс. — Как вы полагаете, господин Крашке? — внезапно обратился он к сидящему в стороне и всё время молчавшему старому гестаповцу. — Или вам это безразлично?
— Господин майор, я просто изучаю вашу методику, — ответил Крашке. — Нам предстоит нелёгкая работа с этим мальчишкой, верьте мне. С ним будет много возни, господин майор… И сын господина Мамалыги, разумеется, был бы нам очень полезен…
— Да, да, вы правы, — рассеянно, думая о чём-то другом, бросил Гревс. — Однако, господа, было бы недурно поесть… Что вы думаете на этот счёт, господин Пивницкий?
— Стол уже накрыт, господин майор, — быстро ответил руководитель лагеря. — В беседке вас ждут обед, прохлада и ваш любимый сорт виски, господин майор, — «Белая лошадь»…
— Похвально. Что ж, господа, пойдём, немного покатаемся на этой славной лошадке, — произнёс Гревс и пошёл в беседку. За ним гуськом потянулись его подчинённые.
В беседке у накрытого стола тоненькая хорошенькая Ядвига с почтительной улыбкой встретила господина майора. Гревс бросил на неё внимательный взгляд, сел за стол, заправил за лацкан френча накрахмаленную салфетку и тихо шепнул Пивницкому:
— Ах, разбойник!.. Где вы только выкапываете таких хорошеньких горничных?.. Надеюсь, эта не полезет в петлю?
— Она это сделает лишь в том случае, если я её откомандирую обратно в лагерь, господин майор, — ответил Пивницкий.
— Насколько я помню, та девушка повесилась как раз после того, как вы её взяли из лагеря к себе, — язвительно заметил Гревс.
— Она просто была глупа, господин майор. Позвольте вам налить?
И Пивницкий приступил к обязанностям хозяина.
Через час прибежал Мамалыга, не принимавший участия в обеде, и с радостной ухмылкой доложил, что поручение майора Гревса выполнено: избран комитет во главе с Леонтьевым…
— А ваш сын? — быстро спросил Гревс.
— Тоже избран членом комитета, мистер Гревс!
— Превосходно!.. Господа, я поднимаю тост за мистера Мамалыгу и его талантливого сына! — весело произнёс Гревс. — Ваш парень далеко пойдёт, Мамалыга, можете мне поверить… Итак, вернитесь в лагерь и подготовьте к отъезду всех членов комитета…
— К отъезду? — запинаясь, спросил Мамалыга, который ещё не знал плана Гревса. — К какому отъезду?
— Все члены комитета поедут со мной в Нюрнберг, — ответил Гревс. — С ними будет работать господин Крашке…
И он указал на Крашке, который молча сидел за столом.
— Как, и мой сын тоже поедет в Нюрнберг? — всё более мрачнея, спросил Мамалыга.
— Разумеется, ведь он член комитета… Это его общественный долг, — с иронией ответил Гревс. — Вы должны этим гордиться как отец…
Пивницкий и другие подобострастно засмеялись, а Мамалыга, махнув рукой, вышел из беседки. Бывший нотариус давно потерял родину, близких, друзей. От прошлого у него оставался только сын, которого он сумел вывезти с собой в Германию. Нельзя сказать, что Мамалыга был уж очень нежным отцом, но всё-таки это был его сын, его плоть и кровь… Этот кровопийца Пивницкий, будь он трижды проклят, в своё время заставил поместить Игоря (это было подлинное имя сына) в лагерь в качестве осведомителя.. Учитывая характер Пивницкого, пришлось на это пойти. Но, как-никак, находясь в лагере, Игорь был на глазах отца, его удавалось тайком подкармливать, наконец, была надежда на то, что его вскоре отпустят… А теперь Игоря увезут в Нюрнберг, и кто знает, чем всё это может кончиться… Достаточно поглядеть на физиономию старого немца, приехавшего с Гревсом, чтобы испугаться… Сразу видно, что это сущий дьявол… Ах, Игорёк, Игорёк, хорошую долю тебе приготовил твой отец!..
И вспомнились Мамалыге родной Орёл, деревянный домик с садиком на окраине города, в котором он прожил столько лет, покойная жена, умершая в 1942 году от разрыва сердца, когда он объявил ей, что был вызван в немецкую комендатуру и дал согласие стать начальником «русской полиции». Тщётно пытался он тогда объяснить рыдающей жене, что не мог не согласиться, иначе его самого забрали бы в полицию, что немцы говорили с ним очень любезно и вежливо, что, будучи начальником «русской полиции», он постарается никому не делать зла, что ему обещано хорошее жалованье и даже особый паёк. Жена и слушать его не хотела, всю ночь проплакала и укоряла мужа за слабость характера и жадность.
— Нет, нет, не говори, — лепетала она сквозь слёзы. — Ославил ты нас на весь город!.. Теперь и на рынке стыдно будет показаться — никто руки не подаст… Что ты наделал на старости лет!..
Утром ей стало плохо — у неё было больное сердце. Помчался тогда Мамалыга за врачом — доктором Захаровым, которого знал много лет и с которым частенько в счастливые довоенные годы играл в преферанс. Но мать доктора Захарова, суровая старушка, открывшая ему дверь, не ответила на его поклон, не подала руки и, выслушав, зачем он приехал, проворчала:
— Вам теперь больше к лицу лечиться у немецких врачей, господин Мамалыга… В газете уже объявлено, что вы сделали блестящую карьеру… Нет, не пойдёт к вам мой сын, не пойдёт…
И захлопнула дверь перед самым носом оторопевшего Мамалыги.
«Коготок увяз — всей птичке пропасть» — гласит мудрая поговорка. Сколько раз приходила она ему на память!.. Умерла жена, начал он работать в полиции — и пошло, и пошло… Каждый день приходили новые задания — одно другого страшней: облавы и обыски, отправка девушек и юношей в Германию, вербовка молодых женщин для офицерского публичного дома, кампания «зимней помощи» (так пышно именовался широко организованный грабёж населения, у которого насильно отнимались меховые вещи, валенки, рукавицы, шерстяные носки). Потом ему предложили участвовать в расстрелах и казнях коммунистов, евреев и партизан…
Этого не выдержал бывший нотариус. Явился он к немецкому военному коменданту, принёс с собой оставшееся от жены бриллиантовое кольцо, подаренное ей родителями в день свадьбы, и бросился на колени:
— Ради бога, господин майор, умоляю вас, — освободите от работы в полиции: больше не могу, нервы не выдерживают!.. Войдите в положение, пожалейте старика!..
Майор повертел в руках кольцо, подумал, а потом сказал:
— О, я не думал, что вы такой слабонервный, господин Мамалыга… Немецкое командование оказало вам большое доверие, назначив на этот пост. Мы умеем ценить образованных людей. Но, если вы так просите, я готов пойти вам навстречу: мы назначим вас помощником бургомистра…
И действительно — назначил.
Но хрен редьки не слаще. И на новой службе приходилось Мамалыге выполнять такие задания, после которых пропадал сон и становилось страшно за своё будущее: положение на фронте явно изменилось, немцы потеряли свой надменный, уверенный вид, всё активнее и смелее действовали партизаны. Приближался час расплаты.
И, когда немцы стали эвакуироваться из Орла, Мамалыга ушёл с ними. Так в конце концов он очутился с сыном в Германии, часто переезжал из города в город, с каждым днём всё больше опускаясь. Страх возмездия за всё, что им было содеяно, неумолимо гнал его всё дальше и дальше, пока не очутился бывший нотариус в Западной Германии и не попал в лапы этого кровопийцы Пивницкого и майора Гревса, один холодный взгляд которого приводил Мамалыгу в дрожь…
Теперь уже Мамалыге не верилось, что была иная жизнь, тихая нотариальная контора, куда он аккуратно приходил по утрам, спокойно регистрировал и заверял доверенности и завещания, копии старых метрик и судебных решений, а ровно в два часа устраивал обеденный перерыв и затем, по окончании занятий в конторе, спокойно шёл к себе домой со своим чёрным, солидным портфелем и тяжёлой кизиловой палкой с инкрустациями, приобретённой в Кисловодске, куда он ежегодно ездил на курорт… Неужели всё это действительно было — и нотариальная контора, и знакомые, приветливо здоровавшиеся со старым нотариусом, и подраставший сын, уже посещавший школу, и отметки, которые он приносил «по четвертям», и инструкции наркомюста, и журнал «Советская юстиция», подписчиком которого был Мамалыга и в котором однажды даже поместил статейку под названием «Из нотариальной практики»? За эту статейку, помнится, пришёл по почте гонорар 280 рублей, и он тогда купил Игорю двухколёсный велосипед в комиссионном магазине. Катаясь на нём, мальчик однажды упал и поцарапал себе щёку… Боже, как взволновались тогда он и жена, услышав рёв Игоря, вбежавшего с окровавленной щекой!.. Радоваться надо было, а не волноваться, наслаждаться этой тихой, спокойной, счастливой жизнью!.. Ведь теперь и не верится, что такая жизнь в самом деле была…
…Обо всём этом, вспотев от волнения и страха за судьбу сына, думал теперь Мамалыга, направляясь из беседки в лагерь, чтобы выполнить приказ майора Гревса, которого он боялся как огня, от одного взгляда которого приходил в трепет.
Старые друзья
Познакомившись с Сергеем Павловичем Леонтьевым, Бахметьев передал ему привет от брата, с которым не так давно провёл вечер и всю ночь в Москве. Узнав, что Бахметьев давно знает Николая Петровича, полковник искренне обрадовался, тем более что Бахметьев сразу расположил его к себе. Когда же Бахметьев, перейдя к делу, доверительно рассказал Сергею Павловичу о цели своего приезда, тот сразу подробно сообщил о неожиданном визите Нортона и Грейвуда и о повышенном интересе американца к профессору Вайнбергу. Бахметьев внимательно слушал рассказ, задал много уточняющих вопросов, выясняя мельчайшие детали поведения Грейвуда на обеде в квартире Леонтьева.
— Я допускаю, что этот Грейвуд — разведчик и приехал именно в связи с профессором Вайнбергом, — высказал своё впечатление Бахметьев. — Поэтому я очень прошу вас, Сергей Павлович, припомнить решительно всё, самые мельчайшие подробности его визита и разговоров с вами…
Тогда Сергей Павлович вспомнил фразу Нортона о том, что он лишь в день визита познакомился с Грейвудом; припомнил и о том, как зашла речь о Коленьке и Грейвуд торжественно обещал помочь в его розысках.
— Не очень мне всё это нравится, Сергей Павлович, — покачал головой Бахметьев, — а скажите, не заходила речь о Николае Петровиче и его профессии?
— Нет, такого разговора не было. Грейвуд только спросил меня, увидев фотографию, на которой мы сняты с братом, кто он такой?
— И что вы ответили? — как бы небрежно спросил Бахметьев.
— Я ответил, что это мой брат, но не говорил о его профессии, — ответил Сергей Павлович. — И Грейвуд больше к этой теме не возвращался…
— Где Грейвуд увидел эту фотографию и почему обратил на неё внимание?
— Фотография в моём кабинете, на письменном столе. Когда я вернулся в кабинет из столовой, Грейвуд держал фотографию в руках…
— Понятно, — сказал Бахметьев. — Наш разговор, Сергей Павлович, пусть останется между нами. Теперь у меня к вам ещё один вопрос: в этом городе уже продают газированную воду?
— Газированную воду? — удивился Сергей Павлович. — Вы хотите пить?
— Нет, — улыбнулся Бахметьев. — Меня интересует, открылись ли в вашем городе киоски с газированной водой или лимонадом? Как-никак, лето, жара, она вызывает жажду…
— Пока таких киосков нет, — всё более удивляясь странному повороту разговора, ответил Леонтьев. — Несколько дней назад я принимал одного немца, бывшего хозяина завода фруктовых вод. Он предлагал снова пустить завод и просил об отпуске сахара. Но я не дал ему ответа, решив сначала проверить, кто он такой, не спекулянт ли? Сами понимаете — всё-таки сахар…
— Понимаю, — засмеялся Бахметьев. — Так вот, я поддерживаю ходатайство этого заводчика. Кстати, как его фамилия?
— Сейчас посмотрю, я записал, — ответил Сергей Павлович, уже решительно ничего не понимая. — Вот, нашёл, — Ганс Винкель.
— Очень хорошо, — произнёс Бахметьев и, вынув записную книжечку, записал названную фамилию. — Стало быть, вызовите этого Винкеля, отпустите ему немного сахара, но на следующих условиях: пусть он изготовляет свой лимонад, или ситро, или крем-соду, одним словом, что ему угодно, но свою продукцию он обязан сдавать господину Бринкелю…
— А кто такой Бринкель? — спросил Сергей Павлович.
— Бринкель — немец, который будет реализовывать продукцию господина Винкеля через свои киоски. Он к вам завтра явится за разрешением. Так вы дайте ему разрешение. Он не будет спекулировать, — добавил всё с той же улыбкой Бахметьев. — Ну вот, Сергей Павлович, этим пока и ограничиваются мои просьбы. Пожалуй, ещё одна: если вам доведётся меня встретить в штатском платье или в форме рядового солдата, одним словом, в любом виде, пожалуйста, не удивляйтесь и сделайте вид, что не имеете обо мне ни малейшего понятия… Хорошо?
— Хорошо, товарищ Бахметьев, — улыбнулся Леонтьев. — Надеюсь, однако, что вижу вас не в последний раз.
— Ну, разумеется, мы ещё встретимся, поболтаем, чайку попьём, — ответил Бахметьев. — Дайте только работу наладить, чтобы мистер Грейвуд не очень совал к вам свой длинный нос…
— Между прочим, как у вас с жильём? — озабоченно спросил Леонтьев. — Не нужно ли вам помочь? Если хотите, можете остановиться у меня — пять комнат, чудесный сад…
— Спасибо, Сергей Павлович, — ответил Бахметьев. — Танкист вы, говорят, отличный, а вот в нашем деле, извините, не совсем… За заботу и радушие спасибо, но в вашем доме жить мне нынче не с руки, как говорится… Считайте, однако, что мысленно я живу именно у вас в доме, по крайней мере ближайший месяц… А пока — всех благ!..
И, крепко пожав руку Сергею Павловичу, Бахметьев вышел из его кабинета.
***
Спустившись по лестнице в вестибюль комендатуры, он увидел поджидавшего его Фунтикова. Взволнованный приездом своего «крёстного». Фунтиков уговорил подполковника Глухова освободить его от дежурства, заменив другим офицером, и теперь, расположившись на диване, с нетерпением ждал, пока Бахметьев закончит разговор с комендантом.
— Я уже свободен, — сказал Фунтиков, подойдя к Бахметьеву. — Вас поджидаю.
— Отлично, я тоже освободился, по крайней мере на ближайшие три часа, — ответил Бахметьев. — Куда направимся?
— Лучше всего — ко мне, — ответил Фунтиков. — Я живу тут рядом, пять минут ходу…
Через несколько минут они сидели за столом в комнате Фунтикова, которую тот снимал в квартире пожилой немецкой учительницы фрау Анны Петерс. Одинокая старушка привязалась всей душой к своему весёлому, добродушному квартиранту и заботилась, как могла, о его быте, внимательно следила за тем, чтобы он не ушёл на работу не позавтракав, не сменив накрахмаленный подворотничок и не надев в дождливые дни плаща.
Помимо доброго нрава, молодой советский офицер пленил фрау Анну аккуратностью и примерным поведением: она ни разу не видела лейтенанта пьяным, он много читал, всегда был свежевыбрит, подтянут и, кроме того, ежедневно и старательно чистил свою обувь, что, по понятиям фрау Анны, свидетельствовало об отличном воспитании и порядочности.
Когда же Фунтиков, разговаривавший при помощи русско-немецкого разговорника, обратился однажды к своей хозяйке с просьбой помочь в изучении немецкого языка, фрау Анна пришла в полный восторг и начала с ним заниматься по два часа в день. Лейтенант оказался таким старательным и способным учеником, что его учительница не могла нарадоваться. Так вот, оказывается, каковы советские офицеры, о которых ещё совсем недавно говорилось бог знает что!.. «Красные разбойники и грязные азиаты», чуждые цивилизации «дети монгольских степей и сибирской тайги», питающиеся сырым мясом и рыбой! А на самом деле — воспитанные, добродушные, приветливые люди!..
В тот вечер, когда Фунтиков привёл к себе Бахметьева, фрау Анна, подавшая им кофе, впервые увидела на столе своего жильца бутылку водки, впервые Фунтиков попросил у неё рюмки. Фрау сразу догадалась, что герр лейтенант принимает своего начальника, такого же, по-видимому, симпатичного, как он сам.
Фунтиков и Бахметьев, выпив за встречу, всё не могли наговориться друг с другом. Фунтиков рассказал «крестному» о том, как он был оставлен на службе в комендатуре.
— Оно, конечно, с одной стороны, дело почётное, — говорил он. — Но, поверите, Сергей Петрович, тоскую по родине, всё Москва мне снится… Дождаться не могу отпуска! Москву посмотреть, Красную площадь. Погулять по улице Горького. А вечером посидеть в кафе «Форель»… Скажите, кстати, вы теперь, когда в Москве были, случаем в «Форель» не заходили? По-прежнему там подают раков ростовских?
— Признаться, не заходил, — ответил Бахметьев, сразу вспомнив, что много лет назад Фунтиков, придя к нему с бумажником Крашке, между прочим рассказал о кафе «Форель». Там он рассмотрел содержимое бумажника и так тогда взволновался, что выбежал из кафе, «даже не простившись с Люсенькой». Вот, стало быть, почему Фунтикову всё мерещатся кафе «Форель» и ростовские раки!..
— А ты, между прочим, справляешься о «Форели» только из-за раков? — лукаво спросил Бахметьев.
— Ах, Сергей Петрович, вас не перехитришь… Ведь я пять лет Люсю не видел!.. Вот, посмотрите…
Он достал из бумажника небольшую фотографию и протянул её Бахметьеву.
— Последнее письмо от неё получил две недели назад, — продолжал Фунтиков. — Ведь мы с нею всю войну переписывались… Она в годы войны работала в полевом военторге, а теперь обратно в «Форель» вернулась… Ждёт моего приезда… А может быть, не так уж ждёт, а только пишет…
В голосе Фунтикова прозвучала грустная нотка.
Бахметьев с живым интересом смотрел на смущённое лицо своего подшефного, окинул взглядом его чистенькую, уютную комнату, стопку книг на этажерке. Ещё раньше, пока Фунтиков хлопотал с закусками, Бахметьев перебрал эти книги и обрадовался, увидев в их числе «Педагогическую поэму» Макаренко, томик Паустовского, повести Германа «Жмакин» и «Лапшин», «Василия Тёркина» Твардовского. Заметил Бахметьев и чёрную клеенчатую тетрадь на столе, в которую Фунтиков вписывал немецкие фразы после очередного урока. Да, теперь уже не оставалось сомнений: выздоровление было окончательным, и прошлое Фунтикова похоронено раз и навсегда.
И невольно вспомнился Бахметьему недавний спор с одним из его сослуживцев, подполковником Роминым, который однажды, когда зашла речь о проблемах перевоспитания бывших уголовников, пренебрежительно рассмеялся и начал доказывать, что «чёрного кобеля не отмоешь добела» и что все эти «перековочки и перевоспитаньице выдумали гнилые либералы и безответственные писаки, вроде того же Макаренко»…
Обычно сдержанный и спокойный, Бахметьев тогда не выдержал и обрушился на Ромина, которого вообще терпеть не мог за его грубость, необыкновенную самоуверенность и чванливый вид. Толстый, рыжеватый, невысокий Ромин всегда ходил с таким видом, как будто весь мир состоит у него под следствием.
К начальству подлизывался, а в отношении своих подчинённых был груб и высокомерен, вызывая этим дружную неприязнь сослуживцев.
Когда Бахметьев прямо сказал Ромину, что его высказывания свидетельствуют о том, что он малообразованный и равнодушный человек, к тому же плохо понимающий, к чему его обязывает высокое звание чекиста, Ромин, побледнев, прошипел:
— Не вам меня учить, Бахметьев!.. Вы мне давно подозрительны своими идейками!.. Недаром на занятиях с офицерами вы занимались восхвалением царских прокуроров!..
— Что вы имеете в виду, Ромин? — спокойно спросил их общий начальник, полковник Малинин, присутствовавший при этом споре.
— Он расхваливал на занятиях с молодыми офицерами царского прокурора и сенатора Кони!.. — ответил Ромик. — Да, да, мне это точно известно!.. Я тогда же доложил об этом генералу…
— Кони — один из выдающихся русских криминалистов и писателей, — произнёс Малинии. — Кстати, он был весьма прогрессивным для своего времени человеком, товарищ Ромин. И вам не мешало бы об этом знать…
Ромин на мгновение смутился, но тут же продолжал с присущей ему наглостью:
— Да бог с ним, с этим Кони, не в нём дело — Бахметьев стоит на неправильных позициях…
— Постойте, постойте, Ромин, — прервал его Малинин. — Ведь и Бахметьев не против того, чтобы преступники несли заслуженное наказание. Речь идёт о том, что, привлекая к ответственности уголовных преступников, надо сочетать это с их перевоспитанием и возвращением к честной жизни. И само наказание в наших условиях должно стать одним из методов перевоспитания. Так учит нас партия. Так учил нас и Феликс Эдмундович. Это же записано в нашем законе.
Ромин молчал, и не только потому, что Малинин был его начальником. Спорить с Малининым было трудно. Это был старый чекист, работавший ещё при Дзержинском. Весь его облик — открытое умное лицо, вдумчивый и внимательный взгляд, добрая улыбка, немногословная, спокойная речь, верность своему служебному долгу и личная храбрость, не раз проявленная в годы войны в самых сложных условиях, — всё это давно снискало ему уважение сослуживцев и подчинённых. Наконец, Малинин был человеком образованным, отлично знал историю и литературу, любил книги.
Вспомнив теперь бурный спор с Роминым, Бахметьев подумал, что одна лишь биография Фунтикова вдребезги разбивает «концепцию» Ромина, глубоко чуждую идеям и всей деятельности Дзержинского… А разве Фунтиков единственный в своём роде, уникум, исключение из общего правила? Разве не известны ему, Бахметьеву, десятки других таких Фунтиковых, которые в результате правильного к ним подхода, обращения к светлым началам в их душе, проявленного к ним доверия, вовремя, оказанной помощи покончили с преступным прошлым и стали честными советскими людьми? Почему же этого не знает и, главное, не хочет знать вот такой Ромин, смеющий называть себя чекистом?
Сидя с одним из своих «крестников» и радуясь удивительному воскресению этого человека, Бахметьев лишний раз убеждался в своей правоте. Но никак не могло прийти ему в голову, что не за горами время, когда судьба вновь столкнёт его с Роминым, столкнёт в споре, гораздо более важном и ожесточённом, в споре, в котором будет решаться вопрос жизни и чести полковника Сергея Павловича Леонтьева…
***
…Был уже поздний вечер, когда Бахметьев, сопровождаемый Фунтиковым, вышел на улицу. Взволнованные встречей и долгим задушевным разговором, они шли молча по уже пустынным улицам. Город, казалось, отдыхал от дневной июльской жары в предчувствии приближающейся ночной прохлады. Она уже подступала к городу, и лёгкие порывы ветра, насыщенные свежестью, и запахами трав, уже долетали до пустынных площадей, тишину которых подчёркивали мерные шаги парных военных патрулей. Тёмное летнее небо чуть серебрилось в свете луны, всплывавшей над горизонтом. Глядя на пустынный, засыпающий город, на это древнее германское небо с его тихими звёздами, Бахметьев думал о том, что вся Германия теперь похожа на человека, только начинающего выздоравливать после страшной инфекции, проникшей в кровь, во все органы и едва не привёдшей к гибели. Он думал о том, что остатки болезни ещё гнездятся где-то в Германии, угрожая не только её жизни, но и жизни многих других народов, что в мире ещё орудуют зловещие силы, всегда готовые снова сеять опасную заразу.
Господин Винкель и господин Бринкель
На следующее утро, придя в комендатуру, полковник Леонтьев заметил в приёмной двух немцев. Оба при его появлении встали и почтительно поклонились. В одном из них, высоком, худом пожилом человеке с маленькой бородкой, Сергей Павлович узнал владельца завода фруктовых вод Винкеля, который уже приходил к нему на приём, а теперь, после беседы с Бахметьевым, был приглашён в комендатуру. Второго немца Сергей Павлович никогда раньше не встречал.
Адъютант доложил, что господин Винкель явился по вызову. Кроме того, просит приёма господин Бринкель, приехавший из Дрездена.
— Сначала пригласите Бринкеля, — сказал Сергей Павлович адъютанту и, сев за стол, начал разбирать утреннюю почту. Через минуту в кабинете появился Бринкель, невысокий, слегка располневший шатен лет сорока с уже намечающимся брюшком, весьма, впрочем, удачно маскируемым хорошо сшитым, модным костюмом.
— Здравствуйте, уважаемый господин комендант! — произнёс Бринкель на немецком языке с явно выраженным баварским произношением. — Прежде всего позвольте представиться: Отто Бринкель, негоциант из Дрездена…
— Здравствуйте, господин Бринкель, — ответил Сергей Павлович, с интересом разглядывая румяное, круглое, здоровое лицо Бринкеля с весёлыми, даже чуть плутоватыми глазками, поблескивавшими за стёклами золотого пенсне. Поблескивала и розовая лысина посетителя, едва заштрихованная причёской, известной под названием «внутренний заём». — Садитесь, пожалуйста. Я вас слушаю…
— Благодарю вас, уважаемый господин комендант, — начал Бринкель, почтительно присев на самый край стула и держа на коленях котелок. — Я покорнейше прошу вас разрешить мне поселиться в этом городе и заняться делом, которому я посвятил почти всю жизнь. Сам я из Дрездена, и многие годы торговал там фруктовыми и минеральными водами. Позволю себе заметить, что моя фирма, точнее, фирма моего покойного отца, имела солидную репутацию. Наши фруктовые воды «Нектар», «Нега», «Немецкая вишня» и другие славились не только в Дрездене, уважаемый господин комендант, не сочтите это за бахвальство.
— Очень приятно, — произнёс Сергей Павлович, не без интереса слушая Бринкеля и размышляя над вопросом, какое отношение к Бахметьеву может иметь этот очень типичный по внешности, манерам и языку немецкий бюргер. — Какое же дело привело вас ко мне, господин Бринкель?
— В Дрездене, когда американцы бомбили город, погибла вся моя семья, господин комендант. Нетрудно понять, что оставаться в этом городе мне тяжело. Поэтому я решил переехать сюда и тут заняться своим делом…
И Бринкель, горестно вздохнув, вынул туго накрахмаленный платок и прижал его к своим глазам.
— Что ж, господин Бринкель, у меня нет никаких возражений, — сказал Сергей Павлович. — Вы можете получить разрешение на продажу фруктовых вод. Но дело в том, что местный житель, некий господин Винкель, намерен открыть завод фруктовых вод. Я даю ему разрешение. Согласитесь, что два завода фруктовых вод не нужны для этого города.
— Не нужны, господин комендант, — согласился Бринкель.
— Так вот, я предлагаю вам организовать реализацию фруктовых вод, которые будет изготовлять господин Винкель, если вас устраивает такое предложение.
— Вполне, господин комендант. Дело в том, что в фирме покойного отца я как раз ведал не производством, а реализацией.
— Отлично, господин Винкель сейчас находится в приёмной. Я его вызову, познакомлю с вами, а дальше вы уж договаривайтесь сами…
Сергей Павлович нажал кнопку звонка и предложил адъютанту пригласить господина Винкеля. Когда тот вошёл, Сергей Павлович объявил, что ему будет дано разрешение на производство фруктовых вод, а для реализации их комендатура рекомендует господина Бринкеля.
— Господин Бринкель? — спросил немец. — Мне знакома эта фамилия… Если не ошибаюсь, ваша фирма существовала в Дрездене… «Вольфганг Бринкель и сын»?..
— Совершенно верно, господин Винкель! — обрадовался приезжий из Дрездена. — Вольфганг Бринкель мой покойный отец… Он погиб, как и вся моя семья, при этих ужасных бомбёжках. Но у меня сохранились наши довоенные проспекты… Вот, посмотрите…
Достав из портфеля пачку рекламных проспектов фирмы «Вольфганг Бринкель и сын», он протянул их Винкелю.
— Да, да, припоминаю, — бормотал Винкель, просматривая проспекты. — «Нектар», «Немецкая вишня», «Нега»… Большая золотая медаль на лейпцигской выставке в 1929 году… Между нами говоря, господин Бринкель, на эту золотую медаль тогда рассчитывал я за свой «Яблочный напиток», но что делать, что делать… Злые языки поговаривали, что эта золотая медаль недёшево обошлась вашему покойному отцу, извините меня за откровенность…
— Вполне возможно, господин Винкель, — ответил, добродушно улыбаясь, дрезденский негоциант. — Кто не знает, что члены жюри на этих выставках не теряли даром время?.. Как коммерсанты, мы с вами отлично понимаем это… Что же касается вашего «Яблочного напитка», то мой покойный отец всегда отдавал ему должное, господин Винкель. Он даже поручал своему старшему лаборанту выведать секрет изготовления «Яблочного напитка», но тому так и не удалось это сделать… Извините, господин комендант, что мы занимаем ваше время нашими воспоминаниями.
— Итак, господа, — сказал Сергей Павлович, — вы можете получить разрешения: один — на изготовление фруктовых вод, другой — на их реализацию…
— А сахар? — осторожно спросил Винкель.
— Сахар вам будет отпущен, — ответил Сергей Павлович, и оба коммерсанта, встав и отвесив низкие поклоны, пошли к дверям, где долго уступали друг другу дорогу, сопровождая это самыми изысканными жестами.
Выглянув в окно, Сергей Павлович увидел коммерсантов, которые шли по тротуару, оживлённо беседуя и улыбаясь друг другу самым доброжелательным образом. На углу экспансивный Бринкель, что-то рассказывая своему собеседнику, даже схватил его за пуговицу пиджака, оба остановились и продолжали разговор, усиленно жестикулируя.
Наблюдая эту сцену, Сергей Павлович понял, что коммерческий альянс Винкеля и Бринкеля крепнет с каждой минутой…
И снова, пожав плечами, комендант задал самому себе вопрос: какое же, чёрт возьми, отношение может иметь полковник Бахметьев к производству и реализации фруктовых вод!.. Чудак!..
Недели через две завод фруктовых вод господина Винкеля заработал, а на площадях и улицах города для продажи этих вод появились нарядные киоски, построенные господином Бринкелем. Один из таких киосков появился и на улице, где стояла вилла профессора Вайнберга, к вящему удовольствию Генриха, очень любившего сладкий лимонад.
Стояли жаркие летние дни, и продукция господина Винкеля пользовалась большим спросом, тем более что его новый компаньон оказался отличным коммерсантом и сразу поставил дело на широкую ногу. Этот невысокий полный человек с маленьким брюшком и розовой, как лососина, лысиной отличался совершенно невероятной энергией. Он наладил великолепную рекламу фруктовых вод, с каждым днём расширяя сеть своих киосков, целыми днями носился по городу на велосипеде, проверяя, как идёт торговля, подобрал штат проворных продавцов и хорошеньких продавщиц и даже открыл отделения в двух соседних городах.
Присмотревшись к весёлому, пышущему энергией и здоровьем наследнику фирмы «Вольфганг Бринкель и сын», господин Винкель проникался всё большим уважением к его коммерческим достоинствам и в конце концов предложил Бринкелю стать его полным компаньоном на равных правах. Господин Бринкель попросил два дня на размышление, а затем, явившись на квартиру Винкеля, объявил о своём согласии. Винкель достал заветную бутылку французского коньяку, и будущие компаньоны, сев за стол, подробно обсудили, как дальше разворачивать дело.
— Понимаете, дорогой Бринкель, — откровенно сказал хозяин завода фруктовых вод. — Грех жаловаться, дело идёт совсем недурно, советский комендант отпускает сахар, в общем, можно жить и работать. Однако, по новым правилам, которые, видит бог, я никак не могу понять, на частном предприятии может работать максимум двадцать пять рабочих. Объясните мне, господин Бринкель, в чём тут дело? С одной стороны, комендант делает всё возможное для того, чтобы работали все фабрики и заводы. С другой стороны, никто из фабрикантов не может иметь более двадцати пяти рабочих. Где логика, позвольте вас спросить? Зачем им нужно, чтобы все крупные предприятия принадлежали обязательно государству? Тем более что, как они говорят, речь идёт о немецком государстве…
— Очень просто, господин Винкель, я могу вам объяснить, — отвечал компаньон. — Они против капиталистов. Поэтому в советской зоне оккупации не может быть крупных частных предприятий.
— Допустим, хотя нормальному человеку это трудно понять. Но что теряет этот полковник Леонтьев, если у меня будет не двадцать пять, а сто рабочих? Это увеличило бы в четыре раза количество выпускаемых фруктовых вод, во-первых, это дало бы заработок лишним семидесяти пяти рабочим, во-вторых, и это увеличило бы наши заработки ровно в четыре раза, в-третьих. Таким образом, были бы довольны наши потребители, наши рабочие и, наконец, мы с вами. Так?
— Так.
— Почему же этого не хочет полковник Леонтьев?
— Он не хочет, чтобы наши заработки увеличились в четыре раза, господин Винкель. Он считает, что с вас достаточно тех заработков, которые вы уже имеете.
— Но я этого не считаю!.. — горячо воскликнул Винкель. — Я готов согласиться с коммунизмом и признать даже Маркса при одном условии: чтобы мне не мешали зарабатывать столько, сколько я могу и хочу!.. Если же коммунисты этого не хотят, то я не могу стать их сторонником!..
— Понимаете, господин Винкель, я не уверен, что коммунисты так уж заинтересованы, чтобы вы стали их сторонником, — ответил, улыбаясь, Бринкель. — Вероятно, они рассчитывают на других сторонников…
— Я не знаю, на кого они рассчитывают, — рассердился Винкель, — но моя фирма при этих условиях не станет их поддерживать, и тут вы можете мне поверить без честного слова, Бринкель!.. В американской зоне совсем другие порядки. Там чем крупнее промышленник, тем он увереннее себя чувствует, и в этом есть логика, видит бог!..
— Там нет политики ограничения частного капитала, — заметил Бринкель.
— В том-то и дело, — воскликнул Винкель. — Вот почему, мой дорогой компаньон, я всё чаще начинаю задумываться…
Тут господин Винкель неожиданно замолчал, так и не закончив свою мысль. Потом, выпив ещё рюмку, он перешёл к текущим делам. Вооружившись карандашами, новые компаньоны подсчитали свои возможности. Глядя, как быстро и точно ведёт подсчёты его компаньон, Винкель уже не в первый раз подумал о том, что этот цветущий энергичный, всегда весёлый человек, право, был бы совсем недурной партией для его единственной дочери Эммы, увы, уже не очень молодой особы. Да, да, это был бы отличный муж и превосходный зять!.. Об этом следует серьёзно подумать…
Первая осечка
Полковник Грейвуд очень обрадовался, когда его помощник Гревс доложил, что Коля Леонтьев вместе с другими членами избранного «комитета» привезён в Нюрнберг. Посоветовавшись с Гревсом и Крашке, Грейвуд принял решение поселить пятерых членов комитета на «третьей точке», в задней части помещения, занимаемого пивной «Золотой гусь». Это помещение было надёжно изолировано, находилось почти на окраине Нюрнберга, наконец, имело, как выразился Гревс, «подсобный вариант», который всегда мог понадобиться: тёмную, глухую каморку в подвале, могущую быть использованной в качестве строгого карцера.
— Насколько надёжна в этом подсобном помещении звуковая изоляция? — деловито осведомился Крашке.
— Вполне. А почему вас это интересует?
— Позвольте быть откровенным, господин полковник. — ответил Крашке. — Я хорошо знаю психологию русских. Методы психологической обработки нередко оказываются недостаточными в отношении них… Не исключено, что мне придётся прибегнуть к более убедительным способам воздействия… И тогда проблема звуковой изоляции, сами понимаете…
Крашке, не закончив фразу, выразительно ухмыльнулся.
— Понимаю, — ответил Грейвуд. — Что ж, и на этот случай помещение вполне пригодно. Должен, однако, заметить, Крашке, что метод третьей степени, как мы это называем, маложелательный вариант, хотя его, разумеется, нельзя исключить, особенно в данном случае. Начнём работу с этим мальчишкой на чистом сливочном масле. Если же он будет упорствовать, что ж, тем хуже для него… Во всяком случае, завтра утром приезжайте ко мне, Крашке, и мы вместе разработаем план вашей работы…
Отпустив Крашке и Гревса, Грейвуд занялся другим делом, связанным с операцией «Нейтрон». Подыскание кандидата для связи с Вайнбергом затянулось. Грейвуд пришёл к выводу, что на этого человека, кроме связи с Вайнбергом, надо возложить и гораздо более важную задачу собирания разведывательных сведений в данном районе советской зоны.
Это, естественно, значительно усложняло проблему выбора кандидата. Он, во всяком случае, должен был соответствовать элементарным требованиям — быть немцем, имеющим опыт разведывательной работы, притом не возбуждающим ни малейших сомнений в своей надёжности. Грейвуд уже имел обширную немецкую агентуру, среди которой было немало бывших гестаповцев, но ни к кому из них особого доверия не питал.
Он считал, что направлять агента в советскую зону можно лишь в том случае, если у этого агента остаётся надёжный «залог». Между тем почти все его агенты из числа бывших гестаповцев пока такого «залога», в виде жены или детей, не имели, растеряв своих близких в последние дни войны.
Вот почему Грейвуд очень обрадовался, когда однажды начальник нюрнбергской тюрьмы, где всё ещё содержался Михель Вирт, сообщил, что в тюрьму явилась жена Вирта за справками о своём супруге.
Грейвуд приказал направить женщину к нему и на следующий день принял её. Фрау Катарина Вирт оказалась довольно красивой женщиной за тридцать лет и произвела на полковника Грейвуда самое благоприятное впечатление. Она рассказала, что вышла замуж за Вирта всего восемь лет тому назад и что они жили очень дружно. После падения Берлина она, потеряв своего мужа, неустанно разыскивала его в разных городах Западной Германии, пока случайно не встретила в Мюнхене одного бывшего эсэсовца, недавно освобождённого из нюрнбергской тюрьмы. Тот рассказал ей, что однажды по пути на допрос он мельком видел Вирта в тюремном коридоре. Фрау Катарина сразу поехала в Нюрнберг, чтобы выяснить судьбу своего бедного супруга.
— Имеются ли у вас дети, фрау Катарина? — спросил Грейвуд, откровенно любуясь этой красивой, пышной, кокетливой блондинкой.
— Да, господин полковник, у меня сынишка, ему шесть лет, — ответила она.
— Ваш муж, говорят, был не слишком нежным отцом? — спросил Грейвуд, хотя вообще понятия не имел о том, что у Вирта есть ребёнок.
— Ах, что вы, господин полковник, — горячо и, по-видимому, вполне искренне воскликнула молодая женщина. — Михель обожает сына!.. О, мой бог, что только могут наговорить на человека!..
И фрау Катарина заплакала.
— Ну-ну, не стоит волноваться, — стал её успокаивать Грейвуд. — Я обещаю вам лично заняться судьбой вашего мужа. Придите ко мне через пару дней, фрау Катарина…
Как только жена Вирта ушла, полковник вызвал машину и поехал в старинную нюрнбергскую тюрьму.
***
В те дни уже шла подготовка к нюрнбергскому процессу главных немецких военных преступников и в тюрьме было много заключённых. Американский полковник, назначенный начальником тюрьмы, почтительно встретил Грейвуда и по секрету сообщил ему, что в числе его подопечных уже находятся Геринг, Кальтенбруннер, Кейтель, Риббентроп и многие другие крупные нацисты.
На вопрос о том, как чувствует себя Вирт, начальник тюрьмы откровенно ответил:
— Ах, мистер Грейвуд, у меня теперь такие постояльцы, что, право, мне не до вашего Вирта… Знаю лишь, что по вашему приказанию он содержится в наручниках, в одиночке, со строгим режимом. Всё моё свободное время уходит на Геринга и его компанию. Каждый из них сидит в одиночке, готовясь к процессу, и одолевает меня самыми дурацкими просьбами… Этот старый мошенник Шахт, например, потребовал книги по архитектуре. Мне кажется, что в его положении лучше интересоваться тем, как строят виселицу, а не дома. Однако, когда я спросил, зачем ему нужны книги по архитектуре, он, улыбаясь, ответил: «Господин полковник, сразу после процесса я намерен построить себе новую виллу и пока, чтобы не терять зря время, поработаю над проектом»… Как вам нравится этот нахал? Или, может быь, он просто свихнулся?
Грейвуд промолчал, подумав про себя, что начальник тюрьмы довольно наивный парень: неужели он полагает, что Шахта, при его связях с американскими промышленными «королями», действительно ожидает виселица? По-видимому, старая лиса Шахт имеет все основания рассчитывать, что после процесса сможет спокойно строить новую виллу…
Не желая, однако, беседовать с начальником тюрьмы по этим тонким вопросам, Грейвуд попросил вызвать Вирта. Минут через двадцать два здоровенных сержанта привели Вирта в кабинет начальника тюрьмы, который ушёл, оставив Грейвуда наедине с заключённым.
— Ну, как вы себя чувствуете, господин Вирт? — спросил Грейвуд, хотя достаточно было посмотреть на Вирта, чтобы понять, что чувствует он себя прескверно. Эсэсовец так изменился, что его с трудом можно было узнать. Пиджак болтался на нём, как на вешалке, лицо страшно осунулось, глаза ввалились. Одиночка, строгий режим и наручники сделали своё дело.
— Господин полковник, — пролепетал Вирт. — Неужели за то, что я собирался честно служить американским военным властям, мне суждена такая страшная участь?.. Где справедливость, глубокоуважаемый господин полковник?
— Ах, простите, я и забыл, что вы старый поборник справедливости, — усмехнулся Грейвуд. — Ещё бы, проработав столько лет в гестапо, вы, конечно, научились этому… Да как вы смеете произносить самое слово справедливость, мерзавец!.. — закричал Грейвуд и так хватил кулаком по столу, что Вирт задрожал, видимо, решив, что непосредственно из этого кабинета его отправят на виселицу, снившуюся ему чуть ли не каждую ночь…
Вирт бросился на колени, всхлипывая, что-то невнятное бормоча и странно повизгивая. Грейвуду сразу стало скучно — он всегда именно так реагировал на слёзы и рыдания.
— Ну, хватит кривляться, встаньте! — строго сказал он. — Уж не думаете ли вы, негодяй, что способны разжалобить меня этим собачьим визгом? На меня это действует не более, чем действовали слёзы ваших жертв на вас, сумейте это понять, болван!.. Любопытно, почему вам так хочется жить? Вы можете мне это объяснить?
— Всем хочется, — пролепетал Вирт. — Я тоже человек…
— Но в вашем положении, если хочется жить, надо это заработать, понимаете, за-ра-бо-тать…
Ни одно самое сильное лекарственное средство не могло бы так мгновенно подействовать, как подействовали на Вирта последние слова Грейвуда. Он сразу вскочил и бросился к столу, за которым развалился в кресле Грейвуд.
— Я готов решительно на всё!.. Слышите, господин полковник, на всё! — хрипел Вирт, искательно заглядывая в глаза Грейвуда.
— Ну, что ж, рад это слышать, — произнёс Грейвуд. — Перейдём к делу…
И он обстоятельно изложил Вирту условия, на которых тот может быть освобождён из тюрьмы. Под видом антифашиста, недавно освобождённого из концлагеря, Вирт, разумеется, под чужой фамилией должен пробраться в советскую зону оккупации и обосноваться там в городе, который будет ему указан. Здесь он должен явиться к советскому военному коменданту и предъявить документы, удостоверяющие, что он был узником концлагеря…
— Не обязательно называть себя коммунистом, — продолжал Грейвуд. — Они могут навести справки и выяснить, что это неправда. Действуйте скромнее — вы были просто антифашистом. Мы подберём вам документы одного из тех, кто действительно содержался и погиб в лагере. Можете не сомневаться, что советские власти окажут вам помощь, предоставят вам работу, жильё и тому подобное. Вам надо постепенно завоевать доверие и очень осторожно начать выполнение наших заданий. Кроме того, я дам вам небольшое поручение к одному профессору, проживающему в этом городе…
Через три часа, подробно поговорив с Виртом, Грейвуд вышел из тюрьмы, очень довольный ходом дела. Уже прощаясь, он сообщил Вирту, что его жена и ребёнок находятся в Нюрнберге, где и останутся в качестве «залога».
— Если вы будете честно работать на нас, вы можете не беспокоиться за судьбу своей супруги и ребенка. Но если вы вздумаете нас обмануть, Вирт, или начнёте двойную игру, считайте, что у вас нет ни жены, ни ребёнка… Надеюсь, я ясно излагаю?
На следующий день Вирт был освобождён, Грейвуд сам отвёл его на квартиру, которая уже была предоставлена семье Вирта.
А ещё через день бывший политический заключённый Курт Райхелль перешёл границу советско-американской зоны и поплёлся в тот самый город, где жил профессор Иоганн Вайнберг…
***
Курт Райхелль явился к полковнику Леонтьеву и, предъявив ему документы, рассказал о своей судьбе. Несмотря на естественную настороженность в отношении неизвестных людей, Сергей Павлович ему посочувствовал. Достаточно было посмотреть на этого измученного человека с измождённым лицом и свежими, всё ещё гноящимися рубцами на запястьях («до сих пор, герр комендант, не проходят следы от гестаповских наручников»), чтобы понять, как много ему довелось пережить.
— Я не мог оставаться в западной зоне, господин комендант, — говорил Курт Райхелль, — во-первых, потому, что я не мог равнодушно видеть, как бывшие гестаповцы и эсэсовские палачи под разными предлогами освобождаются от наказания, а во-вторых, там почти невозможно получить работу, никто не заботится о жертвах гитлеровского режима… Наконец, позвольте быть до конца откровенным, сам я родом из Веймара, и, хотя, как мне известно, мои близкие погибли в Дахау, хочется всё-таки побывать в родном городе, с которым связаны все воспоминания…
Курт Райхелль замолк, сдерживая слёзы. Потом, взяв себя в руки, продолжал:
— Я хочу сказать честно, что не был коммунистом, господин комендант, о чём теперь глубоко сожалею. Лишь в концлагере понял, что есть только одна партия, которая до конца боролась с фашизмом, — это партия коммунистов. Но что делать, истина познаётся не сразу. Как говорил мой покойный отец — он был социал-демократом, — старость дана человеку для того, чтобы понять ошибки, которые она уже не в силах исправить, а молодость — для того, чтобы эти ошибки совершать…
— Однако, камрад Райхелль, — сказал Сергей Павлович, — вам ещё рано говорить о старости. Правда, вы довольно сильно истощены, но это дело поправимое… Вы намерены поселиться в Веймаре или в этом городе?
— Я предпочитаю этот город, господин комендант, — быстро ответил Райхелль. — В Веймаре мне будет тяжело…
— Понимаю, — ответил Сергей Павлович. — Что ж, мы вам поможем устроиться. Нам очень нужны честные люди, искренне желающие строить новую Германию… Но мне кажется, что прежде всего вам надо отдохнуть, полечиться, прийти в себя…
— Я весьма тронут, господин комендант, — с чувством произнёс Райхелль.
Сергей Павлович распорядился, и Курта Райхелля поместили в больницу для лечения.
Независимо от этого комендант решил проверить данные, которые Райхелль сообщил о себе. Леонтьев связался с военной комендатурой Веймара и просил навести справки о семье Райхелль.
Вскоре комендант Веймара сообщил, что по справкам Курт Райхелль действительно был в своё время арестован и заключён в концлагерь как антифашист. До ареста он работал в качестве преподавателя истории в веймарской гимназии. Двумя годами позже были арестованы и заключены в концлагерь отец и жена Курта Райхелля, и с тех пор нет никаких сведений о судьбе всей этой семьи.
Таким образом всё, что рассказал Курт Райхелль полковнику Леонтьеву, нашло себе подтверждение. Именно на это и рассчитывал Грейвуд. Снабдив Вирта документами Курта Райхелля, погибшего в концлагере в последние дни войны, Грейвуд предварительно изучил его дело и имел точные данные о судьбе всей семьи Райхелля. Как опытный разведчик, Грейвуд в таких случаях всегда предусматривал возможность тщательной проверки и принимал заранее меры к тому, чтобы она не приводила к провалу агента.
Через десять дней Курт Райхелль, отдохнув в больнице и подлечив руки, выписался, вновь явился к Сергею Павловичу и при его помощи устроился в качестве преподавателя в местной гимназии, начав также активно работать в профсоюзе деятелей культуры.
Получив через специального связного первое сообщение нового резидента о ходе дел, полковник Грейвуд был доволен. В самом деле, этот Вирт, судя по всему, был толковым малым, чёрт возьми, и на него можно было положиться. Дьявольски повезло, что благодаря одиночке и наручникам он приобрёл такой вид, что вполне мог сойти за узника гитлеровского концлагеря!..
Однако радость полковника Грейвуда была преждевременна.
***
Существенную роль в дальнейших событиях сыграла торговля фруктовыми водами фирмы «Винкель и Бринкель». Один из киосков по продаже этих вод был расположен как раз напротив дома профессора Вайнберга, что, конечно, не было случайностью. Получив задание пресечь охоту американской разведки за учёным, Бахметьев правильно предположил, что рано или поздно агентура американской разведки появится или в самом доме, или около него. Передвижной киоск фруктовых вод был отличным наблюдательным пунктом, к тому же не могущим вызвать ни у кого подозрений. Два продавца киоска, сменявшие друг друга, были сотрудниками Бахметьева.
Разумеется, забота Бахметьева о производстве и продаже фруктовых вод в городе объяснялась не только желанием заполучить такой наблюдательный пункт. У Бахметьева были гораздо более веские основания интересоваться фруктовыми водами…
Тем не менее и киоск, расположенный напротив виллы профессора Вайнберга, вскоре себя оправдал не только в коммерческом отношении.
Когда Курт Райхелль обосновался в городе и через некоторое время счёл себя свободным от каких бы то ни было подозрений, он решил встретиться с профессором Вайнбергом и выполнить задание Грейвуда. Райхелль-Вирт был предупреждён Грейвудом, что в доме учёного живёт военный комендант и появляться туда можно лишь в часы, когда полковник Леонтьев находится в комендатуре.
Однажды днём, предварительно зайдя в комендатуру и выяснив у дежурного, что военный комендант принимает посетителей, новоиспечённый учитель истории сел на велосипед и помчался к профессору Вайнбергу. Поставив велосипед у калитки, Райхелль-Вирт позвонил, и вскоре, как обычно, запело реле, и калитка автоматически открылась. Райхелль прошёл в дом.
Стоял жаркий полдень, прохожих на улице почти не было. Не было покупателей и у киоска фруктовых вод. Только за полчаса до этого Генрих, очень любивший лимонад, получил у дедушки очередную марку и выпил положенную ему ежедневную порцию. Генрих уже был отлично знаком с продавцами киоска и очень радовался тому, что теперь не надо бегать за лимонадом на другую улицу, можно покупать его у самого дома.
Придя в этот день выпить свой лимонад, Генрих, как всегда, вежливо поздоровался с продавцом, ласково встретившим мальчика, и попросил дать бутылку фруктовой воды для дедушки.
— У дедушки с утра болит голова, — сказал Генрих. — Мутти даже измеряла ему температуру…
— Почему же вы не вызвали врача, Генрих? — спросил продавец, молодой человек лет двадцати на вид. — Или температура оказалась нормальной?
— Дедушка сказал, чтобы врача не вызывали. Ему кто-то позвонил по телефону и должен к нему прийти…
Захватив бутылку, малыш побежал домой.
Через полчаса, когда приехал на велосипеде Райхелль-Вирт, продавец фруктовой воды отметил, что этот человек впервые появляется в доме. По-видимому, именно он звонил по телефону и его ждёт профессор.
Отойдя от киоска, продавец с самым равнодушным видом, будто для разминки, прошёлся по улице мимо калитки, оглядел велосипед и на мгновение склонился над его задним колесом. Вернувшись в киоск, он достал «лейку» с телеобъективом, навёл её на велосипед, точно определил фокус. Приготовленная «лейка» была замаскирована бутылками и кружками, и продавец стал спокойно ожидать появления неизвестного посетителя профессора. Он знал, что его выход из киоска и переход им улицы уже был замечен, как и полагалось, продавцом сигарет, стоявшим на дальнему углу…
Минут через двадцать владелец велосипеда быстро вышел из дома профессора, вывел свой велосипед на тротуар и обнаружил, что баллон заднего колеса машины проколот.
Пока он рассматривал колесо, не понимая, что случилось с исправным баллоном, «лейка» с телеобъективом сделала своё дело. А когда неизвестный, не имевший запасного баллона, поплёлся со своим велосипедом в центр города, он уже был взят под наблюдение.
К вечеру подполковнику Бахметьеву было известно, что сегодня в полдень квартиру профессора посетил господин Курт Райхелль, преподаватель истории, недавно приехавший из западной зоны. В распоряжении Бахметьева оказалось также шесть отлично сделанных фотоснимков бывшего антифашиста и узника гитлеровского концлагеря.
***
Конечно, самый факт посещения квартиры профессора Вайнберга преподавателем истории ещё решительно ни о чём не говорил. Возможно, что Курт Райхелль раньше знал профессора или фрау Лотту, а может быть, не зная их раньше, почему-либо захотел теперь познакомиться с известным немецким учёным. Выяснить этот вопрос у профессора было бы бестактно — старый профессор мог обидеться, неправильно истолковать всё, не понимая, что наблюдение за домом установлено в его же собственных интересах.
Поэтому Бахметьев прежде всего решил тщательно и до конца проверить личность Курта Райхелля. Ему уже был известен ответ веймарской комендатуры на запрос Леонтьева. Но Бахметьев был опытным контрразведчиком и ограничиться этим ответом не мог. В ту же ночь в Веймар выехал один из сотрудников Бахметьева, захватив с собой фотографии Курта Райхелля.
Приехав в Веймар, сотрудник убедился в полной достоверности сведений, собранных местной комендатурой. Да, в Веймаре действительно в своё время жил и потом был арестован гестапо преподаватель истории Курт Райхелль. Да, вслед за ним были арестованы и, судя по всему, погибли в фашистском концлагере отец и жена Райхелля. Всё это было так. И всё же этого было недостаточно для окончательного суждения о Райхелле.
Выполняя задание Бахметьева, его сотрудник посетил веймарскую гимназию, где в своё время преподавал Курт Райхелль. И там, не задавая ни одного вопроса об учителе истории, он попросил показать ему групповые снимки выпускников гимназии за те годы, когда Райхелль ещё был на свободе. На снимках, как обычно, были сфотографированы все выпускники и педагоги с указанием их фамилий. Фамилия Райхелля стояла под фотографией человека, не имевшего ничего общего с тем, чей портрет имелся у сотрудника Бахметьева.
Так было на всех групповых фотографиях за несколько лет.
Человек, посетивший профессора Вайнберга, не имел никакого сходства с Куртом Райхеллем, за которого он себя выдавал…
***
На первый взгляд, самое простое было арестовать этого проходимца, по-видимому, засланного американской разведкой.
— Самое простое, но не самое умное, — сказал Бахметьев, обсуждая это дело со своими ближайшими помощниками. — Предполагая, что так называемый Курт Райхелль на самом деле резидент американской разведки, мы оставим его до поры до времени на свободе, использовав, как пылесос, при помощи которого соберём всю дрянь, основательно очистив город… Таким образом мы сможем ликвидировать не только паука, но и паутину, которую он сплёл… Разумеется, для этого надо установить за ним неотступное наблюдение.
Так и было сделано.
В ближайшее время сотрудники Бахметьева при помощи продавцов киосков по продаже фруктовых вод, а также иными методами дважды «засекали» связного, приезжавшего для встречи с «Райхеллем» из американской зоны. В обоих случаях связным был один и тот же человек. Поэтому его также пока не задерживали. Были установлены и связи, которые «Райхелль» начал заводить в самом городе — главным образом среди бывших нацистов. Наконец, выяснилось, что он ещё два раза посетил профессора Вайнберга и о чём-то с ним говорил.
После второй встречи со связным, прибывшим из американской зоны, Вирт-Райхелль попросил в школе, где он состоял преподавателем, пятидневный отпуск по семейным обстоятельствам и выехал в Берлин. Именно эта поездка дала особенно богатый материал полковнику Бахметьеву. Дело в том, что в Берлине Вирт-Райхелль встретился с личным адъютантом американского генерала Брейтона — майором Уолтоном. Генерал являлся руководителем американской разведывательной службы в Берлине, и самый факт встречи его адъютанта с Виртом-Райхеллем свидетельствовал о том, что последний представлял большой интерес для американской разведки.
Теперь можно было не сомневаться, что Вирт-Райхелль связан с американской разведкой и выполняет её задания в том самом городе, в котором он поселился под видом скромного учителя истории. Было ясно и то, что он ведёт какие-то переговоры с профессором Вайнбергом по заданиям той же разведки.
Так произошла первая осечка у мистера Грейвуда, о которой, впрочем, он пока даже не догадывался. Напротив, как сам Грейвуд, так и Вирт были уверены, что им удалось ловко провести советскую контрразведку.
Располагая всеми этими данными, полковник Бахметьев пока не знал одного: какую позицию занимает или в конце концов займёт профессор Вайнберг? Намерен ли он перебраться в американскую зону и пойти на службу к американцам, как это сделал, например, профессор Майер? Или же, сохранив верность народу, останется в родном городе и будет принимать участие в строительстве новой миролюбивой и демократической Германии?
В Москве
Каждое утро, приезжая на работу, конструктор Николай Петрович Леонтьев любовался новыми корпусами института, построенными в последние годы, и широкими светлыми окнами лабораторий, занимавших теперь новый огромный дом.
И в самом деле, тот научно-исследовательский институт, в котором Николай Петрович работал уже много лет и с коллективом которого ему удалось в своё время создать ракетное оружие «Л‑2», теперь трудно было узнать, настолько выросло и расширилось это научное учреждение.
Да, ещё несколько лет тому назад не было ни этих корпусов, ни лабораторий, ни экспериментальных цехов. Тогда Леонтьеву приходилось создавать новое оружие с небольшой группой научных сотрудников, целый ряд агрегатов заказывали на разных заводах, единственная собственная мастерская института имела почти кустарный характер, не хватало материалов, а иногда и средств. Вдобавок к этому работа Леонтьева встречала тогда ироническое отношение со стороны отдельных специалистов, не веривших в то, что молодой конструктор добьётся такого неожиданного успеха.
Часть из них искренне не верила в успех работы, полагая, что Леонтьев увлекается, горячится, рискует. Этих людей можно было понять, потому что предложения Леонтьева были не только новыми, но и смелыми, более того, опрокидывающими некоторые давние представления и расчёты, считавшиеся почему-то непогрешимыми. Но среди противников Леонтьева были и такие, которые спорили с ним потому, что сами были не в состоянии решить эту сложную техническую проблему, и по этой причине им не хотелось верить, что её успешно решит другой, к тому же более молодой и менее известный, нежели они, специалист.
Такие учёные пессимисты доставили в своё время Николаю Петровичу и его помощникам немало хлопот, испортили немало крови, отняли немало драгоценного времени. Особенно много неприятностей причинил тогда молодому учёному профессор Георгий Павлович Маневский, пожилой и весьма респектабельный человек в золотых очках, с аккуратной надушенной бородкой и прозрачными, светлыми глазами, всегда очень элегантный, неизменно улыбающийся, до приторности ласковый и обходительный. Это был великий мастер по части произнесения юбилейных тостов, речей на гражданских панихидах и вступительных слов на заседаниях учёного совета, заместителем председателя которого он состоял несколько лет, пока не произошёл один конфузный случай.
Профессор Маневский любил играть роль заботливого покровителя молодых талантов и часто произносил на собраниях пылкие речи касательно «важности выращивания смены и пополнения молодыми кадрами золотого фонда советской науки». Однажды молодой аспирант Мишин, руководимый Маневским, защищал кандидатскую диссертацию. Маневский выступил с горячей поддержкой работы Мишина, которой дал самую высокую оценку. Но против диссертации тогда выступил один из старейших профессоров института Максим Григорьевич Пронин, большевик-подпольщик, которого в институте уважали за прямоту и принципиальность.
— Да, Мишин способный человек, я не спорю, — заявил тогда Пронин. — Тем более мы обязаны предъявить ему высокие требования. А диссертация, скажем прямо, поверхностная, гладенькая, без шерстинки. Автор пошёл по пути поисков лёгкого успеха — и сие весьма огорчительно, чтобы не сказать больше, молодой человек. В настоящей науке лёгкой жизни не ищут, и вообще, хочу заметить, погоня за лёгкой жизнью приводит к тяжким последствиям, такова диалектика, да‑с… Вот и опасаюсь я, сказать по совести, что может превратиться наш диссертант в одного из охотников за учёными степенями, от которых добра для науки не жду.
Маневский снова взял слово и произнёс эффектную речь в защиту диссертации.
— Я слишком стар, чтобы льстить, и слишком молод, чтобы гнуться, — закончил он. — Глубоко уважая мнение дорогого Максима Григорьевича, я позволю себе, тем не менее и однако, на этот раз не согласиться с ним в одном: строгие требования к молодым научным работникам надо сочетать с любовной заботой об их росте, с товарищеской поддержкой, с отеческим, если позволите так выразиться, вниманием. Таковы мои прочные взгляды на этот предмет, хорошо известные уважаемой аудитории. Вот почему я ещё раз и притом самым решительным образом высказываюсь за представленную диссертацию и выражаю уверенность, что наш учёный совет поддержит автора диссертации!..
Речь Маневского произвела впечатление, особенно на молодых аспирантов института. Велико же было их удивление, когда после тайного, как положено, голосования оказалось, что за диссертанта не подано… ни одного голоса.
Когда результаты голосования были объявлены, профессор Пронин в присутствии других членов учёного совета подошёл к Маневскому.
— Почтенный Георгий Павлович, — ядовито сказал он. — Я не удивлён, что диссертация завалена на голосовании — она этого заслуживает. Но объясните-ка нам, как могло случиться, что вы, так пылко защищавший её гласно, столь беспощадно голосовали против неё тайно?..
Маневский растерялся и не очень ясно ответил:
— Что делать?.. Жизнь — сложная штука, уважаемый Максим Григорьевич…
— Жизнь усложняют сложные характеры, профессор Маневский, да‑с… — сердито бросил Пронин. — Сложные, чтобы не сказать иначе, милостивый государь!..
И, не подав руки Маневскому, старик резко повернулся и ушёл. Сердитые, резкие слова и, главное, обращение «милостивый государь», столь неприсущее лексике профессора Пронина, произвели впечатление. Стараясь не встречаться взглядом с Маневским, члены учёного совета один за другим покинули зал.
На следующий день профессор Маневский прислал записку, что он болен гриппом, и недели две не показывался в институте, по-видимому, полагая, что время — лучший лекарь и конфузный случай с голосованием в конце концов будет предан забвению. Увы, старая поговорка в данном случае не оправдалась: профессору Маневскому пришлось оставить пост заместителя председателя учёного совета, а Мишин подал заявление с просьбой перевести его как аспиранта к профессору Пронину…
Таков был Георгий Павлович Маневский. Леонтьев не выносил этого дельца от науки с его придуманной улыбочкой, ложно значительным видом и актёрским, хорошо поставленным голосом.
Прямой, подчас даже резкий Леонтьев не скрывал своего отношения к этому ловкачу, который при всей своей респектабельности и умении произвести впечатление в сущности был бесполезен науке, обладая лишь организационными навыками.
Хитрый Маневский, однако, делал вид, что не понимает отношения Леонтьева к своей персоне и как ни в чём не бывало оказывал Николаю Петровичу всяческие знаки внимания, льстил по любому поводу, будучи убеждён, что лесть рано или поздно побеждает. Поставив теперь своей задачей установление добрых отношений с молодым талантливым конструктором, профессор словно забыл те годы, когда шла напряжённая работа над созиданием «Л‑2» и когда он так настойчиво и тонко распускал слушки, что «вся эта затейка — мечта, лишённая научной базы» и что, дескать, самое разумное — «сдать эту музыку в музей научных иллюзий, который давно пора организовать».
Потом, когда эта «музыка», вопреки пророчествам Маневского, родилась и победила, загремев на полях сражений, профессор быстро перестроился: он оказался первым и самым пылким поздравителем Леонтьева, а затем выступил на заседании учёного совета с эффектной речью, в конце которой, прослезившись от умиления, назвал Николая Петровича «гордостью института и уже взошедшим на горизонте советской науки светилом».
Леонтьев, как всякий по-настоящему талантливый человек, не был злопамятен. Вспыльчивый, но мягкий по характеру, Николай Петрович всегда был склонен видеть в людях хорошее и быстро забывать дурное. И он, сам того не замечая, изменил своё отношение к Маневскому в лучшую сторону, поверив в искренность его речей.
После окончания войны, когда развернулись работы по созданию ракет дальнего действия, Маневский, основательно поразмыслив и трезво сообразив, что это — дело с большим будущим и Леонтьев — «верная лошадка», решил играть наверняка. Человек с большим нюхом, всегда знающий, чего он хочет, Маневский отличался целеустремлённостью и настойчивостью карьериста. Он стал добиваться, чтобы ему доверили одну из лабораторий, работавших под руководством Леонтьева. Николай Петрович согласился, так как знал, что Маневский при всех своих недостатках человек энергичный, напористый и умеющий организовать новое дело.
И в самом деле, став руководителем одной из лабораторий, Маневский с жаром принялся за работу, подобрал штат сотрудников, точно и очень старательно выполнял задания. Он оказался таким энергичным исполнителем, что Леонтьев мысленно даже упрекал себя за не совсем справедливое отношение к Георгию Павловичу.
И уж во всяком случае конструктор никак не ожидал, что в самом недалёком будущем Маневский причинит ему немало бед.
***
Работы над ракетой дальнего действия развертывались широким фронтом. Целый ряд очень сложных проблем возник перед коллективом, взявшимся за это дело. Приходилось решать совершенно новые технические задачи, связанные с многочисленными трудностями. Возникла проблема специального горючего, которое должно было обладать грандиозной мощностью при относительно малом весе. Это требовало многочисленных опытов, настойчивых исканий, научных открытий.
Не менее сложной была проблема прицельности ракеты, управления ею после старта. Решение задачи было связано с рядом сложнейших физико-математических и радиолокационных вопросов, каждый из которых являлся по сути дела самостоятельной научной проблемой.
Наконец, серьёзные трудности возникали при поисках сплава для оболочки ракеты — ведь здесь предъявлялись совершенно особые и новые требования в смысле прочности, веса, жаростойкости.
Помимо главных проблем, были и другие, не менее трудные, и каждая из них порождала новые проблемы и, как шутил Леонтьев, проблемочки. Любая из них опять-таки требовала научных и технических открытий.
Разумеется, один Леонтьев при всей своей одарённости не мог решить множества проблем, как не могла решить их одна область науки. Многочисленные крупные специалисты в области физики, радиотехники, радиолокации, химии, баллистики, электрохимии, астрофизики и многих других отраслей науки занимались работами, необходимыми для решения главной задачи. Многие другие институты, кроме леонтьевского, многие лаборатории и заводы трудились ради этой грандиозной, вдохновляющей цели.
Однако институт, в котором работал Леонтьев, занимал ведущее положение в этом деле, став как бы координирующим и направляющим центром.
Вот почему самый институт и специалисты, в нём работавшие, могли стать объектом пристального внимания со стороны определённых зарубежных кругов, заинтересованных в том, чтобы любыми путями разведать военные тайны Советского государства.
Вполне понятно поэтому, что соответствующие органы должны были обеспечить неприкосновенность секретов и труда советских учёных, решавших сложнейшие научные и технические проблемы.
Помимо общих соображений, факты, связанные с происками гитлеровской разведки как в довоенные годы, так и в годы войны в отношении работ Леонтьева, подсказали необходимость особой бдительности. К тому же выводу подводили и факты нарушения некоторыми странами союзной коалиции принятых на себя в своё время обязательств. И, наконец, уже после войны были получены многочисленные данные, красноречиво свидетельствовавшие о том, что разведки этих стран ведут активную деятельность, направленную против Советского государства, нередко используя кадры гитлеровских шпионов и диверсантов.
Полковнику государственной безопасности Григорию Ефремовичу Ларцеву, в своё время раскрывшему происки гитлеровской разведки в отношении конструктора Леонтьева, теперь снова была поручена охрана военной тайны в том институте, где работал Леонтьев и его сотрудники.
Ларцев, помимо огромного опыта чекистской работы, преданности делу, отличного знания человеческой психологии и большой наблюдательности, обладал ещё одним, неоценимым при его профессии качеством: он умел мысленно ставить себя в положение противника, чтобы предвидеть его «ходы».
Хорошо зная, что в разведывательной работе есть очень сложные, тонкие приёмы и методы, а наряду с ними прямые и грубые, Ларцев был готов к отражению тех и других. Ставя себя мысленно в положение противника и учитывая присущие ему особенности и «стиль работы», Григорий Ефремович всегда старался проникнуть в планы противника, разгадать направление готовящегося удара, определить характер тех приёмов, которые, скорее всего, будут в данном случае применены.
Этот метод, давно уже ставший привычным для Ларцева и не раз себя оправдавший в прошлом, был методом умного, проницательного контрразведчика, всегда исходящего из мысли, что его противник тоже достаточно опытен и умён. Это давало положительный результат в обоих случаях: если противник действительно оказывался умным и опытным, заранее готовый к этому Ларцев отнюдь не был застигнут врасплох, а напротив, делал ответный, соответственно продуманный ход. Если же противник оказывался глупее или грубее, чем это предполагалось, опять-таки проигрывал он, а не Ларцев.
Наконец, мысленно ставя себя на место противника, Ларцев всегда вводил известный «поправочный коэффициент» на стиль работы. Если речь шла о гитлеровской разведке, Ларцев учитывал характерную для неё ставку на массированную засылку агентуры при известной грубости в методах работы. Имея дело с разведкой английской, Ларцев имел в виду её приверженность к многолетней, давно созданной резидентуре, умение использовать религиозные предрассудки, племенную вражду, кровную месть и пережитки родового быта, одним словом, ту методику, которая была выработана многими годами британской разведывательной и диверсионной деятельности в колониальных странах. Применительно к американской разведке следовало учитывать склонность к циничной игре в «демократию», использование эмиграции и, главное, ставку на «его величество доллар» как абсолютный «вездеход», перед которым, дескать, никто и ничто не может устоять… После войны, как уже стало известно Ларцеву, американская разведка широко использовала бывших гестаповцев, нацистов и всякого рода подонков из числа изменников Родины.
Получив задание обеспечить охрану института и его работ, Ларцев прежде всего изучил все архивные материалы и в его сознании ожили подробности операции «Сириус». Из всех действовавших тогда лиц не была известна лишь судьба Крашке. Из показаний Петронеску Ларцев знал, что этот же Крашке в период оккупации возглавлял «комбинат», где Петронеску набрал свою «делегацию». Знал он и о задержании гестаповца Фунтиковым в бранденбургском городке и о побеге его из госпиталя. Следовательно, в числе активных противников, настойчиво интересовавшихся много лет работами Леонтьева, мог быть и Крашке. Что же с ним?
А ну-ка, поменяемся местами, сказал себе Ларцев и, вообразив себя в роли Крашке, стал размышлять — куда и к кому тот бежал? Скорее всего, в те дни, когда решалась судьба Берлина, Крашке должен был бежать туда же, куда бежали многие другие гестаповцы, — на запад. Здесь возникали две возможности: либо Крашке по дороге погиб, что тоже нельзя было исключить, либо он всё-таки пробрался в Западную Германию. Первый вариант вообще снимал весь вопрос. Второй вариант требовал развития. Если Крашке пробрался на запад, то с какой целью, к кому? Опять-таки, по логике событий, Крашке должен был поступить так, как поступило большинство гестаповцев — идти к американцам. Разумеется, с предложением своих услуг. Что мог Крашке предложить американцам? Прежде всего свой опыт как специалиста по работе в России. Что из этой работы могло представить наибольший интерес для американцев? Конечно, операция «Сириус», тем более что даже американцам Крашке не стал бы рассказывать о своих кровавых похождениях в «комбинате» под Смоленском. Зато данные Крашке о крупном советском конструкторе, авторе ракетного оружия, грозная сила которого не была для американцев секретом, не могли не заинтересовать их разведку — ведь она старательно охотится за куда менее значительными секретами гитлеровской военной техники и создавшими эту технику немецкими специалистами…
Так, путём логического анализа и изучения архивных материалов, полковник Ларцев пришёл к выводу, что если Крашке жив, то он, несомненно, будет иметь то или иное отношение к попыткам зарубежных разведок проникнуть в тайну работ Леонтьева и всего института.
Поэтому в системе контрмер, обдумываемых Ларцевым, заняли своё место и меры обезвреживания возможных действий «старого знакомого».
Приезд Маккензи
Месяца через полтора после того, как члены «комитета» во главе с Колей Леонтьевым были привезены в Нюрнберг, Крашке пришёл к Грейвуду с самым мрачным выражением лица.
— Ну, как идут дела, Крашке? — спросил Грейвуд. В последнее время, будучи занят другими делами, он ни разу не справлялся о Коле Леонтьеве.
— Господин полковник, этот мальчишка подаёт мало надежд, — осторожно начал Крашке.
— Неужели? — спросил с язвительной улыбкой Грейвуд. — Но разве такой специалист по русской душе, как господин Крашке, всю жизнь работавший «по русскому профилю», не может справиться с одним русским парнем?.. Чепуха!..
— Господин полковник, я повторяю — этот щенок не поддаётся дрессировке. Вот уже полтора месяца, как я тщётно пытаюсь его перевоспитать. Я действовал так, как вы мне приказали. Я был с ним ласков, пичкал его указанной вами литературой, пытался угощать спиртными напитками и даже познакомил его с очаровательной фрейлейн Бертой, которая делала всё, что могла, чтобы влюбить его в себя… На все мои заботы щенок отвечает стереотипной фразой: «Отправьте нас на родину!». Тогда, посоветовавшись с майором Гревсом, я изолировал его от остальных членов «комитета». Он ответил голодовкой, можете себе представить?.. Неделю мы держали его в карцере — тоже не помогло…
— Что вы предлагаете? — спросил, нахмурившись, Грейвуд.
— То, с чего я предлагал начать, господин полковник, — ответил Крашке.
— Вы имеете в виду третью степень?
— Даже четвёртую, а если понадобится — пятую, господин полковник. С ними иначе нельзя…
Грейвуд задумался. Применение «третьей степени» само по себе не смущало его. В конце концов пусть старый гестаповец испытает на мальчишке свои методы, дьявол с ним! Конечно, надо будет строго предупредить этого палача, что парень при всех условиях должен выжить. Но будет ли из этого толк? Если даже удастся сломить его пытками, то какая гарантия, что, будучи заслан на родину, он не отомстит за свои муки, явившись с повинной в советские органы безопасности? В последнее время некоторые перемещённые лица, давшие обязательства работать на американскую разведку, были переброшены разными способами в Советский Союз, и уже есть данные, что многие из них поступили именно так. Несколько дней тому назад два таких агента выступили по советскому радио и сами об этом рассказали… Хорошо, думал Грейвуд, что он не имеет отношения к этим типам, их завербовал и перебросил в СССР другой работник разведки, Аллен Брайсон. Русские, выброшенные на парашютах в районе Даугавпилса, как только приземлились, зарыли своё снаряжение и, явившись на ближайший хутор, первым делом спросили, где находится районный отдел МГБ. Когда они объяснили латышу крестьянину, в чём дело, этот запряг лошадь и доставил их в этот отдел, где они сразу всё рассказали… По крайней мере, так они изложили обстоятельства своей явки с повинной, выступая по радио… Смешно… и вместе с тем очень печально… Так как же всё-таки быть с предложением Крашке?.. Может быть, он прав и другого выхода нет…
Грейвуд всё ещё размышлял, когда в кабинет вошёл майор Гревс и, молча кивнув сидящему в кресле Крашке, протянул своему патрону шифровку из США. Прочитав телеграмму, полковник нахмурился: в ней сообщалось, что минувшей ночью генерал Маккензи спешно вылетел в Нюрнберг через Гавр.
— Вы пока свободны, Крашке, я подумаю и ещё раз вас вызову, — сказал Грейвуд и, как только Крашке с поклоном вышел из кабинета, обратился к Гревсу:
— Вы уточнили, когда прибудет самолёт?
— Да, полковник, самолёт прибывает через сорок минут.
— Что ж, поедем встречать генерала, — произнёс Грейвуд, уже думая о том, где лучше всего поместить этого надутого индюка Маккензи — в отеле или у себя на вилле? Любопытно, чем вызван его внезапный прилёт? Скорее всего, Маккензи прибывает в связи с начинающимся на днях процессом главных немецких военных преступников. Ведь на процессе могут всплыть некоторые щекотливые вопросы, например о связях германских промышленников с американскими монополистами и секретных встречах во время войны… А может быть, приезд Маккензи связан с провалом агентов, заброшенных в Советский Союз?.. Мало ли что может быть… Важно определить свою позицию при разговорах с Маккензи, чтобы тот, по своему милому обыкновению, не устроил какую-нибудь пакость…
Эти мысли мелькали в голове Грейвуда, пока он в сопровождении майора Гревса мчался на нюрнбергский аэродром. Дождливый, слякотный ноябрьский день дымился в развалинах полуразрушенного города. Промелькнула решётка дворца юстиции, только что отремонтированного в связи с процессом. За решёткой, в глубине просторного двора, мрачно высилось громадное здание, вплотную примыкавшее к старинной нюрнбергской тюрьме. У подъезда здания стояли с автоматами в руках плечистые советские солдаты в фуражках с красными звёздочками и блестящих от сырости плащах — сегодня здание, в котором будут происходить заседания Международного Военного Трибунала, охраняли представители Советской Армии, потом, по установленной очереди, их должны были сменить американцы, англичане, французы. Флаги четырёх великих держав, представители которых вошли в состав Международного Трибунала, пестрели над главным подъездом здания, где должен был проходить мировой процесс, какого ещё не знала человеческая история…
На огромном нюрнбергском аэродроме, застланном пружинящими, как ковры, проволочными сетками, Грейвуд и Гревс узнали, что «дуглас», в котором летит Маккензи, прибудет с минуту на минуту. Грейвуд закурил, равнодушно оглядывая аэродром, стоящие вдали ангары, проволочные покрытия, свинцовое, облачное, низко нависшее небо. Сырой туман всё ещё продолжал клубиться, обжигая лицо, забираясь под воротник, неприятно щекоча ноздри. В такую мерзкую погоду приятно полежать у пылающего камина с детективным романом, потягивая виски с содой и время от времени поглядывая через зеркальное стекло дверей на то, как стройная, кокетливо одетая фрейлейн Эрна хлопочет в столовой, расставляя посуду к обеду. Так нет, вместо этого приходится ёжиться от сырости на аэродроме, поджидая самолёт! Из него вылезет важный, надутый Маккензи, которому надо почтительно улыбаться, поздравить его с приездом, свидетельствовать свои симпатии и уважение, дьявол ему в глотку!.. Что за несчастная судьба — иметь такого кретина своим начальником и быть обязанным выслушивать его дурацкие поучения и замечания!.. Ах, как несправедливо устроен мир!..
Наконец показался серебристый «дуглас», сделал круг над аэродромом и, приземлившись, побежал, подпрыгивая, по гигантскому проволочному ковру.
Грейвуд и Гревс быстро зашагали к самолёту, из которого уже тяжело вылезал генерал Маккензи, тучный, плечистый, с побагровевшим от натуги лицом: в полёте сильно болтало, генерала подташпивало.
Вяло ответив на шумные приветствия Грейвуда и Гревса, генерал на их вопросы о самочувствии мрачно пробурчал:
— Как может себя чувствовать белый человек при такой сатанинской болтанке, джентльмены?.. Из меня вытрясло как минимум всё, что я съел и выпил за последние десять лет… Убеждён, что мой вес уже равен нулю…
Через час, после кофе с лимоном на вилле Грейвуда, Маккензи немного пришёл в себя и сообщил, что он привёз важные новости и последние установки высшего начальства.
— Завтра мы устроим совещание, и я сделаю подробное сообщение, — продолжал Маккензи. — А пока, милейший Грейвуд, расскажите мне, как идут у вас дела?
Грейвуд подробно доложил о ходе дел и в частности о том, как разворачивается операция «Нейтрон», и о намеченном внедрении Коли Леонтьева в семью известного конструктора. Маккензи сразу пришёл в самое весёлое настроение, похлопал Грейвуда по плечу и, потребовав виски, коньяк, итальянский вермут, красный перец, чеснок, гвоздику, сахар и грейпфрут, начал самолично приготовлять какой-то особый коктейль, уверяя Грейвуда, что это — последнее достижение мировой культуры.
— Между нами говоря, старина, — продолжал Маккензи, старательно взбалтывая последнее достижение мировой культуры и подмигивая Грейвуду, — этот новый коктейль может сравниться лишь с атомной бомбочкой, которой мы недавно поразили весь мир… Но это лишь начало, милейший Грейвуд. Всё, что произошло в августе в Хиросиме и Нагасаки, — только первый опыт, первое испытание нашего нового оружия. Мир уже теперь сжался от страха, поняв, что мы, и только мы владеем атомной бомбой…
— Есть ли уверенность, генерал, что русские не имеют такой бомбы или не будут иметь её в скором будущем? — спросил Грейвуд, сразу вспомнив разговор с Мильхом. — Сэр Уинстон неглупый человек, и он давно заметил, что коммунистическая Россия — ящик с сюрпризами…
Маккензи поставил на стол графин с коктейлем, достал свой портфель и вынул из него какие-то бумаги.
— Вы спрашиваете о русских? — сказал он. — Что ж, это резонный вопрос. Так вот, слушайте меня внимательно. Такой же вопрос не так давно задал мне президент. И он поручил мне, именно мне, дорогой Грейвуд, организовать авторитетнейшую экспертизу. Мы собрали крупнейших экономистов, энергетиков, металлургов, специалистов по русскому промышленному потенциалу, физиков и химиков. За всю жизнь мне не приходилось видеть такого количества учёных лысин, профессорских животов, роговых очков и бородок. Мы предоставили в распоряжение этого синклита все данные, полученные по всем каналам нашей стратегической, воздушной, морской, сухопутной, дипломатической, политической и экономической разведки. Целый месяц эти учёные эксперты отравляли мне жизнь требованиями дополнительных данных и самыми дурацкими вопросами. Эксперты работали не покладая рук, изучая материалы, производя какие-то мудрёные вычисления, анализируя промышленные потенциалы, энергетические балансы и секретные донесения. Наконец они дали своё заключение. Вот их выводы, Грейвуд, слушайте внимательно!
Надев очки, Маккензи очень торжественно прочёл:
— …»На основании перечисленных выше материалов комиссия экспертов приходит к следующим выводам. Вывод первый: Советский Союз не владеет секретом атомной бомбы, хотя, по-видимому, работает в этом направлении. Вывод второй: если даже советским учёным удастся в конце концов разгадать этот секрет, они, по крайней мере, в течение десяти лет не смогут создать атомной бомбы по технико-экономическим причинам и, в частности, по уровню технического потенциала и энергетического баланса СССР. Вывод третий: таким образом, экспертиза констатирует, что Соединённые Штаты в течение минимум десяти лет могут считать себя монопольным обладателем атомного оружия»… Когда заключение экспертизы было доложено мистеру Трумэну, он воскликнул: «Слава всевышнему! Теперь я буду засыпать без снотворного»… И его можно понять, Грейвуд, можно понять…
Через два года после этого разговора, когда Советское правительство объявило, что СССР давно уже овладел секретом атомной бомбы и владеет этим оружием, Грейвуд, прочтя сообщение всех телеграфных агентств мира, вспомнил о заключении комиссии экспертов, прочитанном ему генералом Маккензи в Нюрнберге в тот хмурый осенний день…
***
Отдохнув и выспавшись, Маккензи на совещании своих подчинённых информировал их о последних установках американской разведки.
Заключая сообщение, имевшее директивный характер, Маккензи сказал:
— Итак, нас по-прежнему обязывают настойчиво разведывать научные и военные секреты русских, особенно и в первую очередь их работы в области ракетного оружия, в которой, даже судя по орудиям «Л‑2», у русских имеются значительные успехи. Вот почему приобретает важнейшее значение операция «Сириус», связанная, в частности, с трудами русского конструктора Леонтьева и того института, в котором он работает. Одобряя первые шаги, предпринятые полковником Грейвудом, я обращаю его внимание на недопустимую затяжку в реализации намеченных планов.
Вечером, оставшись с Грейвудом наедине, Меккензи ему сказал:
— Я продумал ваш план внедрения этого мальчишки в семью Леонтьева. Допустим, что парень будет надёжно обработан и возвращён на родину. Но почему вы уверены, что он попадёт в дом конструктора Леонтьева, а не останется у своего отца, этого военного коменданта, который не представляет для нас никакого интереса?
— Я предвидел этот вопрос, — ответил Грейвуд. — Дело в том, генерал, что конструктор Леонтьев одинок и очень дружен со своим двоюродным братом Сергеем Леонтьевым, отцом Николая. После возвращения сына, естественно встанет вопрос, как продолжить его образование, прерванное в годы войны. В том городе, где работает Сергей Леонтьев, русской школы нет. Логично предположить, что парня отправят в Москву, к дядюшке, где он сможет нормально учиться…
— Да, это логично, — согласился Маккензи, — однако жизнь не всегда идёт по законам логики, милейший Грейвуд. Логические предположения ещё не дают полной гарантии… Вот если бы отец вашего парня внезапно умер или каким-либо образом исчез, то его брат, конечно, взял бы к себе племянника…
— Вы имеете в виду автомобильную катастрофу, например, или что-либо в этом роде? — осторожно спросил Грейвуд.
— Не совсем, — ответил Маккензи. — Организовать автомобильную катастрофу в советской зоне оккупации не так просто. Я уж не говорю о том, что в таком деле мы не смеем идти на риск — это политический скандал, последствия которого даже трудно себе вообразить…
— Я полностью с вами согласен, генерал, — ответил Грейвуд. — У меня есть другое предложение…
— Именно?
— В последнее время я много работал над архивами гестапо, связанными с работой гитлеровской разведки в России. Беседовал с некоторыми немецкими специалистами «по русскому профилю», как они любят выражаться. Кроме того, я имею собственные впечатления о специфике работы против русских. Я пришёл к выводу, генерал, что обычные методы разведки в России обречены на провал…
— Не знал, что вы такой пессимист, — съязвил Маккензи.
— Дело не в пессимизме, а в трезвой оценке обстановки и её специфике, — спокойно возразил Грейвуд. — Все старые фокусы с роковыми красавицами из кафешантана, которые становятся любовницами интересующих нас людей, с опереточными дивами или кинозвёздами здесь не дают эффекта. Неприемлема и ставка на проигрыш казённых денег в казино, после чего проигравший за соответствующую сумму становится вашим рабом. Отпадает и расчёт на прямой подкуп, связанный с необходимостью иметь средства для кутежей в притонах и игорных домах, одним словом, все эти испытанные методы здесь неприемлемы, генерал. Кафешантанов, игорных домов и притонов в России вообще нет. Наконец, и это самое главное, из ста советских людей как минимум девяносто девять поддерживают политику Советского правительства и готовы вполне бескорыстно, а иногда даже с риском для себя встать на защиту интересов своего государства и помогать органам, охраняющим эти интересы, в том числе, разумеется, и органам безопасности. Скажу вам проще, генерал: наша разведка гордится тем, что имеет несколько десятков тысяч тайных агентов. Советская разведка в своей стране опирается на двести миллионов явных агентов, и в этом её сила…
— Это даже трудно себе представить! — воскликнул Маккензи.
— И тем не менее это так, — ответил Грейвуд. — Да, нам с вами, как и многим американцам и европейцам, это трудно понять, но русский фанатизм, к сожалению, факт, который нельзя не учитывать… Вот почему я после долгих размышлений предлагаю весьма необычный ход…
— Загадочно, — произнёс Маккензи.
— Минуту терпения, — возразил Грейвуд. — Нам нужно убрать с дороги полковника Сергея Леонтьева, чтобы облегчить внедрение его сына в семью конструктора Николая Леонтьева. Так?
— Так, — согласился Маккензи.
— По причинам, очень точно указанным вами несколько минут тому назад, мы не можем убрать этого Сергея Леонтьева своими собственными руками. Так?
— Так, — снова согласился Маккензи.
— Так вот, я предлагаю убрать этого Леонтьева руками самих русских.
— Но как это сделать? — уже с интересом спросил Маккензи.
— Надо скомпрометировать Сергея Леонтьева, сфабриковать материалы, на основе которых советские власти заподозрят его в том, что он является нашим агентом… И тогда они его уберут сами…
Маккензи вскочил с неожиданной для него живостью, взволнованно воскликнув:
— Полковник Грейвуд, я поздравляю вас с замечательной идеей!.. Да, да, это превосходная мысль, коллега!.. Имеется ли у вас конкретный план операции?
— В самых общих чертах, генерал, — скромно ответил Грейвуд. — В такой игре особенно важно не перебрать… Всё должно быть продумано до мельчайших деталей и очень тонко осуществлено…
— Да, да, разумеется, — забормотал Маккензи. — Если мы провалимся с этой игрой однажды, нам не удастся сыграть вторично… Нет, это гениально, чёрт побери!.. Вы слышите, Грейвуд, ге-ни-аль-но!.. За это стоит выпить, старина!.. Хотя нет, пить будем потом, а сейчас за работу, за подробный, тонкий, дьявольский, сатанинский план!..
Грейвуд незаметно усмехнулся. Ещё никогда ему не приходилось видеть своего патрона в состоянии столь сильного возбуждения…
Трудные дни
Профессор Вайнберг переживал трудные дни. С того вечера, когда Грейвуд сделал ему предложение перебраться с семьёй в западную зону или в США, старый учёный оказался во власти самых противоречивых, мучительных дум.
Как могло получиться, что уже на склоне лет он, крупный учёный, человек с вполне сложившимися и твёрдыми, как он считал, убеждениями, внезапно обнаружил, что у него нет ни ясной цели, ни понимания своего долга в новых обстоятельствах, нет даже чётких взглядов на события, происходящие в мире и на его родине?
Всю свою жизнь профессор Вайнберг чуждался политики, искренне считая, что ему нет до неё никакого дела. Подлинная наука стоит над политикой, во всяком случае, — вне её. Пусть меняются конституции и правительства, обнаруживая с каждой переменой несостоятельность своих программ, зато вечны, незыблемы и постоянны законы физики — их не в силах изменить ни фашисты, ни коммунисты, ни одна политическая партия в мире…
Вот почему профессор в своё время отнёсся довольно равнодушно к падению Веймарской республики и приходу Гитлера к власти. Потом, когда в тишину его лаборатории проникли вести о разнузданном кровавом произволе штурмовиков, о массовых арестах без следствия и суда, об убийствах ни в чём не повинных людей, профессор Вайнберг ужаснулся, но ещё более укрепился в убеждении, что учёному лучше держаться как можно дальше от политики. В своём кругу профессор высказал отвращение ко всему, что творилось в «Третьей империи». Он искренне считал, что, прямо высказав отношение к фашизму, он тем самым сделал всё, что мог, и совесть его чиста.
Среди его научных сотрудников были люди разных политических взглядов. Вайнберг знал, что профессор Майер — нацист, а магистр Гринфельд имеет какое-то отношение к коммунистам. Но профессора менее всего интересовали политические взгляды его сотрудников. Ещё и ещё раз — наука вне политики… Однако то, что профессор пренебрежительно отвергал, властно проникало и в научную работу, и во всю его жизнь.
Ведь современная физика — арена ожесточённой борьбы основных направлений философии; материализма и идеализма. Вайнберг всегда стоял на идеалистических позициях. Гринфельд, напротив, был убеждённым материалистом. На этой почве между ними нередко происходили ожесточённые споры.
Обычно молчаливый, спокойный и деликатный, Гринфельд в этих спорах преображался. Его тонкое одухотворённое лицо с крутым, чистым лбом, умными серыми глазами и упрямой складкой рта загоралось огнём глубокого убеждения, и он, вопреки своему обыкновению, обрушивался на своего учителя целым залпом аргументов, доводов и возражений. Вспыльчивый Вайнберг в свою очередь начинал кричать, и споры, по большей части, переходили в ссору. Гринфельд, хлопнув дверью, покидал кабинет профессора, кричавшего ему вслед:
— Чепуха, магистр Гринфельд, чепуха!.. Я не знаю алгебры немецкой или советской!.. Геометрические формулы не знают партийных программ!..
Гринфельд немедленно возвращался в кабинет, и спор возобновлялся:
— Не занимайтесь казуистикой, профессор Вайнберг!.. Это недостойный приём!.. Скажу вам больше: каждой своей победой, каждым своим открытием в науке вы обязаны тому самому диалектическому методу, который так горячо оспариваете!.. Да, да, не удивляйтесь, в науке вы, сами того не сознавая, материалист!.. Ленин называл таких, как вы, стихийными материалистами и говорил, что они впускают материализм через заднюю дверь…
— Ленин всегда занимался политикой и не имел никакого отношения к физике! — кричал в ответ профессор. — А я отдал сорок лет физике и ни одного дня политике!.. Я служил, служу и буду служить вечным истинам, равно обязательным и в Берлине, и в Москве!.. Запомните это, магистр Гринфельд!..
— Да, вы не хотите заниматься политикой, — запальчиво возражал Гринфельд. — Но ведь она занимается вами, не спрашивая вашего согласия! Политика врывается в ваш дом, как бы плотно вы ни затворяли двери в свою лабораторию, в вашу пресловутую башню из слоновой кости, которую вы себе выдумали, да, да, выдумали!.. Нет и не может быть таких башен!.. Что же касается вашего заявления, что Ленин не имеет отношения к физике, то я могу объяснить его лишь тем, что вы не читали Ленина… Скажу больше: открытия, которые вы теперь делаете, Ленин предвидел почти сорок лет тому назад, хотя и не был физиком…
— Я не понимаю, о чём вы говорите, Гринфельд? — удивился профессор.
— Сегодня же вечером я приеду к вам домой и докажу, что я прав, — ответил Гринфельд.
Вечером профессор Вайнберг не без любопытства ждал прихода Гринфельда. Он знал научную добросовестность своего сотрудника и всё же не поверил ему. Как мог Ленин сорок лет тому назад, не будучи физиком, предвидеть какие-то открытия? По-видимому, магистр Гринфельд попросту свихнулся на диалектическом материализме! Очень жаль, потому что он, этот Гринфельд, талантливый физик и, безусловно, порядочный человек. Но почему же Ленин занялся физикой, да ещё сорок лет тому назад, как утверждает Гринфельд? Что-то, однако, он не идёт, ведь уже девять часов!..
Наконец Гринфельд явился. В кабинете профессора он достал из портфеля книгу Ленина «Материализм и эмпириокритицизм» и, указав соответствующее место, попросил профессора прочесть. Вайнберг очень внимательно дважды прочёл указанную главу, не веря собственным глазам. Да, в книге, написанной почти сорок лет тому назад, Ленин предвидел пути развития современной физики… Поистине это было поразительно!..
— Слушайте, магистр Гринфельд, — тихо произнёс после долгой паузы профессор. — Я ничего не могу понять… Объясните мне, как мог Ленин, не будучи физиком, предвидеть всё это задолго до наших дней?
— Ленин сумел это сделать потому, что пользовался единственно верным философским методом — материалистической диалектикой. Тем самым методом, который вы всю жизнь пытаетесь опровергнуть словами, но подтверждаете своими работами, профессор, — спокойно ответил Гринфельд.
— Опять вы за своё! — воскликнул профессор. — Нет, нет, и слушать не хочу!.. Материализм — философия коммунизма, а коммунизм — это политика… Насчёт Ленина вы оказались правы, я это признаю, но хотел бы прочесть эту книгу целиком… Вот тут я заметил такую фразу: «Современная физика лежит в родах. Она рожает диалектический материализм»… Очень образно написано, но так ли это, Гринфельд?.. Например, мой учитель — гениальный Альберт Эйнштейн — не считал себя материалистом, и я мог бы назвать других физиков с мировым именем, которые тоже не являются сторонниками материализма.
— Работы Эйнштейна и, в частности, его теория относительности не только не опровергают материалистическую философию, а подтверждают её, — ответил Гринфельд. — Кстати, профессор, биография Эйнштейна подтверждает и зависимость науки от политики: крупнейший немецкий физик Эйнштейн был вынужден, как еврей, покинуть свою родину, спасаясь от фашизма. И он не единственный немецкий учёный, которого постигла такая судьба…
— Вам хорошо известно моё отношение к фашизму, — сказал профессор. — То, что случилось с Эйнштейном, — трагедия и позор Германии. И мне об этом больно говорить…
***
Вскоре после этого разговора Гринфельд был арестован гестапо и загадочно исчез. Профессор не раз с волнением вспоминал о нём, пытался выяснить его судьбу. Но это не удалось. Профессор не хотел расставаться с книгой Ленина, которую тогда оставил Гринфельд, но он понимал, что хранить её опасно, и, уложив её в металическую шкатулку, зарыл у себя в саду. Летом 1945 года Вайнберг вспомнил о книге и вырыл её. Теперь он мог спокойно прочесть её. Она поражала широтою обобщений, глубиной анализа, логикой выводов. Да, Ленин был гениальным философом, и страстная убеждённость материалиста-диалектика вооружала его как учёного неотразимым оружием. Вначале профессор пытался мысленно полемизировать с этой книгой, но всякий раз в бессилии опускал руки, убеждаясь в правоте её автора. Фрау Лотта, принося иногда в кабинет кофе, с удивлением заставала профессора в странном состоянии: то, расхаживая из угла в угол, он что-то про себя бормотал, то, напротив, сидел в глубокой задумчивости за столом, погружённый, как заметила фрау Лотта, в одну и ту же книгу. Однажды молодой женщине удалось заметить обложку книги, привлёкшей такое стойкое внимание профессора, — это оказалась книга Ленина…
Через день, когда профессор был на прогулке, фрау Лотта, убирая его кабинет, стала перелистывать книгу, изданную на немецком языке. Оказалось, что в ней идёт речь о каких-то философских и не очень понятных фрау Лотте вопросах, что Ленин полемизирует с некоторыми своими идейными противниками, наконец, уделяет большое внимание проблемам физики, свойствам электрона. Фрау Лотта удивилась: она знала, что Ленин — вождь коммунистов и основатель Советского государства, но никогда не слыхала, что он имел отношение к физике. Поэтому фрау Лотта решила расспросить полковника Леонтьева. Тот очень удивился, когда она задала ему вопрос, верно ли, что Ленин был физиком?
— Нет, Ленин никогда не был физиком, — ответил Леонтьев. — А почему вам пришло это в голову, фрау Лотта?
— Я решила это, увидев книгу, которую всё время читает профессор, — смущённо ответила молодая женщина. — Сейчас я вам покажу её.
И она принесла Леонтьеву немецкое издание «Материализма и эмпириокритицизма». Леонтьев улыбнулся и постарался, как мог, объяснить фрау Лотте, когда и почему Ленин написал этот труд. Потом он удивлённо осведомился о том, где и как добыл эту книгу профессор.
Фрау Лотта рассказала, что книгу подарил профессору магистр Гринфельд, о котором поговаривали, что он коммунист. Когда Гринфельд был арестован гестапо, профессор зарыл эту книгу в саду и лишь недавно вырыл её.
— Когда профессор зарывал книгу, герр оберст, — продолжала фрау Лотта, — он попросил меня запомнить место, где она зарыта. И летом я указала ему это место… Подумать только, что совсем недавно в Германии были такие порядки, что приходилось зарывать книги!.. А сколько книг нацисты сжигали на площадях!.. Ведь жгли даже книги Гейне!.. Теперь просто трудно в это поверить…
И фрау Лотта, уже не впервые, заговорила обо всём, что происходило в Германии в эти страшные годы. Леонтьев всегда слушал её с интересом, тем более что относился с симпатией к этой милой молодой женщине, которая была с ним вполне откровенна.
Он любил наблюдать, как фрау Лотта неутомимо и весело хлопочет по хозяйству, убирает дом, возится в кухне, приготовляя завтрак или обед. Ей никто не помогал, но она никогда не жаловалась на усталость, была очень бережлива, заботливо ухаживала за свекром и сынишкой, а закончив работу по дому, поливала цветы или полола грядки маленького огорода, в котором выращивала лук, укроп и петрушку.
Никогда не приходилось видеть Леонтьеву, чтобы фрау Лотта оставалась без дела. И в то же время у неё на всё хватало времени: и на приготовление пищи, и на уборку комнат, и на уход за садом, и на вязание, которое она очень любила. Скорее всего, здесь сказывалась присущая немецкой женщине любовь к порядку, хозяйственность и очень точная организованность. При всём этом она старательно следила за своей внешностью, была всегда одета к лицу, хорошо причёсана и даже немного кокетлива.
И это замечал Сергей Павлович, невольно любуясь её стройной фигурой, тонким лицом, блеском её глаз, лёгкой походкой. Вместе с тем он видел, что в этом кокетстве нет ничего общего с тем грубоватым, чуть подобострастным заигрыванием, которым отличались после войны некоторые молодые немки, откровенно флиртуя с советскими офицерами и преследуя при этом вполне определённые цели; Леонтьева всегда удивляла циничная готовность таких женщин к самым случайным связям и лёгкость, с которой они смотрели на эти связи…
Однажды он даже поделился с фрау Лоттой своими мыслями по этому поводу. Она очень спокойно его выслушала, внимательно посмотрела на него, подняв глаза от вышиванья, с которым сидела, и, чуть улыбнувшись, сказала:
— О, господин полковник, тут нет ничего удивительного… Женщины любят победителей, как говорит мой свекор, а кроме того, надо понять, что многие из них давно не видели своих мужей… А понять — значит простить, не так ли, господин полковник?..
И она снова улыбнулась.
Это звучало почти как вызов. Сергей Павлович пристально посмотрел ей прямо в глаза. Она не отвела взгляда, только чуть покраснела, не переставая улыбаться. Потом, снова принявшись за вышивание, тихо, почти шёпотом добавила:
— В самом деле, господин полковник, ведь жизнь есть жизнь… И с этим ничего не поделаешь… Если женщине нравится человек, её сердце не справляется о его паспорте и подданстве… Ведь сердцу незнакомо слово «фербот»…
И, теперь уже густо покраснев, она неожиданно встала и быстро вышла из комнаты. Сергей Павлович оторопел. Он лишь теперь отдал себе отчёт в том, что ему уже давно нравится фрау Лотта, нравится её лицо, её улыбка, её голос, всё в ней нравится!..
Он вышел в сад и долго ходил по дорожкам, мысленно укоряя себя. Хорош, нечего сказать, старый чёрт!.. Вот уже поистине седина в бороду, а бес в ребро!.. Недаром ещё в первый день улыбался Глухов, узнав, что он в парке познакомился с этой Лоттой, будь она трижды неладна!.. Завести роман с немкой — этого ещё не хватало!.. Коленька невесть где мучается, а папаша, видите ли, флиртом занимается… Позор, форменный позор, типичное бытовое разложение!.. Видишь ты, как она загнула: «Сердцу незнакомо слово «запрещение»… Нет, у него другое слово найдётся, почище — русское, армейское слово — отставить!.. Вот именно — отставить!.. Запрещение.
Он долго ещё ходил бы по саду, ругая самого себя, если бы у ворот дома не раздался резкий сигнал машины. Сергей Павлович подошёл к воротам и за чугунной узорчатой решёткой калитки неожиданно увидел улыбающегося Джемса Нортона.
— Хэлло, коллега! — закричал Нортон, заметив Сергея Павловича. — Я дьявольски соскучился в своей дыре и опять приехал вас навестить… Надеюсь, вы не рассердитесь на меня за это?
— Как вам не стыдно, полковник, я искренне рад вас видеть, — ответил Сергей Павлович и, отворив калитку, поздоровался с Нортоном и пригласил его к себе.
Через полчаса они уже сидели за кофе в садовой беседке.
Фрау Лотта, подав чашки и печенье, оставила их вдвоём и ушла в дом, сославшись на какие-то хозяйственные дела.
Пока она расставляла чашки, Сергей Павлович несколько раз бросал на неё внимательный взгляд. Молодая женщина была совершенно спокойна, и ничто в её взглядах, улыбке, тоне разговора не напоминало о том, что произошло между ними всего полчаса назад. Фрау Лотта, как всегда, приветливо поздоровалась с Нортоном, частенько за последнее время приезжавшим к Леонтьеву. Нортон, которому она нравилась, был очень любезен, преподнёс молодой женщине цветы, привезённые с собою, и сделал ей какой-то комплимент.
Спокойно поблагодарив американца, фрау Лотта, расставив кофейный сервиз на столе, ушла.
— А ваша хозяйка, коллега, всё хорошеет, — сказал, глядя ей вслед, Нортон. — Бьюсь об заклад, что она в вас влюблена…
— Ну вот ещё, что за пустяки, — ответил Леонтьев, которому был неприятен этот разговор. — Расскажите лучше, как вы живёте, полковник? Как идут у вас дела?
— Сказать по совести, — улыбнулся Нортон, — мне трудновато ответить на ваш вопрос, потому что делами я занимаюсь меньше всего. В отличие от вас, коллега, я не хлопочу ни о немецком водопроводе, ни о немецких школах… Я поступил проще: назначил бургомистра и взвалил на него все эти хлопоты… Кстати, как с водопроводом у вас? Ведь немцы сами его взорвали, оставляя этот город?
— Да. И в нескольких узлах, будь они неладны, — сказал Леонтьев. — Но можете меня поздравить: две недели тому назад нам удалось закончить полное восстановление и водопровода, и канализационной сети. Более того, мы отремонтировали и водохранилище, питающее водопровод. Правда, пришлось немало повозиться, но теперь все эти проблемы сняты…
— Надеюсь, вы делали это руками самих немцев? — спросил Нортон.
— Конечно, главным образом. Однако и наши солдаты приняли в этом участие, чтобы ускорить окончание работ.
Нортон внимательно посмотрел на Леонтьева. Потом, отпив кофе из своей чашки, задал новый вопрос:
— И все это вас серьёзно интересует, полковник?
— Ну конечно, мы уже не раз говорили на эту тему, — ответил с улыбкой Сергей Павлович. — Я даже позволю себе спросить: вы всерьёз сомневались в этом?
— Представьте себе, да, — со вздохом ответил Нортон. — Скажу больше: я чуть ли не каждый день размышляю по этому поводу и стремлюсь понять — в чём тут дело? Воевали мы вместе, с одним общим врагом. А вот теперь, после победы, проводим различную политику…
— Да. И не только в отношении водопроводов, — сказал Леонтьев. — К сожалению, различную… Тут вы правы, сосед…
— Гораздо важнее, кто прав в широком масштабе, — живо произнёс Нортон. — Американцы, французы, англичане или вы, русские? Как вы считаете, полковник?
— Я, как и все советские офицеры, не сомневаюсь в правоте того, что мы делаем, — спокойно ответил Сергей Павлович. — Мы отлично знаем, почему и для чего мы это делаем, сосед.
— Для пропаганды?
— Прежде всего условимся, что понимать под этим словом — пропаганда, которому в вашей зоне стали придавать некое зловещее значение. Давайте условимся, друг Нортон: если пропагандируется доброе дело, отвечающее принципам гуманности, морали, человечности, — это хорошо. Если, напротив, пропагандируется злое дело, аморальное, причиняющее людям вред, — это плохо. Согласны?
— Бесспорно.
— Отлично. Значит, слово «пропаганда» само по себе не так уж зловеще, по крайней мере в некоторых случаях.
— Да. Я готов с этим согласиться.
— Теперь пойдём дальше. Мы считаем прежде всего, что должны строго выполнять обязательства, принятые на себя перед лицом мира.
— Что это значит, коллега?
— Это значит, что мы должны обеспечить денацификацию Германии, во-первых, её демилитаризацию, во-вторых, создать условия для создания новой демократической и миролюбивой Германии, в-третьих. Так было условлено между союзниками коалиции?
— Да, так.
— Почему же вас удивляет всё, что мы делаем, конкретно выполняя эти принятые на себя обязательства? И, более того, почему этого не делаете вы, полковник Нортон, такой же военный комендант, как я? В самом деле, почему?
— Я делаю то, что мне предписывает моё начальство, — ответил Нортон. — Я офицер и обязан выполнять приказы командования.
— И я офицер, и я выполняю получаемые мною приказы. Вам остаётся ответить на вопрос: почему приказы советского командования, которые выполняю я, соответствуют общим решениям, принятым и опубликованным нашими правительствами, а приказы вашего командования, напротив, нередко идут против этих решений?
— Ну, это уже область высокой политики, — сделав страдальческое лицо, произнёс Нортон. — И политикой должны заниматься адвокаты, а не танкисты, как мы с вами…
— Это что — бегство с поля боя? — улыбнулся Леонтьев. — Или тактический маневр?
Нортон встал, сделал два шага и неожиданно, резко повернувшись к Леонтьеву, сказал:
— Откровенно говоря, я иногда сожалею, что познакомился и подружился с вами, коллега… Как вам сказать, поймите меня верно, раньше мне было проще жить… В последнее время я ловлю себя на том, что начинаю кое над чем задумываться, полковник Леонтьев… Всё было так ясно и просто: Америка самая богатая, самая демократическая, самая справедливая, самая умная страна в мире… Поэтому она, кроме того, и самая могучая, и самая великая, одним словом, — самая, самая, самая… Принимая это как аксиому, я, американский полковник Джемс Нортон, превосходно себя чувствовал и считал, что мне дьявольски повезло, поскольку я родился в этой самой роскошной стране, и все другие — русские, французы, англичане, я уже не говорю о немцах и цветных, — должны мне завидовать… Согласитесь, что при этих условиях у меня не было оснований задумываться… Я и не задумывался до встречи с вами, сосед…
— Чем же я нарушил ваш блаженный покой? — рассмеялся Леонтьев.
— Многим. И прежде всего тем, что я почему-то начинаю вам завидовать… Да, чёрт возьми, вам!.. Если добавить к этому, что больше всего на свете Джемс Нортон не любит задумываться, вам станет ясно, к чему привело меня знакомство с вами, дорогой сосед…
Последние слова Нортон произнёс вполне серьёзно, испытующе глядя на внимательно слушающего Леонтьева.
— О чём же вы задумываетесь, сосед? — прервал Нортон затянувшуюся паузу. — Или это секрет?
— Нет, это не секрет, — ответил Сергей Павлович. — И я охотно отвечу на ваш вопрос. Я думаю о том, что Джемс Нортон — честный американец, и потому он начал задумываться… И ещё я думаю о том, что если талантливый и в массе своей честный американский народ начнёт так же, как и Джемс Нортон, задумываться, задумываться над всем, что произошло и происходит, и ещё будет происходить в мире и в самой Америке, то нам и нашим детям, и всем детям и матерям на свете будет проще, спокойнее и гораздо легче жить, нежели они живут теперь…
— Что ж, может быть, вы и правы, — тихо ответил Нортон. — Но я ещё оставляю за собою право подумать над тем, стоило ли мне призадумываться…
И Джемс Нортон, взяв свою фуражку, пошёл к машине, сопровождаемый своим соседом.
***
Проводив Нортона, Сергей Павлович пошёл к себе, размышляя над разговором с американцем. Он давно проникся симпатией к этому честному и весёлому человеку, к тому же, по-видимому, храброму и толковому офицеру. Сергей Павлович угадывал в Нортоне одного из тех американцев, которые способны, вопреки уродливой системе воспитания в капиталистическом обществе, понять, где правда, а поняв, суметь за неё постоять.
В холле Сергей Павлович столкнулся с профессором Вайнбергом, вышедшим из своего кабинета.
— Добрый вечер, профессор!
— Добрый вечер, добрый вечер, — добродушно ответил Вайнберг, мало-помалу изменивший своё отношение к советскому полковнику. — Не сыграть ли нам, господин полковник, партию в шахматы?
— Что ж, это отличная идея, — весело согласился Леонтьев, частенько в последнее время игравший с профессором.
Они уселись за шахматный столик в кабинете профессора.
Сидя против старого учёного и глядя на его умное лицо, Сергей Павлович вспомнил о недавнем разговоре с фрау Лоттой и порадовался тому, что ему не приходится краснеть перед профессором. Какое счастье, что, не поддавшись своему влечению к невестке профессора, он остался чист и перед этим милым стариком, и перед самим собою, и перед Коленькой, и перед памятью трагически погибшей жены!.. И если ещё несколько часов тому назад Сергей Павлович, придя в смятение от разговора с фрау Лоттой, чувствовал себя не очень стойким и уверенным, то теперь он был доволен, что ограничился разговором…
Но Сергей Павлович не знал того, что его отношения с фрау Лоттой ещё недавно волновали и профессора, отлично видевшего, что молодой женщине всё более нравится этот русский атлет с открытым лицом, выпуклой грудью богатыря, широкими плечами и такой доброй, чуть застенчивой улыбкой.
Не без тревоги наблюдал старый учёный за тем, как развиваются их отношения. Ему было больно вспоминать в этой связи покойного сына, очень любившего жену. Но профессор понимал, что русский офицер действительно вызывает чувство симпатии и уважения всем своим внешним и моральным обликом. Наконец, и маленький Генрих без ума любил их жильца, очень нежно относившегося к нему.
Однако в последнее время, убедившись в том, что полковник не делает никаких попыток ухаживать за молодой женщиной, хотя и проявляет откровенную симпатию к ней, профессор Вайнберг успокоился и проникся ещё большим уважением к русскому офицеру. Да, судя по всему, этот полковник был человеком твёрдых жизненных правил и большой душевной чистоты. К тому же он импонировал профессору скромностью, большим тактом, серьёзным отношением к своим обязанностям.
Вайнберг отлично видел, как горячо заботится полковник о воссоздании нормальной жизни в городе, как много сил он положил на то, чтобы восстановить водопровод, наладить работу пекарен, школ, больниц.
Профессору было известно и то, что, принимая у себя в комендатуре жителей города, Леонтьев отличался неизменной корректностью, был объективен и справедлив, внимательно вникал в суть дела, по которому к нему обращались, и обладал ещё одним неоценимым при его положении качеством: в городе уже было широко известно, что советский комендант — хозяин своего слова. Если он сказал «Да», можно не сомневаться, что обещание будет выполнено, а если сказал «Нет», то говорилось это всегда обоснованно и окончательно.
Сергей Павлович действительно придавал большое значение тому, чтобы его слово было верным, отлично понимая, что, особенно в первое время, буквально каждое его решение, каждая беседа с немцем, каждый шаг становятся известными всему городу.
Не прошло и месяца после того, как он приступил к работе, а горожане уже хорошо знали: герр оберст человек серьёзный, слов и обещаний на ветер не бросает, корректен, но строг, в пьянстве и разгуле не замечен и любит работать, решив наладить в городе абсолютный порядок.
А через два месяца жители уже привыкли к тому, что военный комендант появляется то в магазинах, проверяя, как выдаются по карточкам продукты, то в больнице, то в школах, то на работах по восстановлению водопровода или канализации. Он уже довольно свободно говорил по-немецки и был знаком с великим множеством самых разных людей — с учителями, инженерами, с владельцами магазинов и содержателями пивных, с архитекторами и артистами варьете, рабочими и провизорами, с городскими врачами и землемерами.
Знали в городе и о том, что американский полковник, комендант соседнего города, находящегося в американской зоне оккупации, частенько приезжает в гости к полковнику Леонтьеву и, по-видимому, дружит с ним. Это было особенно удивительно потому, что в американской и советской зонах проводилась совершенно разная политика…
***
Игра шла довольно вяло. Профессор и Сергей Павлович на этот раз меньше всего думали о шахматных ходах. За открытым окном шумел вечерний город, летние сумерки постепенно затушёвывали небо, стирая последнюю розовую полоску на горизонте.
— Знаете, господин полковник, мы оба играем очень рассеянно, — сказал наконец Вайнберг. — Может быть, отложим эту партию?
— Да, вы правы, профессор, — ответил Сергей Павлович. — По-видимому, вы сегодня устали?
— От чего устал? — с горькой усмешкой спросил профессор. — Вот уже много времени, как я не работаю и, откровенно говоря, даже не знаю, когда начну работать… Правда, осенью я намерен возобновить свои лекции в университете, если только в нём действительно начнутся занятия.
— Да, можете в этом не сомневаться. Ремонт университетского здания идёт полным ходом. Вчера ректор информировал меня о положении дел. Кстати, могу вам сообщить, что ваша лаборатория не так уж безнадёжно разрушена взрывом. Месяца через два её обещают восстановить…
— Это не так просто, — возразил профессор. — Ведь эсэсовцы, взрывая, перед тем как оставить город, лабораторию, уничтожили всё оборудование… Оно собиралось годами, господин полковник. Многие приборы теперь почти невозможно приобрести… Впрочем, если говорить откровенно, я стараюсь не думать обо всём этом… Кто знает сегодня, что будет завтра?.. Как сложатся дальше судьбы Германии?..
Сергей Павлович молча слушал профессора. Он уже давно понял, что Вайнберг, как и многие другие представители немецкой интеллигенции в те дни, стоит на распутье, что он ещё не разобрался в происходящих событиях, не выбрал своего пути и не ответил самому себе на вопрос — с кем он?
Сергей Павлович считал своим долгом коммуниста помочь профессору в поисках ответа на все эти вопросы. Он не мог беседовать с ним на специальные научные темы. Зато в разговорах о проблемах послевоенной Германии и ликвидации тяжёлых последствий фашизма Сергей Павлович откровенно и прямо высказывал профессору всё, что думал и знал по этим вопросам. При этом не раз заходила речь и о судьбах немецкой интеллигенции, часть которой в своё время осталась пассивной, не оказав сопротивления фашистскому режиму и его кровавой политике.
Вначале профессор слушал Сергея Павловича с некоторым предубеждением, не очень ему доверяя, но постепенно стал ценить прямоту этого советского офицера, слова которого, кстати, пока не расходились со всем, что он делал как военный комендант. А почти всё, что он делал, так или иначе доходило до профессора Вайнберга.
В этот вечер они долго сидели вдвоём. Уже в конце задушевного разговора, в котором были затронуты многие темы, профессор, знавший, что Сергей Павлович вдовец, осторожно спросил его, как он думает дальше устраивать свою личную судьбу.
— Простите, полковник, что я так прямо спрашиваю вас об этом, — тихо сказал профессор. — Может быть, это бестактно с моей стороны, но мною руководит в данном случае чувство искренней симпатии к вам… Ведь после такой войны трудно побеждённым, но нелегко и победителям… Я многое имею в виду, в том числе и наши личные судьбы…
Сергей Павлович закурил, помолчал, а потом так же тихо ответил:
— Я однолюб, профессор. Кроме того, я надеюсь в конце концов разыскать сына, я уверен, что он жив. Как же можно после всего, что мальчику довелось пережить, ещё преподнести ему мачеху… Мачеха — злое слово, профессор… Поймите, если бы я завёл новую семью, это было бы кощунством и в отношении моего мальчика, и в отношении его погибшей матери…
И тут, не выдержав, подробно рассказал Сергей Павлович профессору о том, как ночью, на фронте, прибежал он в медсанбат к умирающей жене, и о том, что шептала она ему перед концом…
Удивительны законы человеческой психологии. Двумя часами позже, лежа в постели, подивился Сергей Павлович тому, что поделился самым сокровенным и дорогим с этим немецким профессором, которого знал не так уж близко. А профессор тогда же думал, что откровенный рассказ советского полковника о своей беде дал ему для понимания этого русского офицера и веры в него больше, чем все их предыдущие разговоры…
И ещё подумал профессор о том, что этот полковник — цельный человек с доброй и открытой душой и что, во многом не соглашаясь с ним, он не может его не уважать. Ах, всё-таки загадочная страна Россия и удивительны советские люди!..
***
Не сразу, не просто, не легко давалось профессору Вайнбергу, как и множеству его соотечественников, понимание того, что происходит с их родиной и как будет жить дальше немецкий народ. Мучителен и сложен процесс переоценки прошлого, осознание его страшных последствий, туманны и тревожны общие и личные перспективы. Словом, трудные были дни…
Когда Райхелль-Вирт в первый раз явился к профессору и, сославшись на пароль «Нейтрон», сообщил, что пришёл за ответом, профессор ещё не нашёл в себе решимости твёрдо сказать «Нет». Он сказал, что должен ещё подумать, всё взвесить и что своё окончательное решение сообщит через некоторое время.
Райхелль-Вирт, так и не представившись профессору, но сказав, что он тоже немец, стал горячо убеждать Вайнберга принять предложение Грейвуда. Профессор молча выслушал все его доводы и повторил, что подумает. Посланец Грейвуда произвёл на профессора неприятное впечатление. Особенно не понравилось Вайнбергу, что в ответ на вопрос, где он сможет найти своего собеседника, когда примет решение, тот со странной усмешкой ответил, что пока сам не знает, где будет жить в ожидании ответа.
— Мы сделаем проще, господин профессор, — сказал он. — Лучше я сам буду вас навещать, разумеется, в те часы, когда не бывает дома полковника Леонтьева, — с ним я предпочитаю не встречаться…
И он снова усмехнулся.
Придя в следующий раз и выслушав профессора, сказавшего, что он пока не собирается покидать родной город, Райхелль-Вирт многозначительно произнёс:
— Как знаете, как знаете, господин профессор. Боюсь, что вам придётся пожалеть о том, что вы так нерешительны… Я говорю вам об этом как немец немцу, от чистого сердца, желая вам добра…
— Признателен за внимание и советы, — сухо ответил профессор, — но каждый имеет свою точку зрения и поступает в соответствии с ней, господин… простите, я до сих пор не знаю, с кем имею честь говорить…
— Это не имеет значения, господин профессор, — быстро ответил Райхелль-Вирт. — В моём лице вы имеете дело с господином Грейвудом, а в его лице — с Соединёнными Штатами… Вот что должно вас интересовать…
— Я учёный, а не дипломат, — сказал профессор, проникаясь всё большей антипатией к этому человеку и к тому, что он говорит. — Поэтому меня не интересуют Соединённые Штаты, и я хочу надеяться, что Соединённым Штатам нет никакого дела до меня… И я тоже говорю вам это как немец немцу…
— Понимаю, но из двух зол надо выбирать меньшее, — нашёлся Райхелль-Вирт. — В американской зоне вы сможете продолжать свою научную работу, а здесь такой возможности нет и не будет…
— Вы ошибаетесь, — возразил профессор. — Во-первых, я скоро возобновлю свои лекции в университете, а во-вторых, даже сидя дома, я пока заканчиваю свой труд, который подводит итоги многих лет моей работы…
И профессор указал на две объёмистые папки, лежавшие на его столе. Райхелль-Вирт бросил быстрый взгляд на папки, мысленно отметив их солидный объём.
— Ну что ж, я передам ваше решение господину Грейвуду. Позвольте, однако, на всякий случай навестить вас ещё раз… Возможно, вы ещё передумаете…
Профессор промолчал, давая этим понять, что в новом визите нет нужды.
Но через три недели неприятный господин появился снова. И опять профессор, только более резко, нежели в прошлый раз, сказал ему, что не намерен покидать этот город. Райхелль-Вирт пожал плечами и ушёл.
***
О подробностях своих визитов к профессору Райхелль-Вирт информировал Грейвуда через связного, время от времени приходившего из американской зоны. Вскоре после третьего сообщения, переданного Грейвуду, связной снова явился и передал приказ Грейвуда: Райхелль-Вирт должен хотя бы на один день прибыть в Нюрнберг для получения личных указаний.
Старый гестаповец очень обрадовался, так как хотел повидать семью и убедиться, что Грейвуд выполнил обещание позаботиться о его жене и ребёнке.
Выпросив у директора школы трёхдневный отпуск, якобы для поездки в Веймар, Райхелль-Вирт благополучно перебрался в американскую зону и выехал в Нюрнберг. Радость предстоящей встречи с женой и ребёнком несколько омрачалась боязнью нагоняя за то, что он не сумел уговорить профессора Вайнберга перебраться в западную зону.
Эти опасения не подтвердились. Грейвуд не только не ругал Вирта, но, напротив, встретил его самым приветливым образом, одобрил проведённые им мероприятия по привлечению группы бывших нацистов к разведывательной деятельности.
— Как видите, Вирт, мы не остались у вас в долгу. Ваша семья отлично обеспечена, в чём вы и сами убедились.
— Да, господин полковник, — ответил Вирт. — Я горячо благодарю вас за всё. Жена мне передала о ваших заботах, я считаю себя вашим должником.
— Пустяки, я просто выполнил своё обещание, — добродушно ответил Грейвуд. — А теперь перейдём к делу, Вирт. Поскольку этот старый физик отказался перебраться в нашу зону, я принял другое решение.
— Слушаю, господин полковник, — насторожился Вирт.
— В вашем донесении указывалось, что вы сами видели две объёмистые папки с его научными трудами?
— Так точно, господин полковник.
— И профессор сказал, что в них подведён итог рго работы за последние годы?
— Именно так он сказал, господин полковник.
— Так вот, Вирт, я должен получить этот труд…
— Я сомневаюсь, что профессор согласится его продать, — нерешительно сказал Вирт.
— Сомневаетесь? Напрасно. Я заранее могу вас уверить, что профессор не согласится продать. Речь идёт о другом.
— Именно, господин полковник?
— Этот труд надо выкрасть или, в крайнем случае, отнять у него силой, под угрозой оружия. Понятно?
— Это несколько рискованно, господин полковник, — промямлил Вирт.
— Да, рискованно, — согласился Грейвуд. — Но другого выхода нет. Сидя в нюрнбергской тюрьме, вы рисковали гораздо большим. Сожалею, что мне приходится об этом напоминать…
— Извините, господин полковник, — сразу испугался Вирт.
— Охотно… Теперь давайте трезво обсудим, чем вы рискуете. Допустим, что, выполняя это задание, вы провалитесь и будете арестованы…
— Допустим, — повторил Вирт, хотя ему очень не нравилось это допущение…
— Тогда ваша задача состоит в том, чтобы выйти из положения с наименьшими потерями. Так?
— Так, господин полковник.
— Идя вам навстречу, я разрешаю вам, Вирт, на первом же допросе признаться в том, что вы являетесь агентом нашей разведки. Такое чистосердечное признание сразу облегчит ваше положение. Упирайте на то, что лишь приступили к своей деятельности. Но я иду дальше. От вас потребуют ответа на вопрос, с кем вы связаны. Вы можете назвать майора Гревса. Потом от вас потребуют назвать вашу агентуру. Назовите по своему выбору двух-трёх наименее ценных людей из числа тех, кого вы привлекли к работе, да поможет им всевышний… Понятно?
— Понятно, господин полковник.
— Идём дальше. Чтобы окончательно убедить советские власти в своей искренности, вы можете даже выдать им одного нашего агента из числа советских офицеров…
— Советских? — переспросил Вирт. — Я таких не знаю…
— Зато знаю я, — улыбнулся Грейвуд. — Ваш военный комендант полковник Сергей Леонтьев — мой осведомитель, милейший Вирт.
Вирт искренне удивился.
— Господин комендант? — переспросил он.
— Что вы так удивляетесь, Вирт? — засмеялся Грейвуд. — Можно подумать, что вы сами никогда не были разведчиком. Я и направлял вас в этот город, зная, что полковник Леонтьев поможет вам там обосноваться. Разве он вас плохо встретил?
— Отлично, господин полковник. Но я отнёс это за счёт того, что он принимает меня за антифашиста.
— Нет, ваша наивность просто восхитительна, — засмеялся Грейвуд. — Теперь можете отнести это за счёт того, что полковник Леонтьев был мною заранее предупреждён. Ему приказано было хорошо вас встретить. Однако всё, что было возможно, мы из него уже выжали. Поэтому, чтобы облегчить ваше положение в случае провала, я готов его потерять… Но будем надеяться, Вирт, что мы сохраним и вас, и его. Ведь этот разговор — на крайний случай, поймите это. Если уж всё-таки такой крайний случай произойдёт — такая уж у нас профессия, Вирт, — займите позицию, как мы договорились. Вам дадут два-три года тюрьмы, о семье не беспокойтесь, а потом вы снова вернётесь к нам. Кстати, по нашим правилам, если вам придётся посидеть, вы будете за это время получать двойной оклад… Если же попытаетесь нас обмануть, Вирт, то не жалуйтесь на судьбу своей семьи, а также на то, что всё ваше прошлое станет известно советским властям. И тогда, сами понимаете, вас ждёт виселица, нисколько не лучшая, чем та, от которой я вас спас здесь…
Вирт похолодел. Он отлично понимал, что загнан в капкан, из которого нельзя вырваться. Виселица тут, виселица там!.. Пожалуй, действительно этот розовый кровопийца прав в своих советах, и если его ждёт провал, то надо в первый же день, на первом же допросе бухнуть на колени и признаваться, признаваться, признаваться… Ах, зачем он избрал себе эту проклятую профессию?!.. Тысячу раз был прав покойный отец, который всегда говорил: «Михель, всегда помни: опасна охота на кабанов, но куда опаснее охота за людьми, потому что они умнее»…
— Ну вот, кажется, и всё, Вирт, — сказал далее Грейвуд. — Я дам вам письмо к полковнику Леонтьеву… Вы отвезёте его, а потом передадите полковнику не лично, а через одного из тех людей, которых назовёте в случае провала… Пусть этот человек скажет, что письмо передал ему один немец, приехавший из Нюрнберга. Ясно?
— Да, господин полковник.
— Отлично, — произнёс Грейвуд. — Желаю вам успеха. Впрочем, подождите. Я сейчас свяжусь по телефону с полковником Леонтьевым и предупрежу, что посылаю ему секретное письмо…
И Грейвуд распорядился, чтобы его срочно соединили по телефону с советским военным комендантом, полковником Леонтьевым. Теперь Вирт окончательно убедился, что советский комендант связан с Грейвудом.
Прошло несколько минут, пока станция соединялась с телефоном Леонтьева. Вирт продолжал размышлять о своей горестной судьбе, а Грейвуд молча читал какие-то бумаги. Наконец помощник Грейвуда доложил:
— Полковник, мистер Леонтьев у телефона.
Грейвуд взял трубку и заговорил по-немецки.
— Здравствуйте, коллега, — весело сказал он. — Да, да, это полковник Грейвуд, надеюсь, вы меня не забыли… Прежде всего хочу сказать, что ваша доверительная просьба мною не забыта, я оценил вашу откровенность со мною, мистер Леонтьев… Итак, в ближайшем будущем я надеюсь вас порадовать… Нет, нет, никаких благодарностей, это долг службы!.. Через пару дней вы получите от меня подробное письмо, его привезёт один мой человек, который едет в советскую зону… А вас я приглашаю в Нюрнберг… Будете дорогим гостем… Привет!..
Положив трубку, Грейвуд вынул из стола пакет, опечатанный сургучной печатью, и передал его Вирту.
— Вот это вы передадите полковнику Леонтьеву через одного из своих людей, — сказал он. — Итак счастливого пути, Вирт!.. Желаю вам успеха!..
На следующий день Вирт уехал из Нюрнберга и снова превратился в преподавателя истории и старого антифашиста Курта Райхелля.
Господин Винкель принимает решение
Хотя владелец завода фруктовых вод господин Винкель имел все основания быть довольным ходом дел и особенно новым компаньоном, он всё чаще начинал задумываться над будущим. Винкель никак не мог примириться с тем, что на своём заводе он мог держать не более двадцати пяти рабочих. Кроме того, его беспокоила судьба филиала фирмы, в своё время существовавшего в Баварии, в небольшом городке между Нюрнбергом и Мюнхеном. Этот филиал Винкель открыл ещё в 1938 году, приобрёл необходимое оборудование и помещение и наладил производство фруктовых вод. Филиалом тогда управлял дальний родственник Винкеля Август Карлсон, пожилой и солидный человек, не имевший средств для открытия собственного предприятия и потому работавший у Винкеля на процентах с оборота. Дело в своё время шло недурно, тем более что оборудование, приобретённое для филиала, было более совершенным, чем то, на котором работал основной завод.
Когда Бавария оказалась в американской зоне оккупации, Винкель потерял связь с Карлсоном и даже приблизительно не знал, где тот находится и чем занимается. В те страшные дни, когда рушилась «Третья империя» и творилось бог знает что, господин Винкель забыл не только о своём дальнем родственнике, но даже о самом филиале, которым тот управлял. Кого интересовали в те дни фруктовые воды, когда никто не знал сегодня, что ожидает его завтра, — всё полетело к чёртовой матери, и было похоже, что люди вообще навсегда забудут о существовании лимонада, вишнёвой воды и тому подобных напитков!..
Теперь, когда Винкель обрёл душевное равновесие и пришёл в себя, а коммерческие дела его шли хорошо, он вспомнил о своём баварском филиале и решил посоветоваться с компаньоном, всё больше ему нравившимся. Что и говорить, этот румяный, всегда весёлый Бринкель был настоящим коммерсантом! Дело знал превосходно, отлично организовал сбыт продукции, хорошо вёл бухгалтерию и, судя по всему, был честным малым — Винкель ни разу не поймал его хотя бы на малейшем обсчёте.
Вот почему однажды вечером, когда компаньоны закончили свои расчёты за очередной месяц, Винкель завёл разговор на интересующую его тему.
— Я всё чаще думаю, мой дорогой компаньон, — сказал он, — о судьбе своего баварского филиала, о котором я вам как-то рассказывал. Надо вам сказать, что дела там шли очень прилично, особенно в годы войны, когда удалось получить дешёвую рабочую силу… Мне дали тогда двести восточных рабочих, главным образом украинцев и белорусов, за это я отдавал часть продукции для армии, и дело превосходно шло…
— Я слышал о вашем филиале, — произнёс Бринкель, поигрывая карандашом. — Если не ошибаюсь, он находился в известном городе-заповеднике между Нюрнбергом и Мюнхеном?.. Не то Ротенбург, не то Альтенбург… Я когда-то совершал автомобильную прогулку по Баварии и посетил этот любопытный городишко.
— Совершенно верно, — ответил Винкель. — Это — город-музей. Там нет ни одного здания моложе пятнадцатого века, сохранились крепостные укрепления, древний замок и всё прочее… Когда вы входите в этот странный город, у вас создаётся полное впечатление, что вы попали в средневековье. В своё время я тоже побывал в этом городке и понял, что там можно по дешёвке арендовать помещение для производства фруктовых вод. Так я и сделал и быстро нашёл общий язык с бургомистром…
— Насколько я понимаю, — улыбнулся Бринкель, — вы теперь подумываете о восстановлении своего филиала?..
— Вы недалеки от истины, — ответил Винкель.
— Я хорошо понимаю вас, тем более что там лежит без использования оборудование. Скажу больше — говорят, что там и теперь можно получить дешёвую рабочую силу из числа перемещённых лиц…
— Что вы говорите! — воскликнул Винкель. — Это очень любопытно. И кто же ведает этой рабочей силой?
— Разумеется, американские оккупационные власти, — сказал Бринкель. — Какой-нибудь военный комендант или представитель их управления по делам перемещённых лиц… Эврика! — неожиданно хлопнул он себя ладонью по лбу. — Я вспомнил интересный факт: с месяц назад я случайно встретил одного старого приятеля, он был здесь проездом. И он мне сказал, что какой-то американский майор, ведающий перемещёнными лицами, тоже интересуется делом, похожим на наше…
— Именно? — с интересом спросил Винкель.
— Этот майор является сыном одного из владельцев американской компании, изготовляющей их знаменитый напиток «Кока-кола». Так вот, майор решил подыскать делового человека, который взял бы на себя изготовление на месте этого напитка из порошка, который будут привозить из Америки. Возить оттуда «Кока-кола» в готовом виде нет смысла — дорого обходится доставка, а порошки — это совсем другое дело…
Обо всём этом Бринкель рассказывал с самым равнодушным и даже скучающим видом, по-видимому, не замечая, что компаньон слушает его рассказ с самым жгучим интересом.
— Послушайте, дорогой компаньон, — начал наконец Винкель. — То, что вы мне рассказали, — более чем интересно. Буду с вами откровенен. Дело в том, что я всё чаще подумываю о своём филиале. Согласитесь, что при здешних порядках, когда нельзя иметь более двадцати пяти рабочих, мы никогда не сможем развернуть дело так, как нам бы хотелось.
— К сожалению, к нашему величайшему сожалению, — со вздохом произнёс Бринкель. — Что делать, когда установлен такой порядок…
— Что делать? — повторил Винкель и так захохотал, что его компаньон с удивлением на него посмотрел. — Я вам скажу, что делать, милейший Бринкель, если вам это угодно знать…
— Скажите, я сгораю от любопытства…
Винкель встал, плотно притворил дверь и, перейдя почему-то на шёпот, произнёс:
— Мне надо отсюда переехать туда и найти там этого майора, о котором вы слышали. Я готов брать его порошки, чтоб он ими подавился, и делать эту «коку», лишь бы он дал мне дешёвую рабочую силу. Получив её, я налажу и наши фруктовые воды и пущу их в оборот. Вы же, мой дорогой Бринкель, останетесь здесь продолжать наше дело. Я вам вполне доверяю, два раза в год мы будем производить с вами наши взаимные расчёты на общих основаниях, как делаем это теперь… Как вам нравится такая идея?
— Нравится, — подумав, ответил Бринкель. — Разрешите только уточнить. Говоря о взаимных расчётах, вы имеете в виду прибыли обоих предприятий или только того, которым буду управлять я?
— Я имею в виду половину прибылей здешнего завода, а также треть прибылей баварского филиала, за исключением процентов на амортизацию оборудования плюс пятнадцать процентов от оборота в мою пользу на представительские и организационные расходы, — ответил Винкель.
— Пятнадцать процентов многовато, дорогой компаньон, — возразил Бринкель, и коммерсанты начали торговаться, пока не сошлись на десяти процентах от оборота, после чего остались вполне довольны друг другом.
…А через десять дней господин Бринкель явился к военному коменданту и доложил, что внезапно исчез его компаньон, по-видимому, уехавший в американскую зону. Поэтому господин Бринкель убедительно просил достопочтенного и глубокоуважаемого господина полковника дать указание о переводе всего предприятия на его, Бринкеля, имя.
Сергей Павлович сказал, что подумает, и просил Бринкеля прийти за ответом на следующий день. Когда Бринкель ушёл, Сергей Павлович послал машину за полковником Бахметьевым и рассказал ему о бегстве Винкеля и просьбе Бринкеля.
— Я в курсе дела, — спокойно сказал Бахметьев. — Чёрт с ним, с этим Винкелем, с воза долой — кобыле легче!.. Что же касается Бринкеля, то можете спокойно дать ему патент на всё предприятие… Надеюсь, что этот не сбежит, — добавил Бахметьев.
На следующий день господин Бринкель стал полноправным владельцем завода фруктовых вод.
***
Перебравшись с дочерью в Западную Германию, господин Винкель быстро освоился с новой обстановкой. Прежде всего он поехал в Ротенбург, где находился филиал его завода.
Ротенбург и в самом деле был удивительным городком. Ещё когда Бавария была королевством, не то королю Максимилиану IV Иосифу, не то его любимому министру французу Монжла пришла в голову идея сохранить как заповедник баварской старины во всей её неприкосновенности этот средневековый городок с узенькими улочками, островерхими, зелёными от времени крышами, крутым крепостным валом с каменными бойницами, древним замком и сохранившимся порталом собора, воздвигнутого ещё в XII веке. Издавна строжайше воспрещено было сооружение в этом городе-музее хотя бы одного нового здания, и, напротив, все разрушившиеся от времени средневековые узкие дома тщательно реставрировались.
Так и стоит между Нюрнбергом и Мюнхеном этот средневековый, похожий на театральную декорацию городок. Старинные наивные вывески цеховых мастеров, средневековых кузнецов, трактиров и парикмахерских, удивительные часы на городской ратуше, вот уже несколько веков отбивающие уходящее время и провожающие каждый ушедший час появлением в особом окошке деревянной фигурки, — всё говорит здесь о временах, ушедших давно и навсегда…
Приехав в Ротенбург, господин Винкель прежде всего убедился, что всё оборудование его филиала находится в целости и сохранности. Выяснилось и судьба Августа Карлсона, умершего в самые последние дни войны. От его вдовы Винкель узнал, что в Баварии никто пока не занимается производством фруктовых вод и что незадолго до своей смерти Август Карлсон был вынужден остановить завод ввиду полного отсутствия сахара и невозможности достать взамен его хотя бы сахарин.
Вдова сообщила Винкелю, что в том самом лагере, где жили восточные рабочие, работавшие на заводе, теперь снова существует лагерь. В нём содержатся советские юноши и девушки, привезённые сюда из разных городов американской зоны оккупации. Лагерь этот находится на расстоянии трёх километров от Ротенбурга.
Собрав столь важные и отрадные сведения, Винкель помчался в Нюрнберг разыскивать американского майора, о котором ему рассказал Бринкель. В Нюрнберге без особого труда Винкель узнал, где находится управление по делам перемещённых лиц, и выяснил, что его возглавляет майор Гревс.
На следующий день Винкель добился приёма у майора. Узнав, что Винкель является владельцем завода фруктовых вод, Гревс принял его самым любезным образом. В разговоре с майором Винкелю как нельзя больше помогла информация о его родственных и деловых связях с фирмой «Кока-кола». Винкель сразу взял быка за рога.
— Вопрос, по которому я явился к вам, глубокоуважаемый господин майор, — сказал Винкель, — не имеет никакого отношения к вашей служебной деятельности. Я случайно осведомлён о том, что вы в какой-то мере представляете здесь знаменитую американскую фирму «Кока-кола». Позвольте прежде всего спросить вас, в какой мере это соответствует действительности?
Гревс, сразу насторожившийся, с интересом посмотрел на господина Винкеля.
— Прежде чем ответить на ваш вопрос, — сказал он, — позвольте выяснить, мистер Винкель, с какой стороны это может вас интересовать?
— Охотно объясню вам, — ответил Винкель. — Как я уже сказал в начале нашего разговора, я давно являюсь владельцем старинной немецкой фирмы по производству фруктовых вод. До последнего времени один из моих заводов работал в Ротенбурге. Теперь, когда война окончена, я хотел бы вновь заняться своим делом, учитывая, однако, при этом интересы американских фирм…
— Чем вызвано столь заботливое отношение к интересам американских фирм? — с улыбкой спросил Гревс.
— Очень просто, достопочтенный господин майор. Я уже немолодой человек, знаю жизнь, немножко разбираюсь в политике и понимаю, что немецкие промышленники в настоящее время должны считаться с интересами американских фирм, если хотят реально работать и спокойно жить.
— То, что вы говорите, делает честь вашему здравому смыслу, — произнёс Гревс. — Допустим на одну минуту, мистер Винкель, что я в какой-то мере представляю здесь фирму «Кока-кола». Что же вы в связи с этим могли бы предложить?
— Я с большим удовольствием принял бы на себя, господин майор, изготовление и реализацию столь прославленного напитка наряду с фруктовыми водами, которыми я занимаюсь всю свою жизнь.
Гревс задумался. Он уже давно подыскивал подходящего человека для организации филиала фирмы «Кока-кола» в американской зоне оккупации. Этот пожилой немец, по-видимому, был настоящим коммерсантом, и с ним, пожалуй, имеет смысл вступить в деловые отношения. Однако Гревс решил проверить, действительно ли Винкель является владельцем завода фруктовых вод. Поэтому, не дав на этот раз ответа на предложение Винкеля, Гревс попросил его зайти через два дня. Этого срока оказалось достаточно для того, чтобы убедиться, что в Ротенбурге действительно существовал завод фруктовых вод, принадлежащий Винкелю, и что, кроме того, он имел ещё один такой завод в городе, находившемся теперь в советской зоне оккупации. Справки, собранные Гревсом, говорили в пользу Винкеля как владельца старой и солидной фирмы.
Через два дня, когда Винкель вновь явился к Гревсу, тот принял его самым любезным образом и вступил в деловые переговоры.
Было решено, что Винкель возобновит производство фруктовых вод на своём ротенбургском заводе и организует там же изготовление напитка «Кока-кола» из порошков, которые он будет получать из Америки. Пятьдесят процентов чистой прибыли, как от реализации напитка «Кока-кола», так и от сбыта фруктовых вод, Винкель обязан отчислять в пользу фирмы, которую представлял майор Гревс.
Когда переговоры были закончены и привели к полному согласию обеих сторон, господин Винкель в очень осторожной форме поднял вопрос о рабочей силе. Только теперь Гревс сообразил, что Винкель был осведомлён о его служебном положении ещё тогда, когда явился в первый раз.
— Я вижу, господин Винкель, — с ухмылкой протянул Гревс, — что хотя вы при первом визите и заявили, что ваши предложения никак не связаны с моей служебной деятельностью, на самом деле вы имели её в виду.
— Дорогой мистер Гревс, — ответил Винкель, — согласитесь, что я не могу отвечать за то, что служебная деятельность некоторых американских офицеров отнюдь не мешает им заниматься коммерческими делами. В соответствии с этой здоровой, позволю себе заметить, традицией намерен поступить и я…
Гревс расхохотался и благосклонно похлопал господина Винкеля по плечу.
— К чему же сводится конкретно ваше желание в смысле рабочей силы? — спросил он.
— Я полагаю, что на первое время двести рабочих меня бы устроили, мистер Гревс, — скромно сказал Винкель.
— Ну что ж, пока я имею возможность пойти вам навстречу, — ответил Гревс. — Перемещённые лица, которые находятся в лагере, расположенном недалеко от Ротенбурга, о чём, как я полагаю, вам уже известно, могут быть выделены в ваше распоряжение. Для этого вам придётся подписать соглашение со мной, как начальником окружного управления по делам перемещённых лиц. Вам известны условия?
— Нет, мистер Гревс, — ответил Винкель, — но я надеюсь, что это обойдётся нашему совместному предприятию дешевле, чем обычная рабочая сила.
— Да, по крайней мере вдвое, если не больше, — сказал мистер Гревс. — И поэтому, господин Винкель, вам следует понять, что я, как начальник управления, должен быть как-то заинтересован в этом…
Винкель мысленно чертыхнулся. Этот бизнесмен в офицерской форме обладал чрезмерным аппетитом, чёрт бы его побрал! Став по существу компаньоном Винкеля, он ещё хочет с него содрать взятку за предоставление рабочей силы. Однако лучше заплатить какие-то проценты этому Гревсу, чем переплачивать вдвое за рабочую силу.
— Само собой, мистер Гревс, — приняв обиженный вид, протянул Винкель, — как вы могли подумать, что я упущу ваши интересы? Я с самого начала имел в виду предложить вам десять процентов с общей суммы договора на предоставление заводу рабочей силы.
— Десять процентов? — переспросил Гревс. — Мне казалось, что вы хотели сказать — двадцать.
— Я имел в виду пятнадцать, мистер Гревс, — вздохнул Винкель.
— Не хочу торговаться с контрагентом фирмы «Кока-кола», — согласился Гревс. — Так и быть!..
…Через два дня «воспитанники» того самого лагеря, из которого был вывезен в Нюрнберг Коля Леонтьев, были отданы в кабалу господину Винкелю на самых выгодных для него условиях.
Западня
Через несколько дней после возвращения из Нюрнберга Вирт начал обдумывать план похищения научного труда профессора Вайнберга. Выполнение задания Грейвуда осложнялось тем, что в доме профессора жил Леонтьев. Вирт не сомневался в том, что советский полковник связан с американской разведкой, но ведь Грейвуд не предложил и не разрешил Вирту привлечь полковника Леонтьева к этой операции. Вирт понимал, что Грейвуд по каким-то своим соображениям не хочет, чтобы полковник Леонтьев был осведомлён о похищении работы Вайнберга или хотя бы косвенно участвовал в этом.
За те три раза, что Вирт побывал в доме профессора, он успел, по старой профессиональной привычке, хорошо запомнить расположение комнат. Полковник Леонтьев жил на втором этаже; профессор Вайнберг и его семья — на первом. Однако оба этажа не были изолированы один от другого, и их соединяла внутренняя деревянная лестница, которая вела из холла наверх.
Таким образом, если бы в первом этаже начался какой-либо шум, то Леонтьев, будучи дома, не мог его не услышать и, следовательно, не вмешаться.
Окна кабинета, в котором Вирт разговаривал с профессором, выходили в сад. В комнате, смежной с кабинетом и сообщающейся с ним внутренней дверью, была спальня профессора, что также успел заметить Вирт. Значит, если удастся проникнуть каким-либо путём ночью в кабинет, надо было предусмотреть, что профессор услышит из спальни шум и войдёт. А шума нельзя было избежать, так как на ночь окна виллы запирались.
Взвешивая все обстоятельства, Вирт пришёл к выводу, что совершить похищение двух папок с рукописями профессора можно только ночью при условии, что полковника Леонтьева в это время не окажется дома, а сам профессор будет спать. Но как проникнуть в кабинет? Путь через окно в данном случае исключался; дверь в подъезде, естественно, запиралась на ночь.
Прежде всего Вирт решил выждать, пока полковник уедет куда-либо из города, — он знал, что Леонтьев, будучи комендантом города и округа, часто выезжал по делам службы в округ, а изредка — в Веймар, где находилось управление советских оккупационных войск Саксонии. Чтобы выяснить, когда именно уедет Леонтьев, Вирт поручил своим агентам прогуливаться мимо здания комендатуры, проверяя, не стоит ли у подъезда вишнёвый «мерседес-бенц» военного коменданта. Только через три дня Вирт сам увидел знакомую машину, в которую садился Леонтьев. Судя по тому, что полковника провожал его заместитель, которого Вирт также знал в лицо, Леонтьев уезжал за черту города.
Дождавшись, пока машина уехала, а Глухов вернулся к себе, Вирт зашёл в комендатуру и обратился к адъютанту с просьбой пропустить его к коменданту. Адъютант, запомнивший Вирта ещё с первого визита, любезно ответил:
— Полковник Леонтьев недавно уехал в Веймар, камрад Райхелль, и вернётся не раньше чем дня через два. Сразу после его приезда вы можете рассчитывать на приём.
— Благодарю вас, — ответил Вирт и, поклонившись, ушёл.
Итак, главное препятствие отпало на двое суток. Надо было немедленно воспользоваться этим и приступить к выполнению задания Грейвуда.
Вернувшись к себе, Вирт лёг отдохнуть. Ещё в те годы, когда Вирт служил в гестапо, он принял за правило обязательно отдыхать перед серьёзной операцией. Проснувшись поздно ночью, Вирт принял освежающий, прохладный душ. Взяв маленький заряженный револьвер, карманный электрический фонарь и заранее приготовленную связку всевозможных ключей, один из которых мог подойти к замку входной двери в доме профессора, Вирт потушил свет и выглянул в окно. Стояла тёмная, ненастная, ветреная ноябрьская ночь — самая подходящая погодка для предстоящего дела.
Вирт надел непромокаемый плащ с капюшоном и вышел на совершенно пустынную улицу. Убедившись, что за ним никто не следит, он вскочил на велосипед и двинулся в путь.
На углу улицы, где жил Вайнберг, Вирт остановился, прислонил велосипед к чугунной решётке углового дома, а сам, стараясь не производить ни малейшего шума, стал пробираться вдоль стен к знакомой калитке.
Частый, мелкий дождь шелестел в кронах подстриженных лип, которыми были обсажены тротуары; низкие тёмные облака стремительно неслись над спящим городом, и в сыром тумане ноябрьской ночи чуть мигал вдалеке одинокий уличный фонарь. Вирт на мгновение остановился, перевёл дыхание и посмотрел на свои светящиеся наручные часы. Было ровно три часа ночи. Часы показывали время правильно — из центра города, со стороны ратуши, донеслись и проплыли в ночной тишине три низких удара городских часов.
Вирт сделал ещё несколько шагов. Вот и калитка дома профессора Вайнберга. В доме, по-видимому, все спали — не светилось ни одно окно, как не светились окна и в соседних домах. На противоположной стороне улицы смутно белел киоск фруктовых вод, по крыше которого монотонно барабанил дождь. Уже два месяца в таких киосках, разбросанных по городу, неутомимый господин Бринкель организовал продажу пива, поскольку спрос осенью на фруктовые воды понизился.
Вирт попытался открыть калитку — неудачно. Тогда он перелез через невысокую чугунную ограду. Оказавшись во дворе, Вирт подошёл к подъезду и стал осторожно подбирать ключ к дверному замку, стараясь действовать бесшумно. В конце концов ему удалось подобрать нужный ключ — недаром он заботливо подготовил ключи для замков всех фасонов и образцов. Дверь отворилась, и Вирт на цыпочках вошёл в тёмный холл, откуда, как он запомнил, вела дверь в кабинет профессора.
Прежде чем пройти в кабинет, Вирт, затаив дыхание, прислушался. В доме стояла глубокая сонная тишина, подчёркиваемая монотонным тиканьем стенных часов в кабинете. Убедившись, что никто в доме не проснулся, Вирт осторожно открыл дверь в кабинет и прошёл туда. Осветив фонариком комнату, он убедился, что здесь никого нет. Однако дверь, ведущая в спальню профессора, была приоткрыта — надо было действовать с крайней осторожностью.
Бесшумно подкравшись к письменному столу, Вирт осветил его. Знакомых толстых папок на столе не было. Очевидно, профессор спрятал их в один из ящиков стола.
Вирт стал открывать эти ящики один за другим. Папок не было. Когда он открыл четвёртый ящик, за спиною Вирта раздался щелчок электрического выключателя и в комнате сразу стало светло. Вирт резко обернулся: у двери, ведущей в спальню, стоял в ночной пижаме профессор Вайнберг.
— Что вам здесь нужно? — охрипшим от волнения голосом спросил он.
Вирт молчал, лихорадочно обдумывая, как ему поступить. Сообразив, что другого выхода нет, он выхватил револьвер и скомандовал профессору:
— Руки вверх!
Старик бросился на Вирта и схватил его за руку. Завязалась борьба. Старый профессор оказался сильнее, чем можно было ожидать. Вирт с трудом повалил его на пол, навалился на него, но профессор продолжал сопротивляться.
Вероятно, в конце концов победил бы Вирт, который был моложе и сильнее старика, но внезапно распахнулась дверь из холла, и в кабинет ворвался с револьвером в руках молодой высокий парень в белом фартуке, надетом поверх пальто. Это был «продавец» из киоска фруктовых вод, дежуривший в эту ночь, как и во все предыдущие, по приказанию полковника Бахметьева в будто бы запертом и пустом киоске…
Оторвав Вирта от профессора и ловко обезоружив, «продавец» связал задержанному руки и тотчас куда-то позвонил по телефону.
Через несколько минут послышался шум подъехавшей машины, и в дом вошли два советских лейтенанта. Один из них был Фунтиков, дежуривший в эту ночь в комендатуре, второй являлся сотрудником Бахметьева.
— Простите, господин профессор, за столь поздний визит, — обратился второй офицер к Вайнбергу, который всё ещё не мог прийти в себя и, сидя в кресле, с трудом переводил дыхание.
— Я не знаю, как благодарить вас, — ответил профессор. — Если бы не помощь этого молодого человека, — он указал на «продавца», — всё могло бы кончиться очень печально… Я прошу передать, кому следует, что этот негодяй, проникший в мой дом с преступными целями, уже три раза посещал меня по поручению американского полковника Грейвуда, уговаривая перебраться вместе с семьёй в американскую зону оккупации. Весьма сожалею, что своевременно не поставил об этом в известность господина военного коменданта, но я никак не мог предположить, что приглашение американских властей может закончиться бандитским налётом… Это неслыханно, господа!..
— Прошу вас не волноваться, профессор, — произнёс офицер. — Будут приняты все меры к охране вашей безопасности. Всё, что вы мне сказали, будет немедленно доложено кому следует. Покойной ночи, господин профессор.
И офицеры вместе с «продавцом» увели Вирта.
На допросе у Бахметьева Вирт действовал в полном соответствии с инструкциями, полученными от Грейвуда. Буквально в первые минуты допроса он бросился на колени и, всхлипывая, сознался в том, что является агентурой американской разведки и по её заданию сначала уговаривал Вайнберга перебраться в американскую зону оккупации, а затем, когда профессор отказался покинуть город, попытался похитить его научные труды. Вирт подробно рассказал о том, как Грейвуд снабдил его документами на имя Курта Райхелля, с которыми он являлся к советскому военному коменданту.
— Явившись к полковнику Леонтьеву, я не знал, что он сам связан с американской разведкой, гражданин следователь, — продолжал Вирт.
— Кто связан с американской разведкой? — переспросил Бахметьев, решив, что он ослышался.
— Полковник Леонтьев, — ответил Вирт. — О том, что он является осведомителем полковника Грейвуда, я узнал всего несколько дней назад от самого Грейвуда, когда был у него в Нюрнберге.
— Вы что, с ума сошли или решили стать на путь провокаций? — сердито спросил Бахметьев, поражённый таким неожиданным поворотом дела.
— Господин следователь, я говорю сущую правду, — начал уверять Вирт. — Именно полковник Грейвуд лично сообщил мне, что военный комендант Леонтьев является его осведомителем. Признаться, я сам был очень удивлён, но убедился в том, что это факт, когда мистер Грейвуд в моём присутствии поговорил по телефону с полковником Леонтьевым, обещал выполнить какую-то интимную просьбу, а затем поручил мне отвезти секретное письмо полковнику Леонтьеву…
— Какое письмо?
— Какое-то секретное письмо, содержание которого мне неизвестно. Пакет был опечатан сургучной печатью, и я отправил это письмо полковнику Леонтьеву со своим агентом — Вольдемаром Киндерманом. Киндерман мне доложил, что лично вручил этот пакет полковнику Леонтьеву. Он сказал коменданту, что какой-то немец, будто бы знакомый Киндермана, привёз это письмо из Нюрнберга и просил его передать адресату.
— А где находится Киндерман? — спросил Бахметьев.
— У себя дома — Бисмаркштрассе, 32, — ответил Вирт.
Бахметьев взглянул на своего помощника, присутствовавшего при допросе, и тот сразу вышел из комнаты. Через двадцать минут был привезён Киндерман — маленький человечек средних лет, с модными усиками, в потёртом костюме.
Перепуганный насмерть внезапным арестом, он пытался было отрицать свою связь с Виртом. Бахметьев дал ему очень короткую очную ставку с Виртом, на которой тот сказал: «Киндерман, всё пропало, говорите правду». Через полчаса Киндерман подтвердил показания Вирта.
— Когда и зачем вы были у советского военного коменданта полковника Леонтьева? — спросил Бахметьев.
— Несколько дней тому назад господин Райхелль (Киндерман не знал подлинной фамилии Вирта) дал мне пакет, опечатанный сургучной печатью, приказал отнести его лично полковнику Леонтьеву и сказать ему, что это письмо мне передал знакомый немец, приехавший из Нюрнберга, от полковника Грейвуда. Выполняя указание господина Райхелля, я пошёл в комендатуру и просил адъютанта Леонтьева доложить, что я имею поручение от полковника Грейвуда. Полковник немедленно меня принял самым любезным образом. Я передал ему этот пакет и сказал так, как мне было приказано господином Райхеллем. Господин полковник поблагодарил меня и сказал, что он напишет полковнику Грейвуду. Вот всё, что мне известно по этому вопросу, господин следователь.
Записав показания Киндермана, Бахметьев отправил его и Вирта в тюрьму, дав указание изолировать их друг от друга. Когда арестованных увезли, Бахметьев позвонил по телефону в Берлин и попросил разрешения немедленно выехать с личным докладом, захватив с собой арестованных. Кроме того, Бахметьев просил согласия своего начальства арестовать остальных агентов Вирта, уже известных по данным наблюдения, которое велось за Райхеллем-Виртом с того дня, когда он впервые явился к профессору Вайнбергу. Предложение Бахметьева было принято, поездка в Берлин разрешена.
На следующий день, когда вся агентура Вирта была арестована, Бахметьев выехал в Берлин, куда вслед за ним должны были привезти арестованных.
***
Киндерман рассказал Бахметьеву сущую правду. Действительно, несколько дней тому назад он явился к Леонтьеву и передал ему письмо от Грейвуда. Сергей Павлович поблагодарил этого, совершенно ему неизвестного человека за любезность, вскрыл пакет и прочёл записку Грейвуда:
«Мой уважаемый коллега, полковник Леонтьев! Я рад Вам сообщить, что в самое последнее время мне благодаря тщательным поискам как будто удалось напасть на след Вашего сынишки. Правда, я ещё не могу Вас порадовать окончательным ответом и мне, вероятно, потребуется для этого некоторое время, но я твёрдо надеюсь, что мне удастся выполнить Вашу просьбу. Это я рассматриваю как долг союзника и товарища по оружию.
Я был бы очень рад, господин полковник, если бы Вы в самое ближайшее время нашли свободный день и приехали в Нюрнберг. Я с радостью покажу Вам город, в котором при всех разрушениях, причинённых нашей славной авиацией, право же, ещё есть что посмотреть…
Примите заверения в моей искренней симпатии и самые добрые пожелания!
Полковник Грейвуд».
У Сергея Павловича забилось сердце, когда он прочёл это письмо. Хотя в нём ещё не было ничего конкретного, оно давало основания надеяться. Во всяком случае, оно свидетельствовало, что полковник Грейвуд помнит о своём обещании и старается его выполнить. Сергей Павлович считал себя обязанным ответить на письмо Грейвуда и поблагодарить его за участие. Он так и сделал, сообщив, что при первой возможности постарается воспользоваться любезным приглашением посетить Нюрнберг. Это письмо Сергей Павлович отправил Грейвуду по почте.
***
Когда Бахметьев доложил полковнику Малинину об обстоятельствах задержания Райхелля-Вирта и его показаниях в отношении Лоонтьева, косвенно подтверждённых Киндерманом, полковник Малинин задумался.
— Как относишься ты к этим показаниям? — наконец спросил он.
— По совести сказать, Пётр Васильевич, — ответил Бахметьев, — ничего пока не могу понять. Хотя я мало знаю Леонтьева, но у меня сложилось о нём самое благоприятное впечатление. Это скромный человек, боевой офицер, проведший всю войну на фронте, командир танкового полка. Насколько мне известно, его жена погибла на фронте. Одним словом, у меня нет ни малейшего основания подозревать, что Сергей Павлович Леонтьев стал изменником. А вместе с тем видно, что так называемый Райхелль абсолютно уверен в связах Леонтьева с этим Грейвудом. Показания Киндермана в известной мере подтверждают то, что сообщил нам Райхелль. Какое секретное письмо мог послать Грейвуд Леонтьеву? Если верить Киндерману, Леонтьева не только не удивило это письмо, напротив, он сказал, что обязательно ответит Грейвуду. Согласись, Пётр Васильевич, что всё это выглядит не очень выгодно для Леонтьева…
— Следовательно, ты склоняешься к тому, чтобы поверить в предательство Леонтьева? — прямо спросил Малинин.
— Нет, я далёк от такой мысли! — горячо воскликнул Бахметьев. — Но я не могу не считаться с фактами, о которых говорил.
— Что же ты предлагаешь?
— Я думаю, прежде всего надо осторожно проверить у самого Леонтьева, получил ли он это письмо, и если получил, то о чём писал Грейвуд. Я однажды докладывал, Пётр Васильевич, что Леонтьев разыскивает своего сынишку, которого в начале войны гитлеровцы угнали в Германию. Когда Грейвуд и Нортон были с визитом у Леонтьева, полковник просил американцев помочь в розысках сынишки, и Грейвуд ему это обещал… Леонтьев сам мне об этом рассказал. Я прямо заявил ему, что он напрасно обратился с такой просьбой к совершенно неизвестному американскому полковнику…
— Да, я помню этот эпизод, — задумчиво произнёс Малинин. — Конечно, Леонтьев напрасно обратился к Грейвуду, но, с другой стороны, надо понять и его положение: ведь речь идёт об единственном сыне. Наши органы по репатриации пока не смогли ему реально помочь. Как говорится, утопающий за соломинку хватается. В общем, примем пока такое решение: ты возвращаешься обратно и осторожно выясняешь у Леонтьева, что это было за письмо. А я тем временем лично передопрошу этих немцев… Теперь расскажи, как идут наши лимонадные дела? — с улыбкой добавил Малинин.
— По-моему, недурно, Пётр Васильевич, — ответил Бахметьев. — Прежде всего приятно, что господин Винкель, как мы и предполагали, в конце концов перебрался в американскую зону. Признаться, когда ты предложил эту комбинацию, я в глубине души сомневался.
— Почему? — коротко спросил Малинин, с интересом глядя на Бахметьева.
— Я опасался, что психологический расчёт на то, что Винкель в конце концов захочет перебраться в американскую зону почему-либо не оправдается и, согласись, Петр Васильевич, что в этом случае вся комбинация с Бринкелем взлетала на воздух… Но к счастью, ты оказался прав.
Малинин закурил, прошёлся по своему кабинету.
— В своё время я познакомил тебя с первым этапом задуманной комбинации, но не говорил о дальнейшем, — сказал он. — Теперь, когда эта первая часть плана реализована, хочу поделиться соображениями, которыми я руководствовался.
— Очень любопытно, так сказать с чисто профессиональной точки зрения, — сказал Бахметьев.
— Понимаю. Ну, слушай. Уже несколько месяцев, как тебе известно, американские власти морочат нам голову по поводу судьбы так называемых «перемещённых лиц». Они не дают окончательного списка советских людей, по тем или иным причинам оказавшихся в их зоне. Пытаются уверить нас, что большинство «перемещённых» якобы не хотят возвращаться на родину. Наконец, как мы уже точно знаем, они стремятся навербовать из числа этих лиц шпионов и диверсантов. Так?
— Да, так, — подтвердил Бахметьев.
— Слушай дальше. Для того чтобы в конце концов собрать данные о лагерях перемещённых лиц в районе Мюнхена и Нюрнберга, нам, естественно, требовалось иметь там своих людей. Однако мы не считали возможным направлять туда под тем или иным прикрытием работников наших органов, хотя мы знаем, что американцы так поступали и поступают. Вот тогда у меня и возник план получить необходимые данные через какого-нибудь немецкого промышленника, который при этом не должен даже догадываться, что работает на нас. Я стал подыскивать соответствующую кандидатуру и после долгих поисков остановился на фирме Винкеля, который имел два завода фруктовых вод — один из них оказался в нашей зоне, другой — в американской. Это был многообещающий факт. Следовательно, надо было подставить этому Винкелю подходящего компаньона, и мы нашли его в лице… господина Бринкеля. Я не сомневался в том, что Винкель, развернув своё дело в нашей зоне, рано или поздно вернётся к мысли о судьбе своего завода в Ротенбурге. Не сомневался и в том, что, по мере успеха в своих коммерческих делах. Винкель, как всякий промышленник, будет всё более недоволен установленными в нашей зоне ограничениями, в особенности тем, что ему не позволяют иметь более двадцати пяти рабочих. Законы психологии капиталиста, я бы даже сказал, законы коммерческой логики плюс естественная забота о судьбе завода в Ротенбурге должны были рано или поздно привести его к решению перебраться в Баварию. Ясно?
— Вполне, — улыбнулся Бахметьев. — Именно так оно и случилось.
— Хорошо, пойдём дальше, — продолжал Малинин. — Естественно, что, перебравшись в Баварию, Винкель захочет пустить свой завод. По нашим данным, до самого последнего времени на этом заводе трудились так называемые «восточные рабочие», то есть наши люди, угнанные в своё время в Германию. Мы знали и то, что сейчас в трёх километрах от Ротенбурга находится лагерь, в котором содержатся советские юноши и девушки. Следовательно, задача состояла в том, чтобы подать Винкелю идею получить согласие американских властей на использование труда этих юношей и девушек. Так?
— Конечно, — ответил Бахметьев, — ибо в этом случае мы получили бы уже вполне конкретные данные, даже списки этих подростков.
— Совершенно верно. Добавь к этому, что в наши руки случайно попали данные о майоре Гревсе, кстати, одном из помощников Грейвуда. Он возглавляет окружное управление по делам перемещённых лиц и в то же время является представителем американской фирмы «Кока-кола». Вот почему я дал указание Бринкелю, чтобы он осторожно посоветовал своему компаньону связаться с майором Гревсом и предложить тому организацию производства «Кока-кола» на своём заводе… И этот план, основанный на понимании коммерческих интересов как Винкеля, так и Гревса, полностью себя оправдал.
— Ты так думаешь? — с любопытством спросил Бахметьев.
— Не думаю, а уже знаю, — ответил Малинин. — Вчера я получил точные данные, что Винкель уже возобновил работу на своём заводе в Ротенбурге и получил, по указанию майора Гревса, двести советских юношей и девушек из лагеря, расположенного в трёх километрах от Ротенбурга.
— Это замечательно! — воскликнул Бахметьев. — Таким образом, план полностью реализован!
— Не торопись, — улыбнулся Малинин. — Реализована лишь первая часть плана, но это далеко не всё… Самое трудное ещё впереди, дружище…
Кабаре «Фемина»
Вернувшись из Берлина, подполковник Бахметьев нашёл повод для разговора с комендантом и явился к нему на работу. Закончив деловой разговор, Бахметьев дружелюбно спросил:
— Я всё собираюсь справиться, Сергей Павлович, как идут дела с вашим сыном? Нет никаких новостей?
— Нет, есть довольно важная новость, — сразу ответил Леонтьев. — Представьте, я получил письмо от полковника Грейвуда, о котором вам в своё время говорил.
— От полковника Грейвуда? — спросил Бахметьев, и у него сразу отлегло от сердца, так обрадовал его этот прямой и вполне откровенный ответ. — Что же он вам пишет?
— Да вот, прочтите сами, — сказал Леонтьев и, вынув из сейфа письмо, протянул его Бахметьеву.
Тот прочёл письмо и будто невзначай заметил:
— Судя по отсутствию почтового клейма, письмо было прислано с оказией?
— Да, — спокойно ответил Леонтьев. — Пришёл какой-то неизвестный мне немец и сказал, что один его знакомый приехал из Нюрнберга и просил передать мне это письмо. Признаться, я страшно обрадовался. Может быть, этот Грейвуд, как вы в своё время предполагали, и разведчик, но в данном случае, согласитесь, он поступил очень любезно… Я уже письменно поблагодарил его за это…
— Что ж, будем надеяться, что вашего сына удастся разыскать, — ответил Бахметьев. — От души желаю вам этого, Сергей Павлович…
Собравшись уходить, Бахметьев осведомился, как чувствует себя профессор Вайнберг.
— Когда я приехал из Веймара, — ответил Леонтьев, — старик был в тяжёлом состоянии. Он и фрау Лотта рассказали мне о ночном происшествии. Я сразу позвонил вам, но оказалось, что вы уехали. Ваш помощник и лейтенант Фунтиков, участвовавший в аресте злоумышленника, рассказали мне в общих чертах, что произошло… Если можно поинтересоваться подробностями, я был бы вам признателен за информацию.
— В двух словах дело сводится к тому, что американская агентура охотится за профессором, — коротко ответил Бахметьев. — В своё время я вас об этом предупреждал, если помните…
— Как же, отлично помню, — произнёс Леонтьев.
— Ну вот, сначала они хотели уговорить профессора перебраться в Баварию, а когда он отказался от этого предложения, решили похитить его научные труды… Вот всё, что мне пока известно. Теперь производится расследование, и мы выясняем все подробности.
Расставшись с Леонтьевым, Бахметьев в тот же день проинформировал Малинина по телефону о разговоре с комендантом, подчеркнув, что тот сам, сразу и очень откровенно, рассказал о письме Грейвуда. В этом телефонном разговоре, конечно, не назывались фамилии и существо дела, однако Бахметьев и Малинин прекрасно понимали друг друга. Внимательно выслушав Бахметьева, Малинин спросил:
— А наш друг ничего не сказал о том, что незадолго до письма он имел телефонный разговор с тем же лицом?
— Нет, он об этом не сказал, а спрашивать мне его не хотелось…
— Хорошо, — ответил Малинин. — Мы продолжаем проверку.
Положив трубку, Бахметьев стал размышлять об этом запутанном деле. Он всё больше склонялся к выводу, что полковник Леонтьев — честный человек, а показания Райхелля-Вирта и Киндермана являются либо следствием какого-то рокового недоразумения, либо очень тонкой и тщательно продуманной провокацией. Бахметьев ещё не мог прийти к определённому выводу, но всем сердцем, всей силой своей профессиональной интуиции чувствовал, что Леонтьев ни в чём не виноват.
Теперь, когда эпизод с письмом был рассказан самим Леонтьевым, Бахметьев ещё раз убедился, что этому человеку можно верить. Тем не менее прав был и полковник Малинин, заявивший, что надо продолжать проверку, потому что, как-никак, два агента американской разведки твёрдо стояли на своих показаниях и, что ещё важнее, по всему было видно, что оба они вовсе не пытаются лгать и говорят вполне искренне.
Бахметьев, конечно, тогда ещё не мог понять, что Грейвуд, затеяв свою подлую игру, продумал её во всех деталях и нарочито уверил Вирта в том, что Леонтьев является осведомителем американской разведки.
Решив «убрать» полковника Леонтьева путём подлой провокации, Грейвуд, как опытный и умный разведчик, понимал, что важно уверить Вирта в связи Леонтьева с разведкой, чтобы потом на допросах Вирт с полной убеждённостью отстаивал эту версию. Для этого и затеял Грейвуд при Вирте двусмысленный телефонный разговор с Леонтьевым. С этой же целью он именно через Вирта послал Леонтьеву письмо, опечатанное сургучной печатью, — таким образом, возникла дополнительная косвенная улика против Леонтьева. Наконец, приказ передать письмо Леонтьеву через одного из своих агентов, чтобы таким путём подставить советским властям ещё одного «свидетеля», преследовал ту же цель.
Всё же Грейвуд понимал, что показания Вирта и его агента, передача письма и телефонный разговор с Леонтьевым могут лишь навлечь на полковника серьёзное подозрение, но ещё недостаточны для его ареста.
Значит, необходимо придумать какие-то новые ходы, дать в руки советских властей дополнительные «доказательства» виновности Леонтьева. Вместе с тем надо подсказать убедительный ответ на неизбежный вопрос: как могло случиться, что офицер с безупречной биографией, коммунист, храбро сражавшийся за свою Родину, мог пойти на измену, на тягчайшее преступление против своего народа, за который он мужественно воевал, не раз рискуя жизнью? Грейвуд отлично понимал, что этот вопрос является важнейшим для советских следственных органов.
После длительных размышлений и поисков подходящей версии Грейвуд нащупал наконец новый и, как ему казалось, очень тонкий ход. Единственным психологически достоверным объяснением мнимой измены Леонтьева может служить естественное, понятное и по существу своему благородное стремление найти потерянного сына. Да, можно изобразить дело таким образом, что, измученный тщётными розысками Коленьки, Сергей Павлович Леонтьев в конце концов не выдержал и принял предложение американской разведки стать её сотрудником в обмен на возвращение ему единственного сына.
Но и эту «психологически тонкую» версию надо было подкрепить какими-то дополнительными и вескими уликами против полковника Леонтьева. Как их сфабриковать?
Грейвуд придумал две новые комбинации, дававшие такие возможности.
Первая из этих комбинаций была связана с частыми поездками Джемса Нортона в гости к Леонтьеву, о которых Грейвуд был отлично осведомлён отнюдь не самим Нортоном.
Вторая комбинация была связана с существующим в Берлине ночным кабаре «Фемина».
Грейвуд начал одновременно проводить обе комбинации.
***
Джемс Нортон и его визиты к Леонтьеву уже давно вызвали пристальный интерес того отдела «ЭМПИ» — американской военной полиции, который занимался секретным наблюдением за военнослужащими американской армии. Грейвуду было об этом известно.
Доверчивый и несколько наивный Нортон имел неосторожность рассказать некоторым из своих сослуживцев о своём отношении к полковнику Леонтьеву, и этого было достаточно для того, чтобы он оказался зачисленным в списки «подозрительно настроенных лиц». После встречи американской и советской армий на Эльбе укрепились симпатии американских солдат и офицеров к своим советским союзникам, к их военной доблести, душевной простоте и дружелюбию. Эти настроения обеспокоили известные круги, и тогда начала проводиться политика постепенного выявления «красных» и откомандирования их под разными предлогами на родину.
Когда Грейвуд узнал, что такое решение принято и в отношении полковника Нортона, он попросил на некоторое время задержать откомандирование Нортона в Америку, объяснив, что это требуется в интересах дела, которым он, Грейвуд, теперь занимается. Просьба Грейвуда была удовлетворена, и Нортон пока оставался в Германии, даже не подозревая, что его судьба уже предрешена.
Однажды Грейвуд сам приехал к Нортону, сделав вид, что, проезжая по делу мимо, решил навестить знакомого. Нортон, по-видимому действительно скучавший вдали от родины, обрадовался соотечественнику и принял его очень тепло.
За обедом, когда оба полковника основательно выпили, Грейвуд как бы между прочим спросил:
— Скажите мне, коллега, давно ли вы видели этого милого русского полковника, вашего соседа?
— В последний раз я навещал его дней десять тому назад.
— Как он живёт?
— Он много работает и с нетерпением ждёт, когда наконец найдётся его сын. Должен вам сказать, мистер Грейвуд, что я не понимаю нашей политики в этом деле… В самом деле, почему мы задерживаем русских детей? Согласитесь, что это дурно пахнет…
— Совершенно с вами согласен! — горячо поддержал Грейвуд. — Я сам не могу понять, в чём тут дело… Знаете, дав полковнику Леонтьеву слово помочь в розысках его сына, я делал всё, что было в моих силах, можете мне поверить. С огромным трудом мне удалось выяснить, что этот мальчик жив и находится в нашей зоне…
— Сегодня же заеду к соседу и обрадую его, — живо произнёс Нортон. — Скажу вам прямо, мне просто стыдно было смотреть ему в глаза… Я никак не мог защищать нашу политику в этом вопросе… Представляю, как он будет счастлив!..
— Я бы с удовольствием поехал к нему вместе с вами, но, к сожалению, тороплюсь в Нюрнберг, — сказал Грейвуд. — Передайте ему мой сердечный привет и скажите, что я надеюсь в самом недалёком будущем привезти ему сына. Я уже писал ему, что напал на след мальчика. Передайте, кстати, мой привет и подполковнику Глухову, который тоже мне весьма симпатичен. Право, обаятельный толстяк!.. Помните, как мило они нас принимали?
— Да, да, вы правы, — сказал Нортон. — Это славные ребята.
— Пожалуй, мне стоит написать им пару слов, — как бы осенённый внезапно пришедшей мыслью, сказал Грейвуд. — Я пройду в ваш кабинет, коллега, и напишу. У вас есть конверты?
— Разумеется, — ответил Нортон. Проводив Грейвуда в кабинет, он дал ему конверты и вышел распорядиться насчёт кофе.
Вскоре Грейвуд уехал, оставив Нортону письма, адресованные Глухову и Леонтьеву, попросив лично передать их.
Вечером Нортон приехал в советскую зону, предварительно предупредив Леонтьева по телефону, что едет к нему с приятными новостями.
— Буду рад вас видеть, полковник, — ответил Сергей Павлович. — Я пока буду у себя в комендатуре, приезжайте прямо туда, а потом мы вместе поужинаем.
— С удовольствием, — сказал Нортон. — Кстати, подполковник Глухов тоже на работе?
— Да, а в чём дело?
— Попросите его тоже обождать, у меня есть кое-что и для него…
Когда Леонтьев вызвал Глухова и передал ему просьбу Нортона, тот искренне удивился:
— Странно… Что у него может быть для меня?
— Вероятно, сигареты или бутылка виски, — ответил Сергей Павлович. — Одним словом, какой-нибудь знак внимания.
Не прошло и часа, как приехал Нортон. Войдя в кабинет Сергея Павловича, принимавшего доклад Глухова, Нортон весело поздоровался с офицерами:
— Прежде всего позвольте передать вам, друзья, привет от полковника Грейвуда. Сегодня он навестил меня проездом и, узнав, что я собираюсь к вам, просил передать эти письма…
Сергей Павлович и Глухов распечатали конверты, привезённые Нортоном.
— Видимо, полковник Грейвуд перепутал конверты, — произнёс Глухов, первым прочитавший письмо. — В моём конверте записка, адресованная вам, Сергей Павлович…
— Да, а у меня записка для вас, — отозвался Леонтьев. — Вы уже успели прочесть моё письмо?
— Почти, — ответил Глухов. — Оно написано по-немецки… Но тут ещё какой-то чек…
— Чек? — удивился Сергей Павлович. — Какой чек? Что за чепуха?!
И он быстро взял у Глухова записку, написанную на листке почтовой бумаги, и чек. В записке Грейвуд коротко извещал Леонтьева, что надеется в ближайшем будущем привезти к нему сына, который жив и здоров. Ни слова о чеке, вложенном в конверт, в записке не было, хотя чек был приколот булавкой к листку. Удивлённый Леонтьев стал рассматривать чек. Да, никаких сомнений не было, это был чек на предъявителя, по которому любой человек мог получить пятьсот долларов…
— Что это за глупые шутки? — сердито произнёс Сергей Павлович. — Объясните мне, полковник Нортон…
— Понятия не имею, — ответил Нортон. — Грейвуд ни слова не говорил мне о чеке… Может быть, он вам задолжал?
— Ничего он мне не должен, — бормотал, всё более волнуясь, Сергей Павлович. — Я отказываюсь понять, в чём тут дело?
— Да, странная история, — протянул Глухов, пристально глядя на Нортона. — Что-то тут не так…
— Вот что, мистер Нортон, — сухо и твёрдо сказал Сергей Павлович. — Я прошу вас вернуть этот чек полковнику Грейвуду и передать ему, что я крайне удивлён случившимся… И требую объяснений…
— Хорошо, я обязательно передам, — смущённо пролепетал Нортон, тоже ничего не понимавший. — Скорее всего, господа, это какое-то недоразумение… Сегодня же ночью я позвоню полковнику Грейвуду в Нюрнберг — к тому времени он уже, надо полагать, приедет — и выясню у него эту историю… Право, сосед, вы напрасно придаёте этому такое значение…
— Нет, извините, полковник Нортон, — сердито перебил американца Сергей Павлович. — Всё это носит довольно нескромный характер, и я не считаю возможным оставить это дело без последствий… Во всяком случае, я настоятельно прошу вас немедленно сообщить мне о вашем разговоре с полковником Грейвудом, к которому, хочу сказать прямо, я отношусь без особого доверия…
И тут Сергей Павлович закусил губу, поняв, что сказал лишнее. В самом деле, зная от Бахметьева о роли Грейвуда в истории с профессором Вайнбергом, он не имел права обнаружить свою осведомлённость.
После этого разговор уже не клеился, и вскоре Нортон, сославшись на усталость, уехал к себе, обещав ночью позвонить по телефону и рассказать о своём разговоре с Грейвудом.
Когда он уехал, Сергей Павлович и Глухов стали обсуждать историю с загадочным чеком.
— Нет ли тут какой-то провокации? — задумчиво произнёс Сергей Павлович. — Ох, не нравится мне всё это, не нравится… Во всяком случае, надо сообщить об этом Бахметьеву.
— Да, я тоже об этом думал, — согласился Глухов. — Мало ли что может быть… Пятьсот долларов — не шутка!..
Через полчаса приехал Бахметьев, которого удалось разыскать по телефону. Узнав обо всём, что произошло, Бахметьев с трудом скрыл своё волнение: он отлично понимал, что эпизод с чеком набрасывает новую тень на Леонтьева.
— Что ж, подождём звонка полковника Нортона, — сказал Бахметьев. — Вы правильно поступили, Сергей Павлович, отослав с ним этот чек… А конверты и записки разрешите пока взять… Я вам их потом верну…
Приехав к себе, Бахметьев связался с Малининым и рассказал ему о случившемся.
— Да, дело всё больше запутывается, — ответил Малинин. — Чудеса в решете, да и только!.. Странно, что автор записок перепутал конверты… В общем, подождём до утра…
***
Поздно ночью Нортон позвонил по телефону на квартиру Леонтьева, который не спал в ожидании этого звонка, и весело сказал:
— Хэлло, я не разбудил вас, сосед? Только что беседовал с Грейвудом. Я был прав — произошло просто недоразумение. Грейвуд по рассеянности вложил чек в конверт и потом волновался, решив, что потерял довольно крупную сумму. Вы бы слышали, как он обрадовался, узнав, что чек нашёлся!.. Он шлёт вам свои извинения и завтра будет сам звонить вам в комендатуру… Покойной ночи, сосед!.. Рад, что вся эта чепуха разъяснилась…
Сергей Павлович немного успокоился, но долго ещё не мог заснуть. Он хорошо помнил, что чек был приколот к записке.
Утром он снова встретился с Бахметьевым и рассказал ему о сообщении Нортона.
— Я мог бы понять такое объяснение, товарищ Бахметьев, — сказал он. — Если бы не одна деталь…
— Какая именно? — спросил Бахметьев.
— Понимаете, ведь чек не просто был вложен в конверт, что могло, скажем, произойти по рассеянности, но был приколот к записке…
— Вы это точно помните? — живо заинтересовался Бахметьев, снова обрадовавшись, что Сергей Павлович сам сообщил о детали, явно для него невыгодной.
— Ручаюсь головой! — воскликнул Леонтьев.
Бахметьев вынул из портфеля записку Грейвуда. В её левом верхнем углу был след прокола.
А через три дня Бахметьеву позвонил по телефону Малинин и приказал ему немедленно выехать в Берлин.
Этот срочный выезд был вызван странным, случившимся в ночном кабаре «Фемина» происшествием, также связанным с полковником Сергеем Павловичем Леонтьевым…
***
Ночное кабаре «Фемина» помещалось в Берлине, на границе советского и западных секторов, и пользовалось дурной репутацией. Положение в городе было ещё довольно трудным во всех отношениях: продукты выдавались по карточкам по ограниченной норме; многие жители Берлина ввиду разрушения огромного количества домов скитались без крова; городской транспорт и коммунальное хозяйство только начинали восстанавливаться. И вот в эти тяжёлые времена в самом центре города, в подвалах большого, случайно уцелевшего дома, открылось ночное кабаре, в котором до рассвета стонали саксофоны, за баснословные деньги подавались самые изысканные блюда, а за столиками собиралась весьма разношёрстная и в общем довольно тёмная публика.
Сюда приходили красивые, роскошно одетые женщины, свободно владевшие двумя-тремя языками, но не имевшие определённых занятий и охотно принимавшие предложения провести время по самой сходной цене: за две пачки сигарет, за несколько банок мясных консервов, за три пары нейлоновых заокеанских чулок, только начинавших тогда входить в моду. Здесь собирались молчаливые элегантные молодые люди с сутенёрскими замашками и подведёнными глазами, чем-то неуловимо напоминавшие голодных волков. Сходились в кабаре и подвижные, беспокойные дельцы с чёрного рынка, уже функционировавшего в западных секторах города, спекулировавший драгоценностями и продуктами, старинным хрусталём и американскими сигаретами, патентами немецких промышленных фирм и партиями коллекционных вин, картинами знаменитых художников и свиной тушёнкой. Кабаре стало излюбленным местом развлечения американских, английских и французских офицеров, искавших в этом ночном притоне возможность весело провести время, познакомиться с красивыми и доступными женщинами, вдоволь потанцевать и послушать программу, приглашая к столу приглянувшуюся певичку или танцовщицу. Пожилые профессиональные сводни с самыми аристократическими манерами и седыми буклями приводили сюда совсем ещё юных, скромно одетых и красных от смущения девушек, на которых всегда был особый спрос. Сновали в зале кабаре и какие-то загадочные личности — нельзя было определить ни их возраста, ни национальности, ни рода занятий; с равными основаниями можно было принять их за профессиональных скупщиков краденого, агентов разведки, содержателей публичных домов, коммивояжеров и карточных шулеров.
Всё это пёстрое, многоголосое человеческое месиво заполняло огромный зал ночного кабака, шумно веселилось, ело, пило, кричало, танцевало, ссорилось, заключало сделки, соря долларами, фунтами стерлингов, марками и франками. Со всех сторон доносились обрывки английских, немецких, французских и итальянских фраз, ругательств, песен.
Формально владельцем этого вертепа числился какой-то немец, в прошлом не то балетмейстер, не то содержатель крупного публичного дома. Однако ходил не лишённый основания слушок, что фактическим хозяином этого подозрительного заведения являлась одна иностранная разведка.
Советским военнослужащим было рекомендовано не посещать этот притон, в котором всегда можно было стать жертвой какой-либо провокации или оказаться вовлечённым в скандал. Однако не все советские офицеры, приезжавшие по делам службы из других городов в Берлин, были осведомлены о характере ночного кабаре.
Однажды два молодых советских лётчика, приехавших в командировку из Лейпцига в Берлин, пришли уже поздно вечером в кабаре «Фемина» и, оглушённые грохотом, рёвом и свистом джаза, многоголосым шумом, пьяными выкриками, с трудом разыскали при помощи услужливого кельнера единственный свободный столик, расположенный недалеко от эстрады, на которой сидели музыканты. Оба лётчика были в форме, при орденах; на груди одного из них поблескивала Золотая Звезда Героя Советского Союза. Лётчики заказали бутылку вина, скромную закуску и не без любопытства начали рассматривать не совсем обычную публику этого странного заведения.
Неожиданно к ним подошёл с бутылкой виски в руках заметно подвыпивший американский майор.
— Привет, Джанни! — закричал он, стараясь перекрыть шум оркестра и шарканье танцующих пар. — Здорово, ребята! — внезапно перешёл он на русский язык. — Мне чертовски повезло, что я наконец увидел двух боевых русских парней, вместе с которыми мы разгромили фашистскую сволочь. Позвольте представиться, друзья! Джемс Уолтон, американский лётчик, майор.
Русские лётчики встали, приветливо поздоровались с майором и предложили ему присесть за их столик. Майор охотно согласился и, налив в рюмки виски, провозгласил тост за победу над общим врагом. Выпили.
Уолтон отлично владел русским языком. Он рассказал, что во время войны два года прожил в Архангельске, откуда вылетал для сопровождения караванов с американскими и британскими грузами, отправляемыми в порядке ленд-лиза в Советский Союз.
— Это было боевое время, ребята, — продолжал майор. — Я горжусь тем, что не раз рисковал жизнью, отбивая налёты гитлеровских бомбардировщиков на караваны. Я сам сбил два фашистских бомбардировщика и три истребителя, чёрт возьми! Один раз во время воздушного боя мне прострочили пулемётом левое плечо. Вот посмотрите…
Майор порывался расстегнуть френч, но лётчики удержали его, сказав, что верят и так.
Разговор затянулся. Была прикончена бутылка виски, которую принёс с собой майор. Он заказал ещё одну бутылку, потом французское шампанское, и все основательно выпили. Особенно сильно опьянел майор, который уже с трудом ворочал языком, часто, без всякого повода, начинал громко хохотать, а затем, неожиданно всхлипнув, вспоминал старшего брата, погибшего при нападении японцев на Пирл-Харбор, и предлагал выпить за то, чтобы брат «хорошо проводил время на том свете».
Совершенно опьянев, американский майор неожиданно поднялся, сказав, что пройдёт в уборную и скоро вернётся. Лётчики, добродушно посмеиваясь над ним, обещали подождать его возвращения. Но Уолтон не приходил. Один из лётчиков заметил, что на полу, у стула майора, валяется записная книжка в красном сафьяновом переплёте.
— Смотри, Максим, — сказал лётчик, обращаясь к товарищу, — майор-то до того надрался, что уронил свою записную книжку. Но куда он запропастился? Ведь прошёл уже час, а его всё нет…
Подождали ещё полчаса, но майора не было. Не оказалось его и в уборной.
Лётчики обошли зал, стараясь разыскать загадочно исчезнувшего майора, но его и след простыл. Тогда, захватив записную книжку, один из лётчиков подозвал метрдотеля и сказал ему о книжке майора Уолтона.
— Если появится этот майор и будет нас спрашивать, пожалуйста, передайте ему, что мы ушли и захватили с собой его записную книжку, которую он обронил. Он может получить её у нас в гостинице.
Лётчики сообщили метрдотелю адрес и телефон своей гостиницы.
Утром один из лётчиков, проснувшись, достал записную книжку майора и начал её перелистывать. Он не очень хорошо знал английский язык, но достаточно для того, чтобы обратить внимание на ряд записей, сделанных в книжке очень чётким, уверенным почерком. Характер этих записей был таков, что лётчик разбудил товарища и сказал:
— Максим, этот майор, который вчера лез к нам целоваться и уверял, что он военный лётчик, на самом деле офицер американской разведки. В книжке, которую он потерял, имеются записи, не оставляющие никаких сомнений… Тут и адреса каких-то секретных агентов, и их условные клички, и бог знает что!..
— Не может быть! — воскликнул его товарищ. — Он был настолько пьян, что вряд ли сумел бы что-нибудь выдумать.
— Говорю тебе — он разведчик, — решительно произнёс первый лётчик. — Надо немедленно отвезти эту записную книжку в контрразведку.
Через два часа красная сафьяновая книжка лежала на столе полковника Малинина.
Лётчик оказался прав: в книжке действительно был ряд записей, не оставлявших сомнений в подлинной профессии её владельца. Когда эти записи были расшифрованы и переведены, полковника Малинина особенно заинтересовали те, в которых упоминался полковник Сергей Павлович Леонтьев.
В одной из этих записей значилось: «Полковник Грейвуд сегодня передал для доклада генералу, что переговоры с полковником Леонтьевым, до этого не дававшие никаких результатов, наконец продвинулись. Сергей Леонтьев, после того как ему было обещано возвратить сына на определённых условиях, эти условия принял. Однако он соглашается дать письменное обязательство лишь в тот день, когда сын будет к нему доставлен. Связь с Леонтьевым будет поддерживать полковник Нортон. Доложено генералу 27 августа в 3 часа».
Вторая запись, также относящаяся к Леонтьеву, гласила следующее: «Сегодня полковник Грейвуд передал для генерала следующее сообщение: когда Леонтьеву было показано письмо, собственноручно написанное его сыном, а также предъявлена фотография, снятая в лагере, где тот содержится, Леонтьев заплакал и подписал письменное обязательство сотрудничать с нами. Нортон считает необходимым вернуть Леонтьеву сына. Грейвуд считает полезным пока не торопиться с этим, тем более что сын Леонтьева отказался стать нашим сотрудником».
Третья запись Уолтона была особенно важна:
«Сегодня Леонтьев передал через Вирта-Райхелля дислокацию советских военных частей в округе, комендантом которого он является. Этот материал, не представляющий особого интереса, был нами заказан для проверки — намерен ли Леонтьев всерьёз выполнять свои обязательства. Леонтьев также передал список офицеров, командующих погранпунктами на границе советско-американской зоны. Грейвуду передано указание генерала — переслать Леонтьеву через Нортона пятьсот долларов в качестве первого аванса».
И, наконец, на последнем листке книжки было записано:
«Сегодня в полдень передал Грейвуду приказ генерала: полковника Нортона, перепутавшего по халатности конверты, в связи с чем заместитель Леонтьева получил чек, предназначенный последнему, снять с поста и откомандировать в США, где будет рассмотрен вопрос об его ответственности. Связь с Леонтьевым пока прекратить».
Таким образом, все эти записи не только устанавливали факт измены полковника Леонтьева, но и подтверждали показания Райхелля-Вирта и Киндермана, а достоверность записей подтверждалась эпизодом с чеком, попавшим по ошибке в руки Глухова.
При этих условиях переданное Лоонтьеву Нортоном извинение Грейвуда можно было истолковать как попытку разведчика спасти своего агента, стоящего на грани разоблачения из-за неосторожности его хозяев.
Полковник Малинин прежде всего проверил, является ли майор, потерявший записную книжку, тем самым майором Уолтоном, который действительно работает в американской военной разведке в качестве адъютанта генерала Брейтона, одного из руководителей этой разведки в Берлине. Малинину удалось получить фотографию майора Уолтона. Когда она была предъявлена советским лётчикам Антонову и Свирину, познакомившимся с американским майором в кабаре «Фемина», они сразу заявили: да, это фотография того самого майора, который познакомился с ними в кабаре и в пьяном виде потерял свою записную книжку.
Таким образом, в руках Малинина оказалась несомненно подлинная записная книжка сотрудника американской военной разведки. Записи, сделанные майором Уолтоном в этой книжке, вполне соответствовали функциям, которые он выполнял по своей должности адъютанта.
Ввиду серьёзности дела полковник Малинин связался с Москвой и сообщил об обстоятельствах, при которых записная книжка майора Уолтона оказалась в его распоряжении.
Через два часа Москва ответила, что в Берлин в связи с этим делом в тот же день вылетает полковник Ларцев.
Ларцев вступает в игру
Несколько часов, проведённых Григорием Ефремовичем Ларцевым в самолёте Москва — Берлин, дали ему возможность обдумать дело, по которому он так срочно вылетел.
Ларцев был командирован в Берлин потому, что шла речь о двоюродном брате конструктора Леонтьева и подозрение, коснувшееся Сергея Леонтьева, не могло не насторожить тех, кто нёс ответственность за сохранение в тайне работ Николая Петровича.
Григорий Ефремович, естественно, знал, что брат конструктора был во время войны командиром танкового полка, а теперь работает комендантом города в советской зоне оккупации. Ларцеву было известно и о том, что жена коменданта погибла на фронте, а его единственный сын был угнан в Германию и до настоящего времени не возвратился.
Обо всём этом Ларцев был осведомлён, потому что обязан был знать решительно всё, что имело какое-либо отношение к его «подопечному» — конструктору Леонтьеву.
Теперь, сидя в удобном кресле самолёта, Григорий Ефремович размышлял о том, какое же отношение к конструктору Леонтьеву могут иметь факты, неожиданно всплывшие в связи с делом его двоюродного брата? Представляет ли полковник Сергей Леонтьев интерес для американской разведки сам по себе или это как-то связано с его двоюродным братом, имя которого, как крупного советского конструктора-ракетчика, достаточно известно?
Если американской разведке удалось завербовать Сергея Леонтьева, то не является ли вербовка попыткой «подобрать ключи» к его двоюродному брату? Если же Сергей Леонтьев на самом деле ни в чём не виноват, то с какой целью его оговаривают немцы, давшие на него показания? Кем и для чего организован такой оговор? Да и оговор ли это? Ведь показания немцев находят подтверждение в записной книжке американского разведчика, в эпизоде с присланным чеком…
А вдруг всё это: и показания двух немцев, и записная книжка, и эпизод с чеком — звенья одной цепи, детали коварного и хитро задуманного плана?
И Ларцев по старой привычке мысленно поставил себя на место полковника Грейвуда: как бы он поступил, имея задачу так или иначе «найти ход» к конструктору Леонтьеву? Да, в этом случае имело смысл завербовать его двоюродного брата. Это — самый короткий и прямой ход. Ну, а если осуществить этот ход невозможно и нет никаких шансов на то, что советский офицер согласится сотрудничать с американской разведкой? Что должен предпринять полковник Грейвуд в этом, более чем вероятном случае?
Поставив сам себе этот вопрос, Ларцев не мог найти достаточно ясного ответа. В самом деле, какой смысл Грейвуду начинать такую сложную игру вокруг Сергея Павловича Леонтьева? Ведь сам по себе он не может особенно заинтересовать разведку. Зачем нужно американцам скомпрометировать Сергея Леонтьева, если это ни на шаг не приблизит полковника Грейвуда к его главной цели? Известно, что первым дал показание о Леонтьеве агент Грейвуда Райхелль-Вирт, задержанный при попытке похитить научные труды профессора Вайнберга. Однако Вирт ведь мог совершить это похищение самым благополучным образом и остаться на свободе.
На что же рассчитывал Грейвуд, давая Вирту задание похитить труды профессора?
Так, последовательно анализируя все обстоятельства этого запутанного дела, Ларцев пришёл к выводу, что ключом, открывающим эти загадки, является эпизод с профессором Вайнбергом. Необходимо внести ясность в такой вопрос: представляют ли рукописи профессора Вайнберга столь значительный интерес для американской разведки, что для овладения ими она пошла на такой рискованный ход, как похищение их из дома профессора?
Но и на этот вопрос было не так просто ответить: во-первых, американская разведка могла переоценить научное значение труда профессора Вайнберга; во-вторых, Грейвуд, потерпев неудачу в попытке убедить профессора перебраться в американскую зону, мог задумать похищение его научных трудов. Наконец, эти научные труды могли и в самом деле представлять какой-то исключительный интерес — ведь профессор Вайнберг известен как крупный физик, много лет работающий в области атомной физики.
Так, выдвигая одну версию за другой и неторопливо анализируя каждую из них, полковник Ларцев не заметил, как промелькнули несколько часов и его самолёт очутился на берлинском аэродроме.
Выйдя из самолёта, он сразу увидел полковника Малинина, с которым много лет вместе работал и очень дружил.
Старые друзья расцеловались и, сев в машину, помчались на квартиру Малинина. Здесь полковник рассказал Ларцеву все подробности дела и личные впечатления от допроса Вирта и Киндермана.
Малинин информировал Ларцева, что несколько часов тому назад получено известие, косвенно подтверждающее запись в книжке Уолтона: вчера полковник Нортон сдал дела новому коменданту и срочно вылетел в США.
До поздней ночи два старых чекиста обсуждали план дальнейших действий, спорили, выкурили бесчисленное количество папирос и выпили не один стакан крепкого чая.
Ларцев и Малинин отметили отсутствие в показаниях Вирта упоминания о том, что Леонтьев передал ему для Грейвуда дислокацию советских военных частей своего округа и список офицеров, командующих погранпунктами.
— Это, дружище, могло произойти по двум причинам, — сказал Малинину Ларцев, — либо этого факта в действительности не было, и потому Вирт ничего о нём не сказал, либо такой факт имел место, но Вирт о нём умалчивает, желая как обвиняемый преуменьшить свою роль в деле.
— Я тоже так полагаю, — ответил Малинин, — и ещё вчера днём поручил следователю Ромину дополнительно допросить Вирта по этому вопросу.
— А почему ты не сделал этого сам? — спросил Ларцев. — Помнится, ты мне как-то говорил, что не очень доволен работой Ромина. Или я ошибаюсь?
— Нет, ты прав, Григорий, — ответил Малинин. — Ромин действительно своеобразный следователь. Он, правда, энергичен и настойчив, но не умеет анализировать улик и чересчур увлекается погоней за признанием обвиняемого.
— Опасное увлечение, — усмехнулся Ларцев, — я всегда считал, что ставка исключительно на признание, как на «царицу всех доказательств» — так считали ещё при царе Петре, — свидетельствует либо о неспособности следователя, либо, в худшем случае, об его недобросовестности. Для настоящего следователя признание лишь тогда ценно, когда оно увенчивает целую систему доказательств, прямых и косвенных улик, добытых трудом и вдумчивым анализом обстоятельств. Да и разные бывают признания — подчас преступник признаёт себя виновным в одном преступлении, чтобы скрыть другое, более опасное…
— Я не могу сказать, что Ромин недобросовестен, — задумчиво произнёс Малинин, — но, понимаешь, Григорий, меня всегда смущали в нём какая-то чрезмерная, патологическая подозрительность, очень равнодушное и холодное отношение к судьбам людей, дела которых находятся в его производстве, наконец, какое-то циничное и очень мне неприятное отсутствие веры в человека… Кроме того, я замечал, что Ромин — следователь с сильно выраженным обвинительным уклоном, именно в этом отношении у него проявляются какие-то элементы цинизма по известной формуле «был бы человек, а статья найдётся»…
— В таком случае я удивляюсь тебе, Пётр, — сердито воскликнул Ларцев. — Зачем ты держишь этого Ромина, да ещё поручаешь ему допрос Вирта по этому делу! Ведь мы с тобой старые работники и хорошо помним слова Феликса Эдмундовича о том, что чекист, у которого очерствело сердце, уже не может быть чекистом… Эх, напрасно ты поручил Ромину допрос Вирта! — с досадой махнув рукой, добавил Ларцев.
— Ты прав, ничего не могу сказать, — смущённо ответил Малинин. — Вот утром приедем на работу, и я прикажу передать дело Вирта другому следователю.
Решив утром собрать оперативное совещание работников, усталые после бессонной ночи, старые друзья пошли отдыхать. Но оба ещё долго не могли заснуть. Малинин, понимая правоту Ларцева, не мог себе простить, что поручил Ромину допрашивать Вирта. А Ларцев, неотступно обдумывая неясности и противоречия дела, продолжал поиски новых ходов и решений.
Утром, когда Малинин и Ларцев приехали на работу, их уже поджидал Ромин с обычным для него уверенным, а на этот раз даже торжественным выражением лица.
— Важные новости, товарищ полковник, — многозначительно произнёс он, поздоровавшись с Малининым и Ларцевым.
— Именно? — сухо спросил Малинин. Его всегда коробил чрезмерно самоуверенный тон Ромина, странно сочетавшийся с манерой искательно заглядывать при докладе в глаза начальству.
— Допросил Вирта, Пётр Васильевич, — ответил Ромин. — Пришлось повозиться. В конце концов удалось привести его к сознанию. Он подтвердил, что получил от полковника Леонтьева и передал Грейвуду дислокацию советских военных частей и фамилии офицеров-пограничников в округе. Вот протокол допроса. — Ромин торжественно протянул полковнику Малинину большой протокол.
Ларцев и Малинин молча переглянулись.
— Хорошо, товарищ Ромин, — произнёс после небольшой паузы Малинин, — оставьте протокол, мы вас потом вызовем.
Ларцев и Малинин стали читать протокол. В первой его части были зафиксированы ответы Вирта, в которых он отрицал получение от Леонтьева каких бы то ни было секретных сведений. В конце протокола было написано так:
«Вопрос: Следствие ещё раз предлагает вам прекратить запирательство и дать откровенные показания о вашей личной преступной связи с полковником Леонтьевым.
Ответ: Желая вступить на путь полного и чистосердечного признания, я решил рассказать всю правду, которую вначале пытался скрыть. Действительно, выполняя задание полковника Грейвуда, я один раз явился к полковнику Леонтьеву и получил от него для передачи Грейвуду секретные сведения о дислокации советских военных частей в этом округе. Насколько я помню, в этих сведениях содержался конкретный перечень частей и указание пунктов, в которых они размещены. Эти сведения были написаны рукой самого Леонтьева на двух листах бумаги, на русском языке. Кроме того, Леонтьев передал мне список офицеров, командующих пограничными пунктами в его округе. Получив эти сведения, я передал их Грейвуду через связного, который прибыл по его поручению из Нюрнберга. Хорошо помню, что листы, на которых были написаны эти сведения, были разграфлены в клетку. Признавая со всей искренностью этот факт, я прошу извинить меня за то, что вначале из трусости пытался его отрицать».
Протокол был написан по-русски, но к нему был приложен текст того же ответа, написанного самим Виртом на немецком языке.
— Оперативный товарищ, — проворчал Ларцев, — только получил задание допросить, глядишь, через сутки уже признание принёс и даже «чистосердечное», как сформулировано в протоколе. Эх, Пётр, Пётр, что я тебе говорил!
— Но мы можем лично передопросить Вирта и в конце концов проверить, так это или не так… — смущённо произнёс Малинин.
— Проверить? — протянул Ларцев. — Не мне слушать, не тебе говорить! Ведь такой Ромин именно тем и опасен, что потом стоит огромных трудов разобраться, какое показание получено нормальным и добросовестным образом, а какое подсказано, вольно или невольно, неопытным или чрезмерно увлекающимся, или просто недобросовестным следователем. Такому обвиняемому, как этот Вирт, в конце концов ничего не стоит оговорить советского человека. А если он ещё почувствовал, что лишнее показание, лишний оговор могут смягчить его судьбу, он пойдёт на это без всяких колебаний! Дав такие показания, он уже будет отстаивать их, чтобы не выглядеть провокатором. Вот почему именно в таком деле, при таком обвиняемом добросовестность следователя, его осторожность, умение избегать наводящих вопросов приобретают решающее и важнейшее значение!.. Поставь себя мысленно на место этого Вирта: он дрожит за свою шкуру, он уже признал, что является сотрудником американской разведки и работал против нас. Теперь для него главный вопрос, над которым он думает день и ночь, — это вопрос, как сохранить жизнь, как выйти с наименьшими потерями из положения, в которое попал? И вот приходит такой Ромин и начинает на него нажимать, что он, дескать, рассказал не всё, что скрыл факт получения документов от Леонтьева и это свидетельствует об особой злостности преступления и самого преступника, в то время как чистосердечное признание — единственная возможность спасения и так далее в этом роде… Подумает-подумает такой Вирт и в конце концов решит: «Ну, если следователь так хочет, если он так уверен — мне-то зачем с ним спорить? Ведь я уже признал, что являюсь сотрудником разведки, почему же мне не согласиться с этим следователем и не признать, что я получил ещё и какой-то пакет у Леонтьева? На его судьбу мне в высшей степени наплевать, а мою судьбу такое признание улучшит. И вот появляется этот протокольный штамп: «Желая встать на путь полного и чистосердечного признания…» А потом разбирайся, где тут правда, а где — от лукавого!..
Ларцев говорил взволнованно, и Малинин хорошо понимал его волнение. Ведь речь шла о жизни и чести советского офицера, коммуниста, человека с безупречной биографией, верно служившего своей партии и Родине. Если Сергей Леонтьев был именно таким, то ошибка в отношении него была бы непростительной.
Если Леонтьев действительно преступник, если по каким бы то ни было побуждениям стал на путь предательства, то никакая биография и никакие заслуги не смягчали этой измены и не могли её оправдать. Её не оправдывала и история с сыном, в обмен на которого он, если верить записной книжке майора Уолтона, согласился стать предателем…
И в этом случае они, Ларцев и Малинин, были обязаны как можно скорее разоблачить этого человека, ставшего государственным преступником, врагом, разоблачить, преодолев все трудности и применив свой многолетний опыт, энергию, все свои возможности и силы…
Да, в этом необычном деле было от чего взволноваться и над чем задуматься!
***
Оперативное совещание началось в полдень, как только в Берлин примчался на машине спешно вызванный Бахметьев. Кроме него, в совещании участвовали Ромин и заместитель Малинина — подполковник Белов, высокий человек в очках, за которыми поблескивали продолговатые, живые глаза.
Бахметьев подробно доложил о том, как в поле зрения его сотрудников попал Райхелль-Вирт, как было установлено, что этот человек присвоил себе фамилию погибшего в концлагере антифашиста Курта Райхелля и как в конце концов он был задержан при попытке похитить труды профессора Вайнберга.
Рассказав, что Вирт при первом же допросе признался, выдал свою агентуру и сообщил, что полковник Леонтьев является осведомителем Грейвуда, Бахметьев откровенно и решительно высказал своё мнение.
— Считаю свои долгом заявить, что полковник Леонтьев производит самое хорошее впечатление. Он честно и много работает, скромно живёт, его любят подчинённые, наконец, что тоже любопытно, немецкое население города относится к нему с большим уважением. Кроме того, когда по поручению полковника Малинина я завёл с Леонтьевым разговор о судьбе его сына, Леонтьев сразу, без тени смущения, сообщил мне о письме, полученном с оказией от Грейвуда, и сам показал мне это письмо. Таким образом, показания Вирта в этой части нашли совсем иное объяснение, чем можно было раньше предполагать.
— Позвольте задать вопрос товарищу Бахметьеву, — обратился к Малинину следователь Ромин и, получив разрешение, спросил:
— Вирт показывал, что Леонтьеву был передан пакет, опечатанный сургучной печатью? Так?
— Да, так, — ответил Бахметьев.
— Можно ли исключить, что в этом пакете, помимо невинного письма Грейвуда, в котором тот сообщил о сыне Леонтьева, было ещё и другое письмо, которое Леонтьев вам не показал?
— Окончательно исключить такой вариант я не могу, но лично мне в это не верится, — спокойно произнёс Бахметьев.
— Вопросов больше не имею, — многозначительно протянул Ромин, с ухмылкой взглянув на Бахметьева.
— Но у меня есть вопрос к подполковнику Ромину, — вмешался Ларцев. — Значит, подполковник Ромин допускает, что в этом пакете было другое письмо Грейвуда?
— Совершенно верно, почти убеждён, — быстро ответил Ромин.
— Понимаю, в таком случае прошу объяснить, с какой целью Грейвуд вложил в тот же пакет письмо, в котором сообщал о розыске сына Леонтьева?
— Ну, это легко объяснить, — ответил, улыбаясь, Ромин. — Такое письмо было написано с определённой целью. Если Вирт завалится и расскажет о пакете, Леонтьев благодаря этому невинному письму получает возможность отвести от себя подозрения, и, как видите, этот ход себя оправдал: товарищ Бахметьев уже верит Леонтьеву…
Ромин саркастически улыбнулся.
— Пока очень логично, товарищ Ромин, — с трудом сдерживая гнев, тихо сказал Ларцев. — Но я приглашаю вас развить эту версию. Пойдём дальше. Значит, давая такое объяснение, вы допускаете, что Грейвуд заранее предвидел возможность провала Вирта, во-первых, и то, что этот Вирт сразу сознается нам, во-вторых. Так?
— Разумеется, товарищ полковник, — ответил Ромин, ещё не понимая, к чему ведёт этот вопрос.
— Зачем же в таком случае Грейвуд посвятил Вирта в то, что Леонтьев является осведомителем американской разведки? Почему он не предвидел, что Вирт расскажет и об этом? Тем более, согласитесь, что никакой нужды посвящать Вирта в это дело у Грейвуда не было.
— Гм… Тут могут быть разные объяснения, — неуверенно произнёс Ромин. — Грейвуд тоже мог просчитаться…
— Конечно, мог, как можете просчитаться и вы, Ромин, — сказал Ларцев. — Как может просчитаться любой из нас. Весь вопрос, как мне думается, сводится именно к этому. Просчёт это или, напротив, очень тонкий расчёт. Это вам в голову не приходит?
— Ну, какой же расчёт, товарищ полковник? — ответил Ромин. — Ведь Вирт у меня на допросе признался и в том, что лично получил от Леонтьева и переправил Грейвуду секретные сведения. Эти показания Вирта подтверждаются записями в книжке Уолтона. А это уже вещественное доказательство, с которым не может не посчитаться любой суд…
— До суда ещё далеко, товарищ Ромин, — заметил Ларцев. — Пока мы ещё ведём следствие, и рано гадать, к чему оно в конечном счёте приведёт… Не будем торопиться с выводами, здесь не бега, и побеждает, как правило, не тот, кто торопится первым примчаться к финишу.
— Бега не бега, но оперативность в нашем деле тоже важна, — проворчал Ромин.
— Слово подполковнику Белову! — прервал его Ларцев.
Белов подробно доложил, как к нему явились советские лётчики Антонов и Свирин, подобравшие записную книжку Уолтона в ночном кабаре «Фемина». Уолтон, как показала проверка, действительно является сотрудником американской военной разведки, его фотография опознана обоими лётчиками.
— Таким образом, уже не вызывает сомнений, — в заключение сказал Белов, — что мы имеем подлинную записную книжку подлинного сотрудника американской военной разведки, и с этой стороны у меня лично не возникает никаких вопросов. Но зато возникает другой…
— Какой именно, товарищ Белов? — с интересом спросил Ларцев, которому Белов понравился спокойной манерой докладывать.
— Сейчас отвечу, — сказал Белов. — Мне кажется странным, что майор Уолтон вносил такие секретные записи в свою личную записную книжку и, более того, таскал эту книжку с собой. Кажется странным и то, что майор Уолтон по собственной инициативе подошёл к столику наших лётчиков буквально через несколько минут после их появления в кабаре. Оба лётчика, кстати, были в военной форме. Создаётся впечатление, что майор Уолтон только и ожидал появления в кабаре советских офицеров, чтобы завязать с ними знакомство, а затем «потерять» свою записную книжку…
— Ну, уж это ты, товарищ Белов, больно мудрствуешь, — не выдержав, вскочил Ромин. — Во-первых, этот американский майор был сильно пьян; во-вторых, ничего удивительного нет в том, что, будучи адъютантом, он записывал сообщения, которые обязан был доложить своему начальству. И в том, что записная книжка была при нём, тоже нет ничего удивительного. Мало ли что бывает?
— Одну минуточку, товарищ Ромин, я ещё не кончил, — очень спокойно сказал Белов. — Есть ещё одно странное обстоятельство в этом деле: Уолтон так же внезапно исчез, как и появился. Если он действительно был так сильно пьян, то непонятно, почему он вдруг счёл нужным покинуть кабаре, даже не простившись с лётчиками, к которым вдруг воспылал такой горячей симпатией…
— Совершенно с вами согласен, товарищ Белов, — воскликнул Ларцев. — Всё, что вы говорите, приходило в голову и мне. Однако, с другой стороны, мы не можем исключить того, что Уолтон именно благодаря нетрезвому состоянию вдруг решил куда-нибудь пойти. К поведению пьяного человека нельзя подходить с меркой обычной логики. Он мог встретить знакомую женщину или приятеля и уйти с ними…
— Да, конечно, — улыбнулся Белов.
— Теперь у меня есть к вам один вопрос, — продолжал Ларцев. — Вы точно установили, что лётчики, покидая кабаре, просили метрдотеля сообщить майору, что они подобрали его записную книжку и он может получить её у них в гостинице?
— Да, именно так, товарищ Ларцев, — подтвердил Белов. — Я специально интересовался этим вопросом, и оба лётчика сказали, что такой разговор с метрдотелем у них был.
— И Уолтон ни разу не звонил к ним в гостиницу?
— Да, по крайней мере, до вчерашнего дня, — ответил Белов. — Но, может быть, он ещё позвонит. Антонов и Свирин пока находятся в Берлине и живут в том же номере, где они остановились в день приезда.
— Очень хорошо, — с довольным видом сказал Ларцев. — Теперь, выслушав доклады товарищей Бахметьева и Белова, я хотел бы выслушать ваше мнение, товарищ Ромин, — обратился он к следователю. — Или вам нечего добавить к тем репликам, которые вы уже произнесли?
— Нет, почему же, мне есть что добавить, — сказал Ромин, вставая. — После того как Вирт подтвердил получение секретных документов от Леонтьева, после того как показания Вирта косвенно подтверждены Киндерманом, после того как произведённой проверкой установлена подлинность записной книжки майора Уолтона и факт его службы в американской разведке, наконец, после эпизода с чеком я полагаю, что пришла пора для отстранения полковника Леонтьева от должности и его ареста.
— Ареста? — воскликнул взволнованно Бахметьев. — Я категорически высказываюсь против!..
— Понятно, — спокойно произнёс Ларцев. — А каково мнение товарища Белова по этому вопросу?
— Я думаю, что постановка вопроса об аресте ещё преждевременна, товарищ Ларцев, — спокойно ответил Белов. — И особенно — в свете тех сомнений, которые я только что высказал.
— Что думаешь ты, Пётр Васильевич? — обратился Ларцев к Малинину, который до этой минуты не проронил ни одного слова.
— Прежде чем ответить на этот вопрос, Григорий Ефремович, — как всегда тихо, ответил Малинин, — я хотел бы задать вопрос автору предложения об аресте Леонтьева. Скажите, подполковник Ромин, задумались ли вы хоть раз над текстом статьи 158 Уголовно-Процессуального Кодекса, перечисляющей основания для применения ареста?
— Я знаю УПК наизусть! — запальчиво произнёс Ромин.
— Докажите, — бросил Малинин.
— Пожалуйста, — произнёс Ромин и продолжал очень отчётливо, чуть ли не декламируя, — статья 158‑я УПК гласит, что арест обвиняемого в стадии следствия по его делу может быть произведён лишь в том случае, если преступление, за которое обвиняемый привлекается к ответственности, влечёт за собой лишение свободы на срок не менее одного года, если нахождение обвиняемого на свободе может помешать ходу следствия, наконец, если есть основание опасаться, что оставаясь на свободе, обвиняемый может скрыться от следствия и суда или помешать установлению истины…
— У вас отличная память, Ромин, — так же тихо произнёс Малинин, и нельзя было понять, то ли он доволен ответом Рсмина, то ли, напротив, им возмущён. — Но, может быть, в дополнение к оглашённому вами тексту 158‑й статьи вы ещё изложите другие требования закона при избрании такой меры пресечения?
— Пожалуйста, — ответил Ромин, — хотя все присутствующие знают эти требования наизусть. Всякий гражданин может быть арестован в стадии следствия лишь при том непременном условии, что его вина достаточно доказана.
— Совершенно верно, — перебил Ромина Малинин, — наш закон исходит из принципа, что, пока обвинение не доказано, человек считается невиновным. Остаётся только добавить, что советский закон обязывает следователя собирать данные как уличающие обвиняемого, так и оправдывающие его. Я вижу, подполковник Ромин, что вы действительно вызубрили УПК наизусть, именно вызубрили, а не поняли, не вдумались в закон. Пора понять, что всякий арест — это не только арест Иванова или Сидорова, или Леонтьева, но и удар по его близким, друзьям, знакомым. Что это расходится, как круги по воде… Есть ли у вас основания считать, что Леонтьев скроется или помешает следствию? Пока что — никаких оснований! Вот почему, Григорий Ефремович, при всей грозности улик в отношении полковника Леонтьева я пока не считаю эту меру необходимой.
— Что ж, я рад, что из нас пятерых четверо высказываются против ареста Леонтьева. Я сказал — четверо, потому что тоже стою на такой точке зрения, — как бы подвёл итог обсуждению этого вопроса Ларцев. — Арест может стать бесспорной необходимостью, когда прояснятся все неясные моменты.
— Одну минуточку, — перебил Ларцева Ромин, — позвольте мне всё-таки мотивировать своё предложение. Из записей в книжке явствует, что полковник Леонтьев изменил Родине и стал агентом американской разведки. Он пошёл на это, чтобы спасти сына, находящегося в лагере для перемещённых лиц. Для объективности хочу заметить: как говорит одна из записей, Леонтьев отказался от денег, которые ему предлагали американцы. Но факт остается фактом: Леонтьев изменил Родине.
— Чем, кроме книжки, установлен этот факт, товарищ Ромин? — спросил Ларцев.
— Многими обстоятельствами. Во-первых, установлено, что сын Леонтьева действительно был увезён немцами в Германию и что Леонтьев тревожится за его судьбу…
— Естественно, — пожал плечами Ларцев.
— Конечно, — продолжал Ромин. — Но это косвенно подтверждает запись в книжке. Но записи в книжке подтверждены не только в этой части, но и во многом другом. Мы задержали Анну Вельмут — одного из трёх агентов американской разведки, имена и клички которых значатся в этой книжке. Так вот, Анна Вельмут, она же мадам Никотин, призналась, что действительно является агентом. Вот её показания.
И Ромин положила на стол Малинину протокол допроса Анны Вельмут.
— Я полагаю, кстати, — продолжал Ромин, — что следует арестовать двух других агентов, имена и клички которых значатся в записной книжке.
— Не будем торопиться, — заметил Ларцев.
— И наконец, последние данные, — продолжил Ромин. — Я собрал старые материалы на этого Леонтьева. В тридцать седьмом был репрессирован его дружок, бригадный комиссар Греков. Леонтьев тогда отказался дать показания на Грекова. Больше того: на закрытом партийном собрании Леонтьев выступил с заявлением, что не верит в виновность Грекова. Леонтьева тогда исключили из партии, но потом заменили исключение строгачом.
— Ну, и что же дальше? — спросил Ларцев.
— А дальше его взяли под наблюдение. Есть донесение, что он помогал семье Грекова.
— А какова судьба Грекова? — спросил Малинин.
— Осуждён, конечно, — ухмыльнулся Ромин.
— Почему «конечно»? — вспыхнул Ларцев.
— Раз взяли, то не для того же, чтобы выпускать, — с той же ухмылкой ответил Ромин. — Но это ещё далеко не всё. В начале войны Леонтьев вёл недопустимые разговоры. Так, он говорил, что наши вооружённые силы оказались недостаточно подготовленными. Вспоминал того же Грекова, говоря, что он безвинно погиб. И наконец, расхваливал немцев.
— Расхваливал? — удивился Ларцев.
— Да. Он говорил, что немцы здорово воюют. В конце сорок первого года даже стоял вопрос об аресте Леонтьева в связи с этими данными. Леонтьев был тогда майором.
— Откуда это известно? — спросил Ларцев.
— Я служил в Особом отделе этого фронта и готовил справку на арест Леонтьева. Теперь я запросил архив и получил все документы. Вот они.
И Ромин протянул Ларцеву документ. Прочитав его, Ларцев сказал:
— Да, вот резолюция члена Военного совета: «Леонтьев прекрасный командир и хорошо воюет. Оставьте его в покое, тем более, что в том, что он говорил, немало горькой правды». Ну, а как у вас, в Особом отделе, реагировали на эту резолюцию члена Военного Совета?
— Без санкции его мы не могли арестовать офицера, — ответил Ромин. — Мы взяли на карандаш самого члена Военного Совета.
Ларцев внимательно поглядел на Ромина, потом зашагал из угла в угол кабинета, и после затянувшейся паузы, подойдя к Ромину, сказал:
— Ну, а теперь скажите мне откровенно: вот, кончилась война, мы победили, дело уже прошлое, как говорят, как вы считаете — мы были достаточно подготовлены к войне?
— Такие разговоры, какие вёл Леонтьев, я считал, считаю и буду считать преступлением, — отчеканил Ромин.
— Подождите, — поморщился Ларцев. — Мы воевали со слабым или с сильным противником?
— С сильным, конечно, — ответил Ромин.
— Значит, немцы хорошо дрались?
— Расхваливание врага — военное преступление, — вновь отчеканил Ромин.
Ларцев снова и пристально на него поглядел, а потом сказал:
— Ну, тогда у меня последний вопрос: вы считаете преступным, что Леонтьев помогал семье Грекова?
Ромин взорвался:
— Что вы меня экзаменуете! — закричал он с перекошенным от злости лицом. — Я докладываю материалы, а вы мне задаёте какие-то странные вопросы, товарищ полковник! С такими вопросами можно далеко зайти, товарищ Ларцев, если прямо говорить!
— Минутку, минутку! — встал за своим столом Малинин. — Давайте, однако, ближе к делу. Мы ведь хотели поговорить с этой немкой. Товарищ Ромин, приведите её сюда. А вы свободны, товарищ Белов.
Ромин и Белов вышли из кабинета, и Малинин, плотно прикрыв за ними дверь, подошёл к Ларцеву и почему-то перейдя на шёпот, произнёс:
— Да ты что, с ума спятил?!. Ведь не маленький, видишь, что это за птица!.. Разве можно с ним так говорить?!. Да он и тебя возьмёт «на карандаш» и пошлёт «телегу» на нас обоих в Центр. Знаешь, что нам будет: тебе — за то, что говорил, а мне — за то, что слушал и молчал…
— А ты не молчи, крой меня во всю! — бросил Ларцев.
Малинин вздохнул и развёл руками:
— Да ведь крыть-то нечем… Но и молчать нельзя! Эх, Гриша, какой ты всё-таки не гибкий!.. Послушай, я ведь тебе как старому другу… Надо учитывать обстановку…
— Обстановку! — поморщился Ларцев. — Не знай я тебя почти тридцать лет, не знай я, как Малинин один на трёх диверсантов ходил, как на Украине, когда мы батьку Ангела брали, меня, раненого, на себе под пулемётным огнём вытащил — я бы тебе в рожу плюнул!.. Ты что, готов на арест Леонтьева, чтобы Ромину угодить? Чтобы он на тебя «телегу» не послал? Боишься! Ромина боишься, орёл!..
— Боюсь, — тихо сказал Малинин. — И дело не только в Ромине, дело ведь и в существе самого дела, Григорий!.. Скажешь, не так? Ну, что же ты молчишь?
— Не верится мне, что Леонтьев предатель, не верится, — ответил Ларцев.. — И эти материалы, о которых сказал Ромин, они ведь тоже говорят за Леонтьева, а не против него, по совести говоря.
— Да, но всё-таки улики! — развёл руками Малинин.
— Улики, не спорю, — задумчиво продолжал Ларцев. — Но за ними стоит живой человек — коммунист, боевой офицер! Как можно не принимать это во внимание?
Малинин подошёл к Ларцеву, обнял его за плечи и взволнованно произнёс:
— А ты всё такой же, как я погляжу… И тогда, в тридцать седьмом, говорил о том же, и по приказу наркома вылетел на Север…
— А чем кончил этот нарком? — тихо спросил Ларцев.
В этот момент дверь кабинета открылась, и на пороге её появилась Анна Вельмут, она же мадам Никотин — женщина лет сорока на вид, со следами былой красоты на лице. За её спиной стоял Ромин.
— Арестованная Анна Вельмут доставлена, — доложил Ромин.
— Здравствуйте, господа, — совершенно спокойно и с большим достоинством ответила Анна Вельмут.
— Здравствуйте. Садитесь, Анна Вельмут, — подчёркнуто вежливо произнёс Малинин и указал арестованной на кресло перед маленьким столиком, с другой стороны которого сел Ларцев.
— Мерси, — так же спокойно сказала Вельмут и села в указанное ей кресло.
— Судя по вашей кличке, вы курите? — спросил её Ларцев.
— Клички дают собакам и ворам, — ответила Анна Вельмут. — Псевдоним, вы хотите сказать. Да, я курю.
Ларцев чуть заметно улыбнулся и протянул арестованной портсигар.
— Этот псевдоним выбирала не я. Когда в Берлине после капитуляции меня вызвал майор Пирсон и предложил возобновить отношения, то я попросила, помимо прочего, четыре блока сигарет «Честерфилд» в месяц. Он сразу согласился и сказал, что моим новым псевдонимом будет «мадам Никотин».
— А какой был прежде? — спросил Малинин.
— Генрих, — ответила арестованная. — Я получила его в сорок первом году в Женеве, когда стала агентом американской разведки. Тогда я имела дело с генералом Маккензи. После подписания контракта меня перебросили в Берлин.
— Контракта? — спросил Ларцев.
— Ну, ангажемента, если хотите, — улыбнулась Вельмут. — Были оговорены условия, я подписала обязательство, мне дали задание, я его приняла. Типичный контракт, как при всякой сделке.
— Эта сделка могла вам стоить головы, Анна Вельмут, — заметил Ларцев.
— Когда акробат работает под куполом цирка, это тоже может стоить ему головы, — ответила мадам Никотин, — но это его профессия.
— Вы хотите сказать, что являетесь профессиональной шпионкой? — спросил Ларцев.
Анна Вельмут поморщилась.
— Это опять-таки вопрос терминологии, — протянула она. — Если человек работает на вас, то вы, я полагаю, именуете его героическим разведчиком? Но если он работает против вас, вы называете его подлым шпионом. В этом, конечно, есть своя логика. Так вот: в годы войны, работая на американцев, я тем самым работала на вас. Поэтому, хотя бы в этот период времени рассматривайте меня как разведчицу. Ну, а в послевоенное время, когда я стала работать против вас, считайте меня шпионкой. Не возражаю. Да, я профессионал. До сорок второго года я работала на французов, но потом перешла к американцам. Я никогда не сочувствовала Гитлеру.
— А кому вы сочувствуете? — спросил Малинин.
— Главным образом самой себе, — ответила Анна Вельмут. — Можно ещё сигарету?
— Возьмите всю пачку, — сказал Ларцев и протянул сигареты арестованной.
— Мерси, вы очень любезны, — с достоинством ответила женщина и вновь закурила.
— Скажите, Анна Вельмут, чем вы объясняете свой провал? — продолжал Ларцев. — Ведь вы — опытный человек.
— Ума не приложу!.. Я ничем себя не выдала. До ареста за мной не велось наблюдение, даже самое тонкое. Я бы сразу это «срисовала», поверьте моему опыту. Я всегда работала в одиночку и, следовательно, никто не мог меня выдать… И вот все эти дни я задаю себе один и тот же вопрос: кто меня провалил? Иногда мне приходит на ум, что меня просто обменяли. Если так, то хоть на что-нибудь стоящее?
Ларцев засмеялся.
— Мы не занимаемся обменными операциями, — сказал он. — А почему вам пришла в голову такая странная мысль?
— Мне показалось, что в последнее время интерес майора Пирсона ко мне заметно ослабел. Он встречался со мной очень редко, и у меня даже создалось впечатление, что он просто не знает, что бы мне поручить. Секретный агент, как и женщина, всегда чувствует, когда к нему падает интерес… А ведь я и женщина, и агент…
— Ясно. Мы ещё встретимся, Анна Вельмут, — сказал Ларцев. — Что касается сигарет, то вы будете их получать без всякого контракта.
Арестованная как-то странно улыбнулась и, вскинув на Ларцева глаза, многозначительно бросила:
— За «навар»?
— Что? Какой навар? — удивился Ларцев.
— Это термин следователя Ромина, — ответила арестованная. — Он говорит, что чем крепче навар, тем лучше суп.
— Какой суп? — насторожился Ларцев.
— Господин следователь дал мне понять, что какой-то полковник Леонтьев связан с американской разведкой. Господин следователь уверял, что мне будто бы известно об этом со слов майора Пирсона, и что Пирсон собирался связать меня с этим Леонтьевым…
— А Пирсон говорил вам что-нибудь о Леонтьеве? — быстро спросил Ларцев.
— Нет, никогда. Но мне упорно говорит о нём следователь Ромин.
Сидевший на диване Ромин вскочил и сердито произнёс:
— Чепуха! Этого не было!..
— Как же «не было»? — повернулась к нему Вельмут. — Ведь вы упорно допрашиваете меня об этом Леонтьеве, хотя я понятия о нём не имею… Впрочем, господа, если вам так нужен «навар», то я к вашим услугам… Уж раз я в ваших руках, почему мне не оказать вам такой маленькой любезности? Зачем мне жалеть какого-то советского полковника, если вы его не жалеете?
Ларцев, с трудом сдерживая волнение, переглянулся с Малининым, а потом очень медленно и раздельно произнёс:
— Нам нужна только правда, Анна Вельмут. Запомните это раз и навсегда!.. И если… если вы оговорите кого бы то ни было, то пеняйте сами на себя!.. Товарищ Малинин, вызовите сотрудника и отправьте Вельмут в камеру.
— Я отведу её сам, — быстро произнёс Ромин.
— Ну зачем же вам беспокоиться, подполковник? Отведут и без вас, — ответил Ларцев.
Малинин нажал кнопку звонка, и в кабинет вошёл его адъютант.
— Отправьте арестованную в камеру, — приказал Малинин.
— Слушаю, — ответил адъютант. — Идёмте, арестованная Вельмут.
Как только Вельмут вывели из кабинета, Ларцев подошёл в упор к Ромину и, уже не сдерживая себя, закричал:
— Ну, как это по вашему называется, «рыцарь навара»? Да как вы посмели!..
— Прежде всего, без крика, — нагло ответил Ромин. — Я не ваш подследственный, и нечего на меня орать. Тем более, что в своих лекциях вы проповедовали теорийку, что даже на подследственных нельзя кричать.
— Это не «теорийка», Ромин, это требование закона, — побледнев от ярости, произнёс Ларцев.
— Ну, если вы такой законник, тем более нечего кричать. Теперь по существу: я веду следствие о полковнике Леонтьеве, подозреваемом в измене, и потому обязан, повторяю о-бя-зан допрашивать о нём обвиняемую Вельмут, признавшую, что она агент той же разведки, которая завербовала Леонтьева. Товарищ Малинин, скажите, как мой начальник, обязан я спросить Вельмут или не обязан?
— Спросить, конечно, нужно, но вопрос-то не об этом, понимаешь, — сказал Малинин. — Одно дело — спросить, другое дело — «навар»… это уже на липу смахивает… это же понимать надо!..
— Именно — понимать! — воскликнул Ромин. — Понимать в том смысле, что Анна Вельмут уже готова дать показания на Леонтьева. И вы, товарищ Ларцев, должны согласиться, что такие показания явятся ещё одной веской уликой против него.
— Да, явятся, — произнёс Ларцев. — Но ведь это неправда!
— Почему неправда? А я считаю, что правда. Показание есть показание. Да вы не сомневайтесь: Анна Вельмут, если подпишет, то уже не откажется… не подведёт!..
— Кого не подведёт — вас?
— Следствие.
— А если Леонтьев не виновен?
— Этого никто не докажет.
— Да что вы всё: докажет — не докажет! — снова закричал Ларцев. — Доказательства нужны для истины, а не истина для доказательств!
— Истина — то, что доказано, — веско бросил Ромин. — Зря вы сомневаетесь, товарищ полковник, зря! Дайте мне этого Леонтьева, и через две недели он расколется, как грецкий орех…
Ромин достал из кармана портсигар, вынул из него сигарету, щёлкнул крышкой и ехидно, с усмешечкой, добавил:
— Я, конечно, вхожу в ваше положение, но, как говорится, ничем помочь не могу.
— О чём идёт речь? — удивился Ларцев.
— Могу объяснить. Только не обижайтесь.
— Ну, ну, давайте начистоту.
— Вы отвечаете за конструктора Николая Леонтьева, за охрану его секретной работы. Вы, а не мы, — начал Ромин.
— Верно, отвечаю.
— И то, что американская разведка завербовала брата этого Леонтьева, раскрыть были обязаны вы, а не мы. А раскрыли это как раз мы, а не вы.
— Так, так. Договаривайте…
— Вот и получается, что вы лезете из кожи вон, защищая Леонтьева, чтобы тем самым защитить самого себя, товарищ полковник, себя!
— А кого защищаете вы, Ромин? — очень тихо спросил Ларцев.
— Интересы государства, которые превыше всего, — с пафосом ответил Ромин. — В этом разница, извините за прямоту!..
Сидевший до этого молча полковник Малинин, внезапно вскочил и стукнул кулаком по столу.
— Подполковник Ромин, вы забываетесь! — закричал он. — Как вам не стыдно! Полковник Ларцев — заслуженный чекист, старый работник… Как вы посмели!.. Мне стыдно за вас!..
— А за меня стыдиться нечего, товарищ Малинин, — ответил Ромин. — Меня приказом наркома в гнилые либералы не зачисляли и не зачислят.
— Подождите, товарищ Малинин. Он прав, — заметил Ларцев, — в гнилые либералы его действительно не зачислят, ручаюсь. Но главное не в этом. Утверждая, что вы раскрыли это дело, вы забываете, Ромин: «раскрыл» его майор американской разведки, а не вы! А вы не можете понять, что это и есть самое странное в этом странном деле. Не хотите или просто не можете понять…
— Оставьте своё мнение при себе, — произнёс Ромин и, подойдя к Малинину, подчёркнуто официальным тоном сказал: — Разрешите обратиться, товарищ полковник?
— Что вам?
— Когда я просил вас подписать справку для министра обороны на арест полковника Леонтьева, вы решили обождать до приезда полковника Ларцева. Теперь ждать уже нечего и откладывать арест нельзя. Вот справка, вот постановление о мере пресечения и ордер на производство обыска. Подпишите.
— О, я вижу, у вас уже всё готово, — заметил Ларцев. — Может быть, и санкция прокурора есть?
— В санкции я не сомневаюсь, у нас хороший прокурор, — ответил Ромин. — Товарищ Малинин, попрошу из вашего сейфа эту записную книжку. Она нужна мне как вещественное доказательство для предъявления прокурору. Железные улики.
— Ну что ж, вас остаётся только поздравить, — сказал Ларцев. — У вас «железные улики», «вещественные доказательства», «хороший прокурор», и главное — вы мастер готовить «суп с наваром»… Товарищ Малинин, я остаюсь при своём мнении: для ареста Леонтьева нет достаточных оснований, несмотря на наличие некоторых улик.
— Да улик больше чем достаточно! Поймите, одумайтесь! — закричал Ромин.
— Вот мне и не нравится, что их больше чем достаточно, — возразил Ларцев.
— Это же нонсенс!.. Это лишний нюанс для характеристики нашей гнилой позиции!.. — продолжал кричать Ромин.
И снова встал за столом Малинин и очень тихо, но грозно произнёс:
— Вот что, поди-ка ты со своими нонсенсами да нюансами сам знаешь куда!.. Не подпишу!.. И точка… Шагай!..
— Но объясните, по крайней мере, мотивируйте! — растерялся Ромин. — Вы же мой начальник!.. Это же принципиальный вопрос! Это политическое дело!..
— Да поймите же вы в конце концов, поймите! Может быть только одно из двух: либо Леонтьев действительно изменил Родине, либо история с Виртом и с этой потерянной книжкой, и все ваши улики — провокация, волчья яма, коварный и подлейший ход в большой и опасной игре… в игре без правил!..
— В какой игре? — не унимался Ромин. — Кому и зачем нужен полковник Леонтьев?
— Да ведь он же — брат конструктора Леонтьева, за которым американцы охотятся! Поймите!..
— Именно потому они и решили завербовать этого брата, — стоял на своем Ромин.
— Не исключаю, — ответил Ларцев. — Но я хочу всё проверить.
— Проверить? Каким путём?
— А вот этого я вам пока не скажу.
— Ах так? — побагровел Ромин. — Да вам просто нечего сказать, нечего!.. И я этого так не оставлю!..
— Это что — угроза?
— Понимайте как хотите!
— Ну, так вот теперь я вам скажу, Ромин: Анна Вельмут работала на американскую разведку, получая за это доллары и сигареты «Честерфилд», так?
— Да, так, — согласился Ромин.
— А вот вы и такие, как вы, иногда работаете на наших врагов, сами того не понимая и не получая за это ни долларов, ни сигарет! — крикнул Ларцев.
Ромин на мгновение оцепенел, а затем, схватив свой толстый портфель, выбежал из кабинета и с силой хлопнул дверью.
***
Три часа ночи.
Ходит, заложив руки за спину, из угла в угол своего кабинета Малинин и как бы размышляет вслух, то и дело поворачиваясь к Ларцеву.
— Большой риск, Григорий, — произносит он, — что ни говори — вещественное доказательство!..
— Сфотографируем, — спокойно отвечает Ларцев. — Но зато уж будет проверка так проверка!
Малинин снова начинает шагать по кабинету, а потом бросает:
— Седьмой час сидим!.. И так и этак примеряем, а ведь, казалось бы, чего проще: взять да сделать, как ты предлагаешь!
— И что же тебе мешает? — улыбается Ларцев. — Всё Ромина побаиваешься?
— А если он в Центр накапает? — отвечает Малинин. — Если уже не накапал, сукин сын! Ох, и влетит же нам, если твой план провалится! Костей не соберём!..
Он возвращается к столику, за которым сидит Ларцев и наливает из электрического чайника в стакан.
— Давай по старой привычке чайку попьём… как двадцать лет назад…
— Да, трудные были времена, — задумчиво произносит Ларцев.
— А теперь лёгкие, что ли? Ты знаешь, Григорий, я вот всё думаю: почему Ромину легче, чем нам? И кто такие, эти ромины, откуда они взялись?
— У тебя полегче вопроса не нашлось? — спрашивает Ларцев.
— Вот-вот… сидят два чекиста, члены одной партии, старые друзья… так?
— Пока так.
— И вот один задаёт другому вопрос, который мучает их обоих, а другой отвечает: «Задай мне вопрос полегче». Так?
— Так, всё так, — отвечает Ларцев.
— А ведь оба не трусы, не шкурники. Вместе рядом большую жизнь прошли. И собственной жизнью не раз рисковали… Что же с нами такое случилось, Григорий, что? Или боишься отвечать?
— Нет, я не боюсь. Кто такие ромины — спрашиваешь? Ты знаешь, что такое гангрена, друг?
— Как не знать? Опасная штука!
— Опасная, ты прав. Если вовремя не сделать ампутацию, может зайти далеко… как говорят врачи, необратимо… Так вот, ромины — это тоже гангрена, требующая ампутации! Ради карьеры, лишней звёздочки, ордена они способны на всё. Их не мучает совесть, потому что её у них нет; их не останавливает разум, потому что он ослеплён карьеризмом, а это опаснейший вид бешенства; их не сдерживает даже страх, потому что они уверены, что все должны бояться их, а им уже бояться некого!
— Но откуда они взялись? Кто их породил? На какой почве они выросли? — взволнованно спрашивает Малинин.
— Законный вопрос, — отвечает Ларцев. — А ты помнишь слова Дзержинского: если Чека выйдет из-под контроля партии, она может превратится в охранку. Да, Ильич знал, кому доверить Чека!
Малинин жадно слушает Ларцева. Потом решительно идёт к сейфу, открывает его, достаёт записную книжку:
— Вот эта записная книжка, «вещдок», как любит говорить Ромин… Бери и действуй! Будь что будет!..
План полковника Ларцева
В Берлине
Для окончательной проверки эпизода с записной книжкой майора Уолтона Ларцев решил… вернуть ему эту записную книжку, посмотрев, как он будет на это реагировать. Разумеется, книжка была предварительно сфотографирована, чтобы в случае необходимости не терялось её значение вещественного доказательства. Кроме того, была начата проверка двух-трёх адресов агентов американской разведки, которые значились в этой книжке в числе других записей. Были обеспечены такие методы этой проверки, при которых она оставалась незаметной для противника.
Помимо этого, план предусматривал передопрос Вирта и Киндермана, а также доставленных в Берлин пяти других немцев, которых выдал Вирт ещё на допросе у Бахметьева. Допрос этот должны были произвести Ларцев и Малинин.
В Нюрнберге
В письме Грейвуда к Леонтьеву, которое видел Бахметьев, содержалось приглашение в Нюрнберг. Ларцев решил, что Леонтьев должен принять это любезное приглашение и поехать в Нюрнберг к Грейвуду вместе с ним, Ларцевым, представив его как своего преемника. Ларцев не сомневался, что при такой встрече он по всем деталям поведения Грейвуда и Леонтьева определит характер их подлинных взаимоотношений. Кроме того, Ларцеву не хотелось упускать возможности лично посмотреть на своего противника, чтобы составить о нём более полное представление.
Однако этот визит Ларцев решил нанести лишь после того, как Грейвуд сообщит Леонтьеву о возвращении сына: ведь, если верить записи в книжке Уолтона, Грейвуду было предписано возвратить Колю отцу.
В доме профессора Вайнберга
План предусматривал личное знакомство с профессором Вайнбергом и выяснение вопроса о ценности его научных трудов для американской разведки. Ларцев хотел также уточнить подробности трёх посещений Вайнберга Виртом, детали разговора между профессором и Грейвудом на обеде у полковника Леонтьева.
Однако все эти меры носили лишь предварительный характер и, в зависимости от их результатов, план Ларцева предусматривал не один новый и неожиданный ход в игре, которую затеял полковник Грейвуд.
***
Как только закончилось оперативное совещание, в кабинет Малинина был доставлен Вирт, и оба чекиста приступили к передопросу. По настоянию Ларцева, Ромин в этом допросе участия не принимал.
— Мы ознакомились с вашими последними показаниями, гражданин Вирт, — начал по-немецки Ларцев, довольно свободно владевший этим языком, внимательно разглядывая сидящего перед ним арестованного. — В связи с этими показаниями мы хотим задать вам несколько дополнительных вопросов.
— Яволь, герр оберст, — почтительно ответил Вирт.
— Чем объясняется, что при первых допросах, сразу став на путь признания своей вины, вы ничего не сказали о будто бы полученных вами от коменданта Леонтьева секретных сведений для Грейвуда?
— Я был так потрясён арестом, уважаемые господа, что даже забыл об этом, — ответил Вирт, отметив с беспокойством выражение «будто бы».
— А этот факт имел место в действительности? — спросил Ларцев, пристально глядя прямо в глаза Вирта.
— Я ведь это признал, — уклончиво произнёс Вирт.
— Послушайте, обвиняемый, меня сейчас интересует не то, что вы признали или не признали, а то, что было на самом деле, — медленно и значительно сказал Ларцев, — и я считаю себя обязанным разъяснить вам, обвиняемый Вирт, что следствию нужна только правда. Вам это ясно?
— Яволь, герр оберст, — привычно повторил Вирт, лихорадочно стараясь сообразить, какую позицию ему выгоднее занять.
Как правильно предполагал Ларцев, Вирт на допросе у Ромина признал получение секретных данных от Леонтьева потому, что по всему поведению следователя видел, как ему хочется получить именно такие показания. Именно так понял Вирт грубую настойчивость следователя, сменявшуюся самыми недвусмысленными обещаниями о смягчении участи обвиняемого. Стараясь угодить следователю и надеясь таким путём облегчить предстоящее наказание, Вирт признал то, чего в действительности не было. Провалившийся шпион, конечно, был способен ради своей выгоды без малейших колебаний оговорить кого угодно и в чём угодно.
Теперь, понимая, что эти два полковника усомнились в достоверности его показаний, Вирт готов был отказаться от них с такой же лёгкостью, с какой их накануне подписал. Однако, думал он, ведь совсем неизвестно, к чему такой отказ может привести в дальнейшем и, главное, как отнесутся эти полковники к столь быстрому отказу от вчерашних показаний? Не причинит ли это ему, Вирту, неприятностей? Не усугубит ли его вину? Пойми-ка этих русских — чего им надо и чего они в конце концов от него хотят?
— О чём вы так долго думаете, обвиняемый? — с усмешкой спросил Ларцев, отлично видя замешательство Вирта. — Или вам недостаточно ясно, о чём идёт речь?
— О нет, господин полковник, — поспешно ответил Вирт, — мне всё ясно, ведь я не только подписал протокол, но ещё и сам написал свои показания на родном языке… А что подписано, то подписано… Что признано, то признано, господин полковник… Михель Вирт — хозяин своего слова…
— Разве? Но ведь Михель Вирт на предыдущих допросах несколько раз произносил совсем другие слова… И подписывал обратное тому, что подписал вчера… В каком же случае можно верить Михелю Вирту, хозяину своего слова?
— Я на первом же допросе признал свою вину, господин полковник, посмотрите самый первый протокол допроса… Я не запирался и двух минут, можете проверить!..
— Это всё нам уже известно, — сказал Ларцев, — и вовсе не о том идёт речь, обвиняемый Вирт. У меня создаётся впечатление, что вы не совсем уверены в факте, который сообщили следствию. Так или нет?
— Я бы хотел подумать, господин полковник, вспомнить все подробности… — пробормотал гестаповец.
— А разве я от вас сейчас требую подробностей? — улыбнулся Ларцев. — Речь идёт о самом факте — имел он место или не имел? О подробностях не будем сейчас говорить.
— Ах, господин полковник, если бы вы могли понять моё состояние! — снова начал бормотать Вирт, — я, тихий и робкий человек, стал жертвой Грейвуда, будь он трижды проклят!..
— Подождите, обвиняемый Вирт, — перебил арестованного Малинин, — вы всё время уклоняетесь от ответа на прямой вопрос: получили ли вы в действительности секретные данные от полковника Леонтьева? Да или нет? Нет или да?
— Поскольку я подписал этот протокол… — уже начиная всхлипывать, пролепетал Вирт.
— Что же побудило вас подписать этот протокол? — спокойно спросил Ларцев. — Желание сообщить следствию правду или иные соображения?
— Конечно, я хотел сообщить правду, — быстро произнёс Вирт, мучительно стараясь понять, какой ответ больше понравится этим двум полковникам, несомненно, занимающим более высокое положение, нежели следователь, допрашивавший его накануне.
— Правду? — переспросил Ларцев. — Так ли это, обвиняемый Вирт? Некоторые детали заставляют меня в этом сомневаться.
— Если мне позволено будет спросить, о каких деталях идёт речь? — испугался обвиняемый.
— Могу сказать, — улыбнулся Ларцев. — Насколько мне известно, вы по-русски не умеете ни читать, ни писать?
— Так точно, к сожалению, не умею.
— Так и запомним. В таком случае, не угодно ли вам объяснить, каким образом вы смогли прочесть сведения, будто бы написанные и переданные вам полковником Леонтьевым?
— Я их вовсе и не читал, герр оберст! — горячо воскликнул Вирт.
— А если не читали, то каким путём вам, обвиняемый Вирт, стало известно, что это были сведения о дислокации советских военных частей в этом округе?
— Так сказал господин следователь. Я не мог ему не верить! — растерянно пролепетал гестаповец.
— Какой следователь?
— Тот, который меня вчера допрашивал.
— По-вашему выходит, что показания вместо вас давал следователь? — строго спросил Ларцев.
— Нет, герр оберст, показания давал я, но уважаемый господин следователь спрашивал меня именно о таких сведениях.
— Каких — таких?
— Ну, таких, какие записаны в протоколе, одним словом, насчёт дислокации военных частей.
— А вам самому известно, что это были за сведения?
— Мне это неизвестно, герр оберст. Но я вполне доверяю уважаемому следователю…
Ларцев и Малинин переглянулись: дело принимало вполне определённый оборот.
Через десять минут Вирт, уличённый вопросами Ларцева и Малинина, по своему обыкновению бросился на колени и сказал, что в действительности никаких документов от полковника Леонтьева не получал. Вместе с тем он вполне искренне продолжал настаивать на том, что Грейвуд назвал ему полковника Леонтьева как своего осведомителя, в его присутствии разговаривал с Леонтьевым по телефону и, наконец, переслал через него Леонтьеву пакет, опечатанный сургучной печатью.
Показания Вирта были зафиксированы в протоколе и подписаны им, а также Малининым и Ларцевым. Арестованного увели.
— Ну, Пётр, — обратился к Малинину Ларцев, — как видишь, я был прав, упрекая тебя за то, что ты поручил Ромину допрашивать этого мерзавца. Ромин сам подсказал Вирту показания насчёт эпизода с получением секретных сведений. Видать, уж очень хотелось ему щегольнуть своим следственным искусством…
— Да, Григорий, — смущённо сказал Малинин, — признаюсь, оплошал… Давай вместе поговорим с Роминым.
Через несколько минут подполковник Ромин вошёл в кабинет, уже не столь уверенно, как обычно.
— Вот, прочитайте, Ромин, — сухо сказал Малинин, протягивая протокол допроса Вирта.
По мере ознакомления Ромина с протоколом его круглое, полное, румяное лицо стало багроветь, покраснели даже уши, задрожали пальцы, в которых он держал протокол. Малинин и Ларцев молча наблюдали за ним.
— Ну что, подполковник Ромин? — спросил наконец Ларцев, когда Ромин дочитал протокол. — Вы и теперь готовы настаивать на аресте полковника Леонтьева?
— Всё брешет этот подлец Вирт! — неожиданно охрипшим голосом ответил Ромин. — Я и теперь уверен, что сведения он получил… Дайте мне его ещё раз допросить, и он снова подтвердит этот факт!.. Любого обвиняемого, при желании, можно сбить с толку…
— Молчать! — не своим голосом крикнул Малинин и так хватил кулаком по столу, что тяжёлый чернильный прибор едва не слетел на пол. — Вы… вы карьерист и бесчестный человек!.. Вам не место в наших органах, Ромин!.. Да, да, слепой не имеет права быть шофёром, глухой — музыкантом, карьерист — следователем! Не име-ет пра-ва! Идите и напишите рапорт об отставке!.. Я перешлю его в Москву.
Ромин пытался что-то ответить, но, поняв, видимо, бесцельность спора, как-то странно махнул рукой, повернулся и вышел из кабинета.
А через несколько часов, уже за полночь, в ярко освещённый подъезд ночного кабаре «Фемина» весело вошли три лётчика-майора. Это были Антонов и Свирин, те самые лётчики, с которыми познакомился совсем недавно американский майор Уолтон; к ним присоединился надевший форму лётчика Григорий Ефремович Ларцев.
Как всегда в этот час, в огромном, ярко освещённом зале кабаре было полным-полно, пьяным-пьяно. Всё так же выли саксофоны, томно стонали трубы и похрюкивали барабаны джаза, так же медленно качались в ритме танца пары, так же носились бойкие кельнеры между столами. Всё тот же метрдотель в чёрном смокинге наблюдал из угла за всем, что происходит в подвластном ему заведении. Полуобнажённая певица, стоя у микрофона, пела модное танго, но из-за шарканья множества ног, взрывов женского смеха, звона тарелок и стука ножей её голоса почти не было слышно.
— Вы говорили с тем самым метрдотелем? — быстро спросил лётчиков Ларцев, сразу заметив чёрную фигуру, величественно и одиноко стоявшую в углу.
— Да, с ним.
— Ну, вот с него и начнём, — коротко бросил Ларцев, и вместе с лётчиками направился к метрдотелю, который уже заметил их и почти бежал навстречу новым гостям.
— О-о! Господа офицеры, очень рад, очень рад! Доброй ночи! — почти пропел по-немецки метрдотель, внимательно поглядывая на Ларцева, которого он в прошлый раз не видел. — Это хорошо, что вы пришли к нам в гости уже втроём, господа офицеры, это прекрасно, да!.. Прошу следовать за мной, у меня есть на примете свободный столик, господа. К сожалению, советские офицеры редко нас посещают… И это жаль, очень жаль, господа…
И он повёл новых гостей в правый угол, где в самом деле оказался свободный стол.
Когда лётчики уселись и заказали вино и закуску, Антонов, заранее проинструктированный Ларцевым, обратился к метрдотелю:
— Между прочим, я хочу вас спросить: вы передали нашу просьбу, наш адрес и телефон американскому майору Уолтону? Мы просили об этом в прошлый раз.
— Что за вопрос, уважаемые господа, — почтительно ответил метрдотель, — майор Уолтон — наш постоянный посетитель, и я ему на следующий день передал всё, что вы просили, можете не сомневаться…
— А сегодня майор Уолтон здесь? — спросил Свирин.
— Как всегда, как всегда, господа, — подтвердил метрдотель. — Я убеждён, что господин майор будет очень рад видеть своих советских коллег. Да вот, если не ошибаюсь, это именно он танцует, — и он указал на майора Уолтона, который томно покачивался в паре с пышной блондинкой. Он и на этот раз был в форме лётчика.
Когда танец кончился, Антонов, по указанию Ларцева, поднялся, догнал майора, возвращавшегося с дамой к своему столу, и, окликнув его, сказал:
— Здравствуйте, майор Уолтон. Мы ждали вашего звонка, но вы почему-то не позвонили.
Уолтон быстро обернулся и, увидев лётчика, сделал вид, что очень обрадован встречей.
— О Джанни! — воскликнул он. — Вы один или опять со своим приятелем?
— И мой приятель здесь, — ответил Антонов, — и ещё один майор, тоже лётчик. Он служит с нами в одном полку… пойдём, выпьем за вторую встречу, майор!..
Уолтон на мгновенье задумался, а затем, что-то шепнув своей даме, пошёл за советским офицером.
Он по-приятельски поздоровался со Свириным и крепко пожал руку Ларцеву, которого ему представили как «старого воздушного волка майора Денисова».
— Послушайте, майор, — заговорил Свирин, — мы пришли сюда специально за тем, чтобы вернуть вашу записную книжку, которую вы тогда нечаянно обронили. Разве вам не передал метрдотель, что мы её нашли?
— Да, да, он мне говорил, — ответил Уолтон самым небрежным тоном. — Я всё собирался вам позвонить, парни, и никак не мог собраться…
— Вы, наверно, волновались, майор, обнаружив потерю своей записной книжки? — спросил, улыбаясь, Ларцев. — Как-никак, в записной книжке офицера всегда может оказаться военная тайна…
— Чепуха, коллега. Какие военные тайны могут быть у лётчика после окончания войны? Там записаны адреса хорошеньких девчонок, но я надеюсь, что вы ими не воспользовались, друзья?
— К несчастью, никто из нас не читает по-английски, майор, — ответил Ларцев, — иначе и мои друзья, и даже я сам, несмотря на возраст, не преминули бы воспользоваться такими адресами…
— О, в таком случае мне просто повезло, что вы не знаете английского языка, джентльмены! — ответил, смеясь, Уолтон. — За это стоит ещё раз выпить!.. — И он снова чокнулся со своими собеседниками.
Потом Свирин достал из кармана кителя красную сафьяновую книжку и протянул её майору. Тот небрежно сунул её в свой карман.
— Господин Уолтон, — улыбаясь, заметил Ларцев. — Вы так небрежно обращаетесь со своей записной книжкой, что я не удивляюсь, если она ещё раз попадёт в чужие руки… Учтите, майор, не все отличаются незнанием английского языка… Второй раз вам может не повезти, коллега…
Уолтон быстро и внимательно посмотрел на Ларцева, сидевшего с самым простодушным видом.
— Если вам угодно знать, майор, — протянул он, глядя прямо в глаза Ларцеву, — я не так уж убеждён, что мне действительно повезло и в первом случае… Да, да, не убеждён… Это покажет будущее…
— Что вы имеете в виду? — спокойно спросил Ларцев.
— Ну, разумеется, адреса моих девочек, — с улыбкой ответил Уолтон. — Может быть, они уже не только мои… Кто может это знать?
— Ну, если ваши девочки могут так легко менять привязанности, они не заслуживают того, чтобы огорчаться из-за них, майор, — добродушно произнёс Ларцев. — Мальчики куда надёжнее, не так ли?
Уолтон ещё раз бросил внимательный взгляд на Ларцева и медленно процедил:
— Ах, и мальчики бывают разные, коллега… Я прошу извинить меня, моя дама ждёт… Надеюсь, что мы ещё встретимся, друзья…
И, поклонившись лётчикам, Уолтон пошёл к своему столику.
Посидев для приличия полчаса, Ларцев и лётчики покинули кабаре.
Вернувшись к Малинину, с нетерпением поджидавшему его возвращения, Григорий Ефремович подробно рассказал ему о разговоре в кабаре.
— Ну, и как же расценит Уолтон возвращение книжки? — спросил Малинин. — Как ты думаешь?
— Допускаю, что он поверил, что наши лётчики в этой книжке ничего не сумели прочесть и потому охотно её возвратили, — ответил Ларцев. — Во всяком случае, Петро, у господина Грейвуда произошла вторая осечка. Теперь и он, и Уолтон будут ломать себе голову, стараясь понять факт возвращения книжки. Зато мы уже выяснили, что Уолтон, узнав от метрдотеля, что его книжка подобрана нашими офицерами, почему-то за нею не прислал и даже не позвонил нашим офицерам по телефону… Это уже любопытная деталь, Петро… Но это ещё не вечер, как говорит мой сын, когда приносит отметки за первую четверть. Кстати, узнав, что я лечу к тебе, он просил передать самый сердечный привет «дяде Пете», как он тебя по-старому величает. Помнишь, как втроём мы когда-то рыбачили на Истре?
— Как не помнить, — грустно улыбнулся Малинин, — дождаться не могу, когда опять поеду в наше Подмосковье и буду ловить щук на блесну.
— На блесну? — переспросил Ларцев. — А не кажется ли тебе, что этой записной книжкой нас тоже хотели подцепить, как на блесну?
— Верно, — ответил Малинин, — и Ромин сразу на неё клюнул, этакий болван!
— Зато ты получил наконец основание от него избавиться, — серьёзно ответил Ларцев. — Иметь в качестве следователя такого Ромина — всё равно что держать в сейфе мину замедленного действия. Никогда не знаешь, когда она взорвётся и кого сразит… Как только вернусь в Москву, поставлю вопрос об его увольнении из органов. Такие типы могут причинить большой вред…
— Да, ты прав, Григорий, — согласился Малинин. — Между прочим, наш прокурор Дубасов, узнав, что ты приехал, хочет с тобой встретиться. Он говорит, что познакомился с тобой уже на войне в связи с одним делом…
— Ну как же, я отлично его знаю! — воскликнул Ларцев, сразу вспомнив, как Петронеску инсценировал гибель «делегации» Ивановской области от прямого попадания фугасной бомбы. Дубасов, производивший тогда осмотр воронки, образовавшейся от разрыва бомбы, определил по ряду деталей, что это — инсценировка. — Очень способный человек! Разве он теперь в Берлине?
— Да, он заместитель военного прокурора группы войск. Мы часто с ним встречаемся по работе. Серьёзный человек, это верно. Когда он приедет, надо, пожалуй, с ним посоветоваться…
Чекисты продолжали обсуждать план дальнейшей проверки запутанных обстоятельств дела, когда в кабинет вошёл военный прокурор Дубасов.
Поздоровавшись с Малининым, он поздравил Ларцева с приездом.
— Надолго ли к нам, товарищ полковник?
Ларцев откровенно рассказал Дубасову, с какой целью он прилетел в Берлин, и посвятил его во все обстоятельства дела Леонтьева. Малинин время от времени добавлял к его рассказу различные подробности.
Внимательно выслушав обоих, Дубасов задумался:
— Да, братцы, понимаю ваше волнение. Запутанное дельце, прямо скажем… А этот Ромин уже ведь был у меня…
— Когда? — удивился Малинин.
— Ещё до того, видно, как вы передопросили Вирта.
— А зачем он приходил к вам?
— Заранее подготавливал позиции, — рассмеялся Дубасов. — Предупредил, что пришёл, дескать, неофициально, в товарищеском порядке, так и сказал: «Хочу, говорит, посоветоваться: дадите ли санкцию на арест Леонтьева? Удовлетворят ли вас собранные доказательства?»
— И что же вы ему ответили? — с любопытством спросил Малинин.
— Что санкция на арест — дело официальное и в неофициальном порядке решать этот вопрос я не хочу. Он поморщился, но промолчал. После его ухода я вам звонил по телефону, но вы отсутствовали.
— Ловок! — проворчал Ларцев. — А ведь нам ни слова, Петро, об этом разговоре с прокурором не сказал… Но — хватит об этом карьеристе! Любопытно знать, товарищ Дубасов: если бы мы поставили вопрос об аресте Леонтьева, вы бы дали при этих данных санкцию или нет?
Дубасов, хитро прищурившись, засмеялся.
— Вопрос опоздал, — сказал он. — Ведь вы уже рассказали, что пока сами не считаете возможным арестовать Леонтьева. Что ж мне при этих условиях остаётся вам ответить? Конечно, я скажу — нет. А вообще, если серьёзно говорить, дело сложное… Скажите, этот Нортон часто посещал Леонтьева?
— Да, частенько, мы проверили это, — ответил Малинин.
— И Леонтьев принимал его у себя дома?
— Да, много раз. Ромин, настаивая на аресте, особо упирал на это обстоятельство.
— Напрасно. С моей точки зрения, это скорее говорит в пользу Леонтьева, а не против него. Не так ли? — спросил прокурор.
— Верно, я тоже так полагаю! — воскликнул Ларцев. — Если бы Леонтьев имел преступную связь с Нортоном, он не стал бы открыто принимать его у себя на квартире, а Нортон, в свою очередь, открыто не бывал бы у Леонтьева… Психологически так не могло быть!..
— В том-то и дело! — продолжал Дубасов. — Еще мне представляется существенным вопрос о судьбе сына Леонтьева…
— Мы в этом направлении кое-что предпринимаем, — сообщил Малинин. — Надеюсь, что будет внесена ясность в этот вопрос.
— Это было бы хорошо, — заметил Дубасов. — И вот что ещё: обратили ли вы внимание на одну деталь в записной книжке? Если верить этой записи, Нортон предъявил Леонтьеву фотографию его сына, снятую в лагере.
— Да, так написано, — подтвердил Малинин.
— Теперь представьте себе, что удалось бы твёрдо установить, что сына Леонтьева ни разу в лагере не фотографировали. Тогда, согласитесь, разоблачается вся комбинация…
Ларцев улыбнулся, вынул свою записную книжку и показал её Дубасову. Тот прочёл вслух: «Проверить, фотографировался ли сын Леонтьева в лагере для перемещённых лиц. Продумать метод такой проверки».
— Я вижу, у нас с вами вкусы сходятся, — весело и удовлетворённо произнёс Дубасов. — Мы оба любим натуральную пищу и не кушаем заменителей… Так?
— Именно, — подтвердил Ларцев. — Именно не кушаем!..
Проверка продолжается
На следующий день Ларцев выехал на автомобиле вместе с Бахметьевым в тот город, где Сергей Павлович Леонтьев, даже не подозревая, какие тучи собрались над его головой, продолжал исполнять обязанности военного коменданта. В дороге Ларцев не переставал обдумывать план дальнейших действий. Теперь он не сомневался в том, что провокация в отношении Сергея Леонтьева задумана и организована Грейвудом как один из коварных ходов операции, имеющей отношение к конструктору Николаю Петровичу Леонтьеву. Чего же добивается Грейвуд?
И снова Ларцев, по своему обыкновению, поставил себя на место противника и стал размышлять, как бы он поступил в этом случае.
Ларцеву помогали профессионально натренированные многими годами работы способность к аналитическому мышлению и умение замечать самые незначительные на взгляд детали, а заметив, мысленно расставлять их, каждую на своё место, как фигуры в шахматной партии, разыгрываемой вдумчивым игроком.
Последовательно выдвигая и обдумывая одну версию за другой, Ларцев в конце концов почти приблизился к разгадке этого запутанного дела. Он пришёл к выводу, что Грейвуд стремится устранить Сергея Леонтьева для того, чтобы подготовить и облегчить свой следующий ход, имеющий уже непосредственное отношение к конструктору Леонтьеву. Может быть, он надеялся, используя арест брата, каким-либо способом шантажировать Николая Петровича, подослать к нему агентуру, проникнуть к нему в дом?
Ларцеву уже давно было известно, что всякое сложное дело, будучи раскрытым, кажется необычайно простым. Сколько раз за годы своей чекистской работы Ларцев после раскрытия очередного дела задавал сам себе вопрос: почему же мне пришлось потратить на это дело так много усилий и трудов? Почему я сразу не нащупал нужную версию, не разгадал секрета, который оказался не столь уж замысловатым?
И всякий риз в этих случаях Ларцев вспоминал наивную игру, знакомую с детства: человеку завязывают глаза, а затем загадывают вещь, находящуюся в комнате, к которой он должен подойти и прикоснуться руками. Разумеется, играющий не знает, какая вещь загадана остальными участниками игры, и, для того чтобы ему помочь, кто-нибудь играет на рояле: как только он приближается к загадочной вещи, звуки усиливаются, как только от неё отходит, они ослабевают.
Об этой забавной игре Ларцев вспоминал каждый раз, размышляя о положении следователя, который тоже нередко идёт к цели с «завязанными глазами», даже не зная иногда, что это за цель и как её выяснить среди множества различных обстоятельств, версий и лиц, проходящих обычно по каждому делу. «В отличие от игры, — с улыбкой думал Ларцев, — никто не подсказывает следователю звуками рояля, насколько он приближается к решению задачи или отдаляется от него».
В сущности и теперь Ларцев был в аналогичном положении. В самом деле, он уже почти «прикоснулся руками» к разгадке всего дела, к намерению Грейвуда использовать сына Сергея Леонтьева для осуществления своей цели, но пока ещё неуверенно бродя вокруг этой разгадки, то к ней приближался, то отдалялся от неё…
Бахметьев, заметив сосредоточенное и задумчивое выражение лица Ларцева, решил не мешать ему и молчал, размышляя о своих делах. Бахметьев не жалел о том, что с такой категоричностью высказался в защиту полковника Леонтьева. Он всегда говорил то, что думает, и всё, что думает, мало интересуясь, нравится это начальству или нет. В данном случае Малинин и Ларцев согласились с его точкой зрения, и Бахметьев был этому рад, однако не потому, что его поддержало начальство, а потому, что его руководители заняли, как он был убеждён, правильную позицию в этом сложном деле и дали отпор Ромину.
Бахметьев ещё не знал, что на повторном допросе Вирт уже отказался от первоначальных показаний. Он всё ещё считал, что обстоятельства по-прежнему складываются очень грозно для человека, в невиновности которого он был искренне и твёрдо убеждён.
Теперь, поглядывая на Ларцева и видя по выражению его лица, как неустанно и напряжённо он продолжает размышлять, Бахметьев опасался, что Ларцев ещё не пришёл к определённым выводам и, следовательно, пока допускает возможность совершения Леонтьевым преступления. Бахметьев был человеком впечатлительным, искренним и чутким, его не могла не волновать позиция Ларцева, о котором ему не раз приходилось слышать, как об очень опытном, вдумчивом и тонком следователе. Ведь от этой позиции зависела дальнейшая судьба полковника Леонтьева.
Так они оба и промолчали всю дорогу, погрузившись в свои мысли.
***
По приезде Ларцев направился к полковнику Леонтьеву, пригласив Бахметьева пойти вместе с ним.
Они вошли в кабинет военного коменданта, когда Сергей Павлович проводил совещание с начальниками отделов комендатуры. Увидев Бахметьева и неизвестного ему полковника, Сергей Павлович хотел прервать совещание, но Ларцев попросил его этого не делать. Совещание продолжалось.
Речь шла о постепенной передаче функций отделов комендатуры органам городского самоуправления, уже окончательно сформированным и приступившим к своей работе. Начальники отделов, один за другим, докладывали по этому вопросу, и Ларцеву понравилось внимание, с которым военный комендант рассматривал вносимые предложения, на лету схватывая их сильные и слабые стороны.
Ларцев очень быстро заметил, что подчинённые полковника Леонтьева относятся к нему с большим уважением, лишённым малейшего оттенка «чинопочитания». В этом кабинете царила деловая атмосфера, проникнутая духом взаимного понимания, дружбы, сознания, что все люди, сидящие здесь, вместе служат одному большому делу и потому готовы всячески помогать друг другу.
Атмосфера эта ни в какой мере не противоречила требованиям военной дисциплины. Каждый из офицеров обязательно вставал, отвечая на вопросы начальника, обращался к нему по уставной форме, внимательно выслушивал и принимал к безоговорочному исполнению все его распоряжения. Ни один из самых строгих поборников военного устава и дисциплины не мог бы придраться ни к тому, как были одеты все офицеры, присутствовавшие на заседании, ни к тому, как они себя вели, — настолько все они были по-военному подобранными, точными в движениях, лаконичными в ответах и понимающими своего начальника буквально с полуслова.
Ларцев всё заметил и оценил, подумав про себя, что полковник Леонтьев — настоящий, хороший командир, которому удалось сколотить дружный и работоспособный коллектив.
Это порадовало Ларцева, помимо прочего, ещё и потому, что в разработанный им план входило решение через несколько дней «сыграть в поддавки»: инсценировать внезапное исчезновение коменданта, создав у Грейвуда впечатление, что его затея удалась и полковник Леонтьев арестован. Приняв такое решение, Ларцев, привыкший мыслить по-государственному, беспокоился о том, не отразится ли задуманная им комбинация на ходе дел в комендатуре, которую возглавлял Леонтьев. Теперь он убедился в том, что коллектив так умело подобран и воспитан, что временное отсутствие его руководителя не принесёт значительного ущерба работе.
После совещания Бахметьев представил Ларцева Леонтьеву. Ларцев сказал, что приехал сюда в связи с делом профессора Вайнберга и хотел бы в частной обстановке познакомиться с ним.
— Ничего нет проще, — ответил Леонтьев, — приезжайте вечером ко мне домой ужинать. А я приглашу профессора, и вы, таким образом, познакомитесь с ним.
— Как он себя теперь чувствует, каково его настроение? Не очень ли он травмирован тем, что произошло? — осведомился Ларцев.
— Должен вам сказать, — ответил Леонтьев, — что профессор вообще довольно мужественный человек и не так уж травмирован. Скажу больше: вся эта история, как мне кажется, только помогла ему понять, кто его друзья, а кто враги…
— Да, это главный вопрос, который стоит теперь перед всем немецким народом, — заметил Ларцев. — К несчастью, ещё многие немцы не нашли правильного ответа на него. Итак, мы принимаем ваше приглашение, товарищ Леонтьев, и вечером вас навестим.
— Одну минуту, Григорий Ефремович, — вмешался в разговор Бахметьев, — я только хочу спросить Сергея Павловича, нет ли каких-нибудь вестей о судьбе его сына?
— Пока ничего нового нет, — грустно ответил Леонтьев. — Вы в курсе этого дела? — обратился он к Ларцеву.
— Да, товарищ Бахметьев рассказывал мне об этом, — ответвил Ларцев. И, заметив, как сразу изменилось выражение лица Леонтьева, сочувственно добавил: — Хочу вас заверить, что не за горами время, когда вы сможете обнять вашего сынишку…
— У вас есть основания быть в этом уверенным, товарищ Ларцев? — взволнованно спросил Леонтьев. — Или, может быть, вам просто хочется меня успокоить?
— Нет, я говорю то, что думаю, — ответил Ларцев. — Наберитесь ещё немного терпения, товарищ Леонтьев, и вы увидите своего сына. Правда, для этого вам придётся кое в чем нам помочь.
— Я думаю, нет нужды говорить, что я сделаю всё, что потребуется! — горячо воскликнул полковник.
— Понимаю, мы скоро вернёмся к этой теме, — коротко заключил Ларцев, пожимая руку коменданта.
***
Вечером Ларцев и Бахметьев подъехали к дому профессора Вайнберга. Выйдя из машины, Бахметьев одним взглядом обратил внимание Ларцева на киоск по продаже фруктовых вод, стоявший на противоположной стороне улицы.
— На всякий случай, товарищ Ларцев, — шепнул он, — я продолжаю охранять объект при помощи этого киоска.
— Пожалуй, это правильно, — так же тихо ответил Ларцев, — хотя, скорее всего, профессора теперь оставят в покое. А как чувствует себя господин Бринкель? — улыбнувшись, спросил он.
— Очень хорошо, — с такой же улыбкой ответил Бахметьев. — Оставшись единоличным владельцем фирмы, он продолжает успешно развивать своё дело и, видимо, не имеет оснований быть недовольным прибылями…
— Что для настоящего коммерсанта самое главное, — рассмеялся Ларцев и нажал кнопку звонка. Оба чекиста пошли к подъезду, дверь которого уже открывала фрау Лотта.
Поздоровавшись с молодой женщиной и узнав, что полковник у себя, Бахметьев и Ларцев поднялись на второй этаж. Сергей Павлович, отложив книгу, поднялся навстречу гостям, усадил их в кресла. Ларцев попросил Леонтьева рассказать ему подробности первого визита Грейвуда и Нортона. Сергей Павлович рассказал об этих подробностях, добавив:
— С тех пор полковника Грейвуда я так ни разу и не видел. Что же касается полковника Нортона, моего соседа, то он много раз приезжал ко мне в гости, и мы с ним очень подружились. У меня создалось впечатление, что это честный и неглупый малый, хотя немного искалеченый «американским образом жизни», как он любит выражаться.
— Полковник Нортон, кажется, уже уехал на родину? — спросил Ларцев.
— Да, — ответил Леонтьев, — в последний раз, будучи у меня, он, между прочим, жаловался, что у него осложнились отношения с начальством.
— На какой почве?
— Дело в том, что Нортону понравились многие мероприятия, которые проводятся советскими военными комендатурами, — ответил, улыбнувшись Леонтьев, — он попытался кое-что заимствовать из нашего опыта. Это не понравилось начальству Нортона, особенно когда он прямо высказал своё отношение к нашим методам и сослался, в частности, на то, что, побывав у меня, убедился в разумности этих методов. Нортон рассказывал, что его стали считать «красным» и положение его сильно пошатнулось.
— А вам не приходилось бывать в гостях у Нортона? — поинтересовался Ларцев.
— Ну, как же, раза три я наносил ему ответные визиты, — спокойно ответил Леонтьев. — Должен вам признаться, что мне этот Нортон очень симпатичен. Кроме того, любопытно было посмотреть, как работает американская военная комендатура.
— При встречах с Нортоном не заходила речь о Грейвуде?
— В последний раз Нортон о нём вспомнил, сказав, что отчасти своими неприятностями он обязан именно Грейвуду. Я не стал расспрашивать, считая, что это бестактно, — ответил Леонтьев.
В этот момент донёсся топот детских ножек и в комнату вбежал запыхавшийся Генрих.
— Дядя Сиёжа! Дядя Сиёжа! — по-русски кричал ребёнок, подбегая к Леонтьеву. — Мутти гаваит, шо поя ужинать…
Леонтьев поцеловал ребёнка и, обращаясь к своим гостям, сказал:
— Это Генрих, внук профессора Вайнберга. Как видите, он уже немного говорит по-русски.
— Здравствуй, Генрих! — обратился к ребёнку Ларцев.
— Здасвуй! — ответил Генрих. — Ты тоже пайковник?
— Да, — ответил Ларцев. — А кто ты?
— Я тойко мячик, — серьёзно ответил Генрих.
Леонтьев, рассмеявшись, взял мальчика на руки и прошёл вместе с гостями в столовую, где у накрытого стола ожидали фрау Лотта и профессор Вайнберг. Леонтьев представил им своих гостей, и все сели за стол.
***
Грейвуд очень взволновался, когда Уолтон позвонил по телефону из Берлина и сообщил, что советские лётчики вернули записную книжку. Однако Уолтон сказал, что, скорее всего, советские офицеры, не владея английским языком, не разобрались в содержании книжки и потому так охотно вернули её владельцу. Это немного успокоило Грейвуда, не знавшего, что генерал Брейтон хочет снова «подкинуть» книжку советским властям и тем самым подкрепить подозрения в отношении полковника Леонтьева. Повторять уже испробованный приём с «потерей» записной книжки в ночном кабаре «Фемина» было рискованно. Кроме того, советские офицеры так редко появлялись в этом заведении, что комбинация могла затянуться на неопределённое время. Приходилось искать новый способ передачи записной книжки. Но это было не так просто.
Через два дня после того, как Ларцев и Бахметьев ужинали у полковника Леонтьева, из Берлина позвонил Малинин и весело сказал Ларцеву:
— Григорий! От души поздравляю тебя: игра в футбол продолжается, но красный мяч снова забили в наши ворота. Считай, что теперь счёт 2:1.
— Что ты говоришь? — воскликнул Ларцев, сразу догадавшись, о чём идёт речь. — Забили тем же приёмом?
— Нет, на этот раз другим, — ответил Малинин. — Теперь гол забит не центром нападения, как это было в прошлый раз, а левым средним… В общем, я тебе высылаю отчёт об этом «матче».
К вечеру нарочный Малинина привёз «отчёт о матче».
Оказывается, на этот раз записная книжка майора Уолтона поступила прямо в адрес Советской Военной Администрации в Германии со следующим, более чем трогательным письмом:
***
«Уважаемые товарищи! Это письмо вам пишет американский сержант, друг Советского Союза. Я случайно обнаружил потерянную сотрудником американской военной разведки майором Уолтоном записную книжку, в которой содержатся записи, имеющие, как мне кажется, важное для вас значение. Я до глубины души возмущён тем, что некоторые мои соотечественники занимаются такими неблаговидными действиями, направленными против великого народа, который плечом к плечу с американскими солдатами спасал мир от фашистской чумы.
Поверьте, что мои чувства разделяют многие честные американцы. По понятным соображениям я, к сожалению, лишён возможности назвать своё имя.
Ваш искренний друг».
К письму была приложена записная книжка.
Ознакомившись с текстом письма, Ларцев, улыбаясь, сказал Бахметьеву:
— Не слишком остроумный приём. Во всяком случае, теперь ясно, что Уолтон и Грейвуд твёрдо уверены в том, что наши лётчики действительно не сумели прочесть записи в этой книжке. Ну что, теперь мы уже можем «сыграть в поддавки».
На другой день полковник Леонтьев, по просьбе Ларцева и в его присутствии, связался по телефону с Нюрнбергом, вызвал полковника Грейвуда и сказал ему, что принимает его любезное приглашение и, если тот не возражает, готов через два часа выехать в Нюрнберг.
— О, мистер Леонтьев, я буду чрезвычайно рад! — воскликнул Грейвуд. — Запишите, пожалуйста, адрес. Я жду вас прямо у себя на вилле.
И Грейвуд сообщил Леонтьеву свой нюрнбергский адрес, а также сказал, что даст указание пограничному пункту о пропуске машины советского коменданта в американскую зону.
Через два часа вишнёвый «мерседес-бенц», в котором сидели Леонтьев и Ларцев, уже мчался по широкой автостраде, ведущей в Нюрнберг.
Как раз накануне этого дня Грейвуд с бешенством узнал из телефонного разговора с Берлином, что пресловутая записная книжка вновь пущена в ход. И ещё как! Грейвуд схватился за голову, узнав об этом. Оказывается, генерал Брейтон после возвращения записной книжки его адъютанту принял «остроумное» решение отправить её по почте с письмом «друга Советского Союза»!
«Как можно было совершить такую фантастическую глупость! — яростно думал Грейвуд. — Ведь если советская разведка уже однажды имела в своих руках эту книжку, то, получив её снова, она немедленно поймёт всю комбинацию, готовившуюся с таким трудом. И почему Брейтон, когда ему пришла в голову идиотская идея, не посоветовался с Грейвудом, на которого возложена вся ответственность за эту сложную операцию? Можно ли работать с подобными кретинами в генеральских погонах?!»
Грейвуд так расстроился, что отказался в тот день от ужина, неизвестно почему поссорился с фрейлейн Эрной, а ночью не мог заснуть без снотворного.
Тем более он обрадовался на следующий день, узнав, что Леонтьев едет к нему с визитом. Это, по мнению Грейвуда, было хорошим симптомом.
Ещё больше обрадовало его то, что Леонтьев в первые же минуты встречи представил Грейвуду своего спутника:
— Познакомьтесь, это мой преемник полковник Семёнов.
— Ваш преемник? Как это понять? — спросил Грейвуд.
— Да, господин полковник, — ответил Леонтьев, заранее и очень подробно проинструктированный Ларцевым. — Я поэтому и приехал так неожиданно, что столь же неожиданно вызван в Берлин для нового назначения…
— Нового назначения? Какого именно, если это не секрет? — осведомился Грейвуд.
— Вот этого я пока ещё не знаю сам, — простодушно сказал Леонтьев. — Лишь вчера я получил приказ сдать дела полковнику Семёнову, назначенному вместо меня, после чего немедленно выехать в Берлин. Там, видимо, и определится моя дальнейшая судьба. Именно потому, господин Грейвуд, я и решил воспользоваться вашим старым приглашением и приехать в Нюрнберг, чтобы проститься с вами и ещё раз просить ускорить решение судьбы моего сына. Я уговорил полковника Семёнова поехать вместе со мной, так как он любезно согласился принять и временно приютить моего сынишку, как только он будет при вашей помощи возвращён.
— Понятно, понятно, — сказал Грейвуд. — Мы ещё успеем обо всём договориться. Не сомневаюсь, полковник Леонтьев, что вас ожидает какое-то повышение по службе… Заранее поздравляю вас! А пока, господа, прошу вас к столу…
И он повёл гостей в столовую, где у накрытого стола уже суетилась фрейлейн Эрна.
И снова Грейвуд провозгласил тост за славных союзников и братство по оружию, а Ларцев и Леонтьев ответили соответствующими тостами. Глядя со стороны на этих трёх полковников — двух русских и американца, — так любезно улыбающихся друг другу и так оживлённо беседующих на различные темы, никак нельзя было предположить, что на самом деле эти люди — участники очень напряжённой и острой борьбы, в которой один покушается на военную тайну Советского государства, не брезгуя при этом никакими средствами, а двое других стоят на страже этой тайны, выполняя свой государственный долг.
Продолжая непринуждённо болтать со своими гостями, Грейвуд размышлял над тем, как объяснить неожиданное освобождение полковника Леонтьева от поста военного коменданта.
Да, судя по всему, это уже первый результат той «акции», которую он, Грейвуд, начал против полковника. Простодушный русский атлет, видимо, и не догадывается, что его замена полковником Семёновым и внезапный вызов в Берлин не сулят ему ничего хорошего. Грейвуд не сомневался, что как только полковник Леонтьев, сдав дела новому коменданту, приедет в Берлин, он будет немедленно арестован и, таким образом, попадёт в волчью яму, тщательно приготовленную ему хозяином этого гостеприимного стола. Оказывается, генерал Брейтон вовсе не такой идиот, как это ни странно!..
И, внутренне хихикая над пикантностью сложившейся ситуации, мистер Грейвуд самым радушным образом угощал «бедного малого», против которого лично, в конце концов, он ничего не имел, — просто в интересах дела необходимо было во что бы то ни стало его устранить.
За многие годы своей деятельности в качестве профессионального разведчика Грейвуд уже не раз становился перед необходимостью «убирать» тех или иных ни в чём не повинных людей, фабрикуя доказательства их виновности в преступлениях, которых они в действительности не совершили, или сваливая на них преступления, совершённые заведомо другими людьми. Не раз уже ему приходилось опутывать людей паутиной всякого рода провокаций и шантажа, играя на человеческих чувствах и слабостях. И Грейвуд давно уже относился вполне равнодушно к судьбе жертв своих комбинаций, цинично рассматривая этих несчастных как «накладные расходы», без которых будто бы никак нельзя обойтись.
Так и теперь, угощая полковника Леонтьева, он уже зачислил его в эту графу «накладных расходов», учёт которых всегда мысленно вел.
Присматриваясь к полковнику Семёнову, сидевшему рядом с Леонтьевым и время от времени произносившему какие-то незначительные фразы, Грейвуд решил, что новый военный комендант, уже немолодой и, по-видимому, весьма недалёкий офицер, не представляет для него решительно никакого интереса. Тем не менее он был также любезен и внимателен и к этому полковнику, гостеприимно угощал его.
В разгар пиршества в столовую из кабинета донёсся долгий телефонный звонок. Фрейлейн Эрна подошла к телефону и, вернувшись в столовую, почтительно доложила по-немецки:
— Герр оберст, вас срочно просит к телефону этот старик… господин Крашке…
Лишь на одно мгновение что-то дрогнуло в лице Грейвуда, и он свирепо посмотрел на фрейлейн Эрну. Затем, взяв себя в руки, он бросил внимательный взгляд на своих гостей. Леонтьев, которому имя Крашке действительно ничего не говорило, спокойно продолжал есть. Ларцев, сделав вид, что даже не расслышал слов фрейлейн Эрны, с самым безразличным и немного скучающим видом прихлёбывал из бокала вино. Это несколько успокоило Грейвуда, и он, извинившись перед гостями, пошёл в кабинет, знаком позвав туда фрейлейн Эрну и плотно притворив за собой дверь.
— Я слушаю вас, в чём дело, Крашке? — сердито произнёс в трубку полковник Грейвуд.
— Извините, герр оберст, — ответил Крашке. — Дело в том, что с мальчишкой не совсем хорошо…
— Как нехорошо? — воскликнул Грейвуд. — Ведь я же предупреждал вас, разрешая применить третью степень, что вы отвечаете за его жизнь!..
— Не беспокойтесь, он выживет, — ответил Крашке. — Я помню ваше предупреждение, герр оберст… Но для того, чтобы он выжил, надо хотя бы на сутки сделать перерыв… Поэтому я и позволил себе вас беспокоить.
— Хорошо. Но не больше чем на сутки, — ответил Грейвуд. — В нашем распоряжении максимум несколько дней…
— Слушаю, всё будет исполнено, герр оберст, — Крашке положил трубку.
Грейвуд обернулся к фрейлейн Эрне, стоявшей у порога:
— Какого дьявола вы назвали фамилию Крашке при этих русских! — прошептал Грейвуд. — Сколько раз я вам говорил…
— Простите меня, герр оберст, — пролепетала молодая женщина, до сих пор боявшаяся своего хозяина и любовника. — Я никогда не думала…
— А надо думать! — сердито бросил Грейвуд и пошёл к гостям.
Пока Грейвуд разговаривал по телефону и отчитывал фрейлейн Эрну, Ларцев, отлично расслышавший фамилию Крашке, сохраняя внешне равнодушно-спокойный вид, внутренне ликовал. Он не сомневался, что речь идёт о том самом немецком шпионе, у которого в своё время Фунтиков выкрал бумажник и который, будучи через несколько лет задержан тем же Фунтиковым, сумел бежать из-под ареста. Теперь было ясно, что Крашке является сотрудником Грейвуда и, несомненно, имеет отношение к операции против конструктора Леонтьева, которым столь неудачно занимался ранее по заданию гитлеровской разведки! Эта деталь окончательно подкрепила догадку Ларцева о том, что все комбинации Грейвуда имеют одну цель — найти подход к конструктору!..
Когда был подан кофе, Грейвуд сам завёл разговор на тему, больше всего интересовавшую Леонтьева.
— Я рад вам сообщить, уважаемый коллега, — сказал американец, — что в самые ближайшие дни надеюсь наконец вернуть вам сына. Однако, поскольку, как вы сами говорите, ещё неизвестно ваше будущее назначение, давайте решим, куда я должен доставить бедного мальчика?
— К полковнику Семёнову, — ответил Леонтьев. — Во-первых, это ближе к вам, а, во-вторых, полковник Семёнов обещал, как я уже вам говорил, помочь мне в этом деле.
— Совершенно верно, господин полковник, — произнёс Ларцев, — как только вы сможете это сделать, позвоните мне по телефону, я сам выеду на пограничный пункт и возьму сына полковника Леонтьева. А потом мы уж договоримся, куда его доставить.
— Что ж, это, пожалуй, самое разумное, — ответил Грейвуд. — О, мой бог, я представляю себе эту волнующую встречу!.. Конечно, мальчику нужно будет как следует отдохнуть, прийти в себя, а потом, по-видимому, возникнет вопрос о продолжении его образования, прерванного из-за этих ужасных обстоятельств… Не так ли, полковник Леонтьев?
— Да, да, — со вздохом ответил Леонтьев. — Я уже не раз думал об этом, мистер Грейвуд. Конечно, скорее всего я отправлю мальчика в Москву, чтобы он мог там продолжать учиться.
— В Москву? — чуть быстрее, чем следовало, произнёс Грейвуд. — Да, да, вы совершенно правы! Столица, что ни говори, — столица… Я понимаю вас…
И тут, как неожиданная молния в ночной тьме, блеснула в сознании полковника Ларцева долгожданная разгадка: вот, следовательно, ход, на который рассчитывал полковник Грейвуд и ради которого пошёл на такие сложные комбинации!.. Вот наконец долгожданное объяснение того, что ещё недавно казалось необъяснимым!..
***
После обеда Грейвуд предложил своим гостям покатать их по городу, и они вместе осмотрели полуразрушенный Нюрнберг, побывали в здании, где происходил суд над главными немецкими военными преступниками.
Поблагодарив Грейвуда за гостеприимство, Ларцев и Леонтьев простились с ним и двинулись в обратный путь.
Лишь теперь, окончательно убедившись во время визита к Грейвуду, что полковник Леонтьев никак с ним не связан, Ларцев решил открыть коменданту все карты.
Поэтому, как только они вернулись домой, Ларцев принял приглашение Леонтьева поужинать у него и, когда они остались вдвоём, подробно рассказал ему обо всех провокациях Грейвуда. Сергей Павлович слушал Ларцева, затаив дыхание, настолько всё это было для него неожиданным, негаданным, почти фантастическим.
— Как же вы, Григорий Ефремович, не сообщили об этом сразу? — вскипев, воскликнул Сергей Павлович. — Я в жизни бы не поехал к этому мерзавцу! А если поехал, то избил бы, его, как собаку!..
— Именно поэтому я не считал возможным рассказать вам об этом раньше, — усмехнулся Ларцев. — Кроме того, не забывайте, что от этого негодяя пока зависит судьба вашего сына. Набить морду — это не лучший выход из создавшегося положения, Сергей Павлович.
— Да, да, вы правы, — растерянно признал Леонтьев. — Но скажите, Григорий Ефремович, как же быть дальше?
— Я специально вам всё рассказал, чтобы вы правильно поняли то, к чему я сейчас перехожу, — в самом дружеском тоне ответил Ларцев. — Дело в том, что вам придётся на некоторое время исчезнуть. Необходимо, чтобы у Грейвуда создалось впечатление, будто его провокация удалась… Именно поэтому я просил вас сказать этому подлецу о моём назначении комендантом вместо вас и вашем отзыве в Берлин…
— Понимаю, — ответил Сергей Павлович. — Как же это будет оформлено?
— Я уже подумал об этом, — ответил Ларцев, — и привёз с собой приказ вашего начальства о том, что вы отзываетесь в Берлин, а полковник Семёнов — такова моя временная фамилия — назначается вместо вас. Завтра утром вы соберёте работников комендатуры, объявите приказ и я приступлю к своим обязанностям…
— А мне действительно нужно поехать в Берлин? — спросил Сергей Павлович.
— Да, на один день. Там вас ожидает путёвка в санаторий, и вы будете пока отдыхать или лечиться в Брамбахе. Само собой разумеется, Сергей Павлович, что всё это остаётся строго между нами и вам не следует решительно никому рассказывать обо всём, что произошло. Скажу больше: я и сам в нарушение правил всё вам рассказал лишь потому, что не хотел напрасно вас волновать…
— Ну, это понятно, — сказал Сергей Павлович. — Вот только как будет с Коленькой?
— Я подумал и об этом, — ответил Ларцев. — Я сам его приму, а потом созвонюсь с вашим двоюродным братом, Николаем Петровичем, и попрошу его взять пока племянника к себе…
— А когда же я увижу Коленьку? — с болью воскликнул Сергей Павлович.
— Как только мы закончим всю эту операцию, — ответил Ларцев. — Я понимаю ваше нетерпение, но согласитесь, Сергей Павлович, что, прождав сына почти пять лет, вы уж как-нибудь наберётесь сил ещё на один-полтора месяца. В конце концов всё, что делается, делается, в частности, и в интересах вашего сына. Вы должны это понять.
— Да, да, конечно, извините меня, — сказал Леонтьев, — но поймите и мою боль… И моё нетерпение…
Голос его дрогнул.
Ларцев подошёл к этому человеку, который с каждой минутой становился ему всё более симпатичен, и искренне, от всего сердца обнял его. Невольно он вспомнил при этом Ромина и его предложение арестовать полковника. «Да, — думал Ларцев, — хорошо бы мы все выглядели, если бы согласились с точкой зрения этого карьериста. Нет, нет, нельзя и на пушечный выстрел подпускать таких типов к нашим органам!»
Вошла фрау Лотта и пригласила офицеров к столу.
— Я надеюсь, что вы, фрау Лотта, и профессор не откажетесь с нами поужинать? — обратился к молодой женщине Сергей Павлович, дружески привязавшийся к этой немецкой семье.
— Я, право, не знаю, герр оберст, не злоупотребляем ли мы вашим гостеприимством, — смущённо ответила фрау Лотта, старавшаяся в последнее время реже встречаться с полковником.
— Ну что за пустяки! — ответил Леонтьев. — Мы будем очень рады вместе провести вечер. Я сейчас сам приглашу профессора.
Через несколько минут, ужиная вчетвером, советские офицеры оживлённо беседовали с профессором и фрау Лоттой.
Ещё при первой встрече с профессором Ларцев понял, что это честный и цельный человек, принадлежавший к той части немецкой интеллигенции, которая, питая отвращение к нацизму, уходила с головой в свою науку, сделав своим знаменем полную аполитичность.
А профессор Вайнберг с интересом беседовал с Ларцевым, который произвёл на него благоприятное впечатление своей деликатностью, спокойной манерой говорить и умением очень внимательно слушать собеседника.
Профессор уже давно оценил своего жильца, полковника Леонтьева, его душевную собранность и доброту, скромность в быту и преданность делу, которому он служит. Теперь Вайнберг познакомился со вторым полковником, который тоже оказался культурным и воспитанным человеком. Да, эти русские офицеры были совсем не такими, какими их изображали фашистские пропагандисты в течение многих лет. Беседуя с советскими людьми, профессор думал о том, что эти офицеры при всём различии их внешности, манеры разговаривать и, по-видимому, характеров были в то же время в чём-то сходны между собой. «В чём же?» — думал Вайнберг. И, отвечая самому себе на этот вопрос, приходил к выводу: скорее всего в том, что этих людей объединяет не только их национальность и военная профессия, но и одна система воспитания, при которой в них повседневно развивались любовь к родине, сознание общественного долга, принципы интернационализма и нетерпимость к какому бы то ни было зазнайству, обычно столь свойственному победителям. И невольно вспоминал профессор надменных гитлеровских офицеров с их бездушно жестокой агрессивностью, узостью интересов, с их утрированной выправкой, начальственными замашками и вычурными манерами, с такой характерной для прусской военщины привычкой иронически, со снисходительным превосходством относиться к штатским, любым штатским, в том числе и к людям науки и искусства. «Да, в этих советских офицерах нет ни малейшего признака представителей военной касты, — думал профессор, — они — дети нового строя, нового жизненного уклада, новой социальной системы».
Беседа за столом коснулась и животрепещущей атомной темы. Заговорили о бомбах, сброшенных американцами на Хиросиму и Нагасаки.
— Скажу вам прямо, господа, — произнёс профессор, не пытаясь скрыть волнения, — если до того дня, когда были сброшены эти бомбы, у меня ещё мелькала мысль перебраться на запад, то после того, как это случилось, я окончательно решил оставаться здесь. Нет, нет, я не хочу, чтобы моя наука была в крови! В природе есть силы, с которыми не шутят. Я знаю, что атомную бомбу получили при помощи многих иностранных физиков, в том числе и моих немецких коллег. Я не хотел бы быть на их месте и от души жалею их!..
Старый профессор помолчал, глубоко задумавшись.
— И без того уже на совести моего народа слишком много крови, — снова заговорил он. — Я часто задаю себе мучительный вопрос: как могло случиться, что в самом центре Европы, в моей стране, подарившей миру столько великих людей, создавшей такую высокую культуру, в стране, прославленной трудолюбием и честностью её народа, победило кровавое безумие фашизма? Как сумели превратить десятки тысяч немцев в убийц, палачей и насильников и как я, старый немецкий профессор, и тысячи подобных мне учёных, писателей, инженеров, художников, педагогов и психиатров — как могли мы это допустить, этого не предвидеть! Как смели подчиниться этому кошмару? Вот чего никогда не простит нам история и за что нас осудят внуки!..
— Я во многом согласен с вами, профессор, — сказал Ларцев. — Но не кажется ли вам, что сейчас надо думать не о том, что уже произошло, а о том, чтобы это никогда не повторялось? И не только думать, профессор, но и действовать: бороться и убеждать!..
— Вы, разумеется, правы, — ответил профессор. — По позвольте быть с вами откровенным до конца. Я дожил до седых волос в уверенности, что наука может и должна быть над политикой, вне политики. Потом, уже после войны, когда мир снова оказался расколотым на два враждебных лагеря — да, да, не спорьте, ведь это так, на два лагеря, стоящие друг против друга, — я, может быть, даже подсознательно, решил остаться посредине… Да, посредине, потому что в каждом из этих лагерей что-то меня не устраивало. Вы, коммунисты, удивляете меня своей прямолинейностью, резкостью своих позиций. Иногда мне кажется, что вы рассматриваете весь мир по определённой схеме: друзья и враги, ангелы и черти. Но ведь жизнь сложнее подобных схем и её нельзя уложить в формулу определённой догмы…
— Мы тоже противники догмы, профессор, — возразил Ларцев.
— Может быть, но я ещё не убеждён в этом, — сказал профессор. — Позвольте мне продолжать, потому что не всякий будет с вами так откровенен, как я. А то, что я скажу, может быть, пригодится вам для понимания сомнений и дум, которые владеют теперь многими представителями немецкой интеллигенции и, может быть, не одной немецкой.
— Мы слушаем вас с большим интересом, профессор, — произнёс Ларцев, — и благодарны вам за прямоту.
— Да, да, я выскажу все, что думаю! — горячо воскликнул профессор. — Меня пугало в коммунизме и другое: мне казалось, что при этой системе все должны шагать, как солдаты, в одном строю, по одной команде, что человеческая индивидуальность будет стеснена в своём развитии. Потребовалось немало времени для того, чтобы я разобрался в некоторых сомнениях, пока сама жизнь не отмела часть из них… Но не всё, нет, ещё далеко не всё. И думаю, что я не одинок. Вот что я хотел сказать вам, господа…
— Благодарю вас за откровенность, профессор Вайнберг, — произнёс Ларцев. — По поводу всего, что вы нам сейчас сказали, я многое мог бы вам ответить и вначале даже хотел это сделать, но потом передумал: пусть за меня и за всех нас вам ответит жизнь. В её ответы вы скорее поверите, и она вас лучше убедит. Скажу лишь одно: я далёк от мысли, что каждый из советских людей, которых вы встречаете в Германии, абсолютно безупречен, но зато понимаю, что по каждому из них вы судите обо всех нас в целом. Поэтому будьте осторожны в своих обобщениях и не торопитесь с окончательными выводами.
Вайнберг не без удивления посмотрел на Ларцева. Меньше всего он ожидал услышать такой ответ. Напротив, он не сомневался, что сейчас офицеры обрушат на него поток аргументов, цитат, исторических экскурсов и всякого рода сопоставлений, одним словом, — всё то, что принято было в последние годы именовать загадочным и пугающим словом — «пропаганда». Но этого не случилось, и по какой-то сложной психологической закономерности ответ Ларцева убедил профессора Вайнберга в правоте этих людей гораздо больше, нежели самые пылкие слова.
Именно на такую реакцию и рассчитывал Ларцев, очень хорошо понимая, что людям типа профессора Вайнберга надо дать возможность самостоятельно прийти к определённым выводам, требующим пересмотра всей системы взглядов и убеждений, сложившихся за целую жизнь. Эта самостоятельность суждения всё равно будет направляться реальной действительностью, хотя бы и подсознательно для самого профессора и таких, как он.
Беседа затянулась до поздней ночи, и в ходе её Ларцев выяснил интересовавший его вопрос о характере научного труда, который пытался похитить Вирт. Из слов профессора стало ясно, что этот труд представляет собой предварительный итог его работ в области атомной физики, связанных с проблемами использования атомной энергии в мирных целях.
***
На следующее утро офицерам военной комендатуры был сообщён приказ о назначении полковника Семёнова комендантом города и округа и отзыве полковника Леонтьева в Берлин. Представив нового коменданта офицерам, Сергей Павлович тепло простился с ними и поехал к себе собираться в путь.
В саду он встретил фрау Лотту, очень удивившуюся такому раннему появлению полковника, — обычно он возвращался со службы поздно вечером. Сергей Павлович объявил о своём отъезде.
— Как, вы уезжаете совсем? — воскликнула фрау Лотта, вспыхнув до корней волос. — Что случилось, господин полковник?
— Просто меня переводят в другой город, — ответил Сергей Павлович, — ещё и не знаю, в какой именно…
— Боже, как всё это неожиданно.. — прошептала Лотта. — Как огорчится бедный Генрих… И профессор тоже…
— А вы не огорчаетесь? — спросил Сергей Павлович и тут же пожалел об этом — так печально и взволнованно посмотрела на него молодая женщина.
— Не надо шутить, господин полковник, — сказала она. — Если вы ни разу не заговорили на эту тему, живя здесь, жестоко касаться её в день отъезда… Да, да, жестоко и… бессмысленно…
Она резко повернулась и пошла в глубь сада. Сергей Павлович догнал её, взял за руку. Она попыталась выдернуть руку, но тут же, всхлипнув, бросилась к нему на грудь, крепко прижалась к нему, вздрагивая всем своим стройным, сильным телом…
…Синие сумерки уже окутали дымкой бетонные плиты автострады, по которой мчался в Берлин автомобиль Леонтьева. Сидя рядом с шофёром и жадно вдыхая свежий воздух, Сергей Павлович вдруг вспомнил о том, что приближается годовщина окончания войны и что вот уже вторую весну он будет встречать в Германии. Как быстро промчалось это время, полное напряжённой работы, тревог и волнений!.. Казалось, уже очень давно он познакомился с профессором и с Лоттой, поселившись в их доме, много времени прожил бок о бок с ними, проводя почти все вечера вместе…
И, словно наяву, увидел Сергей Павлович заплаканное, милое лицо молодой женщины, её нежные, округлые плечи, вспомнил жаркий взволнованный шёпот… Волна горячего чувства на мгновение захлестнула его сознание — была в нём и нежность, и боль расставания, и горькая тоска по счастью…
Сергей Павлович закурил и неожиданно для самого себя произнёс вслух:
— Да, вот и кончилось всё…
— Как вы сказали, товарищ полковник? — сразу отозвался водитель, обрадованный тем, что всё время молчавший начальник вдруг заговорил.
— Что я сказал? — удивился Сергей Павлович. — Я сказал, братец, что отличная стоит погода…
— Чего уж лучше, товарищ полковник, — согласился шофёр. — Э-эх, мил-лай!..
С этим лихим ямщицким восклицанием повеселевший шофёр резко прибавил газ…
Ларцев энергично приступил к обязанностям коменданта, стремясь не допустить ни малейшей оплошности в этой новой для него и непривычной деятельности. По мере того как Григорий Ефремович входил во все детали работы комендатуры, он всё более убеждался, что Леонтьев отлично справлялся с делом и многого добился в деле восстановления городского хозяйства, земельной реформы, налаживания контакта с местными органами самоуправления.
Через два дня после того, как Леонтьев уехал, Ларцеву позвонил из Берлина Малинин, сообщивший, что Сергей Павлович уже направлен на курорт.
А ещё через несколько дней из Нюрнберга позвонил по телефону Грейвуд.
— О, господин Семёнов, добрый день! — сказал он по-немецки. — Я вижу, вы уже приступили к своим обязанностям.
— Совершенно верно, мистер Грейвуд, — ответил Ларцев.
— А полковник Леонтьев уже выехал в Берлин? — спросил Грейвуд.
— Да, мистер Грейвуд, — сказал Ларцев.
— Он вам не звонил оттуда по телефону или, может быть, ещё будет звонить? — продолжал Грейвуд. — Дело в том, что я хотел бы кое-что ему передать.
— Нет, пока почему-то не звонил, — ответил Ларцев. — А что именно хотели вы передать полковнику Леонтьеву?
— Я хотел порадовать его сообщением, что в самые ближайшие дни его сын может быть доставлен в вашу зону, — сказал Грейвуд. — Накануне я вам, конечно, дополнительно позвоню.
Закончив разговор, Ларцев ухмыльнулся: полковник Грейвуд явно хотел удостовериться в том, что Леонтьев покинул город.
Прошло ещё несколько дней, и снова раздался телефонный звонок из Нюрнберга.
— Здравствуйте, коллега! — сказал Грейвуд. — Ну как, не звонил вам полковник Леонтьев?
— К сожалению, нет, — ответил Ларцев. — Опасаюсь, что он заболел. Видимо, простудился по дороге в Берлин. Иначе не могу объяснить его молчание.
— Очень возможно, — произнёс Грейвуд. — Все эти дни стоит удивительно мерзкая погода. Итак, мой дорогой коллега, сын полковника Леонтьева уже в Нюрнберге. Юноша жив и сравнительно здоров, хотя, разумеется, несколько… гм… истощён… Когда можно его к вам доставить? Мне было бы удобнее всего завтра.
— Ну что ж, — ответил Ларцев, — завтра так завтра. Я буду встречать его на пограничном пункте баварской автострады.
— Отлично, — сказал Грейвуд. — Я сам привезу его туда, чтобы иметь возможность пожать вам руку, коллега. Итак, до скорой встречи!..
На следующее утро, сразу после завтрака, Ларцев выехал на баварскую автостраду, к пограничному пункту. Как только он выехал за город, внезапно началась удивительная для этого времени года сильная метель. Машина медленно продвигалась вперёд, как бы пробивая себе путь сквозь облака снега. Стеклоочистители с трудом справлялись с влажными хлопьями, сплошь залеплявшими ветровое стекло. Резкие порывы ветра со свистом поднимали столбы снежной пыли, фантастически кружившиеся впереди и по бокам машины.
Только без пяти двенадцать Ларцев добрался до пограничного пункта и узнал от дежурного лейтенанта, что машина из западной зоны ещё не приходила. Полковник пошёл в маленький деревянный домик пограничного пункта и, закурив, в ожидании Грейвуда, беседовал с лейтенантом.
Через несколько минут настойчиво загудела сирена подъехавшей машины, и Ларцев, выйдя на автостраду, увидел полковника Грейвуда, рядом с которым стоял высокий, красивый парень в ушанке и довольно потрёпанном грубошёрстном пальто.
— Здравствуйте, коллега! — приветствовал Ларцева Грейвуд. — Рад вам представить сына полковника Леонтьева мистера Колю…
— Здравствуйте, мистер Грейвуд, — ответил Ларцев и поздоровался с американцем, а затем с Колей Леонтьевым, застенчиво протянувшим ему руку. — Мне кажется, что вы оба озябли в пути, может быть, хотите согреться в пограничном пункте?
— С большим удовольствием, — произнёс Грейвуд.
И они снова направились к домику.
Полковник Грейвуд достал из кармана плоский флакон в кожаном футляре и, обратившись к лейтенанту, спросил:
— Не найдётся ли у вас, господин лейтенант, несколько рюмок или, в крайнем случае, стаканов?
— Рюмок, разумеется, нет, — улыбнулся лейтенант, — а стаканы найдутся.
И он подал несколько стаканов, в которые Грейвуд налил из своего флакона виски.
— Согреваться так согреваться, — сказал он. — Кроме того, надо выпить за возвращение этого молодого человека на родину.
— Благодарю вас, мистер Грейвуд, но я не пью, — ответил Коля и отодвинул свой стакан.
— Я рассказал юноше о гибели его матери, — шепнул Грейвуд. — А вы уже сообщили полковнику Леонтьеву, что сегодня будете встречать его сына?
— Да нет, — ответил Ларцев, — всё почему-то никак не могу с ним связаться.
— Значит, я и сегодня не увижу отца? — с огорчением воскликнул Коля.
— Да, к сожалению, — ответил Ларцев, с интересом разглядывая его красивое лицо с прямым носом, светлыми волосами и большими, широко расставленными глазами. Он обратил внимание на то, что Коля действительно несколько бледноват и выглядит немного старше своих лет.
Через несколько минут, поблагодарив Грейвуда и простившись с ним, Ларцев и Коля уже ехали к себе. По дороге, сидя рядом с юношей, Ларцев стал расспрашивать его о том, как он прожил последние годы. Коля коротко сообщил, что до окончания войны работал на авиационном заводе, а затем, когда американцы заняли этот район, содержался в лагере для перемещённых лиц. Юноша рассказывал обо всём этом довольно связно, не входя в то же время в подробности, и Ларцев подумал, что ему, видимо, неприятно эти подробности вспоминать.
Фрау Лотта и профессор Вайнберг, которым Ларцев ещё утром сказал, что едет встречать сына Леонтьева, выбежали им навстречу, приветливо поздоровались с юношей и повели его в дом. В столовой уже был накрыт стол, но фрау Лотта предложила Коле до обеда принять ванну, которая была для него приготовлена. Коля всё с той же застенчивостью поблагодарил молодую женщину и воспользовался её предложением.
Обратив внимание на то, что Коля смущён своим явно потрёпанным костюмом, Ларцев после обеда повёз юношу в ателье, где заказал ему новый костюм и рубашки, а потом, поехав с ним в магазин, приобрёл для него обувь и бельё.
Затем он доставил Колю обратно на виллу и сказал:
— Ну, милый друг, вы теперь отдыхайте, а я поеду на работу.
— Я очень прошу вас сообщить папе о моём возвращении, — сказал Коля. — Может быть, он сумеет сразу приехать со мной повидаться.
— О вашем приезде отец будет знать, — ответил Ларцев, — но я должен предупредить вас, что по крайней мере в течение ближайшего месяца он не сможет с вами встретиться. Полковник Леонтьев сейчас выполняет особое задание и лишён возможности сюда приехать. Очевидно, вы встретитесь с ним уже в Москве, Коля.
— В Москве? — удивлённо спросил юноша.
— Да. Мы сговорились с вашим отцом, что пока вы переедете в Москву, где поселитесь в квартире своего дяди.
— Дяди Коли?
— Да, у Николая Петровича. Вы помните своего дядю?
— Ну как же! Хотя я уже давно не видел его, — ответил юноша. — Как жаль, однако, что моя встреча с отцом откладывается на целый месяц!..
— Ничего не поделаешь, — служба, — заметил Ларцев, — наберитесь терпения, Коля, вы увидите своего отца довольно скоро.
***
Приехав в комендатуру, Ларцев вызвал подполковника Бахметьева и надолго заперся с ним в своём кабинете.
Теперь Ларцев подробно проинформировал Бахметьева о результатах передопроса Вирта, о проверке эпизода с записной книжкой и обо всех своих окончательных выводах. Бахметьев вздохнул с облегчением, узнав наконец, что подозрения в отношении полковника Леонтьева полностью отпали и Ларцев вполне убедился в его невиновности.
— Теперь, товарищ Бахметьев, — продолжал Ларцев, — я хочу ввести вас в курс своих дальнейших планов. Прежде всего я полагаю, что пока не следует сообщать полковнику Леонтьеву о возвращении его сына. Леонтьев, узнав об этом, будет очень нервничать и мучительно переживать вынужденное пребывание в Брамбахе, которое пока ещё необходимо. С другой стороны, я не хочу ему об этом сообщать и потому, что не совсем убеждён в том, что возвращение сына — такая уж большая радость для его отца…
— Вы подозреваете, что этот юноша обработан Грейвудом? — прямо спросил Бахметьев.
— Во всяком случае, мы не можем это исключить, — ответил Ларцев. — Ведь теперь абсолютно ясно, что Грейвуд пошёл на возвращение сына Сергея Павловича лишь после того, как сделал всё возможное, чтобы устранить полковника.
— А какое впечатление произвёл на вас этот юноша, Григорий Ефремович?
Ларцев задумался.
— Как вам сказать? — после небольшой паузы медленно протянул он. — Ничего особенно подозрительного я пока не заметил. Это довольно красивый паренёк, имеющий несколько измождённый вид. И ведёт он себя немного застенчиво, что мне понравилось. Он связно ответил на все мои вопросы, хотя избегает подробностей, что, впрочем, тоже легко понять, если учесть, что ему достаточно много пришлось пережить. Однако я не тороплюсь с выводами…
— Я понимаю, — произнёс Бахметьев.
— Теперь пойдём дальше, — сказал Ларцев. — Хотя может показаться, что мои функции в этом городе уже исчерпаны, я считаю необходимым здесь задержаться на некоторый срок. Между тем этого юношу следует отправить в Москву, к его дяде Николаю Петровичу Леонтьеву, которого, как мне известно, вы отлично знаете.
— Да, — ответил Бахметьев, — я дружу с Николаем Петровичем, и даже в своё время мне пришлось, как вы знаете, присвоить себе его имя.
Ларцев засмеялся.
— Ну как же, как же, — сказал он. — Я часто вспоминаю о том, как в форме офицера гестапо принял на борт самолёта вас и господина Петронеску, уверенного, что он захватил конструктора Леонтьева. Забавная была операция! И любопытно, что теперь судьба нас снова столкнула в связи с тем же Леонтьевым. Так вот, я хочу командировать вас в Москву, где вам придётся меня заменять, пока я буду находиться в этом городе. Разумеется, вы захватите с собой этого юношу и отвезёте его Леонтьеву.
— Понимаю, — ответил Бахметьев. — А Николай Петрович уже знает о возвращении племянника?
— Нет, — сказал Ларцев, — но я сейчас свяжусь с ним по телефону и поставлю его в известность об этом. Уверен, что Николай Петрович обрадуется возможности снова вас повидать…
И Ларцев приказал соединить его с Москвой, назвав номер телефона Леонтьева. Через несколько минут разговор с Николаем Петровичем состоялся.
Когда междугородняя телефонная станция сообщила Николаю Петровичу Леонтьеву, что его вызывает абонент из Германии, в его кабинете случайно находился профессор Маневский, докладывавший своему шефу о положении дел в лаборатории.
Услыхав, что Николая Петровича вызывают из Германии, профессор Маневский, делая вид, что полностью погружён в свои бумаги, стал очень внимательно слушать.
Разговор, который вёл Леонтьев по телефону, и его заметное волнение в ходе переговоров показались профессору Маневскому заслуживающими серьёзного внимания.
— Да, да, здравствуйте, — кричал в трубку Леонтьев. — Ну как же, как же!.. Что? Вернулся Коленька?.. А где же брат? Как отсутствует?.. Почему надолго?.. Не понимаю… Что?.. Я плохо слышу, говорите громче!.. Да где же он в конце концов, скажите прямо!.. Почему не телефонный разговор? Вы скажите: что-нибудь случилось?.. Что за вопрос: конечно, ко мне!.. Когда же они вылетают? Но вы скажите всё-таки, что случилось с братом?.. Опять не слышно!
Этот разговор казался Маневскому всё более подозрительным. Профессор знал, что у Леонтьева есть двоюродный брат и что сын этого брата был вывезен в Германию и до сих пор не возвратился. Теперь, судя по отрывистым фразам Леонтьева и его нарастающему волнению, с его братом что-то случилось — случилось такое, о чём нельзя говорить по телефону…
Маневский крайне заинтересовался всем этим — в глубине души он очень не любил конструктора Леонтьева и мучительно завидовал ему.
Когда Николай Петрович закончил разговор, Маневский вкрадчиво спросил:
— Извините, Николай Петрович, мне кажется, что вы чем-то очень взволнованы… Может быть, отложить мой доклад на следующий раз?
— Да, да, — пробормотал Леонтьев. — Извините меня, но произошло что-то непонятное с двоюродным братом… Нашли наконец и привезли племянника Коленьку — я вам как-то рассказывал об этом, — а вот брат куда-то исчез… Не пойму, в чём дело!..
— То есть как — исчез? — спросил Маневский, сделав сочувственную мину. — Этого ещё не хватало!.. Может быть, он нездоров или выехал в командировку?
— Да нет, что-то непохоже, — как бы разговаривая с самим собой, продолжал Николай Петрович. — Говорят, что его долго не будет, а где он — по телефону не хотят сказать… Что там могло случиться, ума не приложу!..
— Зачем же так волноваться, не зная даже толком, в чём дело? — всё тем же сочувственным тоном утешал Маневский. — Ну, Николай Петрович, вам, право, сейчас не до моего доклада, я зайду к вам в другой раз. И очень прошу вас: не волнуйтесь, что бы там ни произошло.
Выйдя из кабинета Леонтьева, Маневский прямо направился в приёмную директора института и попросил секретаршу доложить, что у него срочное дело, всего на несколько минут.
Приглашённый в кабинет, Маневский плотно притворил за собой дверь, подошёл к директору, уже пожилому человеку, с худым тонким лицом и белыми как лунь волосами, и почтительно начал:
— Здравствуйте, Иван Терентьевич. Извините, что побеспокоил вас, но дело, как мне кажется, серьёзное… И вам о нём следует знать…
— Что случилось, профессор?
— Вы знаете, как я уважаю и ценю Николая Петровича, — ответил Маневский, — тем не менее, как говорится, дружба дружбой, а служба службой… Особенно, если учесть абсолютную секретность нашего института и работ, доверенных Николаю Петровичу…
— Ну-ну, что такое? — нетерпеливо спросил директор, которого Маневский всегда раздражал своим многословием.
— Я только просил бы, чтобы это осталось между нами, — продолжал Маневский. — Дело в том, что десять минут назад я невольно был свидетелем того, как из Германии позвонили Николаю Петровичу и сообщили весьма странные вести…
— Именно?
— Одним словом, загадочно исчез брат Николая Петровича, занимавший там довольно видный пост…
— Как исчез? Куда исчез?
— На вопрос — куда? — я могу ответить лишь предположительно, — развёл руками Маневский. — Либо он арестован, либо, что ещё хуже, бежал… Впрочем, подчёркиваю, — это всего лишь предположение. Замечу только, что Николай Петрович необыкновенно взволнован, я ещё никогда не видел его в таком состоянии… И это нетрудно понять, ещё бы!..
— Гм… Пожалуй, надо мне его вызвать, — произнёс директор.
— Иван Терентьевич, ни в коем случае! — с беспокойством возразил Маневский. — Вы поставите меня в чудовищное положение. Ведь, кроме меня, при этом разговоре никого не было, и Николай Петрович сразу поймёт, что это я вам доложил, будет рассматривать меня как доносчика, шептуна, ябедника… Мне же с ним работать, поймите это, Иван Терентьевич!..
— Вы точно слышали, что его брат исчез? — переспросил директор. — Вам не показалось?
— Я пока ещё в своём уме, Иван Терентьевич, — обиженно ответил Маневский. — Я не только слышал это своими собственными ушами, но, закончив телефонный разговор, Николай Петрович сам мне это повторил. Мне было больно видеть, как взволновался этот дорогой для всех нас человек. Согласитесь, однако, что я был обязан немедленно поставить вас в известность о случившемся, тем более что Николай Петрович может об этом умолчать… Человек есть человек, Иван Терентьевич, и всякому человеку присущи свои слабости, особенно если учесть нашу работу и специфические требования, справедливо предъявляемые к каждому из нас. Ну, я пошёл, Иван Терентьевич. Ещё раз напоминаю, что я вам ничего не говорил.
И, кивнув головой директору института, профессор Маневский вышел из кабинета, внутренне ликуя, что имел возможность вполне благовидно и безнаказанно бросить тень на конструктора Леонтьева.
Директор института, поразмыслив, пришёл к выводу, что надо выждать: несомненно, Леонтьев, как это положено, сам доложит ему обо всём, что произошло с его братом.
Между тем Маневский, войдя во вкус, отправился к секретарю парткома и также «больше чем доверительно» поставил его в известность о беде, случившейся с братом Леонтьева. Разумеется, у секретаря парткома Маневский добился обещания, что тот ни в коем случае не выдаст Леонтьеву своей осведомлённости о случившемся.
Рабочий день подходил к концу, а директор института, ожидавший, что Леонтьев придёт к нему с сообщением о судьбе брата, так и не дождался этого. Тогда директор под каким-то предлогом сам пошёл к Леонтьеву и, войдя в его кабинет, убедился, что конструктор действительно чем-то угнетён и взволнован.
— Здравствуй, Николай Петрович, — как всегда, приветливо обратился к Леонтьеву директор. — Ну, как идут дела?
— О каких именно делах вы спрашиваете, Иван Терентьевич? — как-то рассеянно спросил Леонтьев, явно думая о другом.
— Меня интересуют результаты вчерашнего эксперимента по третьей лаборатории, — ответил директор. — А вы что, нездоровы? У вас какой-то болезненный вид.
— Нет, Иван Терентьевич, вероятно, я просто устал, — ответил Леонтьев, подумав, что до приезда Бахметьева и выяснения вопроса о брате нецелесообразно информировать директора института. Ведь ничего определённого он сообщить не может, а директор, как знал Леонтьев, был весьма щепетилен в такого рода вопросах ввиду особой секретности работ института.
Поговорив для вида ещё несколько минут на деловые темы, директор вышел из кабинета Леонтьева, внутренне озабоченный тем, что конструктор пока ничего не захотел рассказать о судьбе своего брата.
***
На следующий день Николай Петрович зашёл к директору института и поставил его в известность, что во второй половине дня отлучится, — он должен поехать на аэродром встретить самолёт из Берлина.
— Пожалуйста. Если не секрет, кого встречаете? — с интересом спросил директор, рассчитывая, что уж теперь Леонтьев расскажет ему о происшествии с братом.
— Племянника, — коротко ответил Леонтьев. Ему и в голову не приходило, что он должен информировать директора до того, как сам всё узнает…
И Леонтьев вышел из директорского кабинета. Посмотрев ему вслед, директор только покачал головой: молчание Леонтьева начинало всё больше беспокоить его.
Приехав в аэропорт и выяснив, что до прибытия самолёта из Берлина остаётся ещё полчаса, Николай Петрович вышел из здания аэровокзала на огромное поле аэродрома. Стоял чудесный, тихий, прохладный вечер. Огромное, румяное, как яблоко, солнце садилось на горизонте. За кромкой Внуковского аэропорта уже по-весеннему синели леса. Неповторимое спокойствие Подмосковья и прозрачность воздуха, напоенного испарениями пробуждающейся после зимней спячки земли, способны были, казалось, успокоить самую смятённую душу. И всё-таки какие-то тревожные и грустные мысли не оставляли Николая Петровича. Вот через несколько минут, думал он, прибудет самолёт и он увидит своего племянника, того самого белокурого, светлоглазого Коленьку, с которым когда-то так хорошо было бродить по окрестностям украинского местечка, где выдались пред самой войной несколько тихих, счастливых дней. Всего несколько лет прошло, но как изменился за эти годы мир, какие бури пронеслись над ним, как много дорогих и близких людей потеряно!.. Бедная, бедная Нина Петровна, как мило и ласково хлопотала она за чайным столом в вечернем саду, когда вся семья садилась ужинать… Как заразительно смеялась, как трогательно обо всём заботилась!.. Знает ли уже Коленька о смерти матери? Если нет, как сказать ему об этом? Как объяснить отсутствие отца, которое самому Николаю Петровичу совсем непонятно? И почему Ларцев, разговаривая по телефону, не счёл возможным сказать, где находится Сергей? Что же могло с ним случиться, почему он так неожиданно покинул город, где был комендантом?
Мысли и воспоминания теснились в голове Николая Петровича. Смутно было у него на душе, и вдруг, непонятно по какой ассоциации, вспомнилась ночь в купе международного вагона, когда он ехал из Челябинска в Москву и тоже, как будто без всякой видимой причины, испытывал это непонятное чувство тревоги. Тогда предчувствие не обмануло его — ведь именно в вагоне он познакомился с добродушной на вид женщиной, которая охотилась за ним… Однако это всё было давно, в начале войны, которая уже закончилась нашей победой. Всё идёт хорошо, работа отлично продвигается, он окружён уважением и любовью своего коллектива, не за горами время, когда будет достигнуто то, что рождалось в напряжённом труде бессонных ночей, во внезапных озарениях, ослепительных, как молния… Почему же ему так не по себе сейчас и смутная тревога опять гложет душу?
Но когда берлинский самолёт наконец прибыл и из него вышел Бахметьев с высоким, худощавым, светлоглазым юношей, Николай Петрович сразу позабыл обо всех своих думах. Повинуясь чувству радости и нежности к племяннику, которого он знал ребёнком и которому довелось столько пережить и перенести, он бросился к нему и крепко прижал его к своей груди.
— Коленька! Коленька! — восклицал Леонтьев, обнимая племянника, охотно отвечавшего на его поцелуи и тоже взволнованного.
Да, да, юноша был явно взволнован, и это хорошо видел Бахметьев, тактично стоявший в стороне и наблюдавший за встречей.
Потом, обнявшись и расцеловавшись с Бахметьевым, Леонтьев повёл их к поджидавшей машине. И снова, как почти год тому назад, Бахметьев увидел квартиру Леонтьева на Чистых прудах, где они вместе провели ночь после войны, вспоминая о прошлом и мечтая о будущем.
Ласково встретила Коленьку и Бахметьева домашняя работница, тётя Паша, крепкая старушка с живым, добродушным лицом, служившая у Николая Петровича уже много лет, ещё до смерти его матери, и относившаяся к нему, как к родному сыну.
Коленька, немногословный и тихий, не без интереса оглядывал московскую квартиру с её тремя комнатами — столовой, спальней и кабинетом Леонтьева с большим письменным столом, книжными полками вдоль стен, низким широким кожаным диваном и стальным сейфом в углу.
Показав племяннику кабинет, Николай Петрович сказал:
— Вот, Коленька, комната, в которой ты будешь жить.
— Как много книг, дядя Коля! — произнёс юноша, с интересом оглядывая полки. — Вот уж начитаюсь вдоволь!..
— Да, да, — озабоченно произнёс Николай Петрович. — Ведь тебе надо наверстать упущенные годы. Я уже думал об этом. Отдохнёшь, а потом подыщем педагога и начнёшь догонять своих сверстников. По математике и геометрии сам буду с тобой заниматься, а остальные предметы будешь штурмовать без меня, дорогой.
— Николай Петрович, — произнесла, войдя в кабинет, тётя Паша, — соловья баснями не кормят. Люди с дороги, не иначе как проголодались… ужин на столе.
Все пошли в столовую, где уже шумел маленький самовар, который тётя Паша упорно отказывалась заменить электрическим чайником, уверяя, что «без самовара чай — не чай и удовольствия никакого».
Когда Леонтьев шутя разъяснял тёте Паше, что теперь век электричества, а не пара, время радио и самолётов, тётя Паша неизменно отвечала:
— Что вы там с самолётами выдумываете — ваше дело, и я не вмешиваюсь, а уж насчёт самовара бросьте, тут я больше разбираюсь. А если и впрямь до Луны доберётесь и там стоящие люди живут, помяните моё слово — и они без самовара не обходятся…
После ужина, отправив Колю отдохнуть, Николай Петрович наконец остался наедине с Бахметьевым и взволнованно спросил:
— Скажите мне прямо: что случилось с Сергеем Павловичем?
— Ничего особенного, Николай Петрович, — стал уверять его Бахметьев, — просто по ряду обстоятельств пришлось ему на время уехать в другой город…
— В какой? Зачем? Какие обстоятельства? — добивался Николай Петрович.
— Признаться по совести, я сам толком не знаю, — ответил Бахметьев, чувствуя себя глупейшим образом. Дело в том, что в последней беседе с Ларцевым они договорились не посвящать Николая Петровича во всё, что произошло, — не хотели его волновать, да и опасались, что, будучи осведомлён о всей игре американской разведки и истинных причинах «устранения» Сергея Павловича, конструктор может каким-нибудь неосторожным словом или поступком, сам того не понимая, помешать выполнению дальнейшего плана их действий. Теперь Бахметьев решительно не знал, как ему успокоить Николая Петровича, настойчиво желавшего узнать, что случилось с братом.
Выслушав Бахметьева, Николай Петрович почувствовал, что тут что-то не так, и в глубине души немного обиделся на старого приятеля. Его беспокойство за судьбу брата лишь возросло.
Приехав на следующий день на работу, Николай Петрович пришёл к директору института, с которым ему нужно было переговорить по служебным делам. Поздоровавшись с конструктором, директор сразу спросил:
— Ну что, встретили вчера племянника?
— Да, Иван Терентьевич, — не очень охотно ответил Леонтьев, пока ещё не желавший говорить на эту тему с директором, тем более что он сам по-прежнему не знал, что же произошло с его братом.
Заметив, что Леонтьев уклоняется от этой темы, директор перешёл к деловым вопросам. Но когда Леонтьев вышел из кабинета, директор позвонил секретарю парткома и попросил его зайти.
Как только директор начал рассказывать секретарю парткома о том, что его беспокоит, тот сказал:
— Я в курсе этого дела, Иван Терентьевич, профессор Маневский со мной тоже говорил, но просил, чтобы разговор остался в секрете.
— А сам Леонтьев ничего не говорил? — спросил директор.
— К сожалению, нет, — ответил секретарь парткома. — Давайте подождём ещё день-два, посмотрим, чем это кончится. Но я тоже заметил, что Николай Петрович чем-то озабочен и ведёт себя не так, как обычно. Что-то его тяготит…
Компаньоны встречаются вновь
Вскоре после того как Коля Леонтьев с Бахметьевым уехали в Москву, господин Бринкель решил съездить в Ротенбург к своему компаньону. Ещё две недели тому назад Бринкель получил от компаньона письмо, пересланное со знакомым, направлявшимся в советскую зону оккупации.
Вот что писал своему компаньону господин Винкель:
«Мой уважаемый и дорогой господин Бринкель! Вам не следует обижаться на меня за то, что в течение столь длительного срока я не информировал Вас о ходе наших дел.
Это объясняется только тем, что все время не было подходящей оказии, и, видит бог, это в высшей степени меня огорчало.
Я рад сообщить Вам, что наше дело развивается самым успешным образом. Правда, господин майор, о котором Вы в своё время столь предусмотрительно меня информировали, оказался человеком с чрезмерным аппетитом, и это, к сожалению, несколько снижает эффект того, что мне удалось здесь наладить. Но что делать — в такое время нам, немцам, приходится, стиснув зубы, исполнять самые чрезмерные и нахальные требования. Тем не менее, после достигнутого с этим неприятным господином соглашения я получил рабочую силу на довольно выгодных условиях, и дело пошло. Завод наполовину загружен производством напитка «Кока-кола», хотя, должен Вам сказать по совести, большей гадости, сильно отдающей аптекой, мне не приходилось пить за всю свою жизнь. Ни в какое сравнение с немецкой вишнёвой водой, лимонадом и крем-содой знаменитая «кока-кола» идти не может. Но мир населён неожиданностями: дело в том, что этот напиток имеет довольно широкий спрос, что я объясняю дурацким тяготением к моде. Кроме того, конечно, имеет значение и реклама, которую господин майор, надо отдать ему справедливость, поставил очень широко.
Помимо «кока-кола» я наладил производство наших добрых старых немецких напитков и частично, в связи с сезоном, занялся пивоварением.
Таково, в самых общих чертах, положение дел.
Я был бы очень рад, как и фрейлейн Эмма, вполне разделяющая симпатии своего отца к Вам, если бы Вы, мой дорогой Бринкель, приехали сюда хотя бы на несколько дней погостить. Откровенно говоря, я опасаюсь появиться в советской зоне, чтобы не влипнуть в беду.
Итак, жду Вас с большим нетерпением, тем более что я намерен честно произвести с Вами расчёты по всем операциям.
Ваш Винкель».
Без особого труда господин Бринкель перебрался в американскую зону и прибыл в Ротенбург, где был встречен самым радушным образом. Винкель недурно устроился на новом месте, сняв отдельную квартиру недалеко от замка, в одном из старинных средневековых домов, сохранившихся в этом своеобразном городе-заповеднике.
После сытного обеда и соответствующих возлияний Винкель повёл своего компаньона в замок, в огромных подвалах которого был расположен его завод.
Внимательно осмотрев оборудование лаборатории, изготовлявшей фруктовые эссенции, и произведя дегустацию разных видов готовой продукции, в том числе и напитка «Кока-кола» — чуть коричневатой, пенящейся жидкости, действительно немного отдававшей лекарством, — господин Бринкель отдал должное организаторским талантам своего компаньона и признал, что дело поставлено отличнейшим образом.
Около двухсот молодых рабочих трудились на этом предприятии. Всё это были, как сообщил Винкель, русские, украинцы и белорусы.
— Я очень опасаюсь, мой дорогой, — тихо сказал Винкель, — что рано или поздно могу лишиться этой дешёвой рабочей силы, если американские власти согласятся вернуть их на родину. Правда, господин майор делает всё возможное, чтобы отбить у них стремление вернуться домой, но мне кажется, что большинство этих молодых людей не очень поддаётся обработке. Эти волчата стремятся в лес.
— А где все они живут? — спросил Бринкель.
— Они содержатся в лагере под охраной и под конвоем доставляются на работу и обратно. В этом отношении дело поставлено солидно. Правда, мне пришлось пойти на кое-какие дополнительные расходы, чтобы начальство этого лагеря было довольно. Начальство, кстати, тоже состоит из русских — некий господин Пивницкий, его заместитель Мамалыга и другие. Они на меня не в обиде, — подмигнул, ухмыляясь, Винкель, — но в общем это обходится не так уж дорого.
Осмотрев завод, компаньоны вернулись обратно и вечером вместе с сухопарой белобрысой фрейлейн Эммой немного посидели в маленьком кафе, единственном в Ротенбурге, а затем, погуляв по средневековым улицам городка, послушав бой старинных часов и посмотрев, как при этом в окошечке над часами появляются и чокаются кружками две деревянные фигуры, вернулись в квартиру Винкеля.
На следующий день господин Бринкель встал, по обыкновению, очень рано и, убедившись, что хозяева ещё спят, вышел погулять. Бринкель подошёл к замку и, недолго думая, спустился по каменным ступеням древней лестницы в подвал, мимо какого-то здоровенного мужчины с автоматом в руках, который охранял вход в это помещение и почтительно поклонился господину Бринкелю, замеченному им ещё накануне.
Все рабочие уже были на своих местах, и каждый занимался своим делом. Господин Бринкель прошёл мимо огромных чанов, в которых изготовлялся напиток «Кока-кола» и куда трое юношей время от времени опрокидывали содержимое больших мешков с порошком, прибывшим из-за океана.
Заметив, что после очередной заправки парни присели в углу отдохнуть, а поблизости никого нет, господин Бринкель подошёл к ним и на отличном русском языке спросил:
— Не хотите ли закурить, ребята?
Юноши с удивлением посмотрели на румяного немца, так хорошо владеющего русским языком, и один из них, белобрысый, веснушчатый, курносый парень, ответил:
— Что ж не закурить, ежели угощают.
Бринкель вынул из кармана пачку «Казбека» и протянул её рабочим.
— Витька, гляди — наш «Казбек»! — воскликнул белобрысый парень.
— Совершенно верно, дружище, «Казбек», — подтвердил Бринкель. — Курите, орлы, не стесняйтесь.
— Да вы кто такой будете? — с интересом спросил белобрысый. — Больно чисто по-нашему говорите, папиросы наши.
— Наши? — переспросил Бринкель. — Давно, видать, не приходилось их курить?
— Давно, — со вздохом ответил белобрысый. — А главное неизвестно, когда опять доведётся… — грустно добавил он. — Сколько времени, как комитет выбрали, а толку никакого… и от комитета ни слуху ни духу.
— Какой комитет? — спросил Бринкель. — Или это секрет?
— Какой там секрет! — ответил парень. — Сам майор Гревс предложил выбрать такой комитет за возвращение на родину из пяти человек. Председателем Кольку Леонтьева выбрали — уж на что боевой парень, и то, видно, ничего добиться не смог…
— Кольку Леонтьева? — переспросил Бринкель. — Вот этого?
И, почему-то оглянувшись, господин Бринкель вынул из внутреннего кармана пиджака фотографию, на которой был снят Николай Леонтьев. Этот снимок был сделан по распоряжению полковника Ларцева перед отправкой Коли Леонтьева в Москву. Ларцев объяснил юноше, что выполняет поручение отца, просившего прислать ему фотографию сына.
— Да нет, — хором произнесли юноши, посмотрев на фотографию, — это не Леонтьев. Это Игорь Крюков… Его тоже выбрали в этот комитет…
— Ну, ребята, я пошёл, — вдруг сказал господин Бринкель, взяв обратно фотокарточку и спрятав её в карман. — Здоровеньки булы, как говорят на Украине. Ничего, ребята, не унывайте, всё ещё впереди… — и, подмигнув молодым рабочим, господин Бринкель быстро вышел из цеха, в котором изготовлялся напиток «Кока-кола».
***
А через два дня Бахметьев, сидя в Москве, в служебном кабинете Ларцева, которого он временно заменял, читал шифровку:
«Точно установлено, что юноша, привезённый Грейвудом под видом Николая Леонтьева, в действительности является сотрудником американской разведки Игорем Крюковым, выполнявшим, по-видимому, специальные задания в молодёжном лагере перемещённых лиц. Не исключено, что фамилия Крюкова является вымышленной, это будет дополнительно выяснено.
Информируя Вас, сообщаю, что эти новые обстоятельства ни в какой мере не меняют плана оперативных мероприятий, о котором мы с Вами договорились перед отъездом.
По понятным причинам конструктор Леонтьев пока не должен знать об этом. Следует предположить, что в недалёком будущем Грейвуд установит связь с Крюковым тем или иным способом. Необходимы продуманные контрмеры с нашей стороны.
Ларцев».
Прочитав эту шифровку, даже видавший виды Бахметьев вскочил с кресла и нервно закурил. Потом, поразмыслив и сообразив, каким путём удалось выяснить эти новые обстоятельства, Бахметьев довольно улыбнулся: фруктовые воды господина Бринкеля оказались более чем полезным напитком…
Новое задание
Полковник Грейвуд ликовал. В самом деле, после всех осложнений и тревог судьба наконец ему улыбнулась. Сначала, после приезда Леонтьева и нового коменданта полковника Семёнова в Нюрнберг, дела шли самым отвратительным образом. Этот старый идиот Крашке, гарантировавший, что применением «третьей степени» он быстро обработает Николая Леонтьева, через несколько дней с унылым видом доложил, что «с мальчишкой ничего не получается», несмотря на все старания.
— Вы же ручались за абсолютный успех! — закричал Грейвуд не своим голосом. — Теперь у меня проваливается вся операция!.. Я не могу больше откладывать возвращение мальчишки на родину, я вас не раз об этом предупреждал!..
— Ах, господин полковник, что я могу сделать, когда этот щенок, несмотря ни на что, упрямо твердит одно слово — «нет»… Я применил такие методы обработки, что сам дьявол не смог бы выдержать, можете мне поверить! — захныкал старый палач. — Впервые мне встречается такой упрямый парень… Дайте мне хотя бы ещё один месяц, господин полковник, и тогда одно из двух: либо я добьюсь своего, либо он отправится на тот свет…
Грейвуд только заскрипел зубами — изволь иметь дело с таким кретином, который не в состоянии понять, что всё может провалиться к чёртовой матери, если отложить возвращение Николая Леонтьева на родину! Потом, выпив какие-то успокоительные капли, рекомендованные врачом, Грейвуд стал размышлять, как выйти из создавшегося положения. И, внезапно просияв от пришедшей ему в голову мысли, спросил Крашке:
— Слушайте, этот парень, которого Гревс в своё время использовал как осведомителя, достаточно надёжен?
— Вполне, господин полковник, — ответил Крашке, обрадованный тем, что Грейвуд перестал кричать и, по-видимому, немного успокоился. — Игорь Крюков — под такой фамилией он был помещён в лагерь — отлично справляется со своими обязанностями… Он далеко пойдёт, верьте мне…
— Он одних лет с Николаем Леонтьевым? — спросил Грейвуд.
— Примерно, господин полковник.
— Смышлён?
— Весьма, господин полковник.
— Похож на Николая Леонтьева?
— Как вам сказать, не очень… Правда, он тоже блондин… И вообще эти русские парни более или менее похожи один на другого…
— Сейчас же возьмите мою машину и привезите сюда Крюкова, — приказал Грейвуд, и Крашке, сообразив, в чём смысл вопроса, заданного Грейвудом, помчался исполнять приказание.
Через час Грейвуд беседовал с Игорем Крюковым — в действительности сыном Мамалыги, — рассказавшим, что члены комитета очень взволнованы исчезновением Николая Леонтьева, хотят объявить голодовку в знак протеста против того, что дело с их возвращением на родину никак не продвигается, потребовать свидания с советским представителем.
Слушая Крюкова, Грейвуд с интересом наблюдал за ним. Да, в отношении этого парня Крашке, пожалуй, не ошибся: этот Крюков был очень хитёр, находчив и, несомненно, способен решительно на всё. Грейвуд подметил, что он не без удовольствия рассказывает о своей провокаторской деятельности в составе комитета, где продолжает пользоваться абсолютным доверием своих товарищей, которых ловко предаёт.
— Ах, господин полковник, — продолжал рассказывать Крюков. — Иногда я с трудом удерживаюсь от смеха, когда они начинают делиться со мною своими планами и советуются, как им поступить… Право, после того как увезли Николая, они стали совсем как бараны… С ним-то приходилось быть очень осторожным…
— А что, он так умён?
— Был бы умён — не ломался бы, — ответил с ухмылкой Крюков, и Грейвуд понял, что он о чём-то догадывается.
— А почему вы думаете, что он ломается? — сразу спросил Грейвуд.
— Недаром господин Крашке где-то пропадает по ночам и иногда приходит весь в крови, — в том же тоне ответил Крюков. — Он ведь спит со мною в одной комнате и не очень-то меня стесняется…
— А то, что вы спите в одной комнате с Крашке, не вызывает подозрений со стороны ваших товарищей? — спросил полковник.
— Нет, ведь раньше в одной комнате с Крашке спал Леонтьев, — ответил Крюков, — а уже потом, когда его забрали, перевели меня.
Беседуя с Крюковым, Грейвуд убедился в том, что этот высокий юноша с красивыми светлыми глазами и аккуратным пробором — совершенно законченный негодяй, которому можно доверить самое грязное дело. И разведчик окончательно решил выдать Мамалыгу-Крюкова за Колю Леонтьева. Он не сомневался, что даже собственный отец, видевший сына в последний раз несколько лет тому назад, когда он был ещё мальчиком, теперь вряд ли сможет его опознать, особенно если учесть, что Мамалыга-Крюков тоже был блондином, как и Коля Леонтьев. Кроме того, Грейвуд уже не сомневался, что полковник Леонтьев арестован, и был уверен, что ему уже не удастся когда-либо повидать сына. А у конструктора Леонтьева уж, конечно, не возникнет сомнений в «подлинности» племянника: он ведь почти не знал Колю.
Несколько дней было затрачено на то, чтобы самым подробным образом проинструктировать Игоря Крюкова. Ему, со слов Коли, уже было многое известно о семье Леонтьевых — о его родителях и бабушке, о дяде Николае Петровиче, о тех местах, где прошло детство Коли.
Крюков охотно согласился превратиться в Колю Леонтьева, особенно после того, когда Грейвуд его заверил, что в случае успеха он буден щедро вознаграждён и сможет после выполнения задания жить вместе с отцом в Америке.
Было условлено, что три месяца после своего приезда в Москву Игорь затратит на «внедрение» в семью конструктора Леонтьева, а затем по воскресеньям он должен будет ездить в Измайловский парк культуры и отдыха и от часа до двух дня с книгой в руках сидеть, на определённой скамье, пока к нему не подойдёт связной, присланный Грейвудом.
— А он меня узнает? — озабоченно спросил Крюков.
Грейвуд улыбнулся и, посмотрев на Крашке, внимательно слушающего их разговор, спокойно ответил:
— Что за вопрос? Ведь этим связным будет господин Крашке.
— Как вы сказали, господин полковник? — не веря своим ушам, с выпученными от неожиданности глазами взволнованно спросил Крашке.
— Я сказал, что этим связным будете вы, Крашке, — повторил Грейвуд. — Или вы намерены со мной не согласиться? — добавил он таким тоном, что Крашке поспешил ответить:
— Что вы, что вы, господин полковник!.. Ваш приказ — для меня закон!..
***
Через три месяца холодной тёмной ночью господин Крашке был отвезён на аэродром и посажен в небольшой военный самолёт. Лётчик включил мотор, машина помчалась по беговой дорожке и косо взмыла в тёмное облачное небо. Развернув машину, лётчик взял курс на Балтику. Здесь, в районе литовского курортного городка Паланга, его пассажир должен был выброситься с парашютом.
Сидя за спиной пилота и дрожа от холода и страха, Крашке задумался над своей злосчастной судьбой. Вот он, уже старый и уставший от передряг, мчится теперь в ту самую далёкую и загадочную Россию, которую он уже неоднократно посещал в прошлом, всякий раз еле унося оттуда ноги. Мало того, ему придётся на старости лет, невзирая на больную печень, грудную жабу и подагру, через каких-нибудь два часа прыгнуть с парашютом за борт самолёта, для того чтобы приземлиться на советской земле, от которой, кроме неприятностей, он ничего не ждал… Легко сказать — приземлиться, будь трижды прокляты этот кровопийца Грейвуд, и майор Гревс, и вся американская разведка, в лапы которой он попал!.. Легко сказать — приземлиться, когда при одной мысли о предстоящем прыжке у него начинает так колотиться сердце, что, скорее всего, оно вообще разорвётся где-нибудь в воздухе, между этим ночным хмурым небом и такой же хмурой, чужой, молчаливой землёй…
Удачный прыжок
Паланга — маленький, уютный и живописный курортный городок Литовской ССР — прильнула к самому берегу Балтийского моря. Летом, когда начинается сезон, сюда приезжает на отдых множество людей из Вильнюса. Каунаса, Ленинграда и других городов.
Свежий морской воздух, обширный великолепный пляж, сосновый лес и красивые окрестности привлекают сюда курортников. Многие приезжают с детьми, потому что Паланга, как утверждают врачи, полезна для всех возрастов по своим климатическим данным.
В летние месяцы полны многочисленные дома отдыха и санатории. По вечерам на ровных тенистых улицах Паланги гуляет нарядная публика; с пляжа доносятся песни и весёлые крики купальщиков.
Но кончается сезон, закрываются большинство домов отдыха и санаториев, пустеют комнаты, сдаваемые в аренду местными хозяйками, и даже великолепный парк, некогда принадлежавший графу Тышкевичу, становится пустынным и тихим.
Балтика, такая приветливая летом, приобретает холодный, свинцовый оттенок, и осенью, когда начинаются штормы, грозный рёв моря пугает даже бывалых местных рыбаков.
Неприветлива бывает Паланга даже и летом, когда задует северный ветер, несущий дожди и туманы.
Именно в такую туманную, сырую, неприветливую ночь самолёт, в котором господин Крашке промчался над Балтикой, приблизился к Паланге и сделал над ней на большой высоте несколько кругов. Пилот, обернувшись к своему пожилому пассажиру, подал знак, что тот может прыгать: из-за рёва мотора и свиста ветра говорить было немыслимо.
Крашке, мгновенно вспотев от ужаса, тяжело поднялся, глянул за борт машины, и у него закружилась голова: где-то, очень далеко внизу, еле мерцали сквозь холодный туман какие-то жалкие огоньки. Прыгать очень не хотелось.
Видя, что пассажир замешкался, пилот обернулся и, неделикатно ткнув Крашке в бок, напомнил, что пора делать прыжок. Крашке с трудом перекинул ставшую тяжёлой, будто налившуюся свинцом ногу через борт машины и снова замешкался. Тогда пилот грубым толчком выбросил своего пассажира за борт.
Крашке от ужаса на мгновенье потерял сознание, камнем полетел вниз, но затем какая-то чудодейственная сила вдруг мягко рванула его за шиворот, и он догадался, что раскрылся парашют и, следовательно, есть шанс остаться в живых.
Когда он наконец приземлился и понемногу пришёл в себя, страх снова подстегнул его: вынув заранее приготовленный нож, он обрезал лямки парашюта и, достав маленькую сапёрную лопатку, стал рыть землю, чтобы закопать его, как это было строго предписано. На счастье, здесь оказалась рыхлая песчаная почва, и он без особого труда зарыл парашют и надетое поверх обычного пальто одеяние из особой баллонной ткани — что-то среднее между балахоном и спальным мешком, — которое ещё недавно пугало его сходством с саваном. Чуть прихрамывая — приземляясь, он немного ушиб ногу, — Крашке направился в город, редкие огоньки которого мигали вдалеке.
Теперь Крашке немного успокоился. В его кармане лежали советский паспорт, который не мог вызвать абсолютно никаких подозрений, деньги и даже профсоюзный билет. И паспорт, и профсоюзный билет свидетельствовали, что их владелец, Янис Карлович Озолин, живёт и прописан в Каунасе и является лаборантом местного аптекоуправления. Помимо этих документов, Крашке располагал ещё командировочным удостоверением, из которого явствовало, что Янис Карлович Озолин командируется в Москву сроком на три месяца на курсы по усовершенствованию аптекарских работников.
Когда Грейвуд обсуждал с Крашке, какую профессию ему лучше всего избрать для командировки в Советский Союз, старый разведчик вспомнил, что ему однажды уже пришлось быть провизором, в связи с чем он прошёл в гестапо некоторую подготовку. Он решил вновь обратиться в фармацевта: во всяком случае, при поверхностной проверке Крашке мог безошибочно назвать некоторые рецепты, а также способы приготовления лекарств.
Теперь, приближаясь к Паланге, откуда он поедет в Москву, Крашке радовался, что, вопреки всем ожиданиям, его сердце всё-таки выдержало парашютный прыжок. Откуда, чёрт возьми, берутся у человека силы в такие ужасные минуты? В чём секрет этих загадочных потенциальных возможностей человеческого организма? Кто мог бы поверить, что в таком возрасте человек, никогда в жизни даже не думавший прыгать с парашютом и питающий к этому органическое отвращение, всё-таки прыгает и при этом остаётся живым? Ведь он сам не верил в это ещё час тому назад…
Крашке проникался всё большим уважением к собственной персоне и, подойдя уже к окраинам Паланги, пришёл к выводу, что на этот раз ему в России должно повезти, потому что очень уж он ловок, смел и находчив.
И в самом деле, дальше всё шло как по маслу. Крашке спокойно, без всяких осложнений приобрёл железнодорожный билет и сел в поезд, в котором почти не было пассажиров. Заказав постельное бельё и с удовольствием напившись чаю, принесённого любезной проводницей, Крашке ласково сказал ей: «Спасибо, милочка!» — разделся и быстро заснул.
По мере приближения к Москве он всё более набирался уверенности. Прибыв в столицу, Крашке решил для осторожности не останавливаться в гостинице, хотя его документы вполне позволяли это сделать, и, сев в дачный поезд Казанской дороги, приехал в дачный посёлок Малаховку. Здесь без труда он сговорился с какой-то старушкой вдовой, что она сдаст в своём домике на три месяца небольшую комнату пожилому и тихому лаборанту из Каунаса, прибывшему в Москву на курсы усовершенствования.
Сказав хозяйке, что свой багаж он оставил на Казанском вокзале, в камере хранения, Крашке снова сел в поезд, купил в Москве дешёвый чемодан и самые необходимые вещи, к вечеру вернулся в Малаховку, предъявил хозяйке паспорт, дал задаток и лёг спать.
Утром — это было как раз в воскресенье, — отлично позавтракав яичницей с салом, любезно приготовленной ему хозяйкой, и напившись кофе, Крашке поехал в Москву. Он погулял по хорошо знакомому городу и после полудня отправился в Измайловский парк. Там, купив газету, Крашке спокойно расположился на одной из скамеек центральной аллеи и погрузился в чтение, время от времени поглядывая, не появился ли Игорь Крюков-Мамалыга.
И опять ему повезло: не прошло и полчаса, как появился Игорь, проходивший по аллее с книгой в руках. Крашке, нарочно закрывшись газетой, чтобы Игорь его не заметил, пропустил Крюкова мимо себя, незаметно наблюдая, не следит ли кто-либо за юношей. Однако никто из прохожих не показался Крашке подозрительным, и потому, когда Крюков снова прошёл мимо него, Крашке поднялся и громко сказал:
— Простите, молодой человек, нет ли у вас огонька?
— Найдётся, — так же громко, не моргнув глазом, ответил Крюков и, достав из кармана спички, протянул их Крашке.
Тот, делая вид, что прикуривает, чуть слышно прошептал:
— Через час у буфетной стойки Казанского вокзала, живо! — И тут же, кивнув головой в знак благодарности, пошёл на свою скамью.
Крюков быстро вышел из парка.
Посидев несколько минут, Крашке тоже покинул парк и, остановив проходившее такси, поехал на Казанский вокзал. Там, считая, что все меры предосторожности приняты, Крашке встретился с Крюковым, и тот рассказал ему о положении дел.
Ларцев продолжает действовать
Ещё за три месяца до того как Крашке вновь появился в Москве, Ларцев по вызову Малинина срочно выехал на машине в Берлин, временно возложив обязанности коменданта на подполковника Глухова.
В Берлине Малинин рассказал, что Бринкелю, всё ещё продолжающему гостить у своего компаньона, удалось прислать заранее условленным образом шифрованное сообщение о том, кто такой в действительности юноша, выдающий себя за Николая Леонтьева.
— Бринкель сообщил, — продолжал Малинин, — что принял решение остаться на некоторое время в Ротенбурге и попытаться выяснить, где находится подлинный Коля Леонтьев и какова его судьба. Таким образом, Григорий, завод фруктовых вод начинает давать прибыли и нам, а не только своим владельцам, — с улыбкой добавил Малинин.
— Я думаю, что Бринкель принял правильное решение, — задумчиво сказал Ларцев. — Правда, я не уверен, что ему удастся выяснить судьбу Коли Леонтьева, но сделать такую попытку следует. Теперь давай, Петро, решим, как нам быть с полковником Леонтьевым. Бедняга сидит в Брамбахе, нервничает и, право, грешно оставлять его в таком положении.
— Я тоже думал об этом, — сказал Малинин, — но без тебя не считал вправе решать, как с ним поступить.
— Я завтра поеду к нему в Брамбах, — решил Ларцев, — и сам с ним поговорю. А ты, Пётр, пока готовь материалы для нашей комиссии по репатриации. Ведь теперь уже окончательно установлено местонахождение молодёжного лагеря, хотя американские власти продолжают заниматься отписками, уверяя, что они всё ещё наводят справки. Надо их припереть к стенке, показав, что нам известны не только существование и местонахождение этого лагеря, но и тот завод, на котором заставляют работать молодёжь, а также то, что начальник окружного управления по делам перемещённых лиц майор Гревс является совладельцем этого завода и заинтересован в дешёвой рабочей силе. Сам понимаешь, если нам удастся обосновать все эти вопиющие факты, американским властям не отвертеться от возвращения ребят.
На следующий день Ларцев выехал в Брамбах и встретился с полковником Леонтьевым. Тот и в самом деле не находил себе места в ожидании дня, когда он увидит наконец сына, которого ждал столько лет.
До поездки в санаторий Сергей Павлович, уйдя с головой в работу, всё-таки легче переносил разлуку с Коленькой. Самые неотложные и разнообразные дела, вопросы, поручения, выезды, совещания отнимали так много времени и внимания, что мысли о судьбе сына приходили по большей части поздним вечером, когда полковник возвращался с работы домой.
Теперь же, освободившись от груза всех этих дел и обязанностей, Сергей Павлович буквально считал часы и минуты до того дня, когда он обнимет сынишку.
Очень обрадовавшись приезду Ларцева, Сергей Павлович сразу же спросил:
— Ну как, говорите скорее, вернулся?
— Пока ещё нет, — ответил Ларцев. И, взяв полковника под руку, повёл его в парк, где в этот ранний час почти не было публики.
Теперь Григорий Ефремович находился в затруднительном положении. По правилам он ещё не мог рассказать полковнику обо всём, что произошло. Да, не мог, потому что операция ещё не была закончена. Но, с другой стороны, заметив, с какой болью воспринял Сергей Павлович весть о том, что сын ещё не возвращён, Ларцев заколебался. И так этот честный и хороший человек, боевой офицер и настоящий коммунист достаточно пострадал ни за что ни про что!.. Так неужели дальше держать его в полном неведении, которое в его положении особенно мучительно?
И Ларцев, чуть ли не в первый раз за многие годы своей работы, махнул рукой на правила. Конечно, он строго предупредил Сергей Павловича, что всё, о чём он сейчас ему расскажет, — государственная тайна. Рассказывая это, он, Ларцев, действует вопреки правилам, нарушая их потому, что понимает, что тяжело полковнику. Поэтому он требует, да, именно требует, чтобы полковник никогда, никому, ни за что не рассказал бы того, о чём сейчас узнает!..
— Я вам даю честное слово коммуниста и офицера! — горячо воскликнул Сергей Павлович, уже не столько разумом, сколько сердцем чувствуя, что ему предстоит услышать нечто очень серьёзное.
— Хорошо, я вам верю, — сказал Ларцев. — Теперь наберитесь терпения и слушайте меня внимательно.
И Ларцев начал рассказывать.
Не слабонервным человеком был полковник танковых войск Сергей Леонтьев, не раз доводилось ему смотреть смерти в глаза, не раз за годы войны был он на краю гибели. Но теперь, слушая рассказ Ларцева, изменившись в лице, он несколько раз вскакивал со скамейки, на которой они сидели, курил папиросу за папиросой, и спички, когда он закуривал, дрожали в его пальцах…
Когда Ларцев кончил свой рассказ, Сергей Павлович крепко обнял его и тихо сказал:
— Спасибо, за всё спасибо тебе, друг!.. И за то, что ты оказал мне доверие, всю степень которого я понял только сейчас!.. И за то, что теперь, в мирное время, тебе, как я вижу, ещё приходится воевать, да, воевать, я не оговорился, Григорий Ефремович!.. И за то, что воюешь ты мудро, и смело, и расчётливо!.. Вот пришло мне сейчас в голову: не лёгкое дело вести полк в атаку под огнём противника, да ещё через минное поле… А ведь вашему брату не легче, Григорий Ефремович, если ещё не трудней!..
Потом, уже немного успокоившись, Сергей Павлович вновь заговорил о судьбе сына. Может быть, стоит обратиться к правительству, добиваться, чтобы послали ноту?..
— Предоставь всё делать нам, Сергей Павлович, — твёрдо сказал Ларцев. — Пойми, на любую ноту американцы могут ответить, что Николай Леонтьев уже давно возвращён на родину. Ведь Грейвуд не знает, что мы разгадали его ход, и хорошо, что не знает! Пусть думает, что мы одурачены, тем хуже для него, а не для нас… Что же касается твоего сына, то он, безусловно, жив, ручаюсь… И скажу больше: ты должен радоваться тому, что они пока не возвращают твоего сына… Да, да, именно радоваться…
— Почему радоваться? — удивился Леонтьев.
— Потому, Сергей Павлович, — медленно протянул Ларцев, — что Грейвуд возвратил бы твоего сына, только имея гарантию, что он будет работать на американскую разведку.
Сергей Павлович вздрогнул и закрыл лицо руками.
— Скорей всего, как я думаю, — продолжал Ларцев, — Грейвуду пришлось пойти на подмену из-за того, что Коля не согласился на подлость, отказался стать изменником. Ты должен этим гордиться, а не приходить в отчаяние.
…Так в течение нескольких часов Ларцев, искренне сочувствовавший горю Леонтьева, убеждал и успокаивал его.
Когда Ларцев в заключение дал Сергею Павловичу твёрдое обещание, что будет лично заниматься этим делом, пока не добьётся возвращения Коли Леонтьева и всех других ребят на родину, Сергей Павлович крепко пожал ему руку и сказал:
— Хорошо, я верю тебе, Григорий Ефремович. И это поможет мне набраться терпения. Единственное, о чём прошу, — дать мне какую-нибудь работу!.. Я не хочу больше оставаться в Брамбахе, не хочу и не могу!..
— Пожалуй, ты прав, — подумав, согласился Ларцев. — Тем более, что уже нет нужды прятать тебя в этом санатории. Постараюсь договориться с командованием, чтобы тебя послали на работу… Правда, лучше всё-таки не в Германии… Самое верное — послать тебя в Польшу или в нашу группу войск в Румынии или в Болгарии, подальше от мистера Грейвуда… Словом, похлопочу…
И, вернувшись из Брамбаха в Берлин, Ларцев договорился с военным командованием — полковник Леонтьев через несколько дней был командирован в Болгарию.
Оформляя свои документы в Берлине, Сергей Павлович встретился с Ларцевым и поблагодарил его за содействие. Григорий Ефремович пожелал ему успеха в новой работе на новом месте и сказал на прощание:
— Езжай, спокойно работай, но непременно соблюдай одно условие…
— Какое, Григорий Ефремович? — спросил Сергей Павлович.
— С братом, с Николаем Петровичем, пока не встречайся. И по телефону ему не звони. А то он ещё возьмёт да поделится с твоим «сынком» и тогда провалит мне всю операцию…
— Значит, брат не знает, кто у него живёт под видом племянника? — удивился Сергей Павлович. — И принимает его за настоящего Коленьку?
— В том-то и дело, — ответил Ларцев. — Не знает и знать не должен. Мы, по оперативным соображениям, заинтересованы в том, чтобы этот мерзавец продолжал спокойно жить у Николая Петровича. Если же твой брат узнает, кем в действительности является этот тип, то при всём желании не сможет скрыть своих чувств и играть роль нежного дядюшки… Ведь он конструктор, а не актёр, насколько нам известно… Кроме того, не говоря уже о наших оперативных интересах, мы обязаны позаботиться о том, чтобы Николай Петрович спокойно продолжал свою работу… Но разве он останется спокойным, узнав, что в его собственном доме живёт агент американской разведки?
— Да, теперь я начинаю понимать сложность положения, — задумчиво сказал Сергей Павлович. — Даю слово — ни звука брату не скажу и пока с ним встречаться не стану…
Каждый день Ларцев разговаривал по телефону с Бахметьевым, подробно информировавшим его о ходе дела. Игорь Крюков, как доложил Бахметьев, благополучно здравствует, уже начал учиться и пока, по данным установленного за ним наблюдения, не приступил к выполнению задания Грейвуда и не встречался с кем-либо из его связистов. Николай Петрович очень заботливо и нежно к нему относится, не сомневаясь в том, что это его родной племянник.
— Должен, однако доложить, Григорий Ефремович, — продолжал Бахметьев, — что одного обстоятельства мы не предусмотрели, к сожалению…
— А что такое? — встревожился сразу Ларцев.
— Николай Петрович крайне обеспокоен судьбой своего брата, — ответил Бахметьев. — Я, как вы сами знаете, ничего объяснить не могу, и он страшно волнуется. Кроме того, когда вы звонили Николаю Петровичу по телефону, в его кабинете случайно был профессор Маневский, и он теперь наводит тень на божий день…
— Именно? — спросил Ларцев, сразу оценив остроту создавшейся ситуации.
— Маневский решил, что с братом Николая Петровича стряслось что-то нехорошее, и по секрету наябедничал директору института, секретарю парткома и некоторым другим. Сам Николай Петрович об этом ещё не знает, но вокруг него уже сложилась атмосфера недоверия и подозрительности. Положение усугубилось тем, что Николай Петрович пока не сказал ни директору, ни секретарю парткома, что волнуется за брата, а те, естественно, понимают это как нарушение этики, что ли…
— Ах, чёрт возьми, как неприятно! — огорчился Ларцев. — Это моя вина, не продумал я всё до конца… Что касается Маневского, то это вообще пренеприятный тип — завистник, карьерист и шептун… В своё время он немало крови испортил Николаю Петровичу…
— Должен добавить, Григорий Ефремович, — продолжал Бахметьев, — что и к нам поступили довольно пакостные анонимки на Николая Петровича — одна непосредственно нам адресована, а вторую переслал министр.
— Как, уже и до анонимок дошло?
— Да, представьте себе. В обеих анонимках пишется, что Николай Петрович Леонтьев, мол, подозрительный человек, что ему не место в секретном институте, что он приютил племянника, приехавшего из Западной Германии, что у него неприятности с братом, которые он скрывает от руководства института…
— Вот и прекрасно! — довольным тоном произнёс Ларцев.
— Что — прекрасно? — удивился Бахметьев.
— Что анонимки пришли, — ответил Ларцев. — Обязательно и всенепременно, товарищ Бахметьев, выясните, кто автор анонимок. Если это Маневский, а скорее всего это он, мы получим наконец повод поставить на место этого склочника… Он у меня давно на примете! А что касается сомнений, возникших в институте в отношении Николая Петровича, я продумаю, как нам исправить свою оплошность…
После разговора с Бахметьевым Ларцев, раздосадованный своей непредусмотрительностью, пришёл к Малинину и рассказал ему о том, что произошло в институте с Леонтьевым.
— Вот, Петро, какая неприятность, — сказал он. — Простить себе не могу такой оплошности!.. Сделай это кто-либо из моих работников, я бы дал ему жестокий нагоняй…
— Позволь, позволь, ничего же особенного пока не случилось, — заметил Малинин. — В конце концов не поздно всё исправить…
— Случилось уже то, что надо исправлять, — с горечью заявил Ларцев, — и чего случиться не должно, если бы я оказался на высоте положения. Кроме того, оказывается, при моём телефонном разговоре с Николаем Петровичем присутствовал некий профессор Маневский, эдакий сверхбдительный товарищ, будь он проклят!.. Я давно понял, что этот профессор с его ложнозначительным видом и сладкими манерами — довольно противный тип… Подхалимствует перед Николаем Петровичем, а на самом деле — отъявленный его враг…
— Даже враг?
— Да, представь себе.
— Странно. Николай Петрович причинил ему какие-либо неприятности?
— Никогда никаких.
— Тогда в чём же дело? На какой почве этот профессор мог стать врагом Николая Петровича?
— На какой почве? — сердито воскликнул Ларцев. — На почве зависти, дорогой Петр, если хочешь знать. Да, да, зависти!.. Это мелкое чувство иногда обладает большей силой, чем любой двигатель внутреннего сгорания. Именно так! У завистника тоже происходит процесс этакого «внутреннего сгорания» от желчи, от злобы, от сознания того, что другой успел больше, чем он, что он талантливее, или умнее, или моложе, что к нему лучше относятся люди, что он занимает более высокий пост, что ему легче даётся наука. В результате такого «внутреннего сгорания» возникает страшная энергия мощностью в десятки лошадиных сил!..
— Верно, бывает такое, — согласился Малинин.
— И, к нашей беде, довольно часто. Знаешь, Петро, ведь нашей партии, нашему строю пришлось выдержать борьбу со многими враждебными силами, и борьба эта ещё продолжается. Но я твёрдо верю, что придёт день, когда в числе прочих враждебных сил мы объявим беспощадную борьбу зависти, причиняющей нам огромный ущерб. Мы объявим и докажем, что слово «завистник» — синоним слова «враг», «шкурник», «подлец»!.. В нашем уголовном праве прямо названы низменными чувства мести, корысти, ревности — и это действительно так. Пора и зависть причислить к этим низменным и опасным чувствам.
— Да ведь в судебной практике зависть всегда рассматривается как низменный мотив, — возразил Малинин.
— Знаю, я говорю о другом: я хочу, чтобы само понятие зависть было официально и прямо объявлено низменным в нашем уголовном законе, — уточнил Ларцев. — Возьми, к примеру, этого прохвоста Маневского…
— Ты уверен, что он действительно прохвост?
— Знаю я его, очень хорошо знаю! Я ведь отвечаю за этот институт и имею представление о его сотрудниках. Вся беда в том, что формально к такому Маневскому не придерёшься. «Позвольте, — скажет он, — я считал своим гражданским долгом сообщить директору института и секретарю парткома о том, что с братом Леонтьева что-то стряслось. Да, я, может быть, не должен был рассказывать об этом другим профессорам, но ведь я ничего не выдумал, никого не оклеветал, я только заботился о чистоте наших рядов»… И выскользнет, как угорь, этакий ловкач из положения и затем, опять-таки на почве зависти, при первой возможности бросит тень на другого учёного или на его работы, на его гипотезы или открытия, разумеется, снова декларируя, что делает это в интересах государства и народа… Тебе разве не приходилось встречать таких типов?
— Увы, гораздо чаще, чем хотелось бы, — ответил Малинин. — Вот смотрю я на тебя, Григорий, и радуюсь…
— С чего бы это? — удивился Ларцев такому неожиданному повороту разговора.
— Дожил ты почти до старости, умудрён жизнью и опытом, голова седая, а вот сердцем, темпераментом, чувствами — такой же, как много лет назад, когда пришли мы с тобою в ВЧК… Как говорят дамы, вы отлично сохранились.
— Ладно, будет вздор молоть! — махнул рукой Ларцев. — Видать, не очень сохранился, если такие ошибки делаю… Не иначе как склероз… Давай лучше пораскинем мозгами, как найти выход из создавшегося положения, в которое угодил благодаря мне бедный Николай Петрович.
— Что ж, давай пораскинем, — согласился Малинин.
Стрептококковая ангина
Получив задание Ларцева выяснить, кто является автором анонимок, в которых делалась попытка оклеветать конструктора Леонтьева, Бахметьев с великой радостью принялся за это. За многие годы своей следственной и чекистской работы Бахметьев пришёл к выводу, что анонимщики, как правило, подлецы и клеветники.
Бахметьев ненавидел эту гнусную породу людей, всегда готовых нанести удар исподтишка, ничем при этом, как думалось им, не рискуя. В подавляющем большинстве случаев они сводили таким способом личные счёты и руководствовались узко личными низменными мотивами.
Социальная опасность таких провокаторов давно уже была ясна Бахметьеву, и он ненавидел их, как ненавидел всех врагов своей Родины и народа. Да, Бахметьев был убеждён, что такие проходимцы — враги, потому что они приносят огромный вред, нередко отравляя жизнь честным людям, из-за шкурных, глубоко низменных побуждений мешают работать и жить.
Вот почему Бахметьев, гуманный и добрый человек, в своё время терпеливо и настойчиво перевоспитывавший уголовников и бурно радовавшийся каждому случаю, когда это удавалось, яростно, непримиримо и беспощадно относился к провокаторам, анонимщикам и клеветникам.
Бахметьев знал и то, что анонимки бывают не только внутреннего, но, так сказать, и внешнего происхождения: некоторые иностранные разведки иногда прибегали и к таким методам, желая скомпрометировать того или иного работника.
Такая возможность не исключалась и в данном случае. Более всего можно было заподозрить Маневского. Однако в институте из-за болтовни профессора уже многие знали, что с братом конструктора что-то произошло, а на квартире Леонтьева живёт племянник, прибывший из Западной Германии. Следовательно, автором анонимок мог быть и не Маневский.
Итак, выполнить задание Ларцева было совсем не просто. Бахметьев уже знал наизусть содержание анонимок. В первой из них, адресованной непосредственно следственным органам, указывалось на особую секретность работ института, причём приводилось точное его наименование. Затем автор или авторы писали: «Считаем своим гражданским долгом сообщить о подозрительном поведении конструктора Н. П. Леонтьева, работающего в институте. Пользуясь связями, он незаконно прописал у себя на квартире племянника, много лет прожившего в гитлеровской Германии и теперь возвратившегося (при содействии того же Леонтьева!) из американской зоны оккупации. Характерно, что брат Леонтьева (родной отец его племянника) в самое последнее время, по имеющимся сведениям, отстранён от поста коменданта одного из немецких городов и даже, кажется, арестован. Леонтьев, вопреки общеизвестным правилам, скрывает этот факт от руководства института, которое, кстати сказать, заняло в этом вопросе недопустимую примиренческую позицию, чтобы не сказать больше … В самом деле, зная обо всём этом, руководство института не только не отстраняет Леонтьева от секретнейших работ, составляющих важную государственную тайну , но и даёт ему возможность продолжать эти работы!.. Дело объясняется просто: Леонтьев — давний любимчик директора института, при содействии которого в своё время получил правительственную награду, в чём директор был почему-то особенно заинтересован… Надо полагать, что эта заинтересованность имела вполне определённые причины… Вот почему Леонтьеву всё дозволено. Вот почему мы, авторы этого письма, не можем назвать своих имён — нас немедленно уволят за то, что мы посмели поднять голос против «гения», хотя в действительности этот «гений» просто ловкач, присваивающий себе чужие открытия и чужую славу. Но это ещё полбеды. Гораздо серьёзнее, что Леонтьев в годы войны встречался с английскими и американскими военными инженерами в Польше, когда он настойчиво добивался и добился при содействии того же директора института командировки в Дебице, куда должны были приехать англичане и американцы. Не тогда ли договорился Леонтьев с кем следует о приезде своего племянника в Москву? Давно пора специально заняться этим делом, чтобы наши государственные тайны не стали достоянием вражеских кругов».
Вторая анонимка, адресованная министру, по существу повторяла содержание первой.
Обе были напечатаны на машинке и посланы по почте в один и тот же день. Судя по почтовым штемпелям, анонимки были опущены в почтовый ящик в Москве, в Сокольническом районе.
Поскольку в анонимках указывалось, что Леонтьев скрывает от дирекции института судьбу брата, что авторам грозит увольнение, Бахметьев пришёл к выводу, что анонимки написаны одним или несколькими работниками института, осведомлёнными обо всём этом деле. Правда, нельзя было вовсе исключить и другую версию — ведь анонимку мог написать и человек, в институте не работавший, но почему-либо знавший о случившемся с братом Леонтьева и заинтересованный в том, чтобы набросить тень на талантливого конструктора.
Прежде всего Бахметьев установил, что пищущая машинка, на которой были напечатаны анонимки, не принадлежит институту. Следовательно, анонимки печатались в другом месте, скорее всего на квартире их автора. Как проверить машинки, принадлежавшие работникам института? Пришлось исследовать ряд машинописных рукописей, которые работники института приносили из дому на работу, — их статьи, предназначенные для опубликования в вестнике института или в стенгазете, их диссертации, те или иные заявления, переводы отдельных иностранных статей или рефератов и т. д.
Увы, и эта проверка не дала результатов. В частности, проверка машинописных рукописей, представлявшихся в своё время профессором Маневским, показала, что он пользовался не той машинкой, на которой печатались анонимки.
Но Бахметьев не унывал, будучи уверен, что в конце концов это уравнение с одним неизвестным будет им решено. Только однажды, при очередной неудаче, Бахметьев невольно подумал о специфических трудностях своей профессии. В самом деле, вот теперь он бьётся над решением поставленной перед ним задачи — кто автор этих двух анонимок? И задача, на первый взгляд, не бог весть какая трудная, и вопрос сам по себе не так уж значителен, и, наконец, результат расследования не столь уж важен… Постороннему человеку всё это может показаться не очень важным делом: подумаешь, какого бобра убили — поймали анонимщика!..
И никому не приходит в голову, что для решения такой простенькой задачки, именно задачки, а не задачи, приходится иногда затратить не меньше находчивости, труда, времени, энергии и мастерства, чем для раскрытия сложного и тяжёлого по последствиям преступления. Не всякий способен понять и то, что каждый факт разоблачения анонимщика имеет своё общественное значение, пресекая вредную деятельность подлеца, способного причинить одному или нескольким честным советским людям незаслуженные и потому особенно горькие волнения.
После того как первые поиски автора анонимок оказались безрезультатными, Бахметьев решил идти методом исключения, начав, разумеется, с наиболее вероятной фигуры — профессора Маневского. О разговоре Маневского с директором и секретарём парткома института Бахметьев уже был осведомлён. Знал он также и о том, что Маневский рассказал о беде Леонтьева многим профессорам и другим научным сотрудникам, старательно сея слушки вокруг человека, под руководством которого он работал. Бахметьеву стал известен и факт с защитой диссертации, когда Маневский, публично выступив за диссертацию, проголосовал против неё тайно. С психологической точки зрения этот факт, по мнению Бахметьева, был своего рода анонимкой, так его и следовало учитывать, определяя моральный облик профессора.
Взвесив все данные, Бахметьев захотел лично встретиться с Маневским, решить для себя, является ли он автором анонимки. Если в результате личного знакомства возникнет внутреннее убеждение, что анонимки — «произведение» Маневского, придётся дополнительно поработать, чтобы подтвердить убеждение неопровержимыми доказательствами.
Но под каким предлогом, и в каком качестве лучше встретиться с Маневским?
Подумав, Бахметьев решил, что самое правильное встретиться с ним в качестве следователя, которому будто бы поручена проверка анонимки по существу, — пусть Маневский решит, что Леонтьев действительно взят под подозрение.
Конечно, разговор с Маневским надо было вести так, чтобы он ничего не понял, если не имеет отношения к анонимке, и, напротив, обнаружил осведомлённость о содержании анонимки, если является её автором.
При этих условиях Бахметьев имел шанс выяснить истину.
Продумав свой план, Бахметьев связался по телефону с Ларцевым и информировал его о том, как собирается действовать.
— Да, есть смысл так поступить, — ответил Ларцев. — Кстати, хочу вам сообщить, что я имел доверительный разговор с директором института и дал ему понять, что Леонтьев вне всяких подозрений, а его брат — честный человек и выполняет теперь особое задание. Я предупредил директора, что он ничего не должен говорить Леонтьеву о нашем разговоре. Директор — человек надёжный, я давно его знаю, он не подведёт…
На следующий день Бахметьев пригласил к себе Маневского. Точно в назначенный час Маневский явился и представился Бахметьеву. Тот с интересом стал его разглядывать, задавая первые, ничего не значащие вопросы. Он отметил респектабельный вид Маневского, золотые «профессорские» очки, холёное, упитанное лицо, солидные, хорошо заученные манеры и чересчур ясные глаза, в глубине которых, однако, сквозило некоторое беспокойство.
— Чем могу быть полезен? — осведомился профессор, искательно заглядывая в глаза Бахметьеву. — Впрочем, извините, здесь, кажется, не я должен задавать вопросы…
И он чуть улыбнулся, тут же, однако, сделав серьёзную мину, давая тем самым понять, что вполне понимает серьёзность учреждения, в которое приглашён. Улыбка же понадобилась, чтобы подчеркнуть полную независимость, сознание своей абсолютной безупречности. «Тонкая бестия», — подумал Бахметьев, сразу поняв смысл и цель улыбочки Маневского и последовавшей за ней серьёзной мины. Очень вежливо он сказал:
— Нет, почему же… Вы в самом деле можете быть нам полезны, профессор. И даже весьма. Потому я вас и побеспокоил, хотя представляю, как вы заняты…
— Да, уж занятий более чем достаточно, — позволил себе даже вздохнуть Маневскнй. — Впрочем, и вы, вероятно, не жалуетесь на их недостаток. Итак, я вас слушаю…
— Прежде всего я обязан предупредить вас, — начал Бахметьев, — что наш разговор должен остаться между нами…
— Можете не сомневаться, — быстро ответил Маневский. — Я отдаю себе отчёт в том, где нахожусь и с кем разговариваю.
— Могу ли я, помимо вашей скромности, профессор, рассчитывать также и на полную откровенность?
— Полагаю, что именно потому я и вызван, — парировал Маневский.
— Да, вы правы, — согласился Бахметьев. — Рассчитывая на откровенность с вашей стороны, я и сам намерен быть вполне откровенным с вами.
Маневский склонил голову, что должно было обозначать: признателен за доверие, иного и не ожидал.
— Вы, если не ошибаюсь, работаете вместе с конструктором Леонтьевым?
— Да, с Николаем Петровичем.
— И давно знаете его?
— Ещё с довоенных лет, как только он появился в нашем институте.
— Значит, давно, — уточнил Бахметьев. — Во всяком случае, достаточно для того, чтобы иметь о нем определённое мнение. Не так ли?
— Как вам сказать? — замялся Маневский. — Что значит — определённое мнение? В каком аспекте? Наконец, я не настолько близок с Николаем Петровичем, чтобы иметь о нём подробное суждение. Мало ли с кем нам приходится работать? Жену каждый из нас выбирает по своему вкусу и то, как известно, не всегда удачно. Товарищей по работе мы себе не выбираем, позволю себе заметить.
— Существует мнение, что Леонтьев очень талантлив как учёный. Вам известно об этом?
— О том, что существует такое мнение, или о том, что Леонтьев очень талантлив? — с язвительной улыбочкой спросил Маневский, и Бахметьев понял, что его вопрос задел больную струнку.
— И о том, и о другом! — уточнил он.
— Талант — слово серьёзное, им не стоит легко разбрасываться, — поучительно протянул Маневский. — Николай Петрович… гм… не лишён способностей… Некоторых способностей… В том числе… гм… организационных…
— Что вы имеете в виду под организационными способностями? Что он хороший организатор, что ли?
— Да, ор-га-ни-за-тор… — протянул Маневский. — Умеет показать товар лицом, умеет… Что и говорить!..
— И умеет устанавливать отношения с людьми? — быстро спросил Бахметьев.
— О, я вижу, вы знаете его не хуже меня, — расплылся в довольной улыбке Маневский.
— Да, вы так считаете? И можете привести примеры?
Маневский вскинул на Бахметьева цепкий, настороженный взгляд.
— Мы сговорились быть откровенными друг с другом, — напомнил Бахметьев. — Я жду… Ведь мы беседуем с глазу на глаз…
— Товарищ полковник, есть вещи, которые произносятся устно, но не фиксируются письменно, — процедил Маневский.
— Я не собираюсь ничего фиксировать. Наш разговор носит чисто информационный характер…
— Это существенно. Да, есть примеры, откровенно говоря, есть… Говорят, скажем, что директор института весьма… гм… весьма покровительствует или благоволит, не знаю, как сказать… Одним словом, он и Леонтьев — свои люди…
— В каком смысле — свои? Родственники, что ли?
— Зачем же обязательно родственники? Разве людей могут связывать только родственные отношения?..
— Ах, даже связывать?.. Любопытно… Что же их может связывать?
— На такой вопрос могут ответить только два человека: сам Леонтьев и директор, — многозначительно произнёс Маневский. — Если они захотят ответить…
— Так, понятно, — сказал Бахметьев, думая про себя: «Ты, подлец, писал анонимку, ты!» И, чтобы окончательно проверить эту мысль, вдруг, глядя прямо в лицо Маневскому, тихо, почти шёпотом, спросил:
— Значит, это всё правда? И Дебице, и племянник, и брат?
— Что за вопрос?.. — воскликнул Маневский и тут же, спохватившись, пробормотал: — Простите… Я не совсем улавливаю, так сказать… О чём идёт речь?
— Именно об этом, — ответил Бахметьев, подчёркивая взглядом и улыбкой, что Маневский спохватился поздно, что всё уже ясно и теперь нет смысла давать отбой. — Как это вы сформулировали? Ах, да: «Есть вещи, которые произносятся устно, но не фиксируются письменно». Внесём поправочку: фиксируются, но не подписываются. Ну зачем вы так волнуетесь, профессор? Никто не заставит вас подписывать…
— Право, всё это очень странно… — бормотал Маневский, отирая шёлковым платком испарину со лба. — Мой долг патриота… Здоровое чувство бдительности… Меньше всего я думал о своих интересах…
— Позвольте, вас никто не обвиняет в этом, — перебил его Бахметьев, подчеркнув последнее слово. — Каждый человек имеет право поделиться своими сомнениями, мыслями, наблюдениями…
— Да, да, сомнениями, — оживился Маневский, — именно сомнениями, вы нашли нужное слово! Я ничего не могу утверждать, но сомневаться я могу… Если я сомневаюсь…
— Разумеется. Если вы сомневаетесь, никто не может лишить вас права выразить сомнения… Можно спорить о способе выражения этих сомнений, профессор Маневский, но это в конце концов второстепенный вопрос. Как видите, мы поняли друг друга. Теперь перейдём к деталям. Одну минуту, я достану ваши… ваши сомнения. Кстати, вы их печатали лично или кому-либо доверили? Надеюсь, — лично, поскольку в этих письмах идёт речь о секретных вопросах… Или вы нарушили инструкцию? Это важно знать.
— Что вы, я никогда не нарушаю инструкции! — воскликнул Маневский. — Я не первый год на секретной работе…
— Очень хорошо. Это момент формальный, но имеющий, как вы сами понимаете, серьёзное значение… И это надо зафиксировать в ваших же интересах, чтобы поставить все точки над «ї»… Ничего больше, как мы условились, фиксироваться не будет. Черкните, пожалуйста, коротко: такие-то письма, мне предъявленные, я печатал лично, соблюдая инструкцию о секретной переписке. Вот бумага, перо…
— Да, но таким образом будет расшифровано, что я писал эти… эти сигналы, — растерянно пролепетал Маневский и снова вытер пот со лба.
— Оно и так расшифровано, — добродушно улыбнулся Бахметьев. — Мы даже знаем, что вы печатали эти письма не в институте…
— Да, на квартире сына, — подтвердил профессор. — Товарищ полковник, у меня нет и не может быть никаких секретов от вас… Вы в этом убедились… Но, сами понимаете…
— Всё понимаю, — успокоительно протянул Бахметьев. — Пишите, пишите, профессор!..
Маневский начал писать. Бахметьев встал, подошёл к окну и там, изредка поглядывая на спину профессора и складку розового жира на его шее, выпиравшей из ослепительного, туго накрахмаленного воротничка, закурил, жадно и часто затягиваясь дымом. Ему было противно. Несмотря на то что уже много лет Бахметьеву приходилось сталкиваться с человеческими пороками: лживостью, коварством, подлостью, жадностью, карьеризмом, трусостью, — он всякий раз поражался тому, что обнажалось по ходу следствия. Бахметьев понимал, что по характеру своей работы он обречён видеть главным образом натуры низменные — иначе ему и не пришлось бы иметь с ними дело — и что такого сорта людей в жизни лишь ничтожный процент, вовсе не характерный для общества, в котором он живёт. Но он не хотел мириться и с этим ничтожным процентом и потому огорчался всякий раз, когда убеждался, что перед ним сидит подлец. Ни один из этих подлецов в отдельности, ни все они вместе не подточили любви Бахметьева к людям и веры в людей, потому что эти любовь и вера были свойствами его характера, отправной точкой его мировоззрения, смыслом его жизни. Да, если бы мир представлял собою только гигантскую банку со скорпионами, истребляющими друг друга, в таком мире Бахметьеву не хотелось бы жить. Если бы человеческая жизнь не была озарена счастьем свободного труда, подвигом любви, теплом дружбы, силой доброты и верности, стойкостью убеждения, сверканием таланта, чудом гения, радостью смеха, — чего бы стоила такая жизнь?!
Конечно, Бахметьев понимал и другое — люди не рождаются ангелами или дьяволами. Он был достаточно умён и вдумчив для того, чтобы уметь прощать людям и какие-то человеческие слабости, нередко являющиеся результатом неправильного воспитания, слабой воли, дурной среды, случайного и рокового нагромождения обстоятельств. Бахметьев отлично понимал и значение пережитков капитализма в сознании людей, хорошо видя за этой привычной формулой всё уродство капиталистического строя, калечащего человека, растлевающего его душу, воспитывающего в нём эгоизм, жадность, дурацкую веру в беспредельное могущество золота и в то, что всё на этом свете будто бы можно купить за деньги…
Как криминалист, Бахметьев понимал лучше многих, к чему приводит капитализм в такой специфической области, как преступность. Да, капитализм породил не только уголовную преступность, но и чудовищные войны с их массовыми убийствами, и печи Майданека и Освенцима, и колючую проволоку фашистских концлагерей, и кровавый бред расистов… Конечно, миазмы капитализма иногда проникали и к нам, в Советскую страну, отравляя наиболее неустойчивых и слабых, в сознании которых ещё жили, как дремлющая инфекция в организме, эти пережитки. Различны были степени отравления, различны последствия, различны необходимые методы лечения — гангрена, угрожающая всему организму, требует ампутации, ангина её не требует.
Теперь, глядя на Маневского, осторожно взвешивающего, прежде чем написать, каждое слово, Бахметьев подумал, что в этом клиническом случае — хотя и только ангина, но всё-таки стрептококковая, и потому рассчитывать на то, что она пройдёт сама по себе, не следует… Стрептококк, как ни ничтожен сам по себе, всё же — стрептококк!..
Маневский был хитёр, но вместе с тем ему была присуща ограниченность, характерная для завистливого человека с мелкой душой. Именно из-за этой ограниченности он поверил в то, что его анонимки попали в цель и принесут Леонтьеву серьёзные неприятности по службе. Как раз этого и добивался Маневский, действовавший не только из желания сделать пакость Леонтьеву.
Дело в том, что работа коллектива, который возглавлял Леонтьев, значительно продвинулась. Основные принципиальные вопросы были решены, главные трудности преодолены, работу ждал несомненный и грандиозный успех. Маневский рассчитывал, что, если сейчас удастся скомпрометировать Леонтьева и отстранить его по тем или иным мотивам от дальнейшего участия в работе, львиную долю будущего успеха удастся присвоить себе.
Маневский не желал и потому не мог понять, что, присвоив себе успех чужого открытия и чужого труда, он, даже в случае временной удачи, неизбежно будет разоблачён. Он не понимал, что в условиях общества, в котором живёт, невозможно добиться обманом признания, славы, высокого положения — не то время, не те законы, не та среда. Маневский был мастер произносить громкие речи о роли науки в социалистическом обществе, но на самом деле не понимал достаточно глубоко ни науки, ни социалистического общества. Если бы он понимал это, то давно усвоил бы, что в науке бесчестными средствами ничего не добьёшься. А честных средств у Маневского не было: не было таланта, не было и желания возместить отсутствие таланта упорным и напряжённым трудом; его ленивый ум был способен работать в одном направлении — в направлении поисков лёгкой жизни и максимальных благ при минимальных с его стороны усилиях.
Ко всему этому, как правильно предположил Ларцев в беседе с Малининым, профессор был одержим завистью. Малейший успех того или иного товарища по работе Маневский воспринимал с чувством личной жгучей обиды: почему успел он, а не я? Так сильно было в нём это свойство мелкой душонки, что он почти заболевал от зависти, у него портилось настроение, пропадал аппетит. И вместо того чтобы задуматься над причинами успеха своего товарища и объяснить хотя бы самому себе, что этот успех пришёл в результате самоотверженного, упорного и целеустремлённого труда, умения преодолевать препятствия и не теряться от первых неудач, Маневский, не способный ко всему этому, искал другие и довольно подлые объяснения: удачнику помогли связи, его выручили дружки, он сумел кого-то корыстно заинтересовать, словчил…
И, сам поверив в собственные измышления, профессор начинал мысленно укорять себя не за то, что не сумел так работать, чтобы правомерно добиться успеха, а за то, что не сумел наладить нужных связей, не догадался кого-то чем-то заинтересовать, одним словом, оказался недостаточно пронырлив и ловок.
А того, что его товарищ заслуженно и честно добился успеха, Маневский допустить не мог по той простой причине, что сам он к этому был неспособен. В глубине души Маневский мысленно давно уже изменил известную формулу — от каждого по способностям, каждому по труду — на другую: от каждого по способностям, каждому по ловкости…
Вот он и старался быть самым ловким, самым пронырливым, самым хитрым. Именно поэтому в конце концов наступил крах, так как способностей у него не было, честно трудиться он не хотел, а придуманная им подлая формула оказалась враждебной обществу, в котором он жил.
Единогласным решением учёного совета профессор Маневский был уволен из института, в котором пытался применить свою, по сути дела, антисоветскую формулу. Приговором народного суда он был, кроме того, заклеймён как клеветник.
Но этот крах Маневского произошёл не сразу после его беседы с Бахметьевым, а лишь после того, как полковнику Грейвуду был нанесён сокрушительный ответный удар.
Активный баланс
Ларцев всё ещё находился в Берлине. Однажды вечером, когда он работал в кабинете Малинина, раздался звонок внутреннего телефона.
Малинин поднял трубку.
— Да, товарищ дежурный, — сказал он. — Господин Бринкель? Очень хорошо, дайте ему пропуск… Да, можно без сопровождающего… — Малинин положил трубку и обратился к Ларцеву: — Благополучно прибыл наш коммерсант. Сейчас придёт.
— Прекрасно, — улыбнулся Ларцев. — Давно его жду.
Через несколько минут дверь отворилась и в кабинет вошёл, как всегда, румяный, весело улыбающийся Бринкель в своём неизменном котелке, элегантном габардиновом плаще, с роскошным толстым портфелем в руке.
— Разрешите войти, уважаемый господин полковник, — произнёс он по-немецки, улыбаясь самым непринуждённым образом.
— Входи, входи, капиталист, — ответил по-русски, поднимаясь навстречу пришедшему, Малинин. И, обращаясь к Ларцеву, сказал: — Позволь, Григорий Ефремович, представить тебе майора Максима Ивановича Громова, а в миру — господина Бринкеля.
— Очень рад, — приветливо улыбнулся Ларцев, крепко пожимая руку Громову и с интересом его разглядывая.
— Здравствуйте, товарищ полковник, — щёлкнул каблуками Громов. — Разрешите докладывать?
— Давай, давай, Максим Иванович, — произнёс Малинин. — С нетерпением ждали твоего возвращения. Всё благополучно?
— Кое-что удалось сделать, — ответил Громов. — Прежде всего удалось всё-таки получить списки нашей молодёжи, которая содержится в лагере и работает на заводе Винкеля. Вот эти списки…
— О, это важно, — заметил Ларцев, перелистывая списки.
— Затем удалось установить фамилии пяти членов комитета, избранного по предложению майора Гревса. Всех их майор увёз в Нюрнберг, где они теперь и содержатся. Вот их фамилии. Председателем комитета был избран Коля Леонтьев. Игорь Крюков, о котором я вам прислал донесение, тоже был избран в комитет. Но самое любопытное: удалось выведать у некоего Пивницкого, абсолютного прохвоста, являющегося начальником лагеря, что этот Крюков в действительности сын заместителя Пивницкого — Мамалыги.
— Странная фамилия, — заметил Ларцев.
— Да, товарищ полковник, его фамиля Мамалыга. Это бывший орловский нотариус, работавший при немцах сначала в «русской полиции», а потом заместителем бургомистра… Опасаясь ответственности за сотрудничество с гитлеровцами, Мамалыга ушёл из Орла вместе с ними и в конечном счёте оказался в Западной Германии…
— Так, так, всё это существенные данные, товарищ Громов, — сказал Ларцев, всё ласковее поглядывая на румяного «коммерсанта». — Известно ли, где содержатся члены этого комитета в Нюрнберге и что с ними?
— По словам Пивницкого, они содержатся под охраной на конспиративной квартире американской разведки в Нюрнберге, вблизи дворца «карандашного короля» Фабера. Конспиративная квартира существует под «крышей» пивной, называющейся «Золотой гусь». К этой пивной пристроена целая квартира, специально оборудованная.
— Откуда это известно Пивницкому? И можно ли ему верить?
— Один из охранников, работавших в лагере, власовец Воскресенский, на некоторое время был прикомандирован к этой квартире, где использовался Гревсом для охраны членов комитета. Потом его заменили другим охранником, а Воскресенский вернулся в лагерь. Он и теперь находится там и иногда доставляет заключённых на работу в наш завод. Я лично с Воскресенским не говорил — из осторожности. Однако мой компаньон, господин Винкель, постоянно угощает конвоиров шнапсом, чтобы они не очень придирались, когда рабочих приходится задержать на лишний часок. На одной из таких пирушек с Винкелем Воскресенский проболтался, и это сразу стало известно мне.
— И хорошо сделал, что сам не говорил, Максим Иванович, — произнёс Малинин. — Одно дело, когда коммерсант Бринкель беседует с начальником лагеря, другое — с каким-то охранником… А в общем — ты молодец!.. Ну что ж, возьми мою машину и отправляйся прямо ко мне на квартиру, отдыхай. Завтра опять увидимся. В буфете найдёшь что закусить и, главное, что закусывать… Ферштеен зи, майн либер герр Бринкель?
— Яволь, герр оберст! — засмеялся Громов. — Их данке!.. О, русска вотка зер гут, герр оберст!..
Малинин и Ларцев расхохотались. Уж очень уморительно произносил Громов «русска вотка».
— Артист! — всё ещё продолжая смеяться, сказал Малинин. — Вжился в образ, как говорят в театре…
— Да, только с той незначительной разницей, что актёр в театре рискует, максимум, провалить роль, — серьёзно добавил Ларцев. — Но головой при этом не рискует… Устал, Максим Иванович, по совести говоря?..
— Устал, — тихо ответил Громов. — Неделю прожил в этом Ротенбурге, и знаете, что было труднее всего?
— Догадываюсь, — в тон ему ответил Ларцев. — Ночью боялись проговориться во сне? Как штабс-капитан Рыбников? Читали этот рассказ Куприна?
— Знаю его наизусть, — сказал Громов. — Но Рыбников был разведчик, а я поехал в Ротенбург и превратился в Бринкеля не для разведки. Я поехал выручать наших ребят, товарищ полковник. Мне поручили святое дело!.. И страшнее всего было не справиться с таким поручением! Не за себя было страшно — за них!.. Ну, хватит, поеду отдыхать… Да, кстати, Пётр Васильевич, положите, пожалуйста, этот портфель в свой сейф. В нём, как-никак, больше ста тысяч западных марок…
— Каких марок? — удивился Малинин. — Откуда?
— Я и мой компаньон подвели баланс за последние три месяца, — улыбнулся Громов. — И это моя доля прибылей. Прикажите бухгалтерии оприходовать…
И опять засмеялись Малинин и Ларцев.
— Лихо!.. — произнёс Малинин. — Начальника финчасти сейчас нет. Ладно, давай твои прибыли, положу их в сейф, а завтра оприходуем. В общем, Максим, как говорят бухгалтеры, у тебя активный баланс… Я имею в виду не марки…
— Служу советскому народу! — коротко ответил Громов.
***
Отпустив Громова, Ларцев и Малинин принялись за обсуждение дальнейших оперативных действий. Теперь, в свете данных, полученных Громовым, открывались новые перспективы для освобождения советских ребят, томящихся в лагере под Ротенбургом.
— Понимаешь, Петро, — говорил Ларцев, расхаживая по своей привычке из угла в угол кабинета, — теперь, когда мы знаем адрес конспиративной квартиры, где содержатся члены комитета, было бы сравнительно просто перебросить в Нюрнберг нескольких боевых парней, поручив им пробраться ночью в этот «Золотой гусь», связать часового, освободить наших ребят из этого лагеря и перевезти в нашу зону. И по справедливости, так сказать, по всем законам божеским и человеческим так и следовало бы поступить… Однако, помимо законов божеских и человеческих, существуют, как тебе известно, всякого рода дипломатические правила и нормы. И приходится с этим считаться…
— Что ты хочешь сказать? — спросил Малинин, хотя догадывался, о чём идёт речь.
— Нюрнберг находится в американской зоне оккупации, и с этим нельзя не считаться. В отличие от американцев, довольно бесцеремонных в таких вопросах, мы всегда очень щепетильны в своих отношениях с союзниками, хотя они не всегда этого стоят. Вот почему, Петро, надо действовать иначе…
— В таком случае, Григорий, — вздохнул Малинин, — я просто не представляю себе, как освободить несчастных ребят, тем более что речь идёт не только о членах комитета, находящихся в Нюрнберге, но и о тех, кто содержится в лагере…
— А я знаю, — весело улыбнулся Ларцев. — Слушай меня внимательно. Благодаря расторопности твоего Громова нам теперь известно, что Игорь Крюков — родной сын заместителя начальника лагеря Мамалыги. Так?
— Ну и что?
— Не торопись. Судя по данным Громова, этот Мамалыга — я имею в виду отца — одинок и, кроме сына, не имеет близких. Так?
— Так, — подтвердил Малинин с интересом.
— Мы не знаем этого Мамалыгу, но я убеждён, что на старости лет, не имея никого, кроме единственного сына, он не может не волноваться за его судьбу. Ведь и шакал защищает своего детёныша. Я не знаю, как и почему этот орловский нотариус стал изменником — это вопрос особый, — но уверен, что теперь он раскаивается в том, что наделал, хотя бы из чисто шкурных мотивов. Вряд ли он доволен своей нынешней судьбой — не так уж она заманчива.
— Рано или поздно всякий предатель жалеет о том, что сделал, — произнёс Малинин. — Так и надо этой сволочи!..
— Верно, хотя огульный подход неприемлем и тут. Среди так называемых перемещённых лиц немало людей, совершивших те или иные преступления против Родины. Но это — разные люди, они разное совершили и по разным мотивам. Тебе известно, что многие из них в конце концов будут амнистированы и получат возможность вернуться на Родину и загладить свою вину перед ней честным трудом. Такова наша политика в этом вопросе — разумная, гуманная и мудрая политика. Теперь я тебя спрашиваю: почему бы нам не попытаться вступить в контакт со стариком Мамалыгой и не предоставить ему возможность хотя бы частично загладить свою вину?
— О, в этой идее есть зерно! — оживился Малинин. — А ты думаешь, что можно на него положиться, что он нас не подведёт?
— Маловероятно, чтобы Мамалыга захотел нас обмануть, — задумчиво протянул Ларцев. — Однако этого нельзя вовсе исключить. Всё может быть. Возьмём худший вариант: Мамалыга — закоренелый враг и потому захочет нас подвести, пренебрегая даже судьбою сына, находящегося в Москве. Чем же, позволительно спросить, он может нас так уж подвести? Чем?
— Он может подвести того человека, который вступит с ним в контакт. Кстати, кому, по-твоему, это можно поручить?
— Кому как не Громову, — ответил Ларцев. — Это настоящий разведчик, а, кроме того, ему проще всего проехать в Ротенбург и там связаться с Мамалыгой. На то он и господин Бринкель.
— А если Мамалыга выдаст его Гревсу или Пнвницкому?
— Прежде всего Громов должен разговаривать с Мамалыгой, продолжая играть роль немецкого коммерсанта, действующего, однако, по нашему поручению. По реакции Мамалыги на разговор с ним Громов должен определить, можно ему верить или нет. Если появятся хотя бы малейшие сомнения, следует срочно уехать из Ротенбурга. Более того, разговор должен состояться перед самым отъездом Громова и при таких условиях, когда Мамалыга не будет иметь возможности сразу связаться с Пивницким или Грейвудом.
— А поверит ли Мамалыга Бринкелю, если тот будет говорить с ним от нашего имени?
— Я думал и об этом. Если Бринкель, разговаривая с Мамалыгой, покажет ему фотографию его сына, снятого в Москве, скажем на фоне Кремля или Большого театра, то Мамалыга убедится, что Бринкель действительно выполняет наше поручение. Кроме того, Бринкель ведь скажет Мамалыге, что мы уже знаем, под каким видом и с какой целью его сын заслан в Москву.
— Да, это логично, — сказал Малинин, всё ещё, однако, колеблясь. — Понимаешь, Григорий, надо всё тщательно, до самых ничтожных мелочей, обдумать. Громов — замечательный парень и превосходный работник. Рисковать им, скажу по совести, очень не хочется… Теперь у меня возникает вопрос, связанный с той стороной дела, с которой ты начал. Как всё это будет выглядеть с дипломатической точки зрения?
— Законный вопрос, — ответил Ларцев. — Но для того, чтобы на него ответить, надо прежде всего выяснить, кто будет освобождать членов комитета, потому что начинать надо именно с них. Вообразим на минуту, что Мамалыга сам поедет в Нюрнберг, проберётся в «Золотой гусь» — это для него не составит никакого труда, учитывая его положение в лагере, — и там вместе с членами комитета обезоружит часового и освободит ребят. Ни один дипломат на свете не сможет при всём желании даже пискнуть: советские люди, противозаконно задержанные, сами сумели вырваться из узилища, в которое были заключены вопреки элементарным нормам международного права! Скажу тебе больше: Грейвуд и Гревс при этом предстают в таком невыгодном свете, что они и не подумают поднять шум. Это ведь всё равно, что расписаться в очень мерзких делишках…
— Да, превосходная комбинация! — воскликнул наконец Малинин, оценив логичность всех рассуждений Ларцева. — Только давай ещё посоветуемся с Громовым…
— Безусловно, — сказал Ларцев. — Без его мнения я и не собирался окончательно решать.
На следующее утро хорошо отдохнувший Громов был посвящён в план. Внимательно выслушав Малинина и Ларцева, Громов сразу сказал:
— Подходит. Разрешите выполнять?
— Одну минуту, — улыбнулся Ларцев, которому понравилось, что Громов так быстро реагировал на предложение. — Скажите, вы ведь познакомились с этим Мамалыгой?
— Ну как же, я с ним несколько раз разговаривал. Разумеется, я не заводил с ним разговора о его сыне, но у меня ещё в Ротенбурге создалось впечатление, что Мамалыга удручён и очень озабочен. Думаю, что это вызвано тревогой о сыне.
— Как он выглядит? — спросил Ларцев.
— Невысокий, чуть сутулый, вид какой-то, я бы сказал, растерянный. Со здоровьем у него тоже, по-моему, дела обстоят неважно. Под глазами мешки. Ему немного за пятьдесят, но на вид можно дать больше. Настроение у него подавленное, однажды даже в разговоре со мной он прослезился…
— Как вы думаете, удастся вступить с ним в контакт?
— Пожалуй, удастся, — ответил Громов. — Тем более что Мамалыга, как я заметил, ненавидит Пивницкого и, по-видимому, будет рад от него освободиться. Этот Пивницкий действительно законченный негодяй.
— Понятно, — сказал Ларцев. — Теперь давайте подробно обсудим, каким путём Мамалыга, если удастся привлечь его к делу, сможет освободить членов комитета.
И три чекиста стали разрабатывать во всех деталях план операции. Прежде всего они подробно обсудили, как именно Громов-Бринкель должен начать откровенный разговор с Мамалыгой. При этом Ларцев, как всегда, старался предусмотреть все возможные осложнения и препятствия, начиная с позиции, которую может занять в разговоре сам Мамалыга, и кончая всякими непредвиденными и уже от Мамалыги не зависящими осложнениями и неожиданностями.
Затем обсуждена была вторая часть операции, в частности роль Мамалыги (если с ним удастся договориться) в освобождении членов комитета. Надо было заранее решить, как вооружить Мамалыгу для того, чтобы он при помощи членов комитета мог вывести из строя часового и, в случае необходимости, его связать.
И эта часть плана была разработана со всеми подробностями, причём Ларцев сообщил Громову, что он должен будет реализовать задание в то время, когда в Москве будет проведена другая операция, связанная с сыном Мамалыги.
Ларцев не считал нужным вводить Громова в курс всей операции, готовящейся в Москве, но в той части, в которой она касалась Игоря Мамалыги, информировать Громова было необходимо.
«Племянник»
В Москве стояли жаркие дни. Случалось, что в полдень температура достигала 30-35 градусов, у киосков с минеральной водой стояли очереди, пригородные поезда и автобусы были переполнены людьми, стремившимися провести свободные часы в окрестностях столицы, в лесной тени, на речных пляжах.
В один из этих жарких дней Николай Петрович Леонтьев собирался в командировку — надо было поехать на завод, где выполнялся один из заказов института.
Накануне отъезда Леонтьева пригласил директор института, почему-то тщательно закрыл дверь кабинета и спросил:
— Завтра собираетесь выехать, Николай Петрович?
— Да, рано утром.
— Так вот, есть к вам не совсем обычная просьба: я хочу вам дать портфель с чертежами и расчётами и просить, чтобы вы перед отъездом положили этот портфель в свой сейф, который у вас на квартире.
— В мой сейф, на квартире? — удивился Леонтьев. — Не мне вам говорить, Иван Терентьевич, что это строжайше воспрещено. Вы сами не один раз говорили об этом…
— Совершенно верно, вы абсолютно правы, — улыбнулся директор. — Но жизнь — сложная штука, Николай Петрович, иногда возможны ситуации, при которых в интересах дела следует нарушить это золотое правило…
— Решительно ничего не могу понять, — развёл руками Николай Петрович. — Объясните мне, какой в этом смысл? Я уезжаю в командировку и не могу даже отвечать за сохранность секретных документов. Мало ли что может быть…
— А вам не приходит в голову мысль, что, может быть, именно поэтому я обращаюсь к вам с подобной просьбой? — как-то странно улыбаясь, сказал директор. — И уж позвольте в таком случае сказать вам прямо: это не моё личное предложение, мне приказано так поступить… Чтобы у вас не было сомнений, я дам вам письменное предписание.
— Что я могу сказать? Приказ есть приказ, — сказал Леонтьев. — В квартире моей остаются племянник и домашняя работница. Я надеюсь, что речь идёт не о недоверии к ним?
— Конечно, конечно, — согласился директор. — Но в конце концов это не наше с вами дело, и те, кому следует, знают лучше, как поступить. Вот, возьмите этот портфель, Николай Петрович, — и он протянул конструктору объёмистый кожаный портфель, туго набитый какими-то документами. — А предписание прочтёте в спецотделе и распишетесь в том, что ознакомлены с ним.
Взяв портфель, Леонтьев отнёс его в рабочий кабинет и положил в служебный сейф. До позднего вечера в связи с предстоящим отъездом Николай Петрович занимался своими делами. Уже в одиннадцатом часу он поехал домой, захватив с собою портфель.
Приехав домой, Николай Петрович хотел было посмотреть документы, лежавшие в портфеле, но в кабинет вошёл племянник, только что вернувшийся из театра, и стал оживлённо рассказывать о понравившемся спектакле.
Николай Петрович, очень внимательно относившийся к племяннику, разговорился с ним. Портфель был положен в домашний сейф конструктора. Потом неожиданно приехал Бахметьев, нередко навещавший Николая Петровича, сели пить чай, и завязался общий весёлый разговор.
Было уже за полночь, когда Бахметьев, зная, что Николаю Петровичу надо выехать рано утром на аэродром, простился с ним и Колей, сказав, что хозяину следует перед отъездом отдохнуть.
Коля, как всегда, пошёл спать в кабинет, а Николай Петрович, приняв ванну, тоже лёг в постель. Вспомнив о том, что хотел посмотреть документы, лежащие в портфеле, он решил не тревожить сейчас племянника и проглядеть документы утром, перед отъездом.
В половине шестого утра звонок будильника разбудил Николая Петровича. Вскоре, уже в дорожном костюме, он вошёл в столовую, где тётя Паша приготовила завтрак.
— А Коленька ещё спит, тётя Паша? — спросил Николай Петрович.
— Да ещё как, вовсю похрапывает, — ответила старушка. — Хотела я его разбудить, чтобы он с вами простился, да, признаться, пожалела… И так он целыми днями всё учится да над книжками сидит… Пусть хоть выспится как следует, совсем парень извёлся…
— Да, да, не надо его будить, — согласился Николай Петрович. — Нелегко ему наверстать потерянные годы, бедняге…
И он решил, что, собственно, никакой нужды знакомиться с документами, рискуя разбудить племянника, у него нет — ведь они были переданы ему лишь для хранения в связи с какими-то странными обстоятельствами.
Позвонил шофёр, приехавший за Леонтьевым, и он, простившись с тётей Пашей, поехал на аэродром.
По дороге Николай Петрович задумался о племяннике. За эти месяцы Коля, уже привыкший к новой обстановке, по-видимому, чувствовал себя в квартире своего дяди как дома; Николай Петрович очень внимательно и заботливо к нему относился.
Юноша вёл себя скромно, старательно учился и, по-видимому, всячески стремился расположить к себе дядю. Николай Петрович это замечал и, в сущности, не имел никаких оснований быть недовольным поведением племянника.
Но — странное дело — в то же время Николай Петрович ловил себя на том, что этот красивый, светлоглазый юноша с аккуратным пробором, тихим голосом и примерным поведением как-то не совсем понятен ему. Коля был немногословен, очень неохотно говорил о прошлом и, как заметил Николай Петрович, не так уж тосковал по отцу. Что было особенно удивительно, почти никогда юноша не вспоминал о матери, и это тоже неприятно поражало Николая Петровича.
Иногда Леонтьеву казалось, что, несмотря на свою молодость, племянник был довольно расчётлив и холодноват, и трудно было понять, что он думает, о чём мечтает, чем живёт. Странно было и то, что Коля ни с кем не подружился, хотя Николай Петрович нарочно познакомил его с одногодками — сыновьями некоторых своих друзей по институту.
Даже такая благодушная старушка, как тётя Паша, приветливо и с большим теплом принявшая Колю, месяца через два после его приезда как-то сказала Николаю Петровичу:
— А племянничек-то ваш, я погляжу, не так прост…
— А в чём дело, тетя Паша? — спросил Николай Петрович.
— Сама не пойму, — развела руками старушка, — вроде и послушный, и тихий, и ласковый, а сердце к нему не лежит, Николай Петрович… Почему, сама не знаю…
Николай Петрович тогда задумался над словами тёти Паши и с огорчением подумал, что в чём-то согласен с ней. Но, вспомнив о том, что пришлось пережить племяннику, Николай Петрович устыдился собственных мыслей и решил, что несправедлив в своём отношении к Коле: по-видимому, парень до сих пор по-настоящему не оправился от тяжких впечатлений искалеченного детства.
Преждевременная радость
Господин Крашке наслаждался жизнью. Уж много лет ему не приходилось отдыхать столь безмятежно, как теперь, в Малаховке. В самом деле, только раз в неделю, по воскресеньям, Крашке выезжал в Москву, где встречался с Игорем Крюковым-Мамалыгой. Потом он вновь возвращался в Малаховку, играл в подкидного дурака со своей квартирной хозяйкой, пил парное молоко и перед сном совершал обязательную прогулку. Никуда не надо было мчаться, никого не надо было бояться, никто на него не кричал. К тому же он не был стеснён в деньгах, располагал вполне надёжными документами и, таким образом, имел все условия для полного душевного покоя, по которому так стосковался за последние годы.
В Малаховке было множество дачников, и по вечерам, после работы, они приезжали на электричке; на террасах шумели самовары, звенели тарелки, играли патефоны.
Вскоре после приезда в Москву Крашке познакомился с дачниками, поселившимися поблизости, нередко гулял с ними или играл в городки. Крашке избегал обширных знакомств, но, с другой стороны, считал, что чрезмерно замкнутый образ жизни тоже может показаться странным.
Из числа новых знакомых он чаще всего встречался с пожилым, седоусым человеком, поселившимся со своей десятилетней внучкой как раз напротив той дачи, в которой жил Крашке. Этот человек — его звали Семёном Петровичем — рассказал, что его дочь с мужем — геологи, находятся в экспедиции, а он решил на всё лето поселиться с внучкой в Малаховке. Крашке понравилось, что этот высокий, ещё довольно крепкий старик не задаёт ему лишних вопросов и не проявляет излишнего любопытства, вполне удовлетворившись теми сведениями, которые Крашке после знакомства сообщил о себе.
Они часто гуляли вдвоём по окрестностям Малаховки, иногда ездили в Кратово купаться в пруду.
Как-то на очередной встрече Крашке с Игорем тот подробно рассказал ему о своём житье-бытье. Юный Мамалыга тоже вполне вошёл в роль и чувствовал себя очень спокойно.
Однажды Игорь сообщил, что Леонтьев собирается выехать в командировку. Он передал Крашке восковой слепок от сейфа, стоявшего в кабинете Леонтьева, и попросил изготовить по этому слепку ключ.
— На всякий случай надо иметь ключ, — сказал Игорь. — После отъезда Леонтьева в командировку я смогу без всякого риска ознакомиться с содержанием сейфа: ведь тётя Паша ежедневно уходит на рынок и я остаюсь один в квартире…
Крашке похвалил Игоря и сказал, что ключ изготовит. После этого по явке, данной ещё в Германии Грейвудом, Крашке встретился с одним иностранным журналистом, проживающим в Москве. Этот журналист был предупреждён о приезде Крашке, взял у него слепок и сказал, что через несколько дней сможет вручить ему ключ.
Они сговорились встретиться в Центральном парке культуры и отдыха, у «чёртова колеса», где обычно собиралось много публики и можно было незаметно передать ключ. Так и было сделано.
В следующее воскресенье Крашке передал Игорю ключ.
— Очень кстати, — с довольной усмешкой произнёс Игорь. — На днях мой дорогой дядюшка, кажется, выезжает в командировку…
— Это недурно, — заметил Крашке. — Правда, я не рассчитываю на то, что он хранит в своём домашнем сейфе настоящие секреты, но, с другой стороны, может быть нам и повезёт: сейф, что там ни говори, сейф, не зря же он поставил его в своём домашнем кабинете…
Сговорившись, что на этот раз они встретятся во вторник, Крашке и Игорь расстались.
Во вторник Игорь, встретившись с Крашке, сообщил, что Леонтьев уезжает в среду. Сговорились снова встретиться в четверг.
Утром, когда Леонтьев уехал на аэродром, а тётя Паша ушла на рынок, Игорь открыл сейф Леонтьева, достал оттуда портфель с документами и внимательно их рассмотрел. Портфель был набит чертежами, пояснительными записками к ним и какими-то непонятными Игорю расчётами. На каждом из этих документов имелся гриф «Совершенно секретно».
Игорь обрадовался. Теперь можно было не сомневаться, что задание полковника Грейвуда будет успешно выполнено.
В четверг, переложив все документы в свой портфель, Игорь вышел из дому и направился на Казанский вокзал, где на этот раз должен был встретиться с Крашке. Они зашли в буфет, делая вид, что не знают друг друга; Крашке занял столик у окна и заказал пиво. Игорь сел за соседний столик. В этот час публики в вокзальном буфете было мало. Игорь выпил лимонад, расплатился с официантом и медленно пошёл к выходу, нарочно оставив свой портфель на стуле, словно он его забыл.
Крашке оглянулся. Никто из публики не заметил оставленного портфеля. Тогда — за пиво он заранее расплатился — Крашке быстро встал, схватил оставленный портфель и побежал к выходу с таким видом, как будто он хочет вручить портфель его рассеянному владельцу. Но и тут никто не обратил внимания на Крашке.
В тот же день Крашке встретился с иностранным журналистом и передал ему портфель — этот «журналист» должен был сфотографировать все документы и вернуть их Крашке. Через сутки документы были возвращены, и «журналист» сказал Крашке:
— Насколько я понимаю, это то, что нужно… Во всяком случае, уверен, что наш общий шеф будет доволен. Фотокопии документов уже в воздухе, дорогой партнёр…
— Как в воздухе? — спросил Крашке.
— Они преспокойно летят за океан, — ответил «журналист». — Мы можем поздравить друг друга с успехом…
***
И в самом деле, через пару дней после этого полковник Грейвуд получил в Нюрнберге шифрованную телеграмму от Маккензи:
«Дисекретно, Нюрнберг, полковнику Грейвуду.
От всей души поздравляю Вас, дорогой полковник Грейвуд, с первым и весьма значительным успехом операции.
Сегодня поступили фотокопии документов, связанных с секретными работами русских в области ракет. Таким образом, наши с Вами совместные усилия увенчались большим успехом. Вызовите лично Мамалыгу и выдайте ему пятьсот долларов в качестве первого аванса в счёт причитающегося ему и его сыну вознаграждения.
Примите мои пожелания здоровья и дальнейших успехов!
Маккензи.»
Прочитав эту шифровку, Грейвуд пришёл в восторг и даже простил Маккензи эту дурацкую фразу насчёт «совместных усилий». Дьявол с ним, в конце концов каждому хочется примазаться к выгодному делу!
Такой успех следовало, конечно, отпраздновать. Грейвуд раньше обычного закончил свои занятия и по пути домой заехал в комиссионный магазин, где приобрёл по сходной цене ожерелье для фрейлейн Эрны.
Вечером вместе с фрейлейн Эрной Грейвуд отправился в «Опера-хауз», как теперь именовалась бывшая нюрнбергская опера, чудом уцелевшая от бомбёжек. Послушав отличный концерт немецкого симфонического оркестра, Грейвуд закончил вечер в «Гранд-отеле», где очень весело провёл время. Там играл превосходный джаз, Грейвуд и фрейлейн Эрна много танцевали. Полковник с удовольствием отметил успех, которым пользовалась его красивая, нарядно одетая дама. Да, надо уметь пользоваться жизнью. Для своего возраста он отлично сохранился, прекрасно выглядит, имеет великолепную, хорошо вымуштрованную любовницу, его служебные и денежные дела идут более чем успешно. Теперь, после успеха московской операции, не исключено, что он будет произведён в генералы — пора, давно пора! И потом — не век же он будет сидеть в этом разрушенном Нюрнберге. Закончив дела, он получит отпуск, вылетит с фрейлейн Эрной в Париж или в Италию, куда-нибудь на взморье — морские купанья отлично укрепляют нервную систему.
В самом великолепном настроении полковник Грейвуд возвратился со своей подругой домой и лёг спать. Утром он с аппетитом позавтракал и поехал на работу, где только что на его имя пришла новая шифровка от Маккензи. Увы, она резко отличалась своим тоном от первой:
«Дисекретно. Нюрнберг, полковнику Грейвуду.
Мне поручено Вам передать, что Ваша дурацкая затея с направлением сына Мамалыги в Москву, как я и предвидел, поставила нашу службу в самое нелепое положение. Когда эксперты ознакомились с фотокопиями документов Леонтьева, выяснилось, что эти документы представляют собою чертежи и расчёты самых первых и весьма неудачных немецких ракет, секрет которых давно уже всем известен и не представляет ни малейшего интереса.
Более непристойного скандала я не припомню за все годы своей деятельности. Телеграфьте Ваши объяснения и предлагаемые меры, чтобы выйти из того положения, в которое поставлена наша служба из-за этой истории.
Маккензи».
Так выяснилось, что радость Грейвуда была преждевременной. Прочитав шифровку Маккензи, полковник побледнел от злости. Какой наглый, издевательский тон!.. «Как я и предвидел», — пишет этот мерзавец. Он предвидел!.. Можно представить, что он наговорил дома, если даже в телеграмме этот негодяй так пишет!.. Да и пишет-то, без всякого сомнения, специально для начальства — дескать, смотрите, я и Грейвуду прямо написал, что был против его плана… Разумеется, он уничтожит первую шифровку, в которой писал о «наших совместных усилиях». Но нет, полковник Грейвуд тоже не молочный телёнок, которого готовят на пасхальный стол!.. Уж он-то сохранит первую телеграмму Маккензи и, более того, предъявит её, кому следует, — пусть видят, что за фрукт этот Маккензи!..
Но что же всё-таки произошло в Москве? Скорее всего, конечно, что мальчишка налетел на старые, никому не нужные чертежи, но… но, может быть, это всё гораздо сложнее и опаснее… Судя по шифровке кретина Маккензи, он пока не задумался над этим вопросом, хотя именно это и есть самое важное. Если всё, что произошло, — результат глупой случайности, нет смысла огорчаться: сегодня добыли старые чертежи, завтра добудем новые. Но если это ход советской контрразведки, специально подсунувшей нам старые чертежи, — операция позорно провалена…
Эти мысли совсем расстроили Грейвуда. Вдобавок ко всему болела голова — вчера в «Гранд-отеле» он основательно выпил, забыв, что ему не тридцать лет и всякое нарушение режима теперь не проходит бесследно. Да, ничто так не старит, как возраст!.. Куда девались пилюли против головной боли?
И Грейвуд поспешно проглотил две пилюли, решив, что теперь самое важное — позаботиться о своём здоровье. Но пилюли на этот раз не помогли — голова продолжала болеть. Полковник вызвал машину и поехал за город основательно проветриться.
Машина выбралась из города и помчалась по широкой бетонной автостраде, посреди которой выстроились в два ряда, как солдаты, липы. Мотор успокоительно пел. Мягкий шорох автомобильных шин и свежий, напоенный баварским летом воздух, со свистом врывавшийся в открытое окно машины, несколько успокоили Грейвуда. Хладнокровие, хладнокровие, старина!.. Волнение только способствует развитию склероза…
И, всё более приходя в себя, полковник Грейвуд обдумывал текст своего ответа на шифровку Маккензи. Надо поставить на место этого нахала. Ответ должен быть спокойным, корректным, но полным достоинства. Надо подчеркнуть, что первая неудача с документами отнюдь не может рассматриваться как поражение. Более того, она лишь подтверждает правильность всего плана с внедрением в квартиру Леонтьева надёжного агента. Располагая таким козырём, можно не сомневаться в том, что игра рано или поздно будет сделана.
Через три часа полковник Грейвуд вернулся в Нюрнберг и отправил ответ на шифровку Маккензи. В этом ответе он, придерживаясь намеченного тона, подчеркнул, что проживание Игоря Мамалыги в Москве, в квартире главного объекта операции, есть факт, значение которого трудно переоценить. Никакие временные осложнения или неудачи, писал Грейвуд, не снижают значения этого факта и его деловых перспектив.
Шифровальщик доложил, что телеграмма передана по радио, и Грейвуд, уже совсем успокоившись, поехал обедать. Он никак не ожидал, что очень скоро получит новый, ещё более сокрушительный удар.
Громов выполняет задание
Как-то вечером, когда господин Винкель и его дочь Эмма мирно сидели за ужином, к ним позвонили. Фрейлейн Эмма вышла в переднюю и оттуда донесся её возглас:
— О, как я рада!.. Отец, отец, посмотрите, какой гость!..
Господин Винкель выбежал в переднюю и искренне обрадовался, увидев своего компаньона.
После объятий и шумных приветствий, как всегда весёлый и румяный Бринкель рассказал, что приехал на несколько дней немного отдохнуть от дел и отчитаться перед своим компаньоном.
— Рад вам сообщить, дорогой компаньон, — говорил он, с аппетитом уплетая яичницу с ветчиной, — что в связи с летним сезоном наши фруктовые воды опять пошли хорошо. Особенно большим спросом пользуется «немецкая вишнёвая вода», изготовляемая по вашим старым рецептам. Мы уже реализуем часть нашей продукции в Дрездене, Веймаре, Цвикау, Хемнице и других городах. Словом, надо благодарить всевышнего!.. Я захватил с собою все отчёты, и как-нибудь вечерком мы вместе их рассмотрим…
— Ну-ну, это всегда успеется, — добродушно заметил Винкель. — Я рад видеть вас и без всяких отчётов, мой дорогой компаньон. Гораздо важнее, чтобы вы действительно отдохнули у нас как следует. Ты, Эмма, — обратился он к покрасневшей дочери, — должна развлечь нашего дорогого гостя, чтобы он ни в коем случае не скучал… Недавно мне удалось приобрести хотя и старенький, но ещё вполне сносный автомобиль; надо вам вдвоём покататься, посмотреть окрестности и даже, если хотите, совершить путешествие в Мюнхен, или в Нюрнберг, или куда-либо ещё, — добавил Винкель, всё ещё питавший надежду выдать свою дочь замуж за румяного и делового толстяка, своего компаньона.
— Я буду очень признателен фрейлейн Эмме, если она составит мне компанию, — любезно ответил Бринкель. — Кроме того, я захватил с собой «лейку» и хочу сфотографировать живописные окрестности Ротенбурга и его достопримечательности… И, разумеется, вас, милая фрейлейн Эмма!..
Господин Винкель довольно ухмыльнулся. Его надеждам, по-видимому, было суждено оправдаться.
Несколько дней гость прожил в Ротенбурге. Вечерами он гулял с фрейлейн Эммой, катался с ней на стареньком, но ещё бойком «оппеле». Днём, когда фрейлейн Эмма была занята по хозяйству, Бринкель гулял один. Ротенбург и его окрестности были очень живописны, и не удивительно, что всякий раз, направляясь на прогулку, Бринкель захватывал с собою фотоаппарат.
Не было ничего удивительного и в том, что несколько раз господин Бринкель заглянул в лагерь, где жили девушки и юноши, работавшие на заводе его компаньона. А то, что он — компаньон Винкеля, уже для многих не было секретом; сам Винкель как-то представил его Пивницкому.
Вот почему однажды, встретив у ворот лагеря господина Бринкеля, объяснившего, что он, гуляя, случайно сюда забрёл, Пивницкий самым любезным образом принял совладельца завода фруктовых вод, пригласил его к себе — он жил на территории лагеря — и стал ему рассказывать о том, как он управляет своим сложным хозяйством.
— Правда, после того как майору Гревсу пришла в голову счастливая мысль вывезти из лагеря главных зачинщиков всяких неприятностей, — рассказывал Пивницкий, — мне стало гораздо легче, но и теперь ещё, уважаемый господин Бринкель, приходится тратить много сил на то, чтобы поддерживать необходимую дисциплину и порядок…
— О да, я понимаю вас, — ответил немецкий коммерсант. — В каждом деле важно установить твёрдый порядок. Мы, немцы, всегда считали, что дисциплина и порядок основа всего… Я отлично понимаю вас, господин Пивницкий, и глубоко сочувствую вашим идеям… Имеете ли вы, однако, надёжных помощников в своём трудном деле?
— Увы, хвастать нечем, — горестно вздохнул Пивницкий. — Мой заместитель Мамалыга уже стар. Кроме того, говоря между нами, он любит предаваться воспоминаниям о своём прошлом, о своём городе, одним словом, о всякой чепухе. Эта глупая славянская сентиментальность, господин Бринкель, мне совсем не по душе. Я человек трезвый и презираю иллюзии.
— Странно, я однажды видел этого Мамалыгу, и он произвёл на меня впечатление вполне разумного человека, — небрежно заметил Бринкель. — Как опасно поддаваться первому впечатлению!.. Неужели этот чудак ещё думает о возвращении в Россию?
— Вероятно, он понимает, что это просто невозможно, — заявил Пивницкий. — Однако предаётся воспоминаниям, что мне тоже не нравится. Я, например, раз и навсегда выбросил из головы своё прошлое и не хочу о нём вспоминать.
Покидая Пивницкого, Бринкель поблагодарил за любезность, покровительственно похлопал его по плечу и сказал, что одобряет его трезвые взгляды на жизнь.
— Да, да, господин Пивницкий, — сказал он. — Я надеюсь, что рано или поздно ваши мысли и дела будут полностью оценены по заслугам. Со своей стороны, я был бы искренне рад принять участие в этом… Можете не сомневаться.
Обрадованный Пивницкий проводил своего гостя и просил его всякий раз, когда он гуляет в этом районе, запросто приходить в лагерь.
Бринкель воспользовался этим приглашением и через два дня снова зашёл в лагерь. Однако на этот раз Пивницкий отсутствовал и гостя встретил Мамалыга.
— Здравствуйте, господин Мамалыга, — сказал Бринкель. — А где же ваш начальник?
— Вчера вечером майор Гревс вызвал его в Нюрнберг, — ответил Мамалыга.
— Понимаю. Не потому ли вы так грустны? — спросил, улыбаясь, Бринкель.
— Да нет, просто есть о чём подумать, — вздохнул Мамалыга. — Меня не очень балует судьба…
Они сели, закурили, Бринкель оглянулся — никого вокруг не было. Сделав несколько затяжек, Бринкель неожиданно сказал:
— А у меня для вас есть приятный сюрприз. Ведь ваш сын теперь, как мне известно, находится в Москве под видом Николая Леонтьева…
— Что? Почему вы так думаете?.. — вскочил Мамалыга, страшно побледнев.
— Спокойно, спокойно! — сказал Бринкель. — Моя осведомлённость об этом факте не сулит вам никаких неприятностей, господин Мамалыга. Я не только могу вам сообщить о судьбе вашего сына, но даже показать его последнее фото. Он сфотографирован у Большого театра. Вот, посмотрите.
Мамалыга затрясся, схватил фотографию сына и принялся её жадно рассматривать.
— Да, да, он, — пролепетал Мамалыга, — действительно, снят на фоне Большого театра… десять лет тому назад я там слушал «Евгения Онегина»… Боже мой! Боже мой!..
— Успокойтесь, господин Мамалыга, и выслушайте меня, — продолжал Бринкель. — О том, что ваш сын на самом деле не Николай Леонтьев, за которого он себя выдает, известно не только мне, но и советской контрразведке. Известно также, что он приехал в Москву, чтобы выполнить шпионские задания полковника Грейвуда. Вы сами понимаете, что теперь судьба вашего сына полностью в руках органов Советской власти…
— Он арестован, я так и знал!.. — воскликнул Мамалыга и, не выдержав, заплакал.
— Нет, пока он не арестован, — ответил Бринкель, — но это может случиться в любой день, если вы не захотите облегчить его судьбу. Короче — будущее вашего сына в ваших руках… Как и ваше собственное будущее, Мамалыга…
— Как это понять? — всё ещё всхлипывая, спросил Мамалыга. — Какое будущее? Чем я могу помочь? Откуда вы всё это знаете?
— Отвечу по порядку, — спокойно произнёс Бринкель. — Ведь вам известно, что я приехал из той зоны?
— Да, я слышал…
— Ну вот и отлично. Пойдём дальше. Я разговариваю с вами по прямому поручению советских властей, передавших мне портрет вашего сына и все прочие подробности. Лично я, как вы знаете, немец и не очень разбираюсь в ваших русских делах, но я согласился помочь вам, тем более, скажу прямо, я рад оказать услугу и советским оккупационным властям, поскольку мне приходится как коммерсанту иметь с ними дело… Итак, вы способны выслушать меня внимательно, а не хныкать?
— Говорите, говорите, я вас слушаю! — воскликнул Мамалыга.
— Превосходно. Предложение советских властей, о котором идёт речь, даёт возможность спасти не только вашего сына, но и лично вас… Да, да, ведь, насколько я понимаю, вы далеко не в восторге от того положения, в котором находитесь, будучи заместителем господина Пивницкого?
— Не говорите об этом негодяе! — пробормотал Мамалыга. — Вы даже не представляете, какой он вымогатель и бандит!.. Дайте мне честное слово, что он не узнает о нашем разговоре, я умоляю вас!..
— Охотно даю, — произнёс Бринкель. — Более того, если вы сами вздумаете кому-либо рассказать о нашем разговоре, то я заявлю, что вы лжец и провокатор или просто сошли с ума… Надеюсь, вам ясно, что мне поверят скорее? Кроме того, ваше легкомыслие немедленно отразится на судьбе вашего несчастного сына…
— Да что вы, что вы! — Мамалыга даже вскочил и замахал руками. — Кому можно что-либо говорить об этом… в этом притоне!.. Да, да, господин Бринкель, я прошу меня понять… И я уверен, что вы поймёте меня, как интеллигентный человек интеллигентного человека… Я нотариус, юрист, а выполняю здесь обязанности не то тюремщика, не то обыкновенного шпика. Этот подлец Пивницкий пьёт из меня кровь, сколько и когда ему хочется. В своё время, можете мне поверить, я не подал бы ему руки, а теперь вынужден на старости лет выполнять его приказы и говорить: «Слушаюсь, господин начальник», хотя мне хочется плюнуть ему в лицо!..
И Мамалыга ещё долго сетовал на свою злосчастную судьбу.
Через два часа господин Бринкелъ простился с Мамалыгой, подписавшим обязательство выполнить задание советской контрразведки, чтобы таким образом хоть частично загладить свою вину перед Родиной.
Бринкель подробно проинструктировал Мамалыгу в соответствии с планом, разработанным Ларцевым и Малининым.
Возвращаясь в Ротенбург, Громов-Бринкель не сомневался в том, что Мамалыга, подписав письменное обязательство, намерен его выполнить.
Весь вопрос сводился теперь к тому, сумеет ли он справиться с поставленной перед ним задачей и не струсит ли в самый последний момент…
Фунтиков летит в Москву
Лейтенант Фунтиков очень обрадовался, когда его неожиданно вызвали в Берлин и приказали немедленно выехать в Москву в распоряжение полковника Бахметьева. Фунтикову так и не объяснили, зачем он вдруг понадобился Бахметьеву, сказав, что ответ на этот естественный вопрос он получит по приезде в Москву.
Полковник Ларцев, лично беседовавший с Фунтиковым, отлично помнил историю, происшедшую в мае 1941 года на Белорусском вокзале в Москве. Ларцев был также осведомлён и о том, что в последние дни войны тот же Фунтиков случайно встретил и опознал Крашке, после чего лично его задержал и доставил в контрразведку.
Теперь, приветливо беседуя с этим молодым подтянутым лейтенантом и любуясь его открытым, смышлёным лицом и живыми, с лукавинкой глазами, Григорий Ефремович с тёплым чувством думал о той роли, которую сыграл Бахметьев в жизни этого бывшего карманника, ставшего образцовым офицером и честно завоевавшего — в прямом и переносном смысле этого слова — полное доверие к себе.
Простившись с Ларцевым, Фунтиков, которому хотелось петь от внезапно свалившейся на него радости, чинно прошёл по коридору, вышел из подъезда и тут только дал волю своим чувствам. Подумать только, что завтра он вылетит в Москву, встретится с Люсей и, кроме того, с Бахметьевым!.. Кто бы мог подумать ещё несколько часов тому назад, что может случиться такое неожиданное и ослепительное счастье?
И Фунтиков, не выдержав, сделал тут же, на тротуаре «колесо», чем вьпвал бурный восторг группы немецких мальчишек, игравших неподалёку и сразу оценивших акробатические способности лейтенанта. Увы, пожилой полковник, к несчастью проходивший мимо, не только не пришёл в восторг, но, напротив, строго глядя на вытянувшегося перед ним офицера, сурово спросил:
— Это что за курбеты, товарищ лейтенант? На вас офицерская форма, а вы проделываете сальто, как циркач!..
— Виноват, товарищ полковник, — пробормотал Фунтиков упавшим голосом. — Но только что я получил приказ ехать в Москву… Так что сами понимаете, товарищ полковник… Одним словом, виноват…
Полковник внимательно оглядел с ног до головы смущённого офицера, мысленно оценил его бравый, подтянутый вид, сапоги, начищенные до немыслимого блеска (вот когда помогла Фунтикову его старая привычка!), и, с трудом подавляя улыбку, примирительно произнёс:
— Ну-ну, езжайте… Рекомендую, однако, товарищ лейтенант, впредь выражать свою радость иным образом, вот именно… А то как-то неудобно и, даже прямо скажу, стыдно!.. Счастливого пути!
— Благодарю, товарищ полковник! — щёлкнул каблуками Фунтиков. — Есть выражать свою радость иным образом!.. Разрешите выполнять?
Тут уже полковник не справился с улыбкой и, махнув рукой, ушёл.
Фунтиков благодарно посмотрел ему вслед и пошёл в офицерскую гостиницу. Снова лейтенант задумался над вопросом — зачем он понадобился Бахметьеву? Разумеется, у него мелькнула мысль, что это может иметь какое-то отношение к Крашке. И Фунтиков не ошибался: его вызов в Москву действительно был связан с Крашке, которого пришло время арестовать. В связи с этим Фунтиков, естественно, мог потребоваться для опознания и очной ставки со старым разведчиком.
Теперь, когда освобождение Коли Леонтьева и его товарищей могло произойти со дня на день, Ларцев готовил арест Игоря Мамалыги и Крашке. К тому же была уже установлена и личность иностранного журналиста, поддерживавшего связь с Крашке, а также выяснилось, что, помимо него и Игоря Мамалыги, Крашке ни с кем другим связи не поддерживает. Следовательно, откладывать арест шпионов уже не имело смысла, тем более что для освобождения всех остальных советских ребят, продолжавших томиться в ротенбургском лагере, могли в качестве окончательных аргументов понадобиться показания как Игоря Мамалыги, так и Крашке. Эти показания пресекали возможность дальнейших увёрток и отписок американских оккупационных властей в вопросе о возвращении советских ребят, незаконно ими задержанных, на родину.
На следующее утро после беседы с Ларцевым Фунтиков вылетел в Москву. Сидя в самолёте, он думал о предстоящей и такой долгожданной встрече с Люсей, с которой переписывался все эти годы. Как же она его теперь встретит, как выглядит после всего, что было пережито за эти грозные годы?
Фунтиков давно уже решил жениться на Люсе, и теперь его смущало только одно обстоятельство: Люся ничего не знала о его прошлом… Жениться, скрыв от неё это прошлое, было бы обманом, а начинать свою семейную жизнь с обмана Фунтиков не хотел. Это была бы подлость, страшнее которой не придумаешь!.. Но, с другой стороны, что подумает Люся, узнав, что человек, с которым она решила связать свою судьбу, оказывается, вовсе не артист эстрады, каким он ей когда-то представился, а карманный вор с несколькими судимостями?!. И вообще, как ей такое сказать, какими словами, как выдержать её испуганный и гневный — обязательно гневный — взгляд? Да, он ясно себе представляет этот мучительный разговор, побледневшее лицо бедной Люси, её возмущение, ужас, обиду и короткое слово «подлец!»…
— Простите, вам нехорошо, товарищ лейтенант? — неожиданно услышал тяжело задумавшийся Фунтиков вопрос своего соседа, сидящего рядом в кресле и обратившего внимание на то, что Фунтиков, закрыв глаза, что-то про себя бормочет, сильно при этом побледнев.
— Да нет, я просто так, — смущённо пролепетал Фунтиков. — Тётка у меня в Москве прихворнула… Милая такая старушка, гм… Боюсь, как бы не померла… Восьмой десяток пошёл…
— Понимаю, — сочувственно произнёс сосед, уважительно поглядев на столь нежного племянника. — Будем надеяться, что всё обойдётся… А с другой стороны, так сказать, всё-таки восьмой десяток… Не так уж и мало, товарищ лейтенант, если прямо говорить…
— Умирать и в девяносто лет не хочется, — резонно возразил Фунтиков, обидевшись за несуществующую тётку. — Вот доживёте до этих лет и поймёте…
— А я и теперь спорить с вами не стану, — быстро ответил сосед, тучный майор интендантской службы с круглым, красным лицом. — И более того, считаю долгом выпить за здоровье вашей тётушки, пусть живёт хоть двести лет, я не возражаю…
И майор быстро и с ловкостью, неожиданной при его тучной фигуре, вытащил из портфеля бутылку водки, два походных стаканчика и добрый кус копчёной колбасы. Фунтиков не успел и слова сказать, как майор протянул ему уже налитый стаканчик:
— За ликвидацию болезнетворной инфекции, в добрый час!..
Пришлось выпить. Но бойкий интендант с такой же молниеносной быстротой снова налил водку и протянул стаканчик, сказав:
— Теперь за восстановление сил подорванного болезнью организма!..
Отказаться при таком логичном развитии тостов было неудобно. Но когда в третий раз майор протянул стаканчик, заявив, что надо выпить за первую «русскую», которую спляшет тётушка, восстановив свои силы, Фунтиков робко возразил:
— Нет уж, хватит, товарищ майор. Нечего ей плясать на восьмом десятке. И без пляса обойдётся…
— Не могу с вами согласиться, — укоризненно заметил майор. — Пусть спляшет старушка, обязательно пусть спляшет… Такая милая женщина!..
— Кто милая женщина? — удивился Фунтиков.
— Как кто? Ваша тётушка, — сказал майор и даже покачал головой. — Я, знаете ли, очень люблю, когда древние старушки пляшут… Уважаю!.. Потому что это против, так сказать, течения жизни и лет… Одним словом, наперекор стихии!.. За наших боевых старушек!..
Так майор и не успокоился, пока не допили всю бутылку. Фунтиков охмелел — он давно не пил спиртного. Майор так же неожиданно, как заговорил, вдруг начал похрапывать и свистеть носом, покачиваясь в своём кресле. И тут Фунтикова вдруг осенила великолепная идея: разговор с Люсей должен вести Бахметьев… Да, да, как это сразу не пришло ему в голову?!. Уж он-то ей втолкует всё, что надо, уж ему-то она поверит, будьте спокойны!.. А Сергей Петрович непременно согласится, ведь он понимает, как это жизненно важно, он всё понимает с первого слова, как с первого слова понял Фунтикова, явившегося к нему с бумажником проклятого немца…
От этой счастливой мысли, пришедшей ему вдруг в голову, Фунтиков сразу успокоился и понял, что жизнь — превосходная штука, в которой всё великолепно устроено, раз есть такие замечательные люди, как Бахметьев и такие необыкновенные женщины, как Люся, которая, конечно, всё поймёт, всё простит и не станет ругать его подлецом, а совсем наоборот, назовёт нежно Маркушей, как называла его во всех письмах все эти годы. Да можно ли сомневаться, когда вот она сама вдруг вышла из пилотской кабины и села рядом с ним вместо этого толстого майора, который куда-то загадочно исчез, и вот уже она обнимает его своими тёплыми, нежными руками и шепчет на ухо: «Маркуша, родненький, ты не беспокойся, я всё, всё уже знаю и совсем не обижаюсь на тебя, а люблю по-прежнему, и мы будем теперь всегда вместе, радость моя, и никогда, никогда больше не расстанемся…»
Но тут выскочил из той же кабины какой-то старик с перекошенным лицом и начал кричать: «Расстанетесь, расстанетесь!» — и заплакала Люся, а из кабины (когда они там все собрались?) выбежал Бахметьев и крикнул: «Эй, Жора-хлястик, это же Крашке, чего глядишь?!». И он действительно увидел, что это Крашке, но испугался, что Люся, услышав его старую кличку «Жора-хлястик», передумает и не захочет стать его женой… Но Бахметьев схватил этого гада Крашке и свалил его на пол, а Люся помогала Сергею Петровичу, и они вместе связали старого чёрта, а он, Фунтиков, почему-то не мог им помочь: оказывается, его привязали к креслу, — наверно, это сделал тот толстый майор, который неизвестно куда исчез, скорее всего, незаметно выбросившись с парашютом…
— Проснись, сосед, Москва под нами, — услышал Фунтиков, как в тумане, чей-то знакомый голос и, открыв глаза, узнал толстого майора, который весело тряс его за плечо.
И в самом деле, под крыльями самолёта величественно, широко и зримо разворачивалась панорама родного города.
***
Бахметьев встретил Фунтикова очень ласково, устроил ему номер в гостинице, а потом сказал:
— Ну а теперь брат, отдохни, погуляй по Москве, займись делами личными… Кстати, к твоему сведению — кафе «Форель» находится там же, где прежде… Ву компрене?
— Компрене, — ответил Фунтиков. — Только не всё так просто. Без вашего участия гореть мне синим пламенем… Ведь Люся до сих пор всей сути не знает… Одним словом, считает, что я был артистом эстрады — чечёточником… Вот вам и «компрене»…
Бахметьев улыбнулся и, глядя прямо в глаза Фунтикову, спросил:
— Стало быть, Маркел Иванович, решено идти в загс?
— Да, решено, — серьёзно ответил Фунтиков.
— Понятно. Хорошо, пока сам в разговор на эту тему не вступай, а потом познакомишь меня с Люсей… Авось найдём общий язык… Завтра утром ты приедешь ко мне на работу и узнаешь причину своего вызова в Москву. А теперь я бы на твоём месте поехал в «Форель»…
— Есть поехать в «Форель»! — ответил Фунтиков и помчался к Люсе.
Он поехал на автобусе, и всё время ему казалось, что шофёр не развивает нужной скорости, что на улице Горького много лишних остановок, что пассажиры, выходящие на остановках, ужасно медлят и недопустимо задерживают таким образом городской транспорт.
Наконец, когда вдали показался Белорусский вокзал (да, да, тот самый!..). Фунтиков выпрыгнул из машины, пересёк улицу и остановился у входа в кафе «Форель». Оно и в самом деле находилось в том же доме, только теперь кафе имело новую вывеску, которую Фунтиков, чтобы хоть немного успокоиться, начал внимательно изучать. Потом он подошёл к зеркальному окну и заглянул в кафе через узкую щелочку, образовавшуюся между недостаточно плотно сдвинутыми занавесями из кремового шёлкового полотна. В кафе, как и до войны, стояли высокие столики, в глубине можно было рассмотреть буфетную стойку, за которой восседал пожилой грузин с усиками. Этого человека Фунтиков раньше не видел.
Потом, всё через ту же узкую щёлочку, Фунтиков увидел Люсю. В белом фартучке и кружевной наколке она быстро прошла мимо окна, за которым он стоял. Да, да, он не ошибся, конечно, это Люся, это её тонкая, стройная фигура, её вздёрнутый носик, её пышные каштановые волосы. У Фунтикова так забилось сердце, что пришлось ещё несколько раз перечитать вывеску, хотя на ней, кроме слов «Кафе-закусочная «Форель», ничего написано не было. Но Фунтикову вполне было достаточно этих трёх, поистине магических слов. Тысячу раз будь благословен московский трест ресторанов и кафе, мудро ограничившийся этими тремя прекрасными словами, полными глубочайшего смысла и значения!.. Можно не сомневаться, что директор этого симпатичного треста — милейший человек, умница и работяга. Попади на его место какой-нибудь чудак, он в жизни бы не додумался так прелестно назвать кафе, открыть его в том же самом доме, где оно помещалось до войны, и заказать такую изящную и лаконичную вывеску. И уж само собой разумеется, не сумел бы подобрать превосходные кадры!..
Наконец, оправив портупею и почему-то покашляв, Фунтиков вошёл в кафе и столкнулся лицом к лицу с Люсей, которая мчалась с подносом, уставленным всякой снедью.
— Ой, мамочка! — воскликнула Люся, и поднос со всеми чашками, тарелками, вилками и ножами с грохотом и звоном полетел на пол.
В тот же момент Фунтиков и Люся бросились поднимать с пола остатки тарелок и чашек и тут же буквально столкнулись лбами.
— Маркушенька! — закричала Люся не своим голосом и, не обращая ни малейшего внимания на публику, ни на усатого буфетчика, словом, ни на кого на свете, обняла милого, смеясь и плача в одно и то же время.
— Осторожнее надо, понимаешь! — заворчал было буфетчик, но две другие официантки, подруги Люси, сразу на него зашикали, шепча:
— Шалва Зурабович, вы что, не понимаете? Приехал её лейтенант!..
— Да, да, они столько лет не виделись! — прошептала вторая девушка, и Шалва Зурабович, к его чести, мгновенно всё сообразил и прогудел из-за своей стойки:
— Люся, можете считать, что у вас имеется бюллетень…
***
На следующее утро, когда Фунтиков приехал к Бахметьеву, тот прежде всего спросил:
— Ну как, видел Люсю?
— Порядок, — смущаясь, коротко ответил Фунтиков.
— Всё ей рассказал?
— Страшно, — ещё более смущаясь, пробормотал офицер. — Духу не хватает… Боюсь, расстроится…
— Не исключено, — сказал Бахметьев. — Я сегодня думал об этом. Может, в самом деле, лучше мне с нею потолковать?
— На это вся надежда! — воскликнул Фунтиков. — Иначе разобьюсь на взлёте, как говорят летчики…
— Хорошо. Буду с нею говорить. Теперь вот что: ты догадываешься, зачем мы тебя вызвали?
— Точно не могу сказать. Скорее всего, Крашке… — не очень, впрочем, уверенно сказал Фунтиков.
— Верно. Ты сможешь его опознать? Помнишь его лицо?
— На всю жизнь запомнил этого гада.
— Хорошо. Сколько раз ты его видел?
— Два раза. Первый раз тогда… Ну, в общем, на вокзале, перед войной… Второй раз в Восточной Германии, когда он под аптекаря работал…
— Так. Стало быть, Маркел Иванович, предстоит тебе третья встреча, — очень серьёзно произнёс Бахметьев. — Да, третья встреча и совсем на днях…
— Поехать куда придётся?
— Да нет, в Москве с ним встретишься.
— В Москве? — удивился Фунтиков. — Неужто этот гад опять в Москву забрался?
— Как видишь. Завтра с утра приезжай ко мне — вместе поедем его брать. Будешь понятым.
У Фунтикова даже глаза заблестели от мысли, что он будет участвовать в такой операции. Он не стал больше расспрашивать Бахметьева, зная, что тот не любит говорить лишнего, хотя очень уж было любопытно выяснить, каким образом Крашке снова очутился в Москве и как об этом стало известно Бахметьеву.
И Фунтиков решил терпеливо дожидаться третьей встречи со своим старым знакомым.
Освобождение
Коля Леонтьев пережил мучительные дни. С того дня, как его изолировали от остальных членов комитета, бросив в тёмный сырой чулан с холодным цементным полом, начались непрерывные истязания, сменявшиеся уговорами «смириться» и принять предложения полковника Грейвуда.
Крашке, стремясь выслужиться, превзошёл самого себя, выдумывая всё новые пытки. Бывали моменты, когда Коля, вконец измученный, терял сознание, и тогда Крашке оставлял его в покое. Едва юноша приходил в себя и видел лицо своего мучителя, в нём вспыхивала такая жгучая ярость и ненависть, что никакие новые муки не в силах были его сломить.
Вероятно, всё это в конце концов окончилось бы трагически, и Крашке, осатаневший от невозможности сломить юношу, убил бы его, если бы не строгий приказ Грейвуда: Коля Леонтьев должен остаться в живых.
Несмотря на весь свой опыт палача, Крашке не догадывался, что чем изощрённее становятся муки, которые он придумывает для своей жертвы, тем ярче разгорается пламя ненависти к мучителям в душе Коли Леонтьева. Юноша отлично понимал, что отдан на растерзание этому дьяволу теми самыми американскими офицерами Гревсом и Грейвудом, которые так ласково с ним говорили и так решительно обещали вернуть его и товарищей на Родину.
Понимал Коля и то, что предложение Гревса избрать комитет было циничным обманом, ловушкой, в которую попались все члены комитета, поверившие на первых порах Гревсу.
Прошло несколько месяцев, как членов комитета перевели в Нюрнберг, а Колю начал «обрабатывать» Крашке. Внезапно мучитель исчез и пытки прекратились. Правда, Коля всё ещё содержался в сыром, каменном мешке, но, по крайней мере, его перестали мучить. Коля был молод и здоров и потому довольно быстро поправился. Постепенно зажили кровавые рубцы на теле; Коля по привычке, приобретённой с детства, ежедневно делал утреннюю зарядку; его снова начали сравнительно сносно кормить. Его никто не вызывал, никто с ним не беседовал, но вместе с тем его не возвращали наверх, где прежде жили остальные члены комитета. Коля даже не знал, живут ли они там и какова их судьба.
Добиваясь от юноши согласия стать агентом американской разведки, Крашке, разумеется, полностью не открывал ему своих карт, отделываясь общего характера обещаниями: это, дескать, единственная возможность возвращения на родину, «ничего особенного» от Коли не потребуется, а если он выполнит «некоторые задания» и захочет покинуть СССР, то его быстро переправят за границу и он будет жить «в своё удовольствие».
Однажды Колю посетил полковник Грейвуд, который очень любезно с ним говорил, убеждая его согласиться на предложение «немного помочь» американской разведке и суля за это золотые горы.
— Поймите, молодой человек, что вы напрасно упираетесь, — говорил Грейвуд. — В конце концов работа разведчика — это профессия, и притом профессия увлекательная и выгодная. Мы умеем ценить способных и преданных людей и вознаграждаем их по заслугам. Однако, если вам почему-либо не хочется стать профессиональным разведчиком, мы вовсе не собираемся насиловать вашу волю. Пожалуйста, выполните нашу просьбу и после этого делайте, что хотите, живите, где хотите, учитесь, если вам это нравится. Наш долг в этом случае — обеспечить вам реализацию ваших планов и желаний…
— У меня только одно желание — вернуться на родину, — ответил Коля. — А дальше обо мне позаботятся мой отец, моя мать…
— Логично. Я готов помочь вам и в этом, — быстро сказал Грейвуд. — Хотя должен вам сказать, что у вас ошибочное представление о положении в Советском Союзе. Вы помните свою родину до войны, но теперь там, к несчастью, всё изменилось. Россия вышла из войны калекой, молодой человек. Десятки миллионов людей не имеют крова, работы, живут в этих… в земляных ямах. Но это ещё полбеды. Главное состоит в том, что, вернувшись на Родину, вы будете немедленно арестованы и сосланы в Сибирь…
— Но вы же сами предлагаете мне отправиться на родину? — спросил Коля. — Зачем же вам это нужно, если меня сразу, как вы говорите, арестуют?
— Да, но если вы поедете на родину от нас, — сказал Грейвуд, — то мы, разумеется, снабдим вас отличными документами. Мы можем, например, удостоверить, что, находясь в Германии, вы состояли в группах сопротивления, активно работали в подпольной организации, одним словом, вели себя, как патриот… Тогда вас не только не арестуют, но, напротив, сделают героем и даже могут наградить орденом… Как видите, всё в наших руках. Словом, мы искренне хотим вам помочь, но вы так странно себя ведёте, что мы вынуждены пойти на некоторые… гм… некоторые, так сказать, санкции, что нам крайне неприятно… Прошу мне поверить…
— Что вы называете санкциями? — не выдержав, закричал Коля. — Посмотрите, это, по-вашему, санкции?.. Или это гестаповский застенок?..
И Коля быстро задрал окровавленную рубаху. Грейвуд увидел исполосованное тело юноши, гноящиеся рубцы, чудовищные следы истязаний. Полковник невольно отвёл глаза — в отличие от Крашке, он не имел садистских наклонностей.
— И после всего этого вы приходите сюда с вашей улыбочкой и хотите меня уверить, что вы желаете мне добра! — кричал Коля. — И думаете, что я вам поверю!.. Я ненавижу всех вас, проклятые палачи!.. Слышите, ненавижу!.. Будьте вы прокляты с вашими обещаниями и улыбочками!..
— Он сошёл с ума!.. — пробормотал Грейвуд и быстро вышел из отдалённой комнаты, куда к нему привели Колю.
Через час, беседуя уже с Крашке, Грейвуд сказал:
— Послушайте, Крашке, вы явно переборщили со своими гестаповскими приёмами… Этот щенок весь в крови… У вас нет чувства меры…
— Ах, господин полковник, — начал оправдываться Крашке. — Что же мне оставалось делать? И напрасно вы беспокоитесь — русские дьявольски выносливы, поверьте мне… Вы ведь сами разрешили мне применить эту… третью степень…
— Третью, но не десятую, идиот! — зарычал Грейвуд. — Вы забываете, что работаете не в гестапо, чёрт бы вас побрал!..
— Как я смею забыть об этом, — пролепетал Крашке, подумав, однако, про себя, что, право же, задачи, поставленные перед ним полковником Грейвудом, не так уж отличаются от задач, которые в своё время ставились господином рейхсфюрером СС. Почему так рассердился Грейвуд? В белых перчатках не делают того, что он собирается делать. Пойми-ка этих американцев, чего им надо? Этого русского щенка невозможно иначе обработать, неужели Грейвуд не понимает?
— В общем, Крашке, я убедился, что, несмотря на все свои фокусы, вы бессильны выполнить моё задание, — продолжал Грейвуд. — Я всегда считал, что гестаповцы тупые скоты и кретины, не способные к тонкой работе. И сегодня лишний раз убедился в этом…
И Грейвуд, даже не кивнув головой, вышел из комнаты и уехал в свой «офис». Крашке, испуганный таким оборотом дела, поплёлся к себе, проклиная несчастную судьбу, упрямого русского парня, полковника Грейвуда и всю американскую разведку. Кто знает, чем всё это кончится?
***
Вспоминая теперь, уже в Советском Союзе, своё тогдашнее настроение, Крашке снова задал себе этот вопрос: чем всё это кончится? В Малаховке он жил безмятежно и спокойно. Но по ночам — когда случалась бессонница — Крашке размышлял. Пока всё как будто шло наилучшим образом. И всё-таки смутная тревога иногда овладевала старым шпионом, хотя Крашке не знал, какие неприятности он, сам того не желая, причинил полковнику Грейвуду, отправив плёнку в Америку. Напротив, Крашке был убеждён, что добился большого успеха.
***
Размышлял о будущем и Коля Леонтьев. Ему часто снились по ночам родные лица, местечко под Ровно, где прошли его последние детские годы, сад, покойная бабушка. Что же будет дальше? Суждено ли ему в конце концов вырваться из этого каменного мешка? Не может быть, чтобы отец его не разыскивал, не может быть, чтобы более двухсот советских ребят так и сгинули в неволе, чтобы за них не вступились наши!.. Что-то теперь делается дома, жив ли отец, здорова ли мать? Коля не сомневался, что его отец воевал, и воевал храбро, но… вдруг с ним стряслась на фронте беда? Ранение… Гибель… Неужели говорит правду седой американский полковник с гнусной улыбочкой и действительно так тяжело живут советские люди после войны — в земляных ямах, как он выразился?
Так проходили день за днём, ночь за ночью. Три раза в день Коле приносили еду, он съедал всё, чтобы не ослабеть, — силы ещё пригодятся. В это он верил и этой верой жил.
В ту ночь, когда пришла долгожданная и неожиданная свобода, Коля спал крепким сном. На этот раз ему ничего не снилось. Он проснулся внезапно, от странного шума наверху. Там происходило что-то необычное. Коля прислушался: кто-то кричал, потом несколько раз тяжело ударили стулом — с потолка тёмной каморки, в которой был заперт Коля, даже посыпалась штукатурка. За дверью никого не было. Потом из коридора, куда выходила тяжелая, обитая железом дверь, донёсся топот ног, чьи-то возбуждённые голоса, крики: «Коля, Коля, жив?».
— Жив! — крикнул Коля, сразу узнав голос члена комитета Толи Максимова. — Жив, ребята!..
И вот уже Толя и остальные (он узнал их голоса) стараются вышибить дверь, но она не поддаётся. Потом кто-то крикнул: «Стойте, вот ключи от замка, они были у часового». Раздалось знакомое лязганье тяжёлого дверного замка, и Коля очутился в объятиях своих товарищей.
Из коротких, отрывочных слов он понял только одно — надо торопиться и бежать от погони, пока не поздно. Ребята вывели его наверх, оттуда во двор, и здесь он увидел, как это ни странно, Мамалыгу, который спешил больше всех и, дрожа как в лихорадке, повторял только одну фразу: «Скорей, ребята, скорей, иначе всем нам конец!»
Все выбежали и что есть духу бросились бежать по тёмным улицам, среди причудливых остовов разрушенных домов. Было очень поздно — около трёх часов ночи — и очень темно — над городом тяжело нависло серое, сплошь затянутое облаками небо. Сильные порывы ветра свистели в развалинах домов, ребята бежали, то и дело спотыкаясь во мраке. Толя Максимов два раза упал, но тут же вскакивал и кричал: «Скорее, скорее, ребята, жми что есть духу!»
Рядом с Колей бежал старик Мамалыга, тяжело дыша и держась за сердце. Как видно, он один знал, куда надо бежать, потому что время от времени хрипло бормотал: «Направо, налево, теперь — прямо!» — и все беспрекословно его слушались.
Обогнув дворец Иоганна Фабера, они побежали в небольшую рощу, начинавшуюся за дворцом, пересекли её, свернули налево мимо каких-то развалин и здесь остановились передохнуть. Мамалыга уже еле дышал. Он сел на груду камней, с открытым ртом, и даже во мраке было видно, как лихорадочно блестят его глаза. Тяжело дышали и ребята. Толя Максимов шёпотом объяснил Коле, что ночью неожиданно появился Мамалыга, уверил часового, что прислан самим Грейвудом со срочным поручением.
Придя в комнату, где спали Толя Максимов и два других члена комитета, Мамалыга заявил, что пришёл их освободить. Он даже передал ребятам два револьвера (их оставил ему предусмотрительный господин Бринкель), для того чтобы они смогли обезоружить часового.
Получив из рук Мамалыги оружие, ребята сразу ему поверили. Оставив старика, полуживого от страха, в своей комнате, ребята вышли в коридор и увидели там клевавшего носом часового, которого немедленно обезоружили и связали. Затем, выполняя совет Мамалыги, подробно проинструктированного Бринкелем, ребята перерезали провод телефона и пошли освобождать Колю Леонтьева. Тут они обезоружили и связали второго часового.
— Куда же мы бежим теперь? — спросил Коля своих товарищей. — Ведь до границы далеко…
— Мамалыга говорит, что за тем лесом, на заброшенном пустынном шоссе, нас будет ожидать машина. Она перебросит нас к границе.
— А как мы перейдём границу?
— Мамалыга говорит, что на окраине пограничной деревни Люстдорф нас встретят и переведут…
— А где находится эта деревня?
— Сразу за городком Хоф.
Коля хотел ещё кое-что уточнить, но отдышавшийся Мамалыга, с лица которого не сходило выражение ужаса, поднялся — надо спешить, надо ещё до наступления утра поспеть в район Хоф.
Они снова побежали в указанном им направлении и за лесом, на старом боковом шоссе, увидели одинокую машину с потушенными фарами. За её рулем сидел Бринкель-Громов.
— Все? — коротко спросил он Мамалыгу по-немецки, так как всё ещё не хотел себя расшифровывать.
— О да, господин Бринкель, — ответил Мамалыга.
Через две минуты машина, управляемая Бринкелем, мчалась на большой скорости к границе советской зоны оккупации. Эту машину марки «Додж» господин Бринкель за два дня до побега приобрёл по сходной цене у американского офицера при содействии своего компаньона Винкеля, которому сказал, что давно хочет приобрести машину.
— Это очень просто сделать, — ответил Винкель. — Многие американские офицеры продают свои джипы… Они сами приобретают их по дешёвке в своих частях и охотно перепродают нам…
Теперь, сидя за рулём весьма непрезентабельного на вид «Доджа», Бринкель-Громов мысленно благословлял своего компаньона, давшего такой разумный совет. Машина отлично вела себя.
Горизонт уже начинал сереть, когда они миновали Хоф, ещё погружённый в сон, и помчались к деревушке Люстдорф. Бринкель, заранее изучивший карту района, уверенно вёл машину.
На окраине Люстдорфа, как было заранее условлено, Бринкель остановил машину, к которой немедленно подошёл пожилой немец. Это был надёжный человек.
— Ну, как дела, Отто? — тихо спросил его Бринкель.
— Всё в порядке, — ответил Отто. — Сегодня даже нет нужды вести ваших людей пешком. Их можно прямо доставить на вашу заставу. Американцы на своей заставе так надрались, что их можно самих вынести на руках и они не проснутся.
— Уверены ли вы в этом, Отто?
— Как в том, что я с вами разговариваю, — улыбнулся тот. — Можете смело ехать!
Через десять минут Мамалыга и члены комитета спокойно подняли пограничный шлагбаум и прошли мимо сторожевой будки, из которой доносился храп бравых американских пограничников. Бринкель же поехал обратно — у него ещё не были закончены все дела с компаньоном, а если он исчезнет в одно время с советскими ребятами и Мамалыгой, это может навести на подозрение.
Как только Мамалыга и члены комитета вступили в советскую зону, их встретили сотрудники Ларцева и доставили к нему.
***
Утром, едва Уолтон, заменявший Грейвуда, приступил к работе, в кабинет влетел Гревс. Лицо его было перекошено от ужаса.
— Большое несчастье, Уолтон! — пролепетал он. — Случилось нечто фантастическое!..
— Что такое? — сразу вскочил Уолтон, почуяв неладное. — Короче!
— Они бежали… Все… И этот мальчишка, будь он проклят…
— Кто бежал? Вы что, пьяны, Гревс? — закричал Уолтон.
— Все бежали, майор, все!.. Негодяй Мамалыга оказался разбойником… Он привёз им оружие, они связали часовых… Они…
И Гревс, с отчаянием махнув рукой, свалился в кресло. Впервые в жизни майор Уолтон потерял своё обычное самообладание. Он рванул Гревса за шиворот и прохрипел:
— Прекратите истерику, идиот! И расскажите толком, что случилось.
Гревс рассказал. Оказывается, утром в «Золотом гусе» у него была назначена встреча с одним агентом. Приехав несколько раньше, чем было условлено, Гревс решил зайти в «подсобное помещение», где содержались члены комитета. И там он обнаружил связанных часовых.
— Я хотел позвонить вам по телефону, чтобы сразу организовать розыск убежавших, — продолжал Гревс, — но провод оказался перерезанным. Негодяи предусмотрели даже это!
— Неужели здесь замешан Мамалыга? — удивился Уолтон. — Ведь его сын выполняет наши задания в Москве и Мамалыга отлично это знает…
— Повторяю, побег организовал Мамалыга и сам бежал вместе с ними, — ответил Гревс.
Уолтон со стоном схватился за голову. Шутка сказать, срывается вся московская операция!.. Что за несчастье иметь дело с русскими! Никогда не знаешь, что они способны выкинуть!.. Как доложить обо всём этом начальству? Что можно предпринять, чтобы предотвратить полную катастрофу? Впрочем, сейчас некогда обо всём этом думать, надо попытаться задержать беглецов!..
И майор Уолтон, сразу внутренне собравшись, поднял на ноги весь свой аппарат, привлёк к поискам беглецов отряды военной полиции, связался с пограничными заставами, бросил во всех направлениях десятки машин.
Но было уже поздно.
Третья встреча
В ту самую ночь, когда произошло освобождение членов комитета, подполковник Бахметьев в Москве провёл другую операцию. В полночь, захватив с собой двух сотрудников и заранее вызванного Фунтикова, Бахметьев выехал в Малаховку, где, как давно уже было известно, жил теперь Крашке.
Тогда же было решено задержать и Игоря Мамалыгу. Бахметьев решил сначала поехать в Малаховку за Крашке, а затем, вернувшись в Москву, взять Игоря Мамалыгу.
Разумеется, свой план Бахметьев по телефону согласовал с Ларцевым, который ему сказал:
— Я сегодня выезжаю на границу американской зоны и надеюсь, что встречу членов комитета, в том числе Колю Леонтьева. Подробности расскажу при личной встрече. Пока всё идёт хорошо. Приступайте к московской операции. Только, чтобы не волновать Николая Петровича, заранее встретьтесь с ним и объясните, кто такой парень, которого он считает своим племянником. Очень прошу вас, товарищ Бахметьев, объяснить Леонтьеву мотивы, по которым мы не могли раньше рассказать ему об этом. Мне очень важно, чтобы Николай Петрович всё верно понял и не подумал, что у нас не было к нему полного доверия. Словом, будьте с ним вполне откровенны.
— Хорошо, всё понял, Григорий Ефремович, — ответил Бахметьев. — Надеюсь, что мне удастся всё объяснить Николаю Петровичу, ведь мы с ним старые друзья.
Положив трубку, Бахметьев стал обдумывать, как рассказать обо всём Леонтьеву, чтобы при этом не очень его взволновать. При сложившейся ситуации это было не так просто. Однако нельзя арестовать Игоря Мамалыгу, предварительно не рассказав всего Николаю Петровичу.
Днём Бахметьев позвонил по телефону Леонтьеву на работу и сказал, что должен заехать к нему по срочному делу.
— Приезжайте, буду очень рад вас повидать, — весело ответил Николай Петрович, и в самом деле обрадовавшийся встрече со старым приятелем.
Приехав в институт, Бахметьев попросил конструктора уделить ему час времени для неотложного и серьёзного дела.
— Пожалуйста, я в вашем распоряжении, — ответил Леонтьев и сказал секретарше, что будет некоторое время занят.
Бахметьев и Леонтьев сели в кресла друг против друга, закурили.
— Прежде всего, дорогой Николай Петрович, — сказал Бахметьев, — я прошу мне поверить, что дело, о котором сейчас пойдёт речь, уже не чревато никакими неприятностями, напротив, оно кончилось, по существу, вполне благополучно. Несмотря на всю необычность того, что вы сейчас услышите, нет никаких оснований для малейшего волчения. Вы верите мне?
— Что за вопрос, — ответил Леонтьез, заинтригованный таким вступлением. — Обещаю не волноваться и прошу в свою очередь поверить, что я не истерик и умею владеть собой. Итак, я вас слушаю.
— Ваш племянник Коля жив и здоров, но это совсем не тот парень, который живёт у вас в квартире, — продолжал Бахметьев. — У вас живёт агент американской разведки, которого специально подставили нам под видом вашего племянника с определёнными целями.
— Это ваше предположение или твёрдо установленный факт? — спросил Леонтьев сразу упавшим голосом. Несмотря на предупреждение своего собеседника, он был ошеломлён тем, что услышал.
— Можете в этом не сомневаться, Николай Петрович, — ответил Бахметьев. — Я представлю вам неопровержимые доказательства того, что говорю. Более того, надеюсь в ближайшие дни привезти к вам вашего настоящего племянника…
— Да, знаете, я мог ожидать всего что угодно, но только не этого, — пробормотал Леонтьев. — Давно вам удалось всё выяснить?
— Давно, не хочу от вас скрывать, — ответил Бахметьев. — Но мы не могли сразу сообщить вам. По оперативным соображениям, мы были заинтересованы в том, чтобы этот молодой мерзавец спокойно себя чувствовал и соответствено информировал тех, кому он служит. Скажу проще — мы обязаны были так действовать в интересах государства, не говоря уже о ваших интересах, Николай Петрович… Нужно ли мне входить в подробности? Если вы хотите — я готов…
— Нет, нет, мне не до подробностей, — быстро сказал Леонтьев. — Ах, тётя Паша, тётя Паша, простая старая женщина, а мудрее меня в сто раз!.. Ведь она говорила, что не верит этому мальчишке, говорила!.. А я ещё на неё цыкнул!.. Слушайте, не потому ли перед моей командировкой директор приказал мне взять домой портфель с секретными чертежами?.. Вопреки правилам.
— Да. Директор сделал это по нашей просьбе, — ответил Бахметьев. — И через несколько дней фотокопии документов были в Америке.
— В Америке? — с нескрываемым испугом воскликнул Леонтьев.
— Да. И это тоже входило в наши намерения, — улыбнулся Бахметьев. — Да вы не волнуйтесь, американцы на этом не заработали…
— Ну знаете, дорогой друг, я уже совершенно отказываюсь что-либо понять! — махнул рукой Леонтьев. — Скажите лучше, что с моим племянником?
Тут Бахметьев подробно рассказал обо всём, что произошло с Колей, о коварном плане полковника Грейвуда и о том, как удалось своевременно разоблачить этот план. Леонтьев с волнением слушал рассказ Бахметьева, только теперь поняв, как настойчиво охотилась за ним служба полковника Грейвуда.
В конце разговора, затянувшегося почти на два часа, Леонтьев сказал Бахметьеву:
— Спасибо за откровенность и доверие. И ещё спасибо за всё, что вы сделали для меня лично и, что ещё важнее, для нашего общего дела. Теперь я хочу просить вас только об одном…
— Именно? — спросил Бахметьев.
— Я не хочу возвращаться домой и присутствовать при аресте этого мерзавца. Прямо скажу — не хочу. Поэтому, если вы не возражаете, я позвоню тёте Паше и скажу, что выезжаю по делу в Рязань…
— Пожалуйста, — быстро ответил Бахметьев. — Мы вполне обойдёмся без вас, Николай Петрович. И я понимаю ваши чувства.
В Малаховку выехали в полночь. Стояла темная, душная ночь, где-то на далёком горизонте беззвучно вспыхивали молнии. Бахметьев сидел в машине рядом с шофёром, на заднем сиденье расположились два его сотрудника и Фунтиков, бесконечно счастливый доверием, которое было ему оказано.
Когда приехали в Малаховку, стояла уже поздняя ночь. Гроза прошла стороной. Спокойно перешёптывались сосны, огни на террасах дач давно были погашены, посёлок мирно спал.
Оставив машину неподалёку от дачи, в которой жил Крашке, Бахметьев и его спутники осторожно подошли к даче седоусого Семёна Петровича, проживавшего вместе со своей внучкой. Семён Петрович был одним из сотрудников Ларцева и поселился в Малаховке по оперативным соображениям: он должен был завести знакомство с Крашке и быть в курсе его отъездов из Малаховки в Москву, а также его возможных связей в самой Малаховке.
Возраст Семёна Петровича, прогулки со своей внучкой (девочка и в самом деле приходилась ему внучкой), весь мирный образ жизни, который он вёл, отлично разыгрывая роль старика пенсионера, исключали возможность подозрений со стороны Крашке.
Теперь Бахметьев, хорошо знавший расположение дачи, в которой жил Семён Петрович, осторожно поднялся на террасу и тихо постучал в дверь. Семён Петрович, заранее предупреждённый о предстоящей операции, сейчас же вышел из комнаты и плотно притворил за собою дверь.
— Добро пожаловать, — прошептал он. — А я только два часа тому назад расстался с провизором. Играли в преферанс у соседних дачников.
— Он был спокоен? — спросил Бахметьев.
— Вполне. Играл очень осторожно, выиграл двадцать целковых. Остался очень доволен и пошёл спать.
— Можно не сомневаться, что он дома?
— Безусловно. Я потушил у себя огонь и всё время наблюдал за его дачей. Ручаюсь, спит.
— Отлично. Значит, можно приступать.
И Бахметьев расставил заранее проинструктированных сотрудников вокруг дачи, в которой жил Крашке, а сам пошёл к окну его комнаты. Окно было открыто — Крашке любил свежий воздух. Бахметьев, подкравшись к самому окну, прислушался. Из комнаты Крашке доносился лёгкий храп. Сомнений не оставалось — старый шпион крепко спал. Бахметьев легко и бесшумно взобрался на подоконник и влез в комнату. Несмотря на открытое окно, в ней было душновато, сильно пахло трубочным табаком (Бахметьев знал, что Крашке курит трубку) и дешёвым одеколоном «Ландыш». В комнате было совсем темно, и Бахметьев, прислонясь спиной к подоконнику, на мгновение включил слабый свет своего карманного фонаря. Слева у стены спал на низкой деревянной кровати Крашке. У кровати стояла табуретка, на которой было аккуратно сложено его платье.
Бахметьев подкрался к спящему и, включив сильный свет, громко произнёс:
— Герр Крашке, руих!..
Крашке мгновенно проснулся, широко открыл глаза, сразу прищурив их от сильного света, и испуганно спросил:
— Да… Что такое?! Кто это?
— Спокойно! — повторил Бахметьев по-русски и толкнул на подушку поднявшегося было Крашке. — Спокойно лежать, иначе буду стрелять!
И тут же, как было заранее условлено, он дал свисток. Тотчас в комнату вошли два оперативных сотрудника. Крашке, белый, как наволочка, на которой он лежал, пытался что-то пролепетать, но у него дрожали губы и подбородок. Сотрудники Бахметьева мгновенно обыскали карманы сложенных брюк, затем пиджака, изголовье постели. Оружия не оказалось, у Крашке его действительно не было. Потом была вызвана квартирная хозяйка Крашке, приглашённая присутствовать при обыске в качестве понятой. Старушка, испуганная происходящим, очень волновалась, всё время тяжело вздыхала и бормотала:
— А по виду такой тихий, воды не замутит… И кто бы мог подумать?.. И вовсе я тут ни при чём… А на лице у него не написано…
— Успокойтесь, мамаша, — сказал ей Бахметьев, которому надоело её бормотанье. — Никто вас ни в чём не подозревает. И приглашены вы в качестве понятой…
— Ах, миленький, христом-богом прошу: избавь ты меня от всякого нахождения. В жизни в суде не была, в милицию только за паспортом ходила… Не пиши ты меня в протокол… Ведь надо же такой напасти произойти!..
— Перестаньте хныкать, гражданка, и сидите спокойно. Никто вас ни в чём не подозревает, я, кажется, вам ясно говорю.
По окончании обыска, не давшего никаких результатов, Бахметьев написал протокол и спросил Крашке:
— У вас имеются какие-либо претензии?
— Ах, что вы, какие претензии! — махнул рукою старик. — Объясните только, в чём дело? Чем вызван этот обыск?
— Ваша фамилия — Крашке?
— Нет. Видимо, произошло недоразумение. Я лаборант, приехал на курсы… Вы взяли мои документы, там всё написано…
— Да, там написано, что вы Озолин, а на самом деле вы — Крашке.
— Уверяю вас, это ошибка…
Бахметьев взглянул на одного из сотрудников, и тот сразу вышел. Через минуту он возвратился с Фунтиковым, увидев которого Крашке вздрогнул.
— Товарищ Фунтиков, вам знаком этот человек? — спросил Бахметьев.
— Да, товарищ подполковник. Это Крашке, немецкий шпион. Я лично задержал его в апреле 1945 года в Восточной Пруссии, в аптеке.
— Вы подтверждаете это, Крашке?
— Видите ли… Я хочу сказать…
— Отвечайте на вопрос — подтверждаете или нет?
— Подтверждаю, — хрипло произнёс Крашке. — Но я прошу занести в протокол, что сразу это признал и что я намерен сообщить советским следственным органам чрезвычайно важные сведения, которые…
— Которые вы нам сообщите позже и в другом месте, — перебил его Бахметьев. — А теперь прошу вас одеться и следовать за нами.
Около трёх часов ночи Бахметьев доставил арестованного Крашке по назначению и сразу же поехал на Чистые пруды за Игорем Мамалыгой. Подъехав к знакомому дому, в котором жил Леонтьев, Бахметьев разыскал ночного дворника и направился вместе с ним в квартиру Леонтьева, находившуюся на втором этаже, оставив на улице в машине одного сотрудника и Фунтикова, который упросил захватить его и на эту операцию.
Поднявшись по лестнице на площадку второго этажа, Бахметьев подошёл к знакомой двери и позвонил. Тётя Паша довольно быстро вышла в переднюю и спросила, стоя за дверью:
— Никак вы, Николай Петрович?
— Нет, тётя Паша, — ответил Бахметьев, хорошо знавший старушку. — Это я, приехал по поручению Николая Петровича.
— Кто — я? — спросила тётя Паша, не узнав голоса Бахметьева. — В чём дело?
— Да я, тётя Паша, — тихо ответил Бахметьев. — Бахметьев, знакомый Николая Петровича…
— Не знаю я никаких знакомых! — резко ответила тётя Паша, больше всего на свете боявшаяся квартирных воров и потому очень неохотно впускавшая в квартиру неизвестных людей.
Бахметьев, всё так же стараясь не повышать голоса, начал втолковывать старушке, кто он такой, но та продолжала сомневаться и требовала дополнительных подробностей. Ни Бахметьев, ни тётя Паша не знали, что Игорь Мамалыга, спавший в кабинете, примыкавшем к передней, проснулся, услышав этот ночной звонок, а потом, прислушавшись к разговору тёти Паши с Бахметьевым, мгновенно оделся, почуяв неладное. Пока Бахметьев убеждал не в меру осторожную тётю Пашу, Игорь начинал всё сильнее тревожиться и наконец решил на всякий случай исчезнуть из квартиры. Он подошёл к распахнутому окну, заглянул вниз и увидел машину, стоявшую у подъезда соседнего дома. Это усилило опасения Игоря, и он не долго думая вылез на подоконник и прыгнул вниз. Игорь был достаточно ловок для того, чтобы отважиться на прыжок, особенно при такой ситуации.
И в самом деле, прыжок ему удался, и он бросился со всех ног в ближайший переулок. К счастью, Фунтиков и сотрудник Бахметьева заметили его и, выскочив из машины, погнались за беглецом.
— Стой, стрелять буду! — закричал сотрудник Бахметьева, но Игорь продолжал бежать по тёмному переулку, теперь уже не сомневаясь в том, что предчувствие не обмануло его. Это придало ему сил, и он бежал с необычайной быстротой, не чуя ног от волнения и страха. Игорь, хорошо изучивший этот район, рассчитывая, что в следующем переулке, если ему удастся немного оторваться от погони, он завернёт в один проходной двор и скроется.
Несмотря на волнение, он сообразил, что гнавшиеся за ним люди вряд ли откроют стрельбу на ночной улице, чтобы не поднимать лишнего шума. И в самом деле, сотрудник Бахметьева не хотел стрелять, опасаясь убить преступника, которого надо было взять живым и невредимым.
Положение спас Фунтиков. Он вырвался вперёд, оставив позади себя сотрудника Бахметьева, и стал догонять Игоря, уже добежавшего до знакомого проходного двора. По топоту ног Игорь понял, что его настигает только один человек, и потому, вскочив во двор, прижался к тёмной подворотне, приготовив финский нож. Как только в этот двор вбежал Фунтиков, Игорь присел на корточки, чтобы его не заметили. Однако Фунтиков, на мгновенье остановившись, чтобы ориентироваться в тёмном и незнакомом ему дворе, услышал тяжёлое дыхание Игоря и смело бросился в угол. Моментально выпрямившись, Игорь нанёс ему сильный удар ножом. Фунтиков, охнув, упал, и Игорь уже собрался бежать, но Фунтиков, несмотря на острую колющую боль в груди, схватил его за ногу и так дёрнул, что Игорь тоже упал. Они сцепились, Фунтиков схватил Игоря за горло, и в этот момент во двор вбежал сотрудник Бахметьева, сразу бросившийся на помощь Фунтикову. Преступника обезоружили, связали ему руки и повели к машине, у которой уже стоял Бахметьев. Когда тётя Паша отворила наконец дверь и он обнаружил, что Мамалыги уже нет в квартире, Бахметьев сразу устремился на улицу.
Выслушав короткий доклад сотрудника и Фунтикова о том, что произошло, Бахметьев посмотрел на арестованного. Игорь стоял, всё ещё тяжело дыша, со связанными руками, низко опустив голову.
— Ну, так называемый Николай, а на самом деле Игорь Мамалыга, — произнёс Бахметьев, — пора вам ехать на новую квартиру…
Мамалыга молчал, не глядя на Бахметьева.
— Ну ладно, поговорим позже, — сказал Бахметьев, торопившийся оказать медицинскую помощь раненому Фунтикову. — Поехали!..
Усадив арестованного на заднее сиденье, между собой и своим сотрудником, а Фунтикова рядом с шофёром, Бахметьев приказал трогать, и машина быстро помчалась вперёд по пустынным улицам мирно спящего города.
Допрос обвиняемых
Ещё с тех времен, когда Бахметьев работал народным следователем — а было это давно, за несколько лет до войны, — он придавал большое значение допросу обвиняемого, рассматривая допрос как кульминационный момент следствия. Бахметьев был образованным криминалистом и не придавал главного и решающего значения признанию обвиняемого. Он отлично понимал, что признание само по себе, но будучи подтверждено другими данными следствия, объективно проверенными, вовсе не является «матерью» или «царицей» всех доказательств.
Но, с другой стороны, Бахметьев не разделял и точки зрения некоторых учёных юристов, считающих, что признание обвиняемого вообще не является доказательством и его, дескать, не стоит добиваться. Соглашаясь с этими юристами, что следователь никогда не имеет права домогаться признания обвиняемого незаконными методами (что само по себе является преступлением, не говоря уже о том, что такое вынужденное признание не внушает доверия), Бахметьев считал, что следователь не может отказаться от такого источника получения истины, как сам обвиняемый: кто же лучше его может знать, как и почему совершилось преступление, кто в нём, кроме самого обвиняемого, участвовал, кто, наконец, подстрекал к этому преступлению?
В зависимости от характера преступления и личности обвиняемого Бахметьев пытался «подобрать психологический ключ» к его допросу. Так, например, Бахметьев знал, что человек, случайно совершивший преступление и потом искренне раскаявшийся в нём, иногда охотно раскрывает следователю свою душу и честно рассказывает обо всём, что он совершил, если следователь сумел задушевно и спокойно с ним поговорить, расположить обвиняемого к себе, вызвать доверие к своей объективности, человечности и уму.
Обращение к добрым началам в душе таких обвиняемых, случайно совершивших преступление, иногда давало поразительный психологический эффект, по существу означавший начало нравственного самоочищения. Бахметьев никогда специально не подлаживался к психологии этих людей, не опускался до лицемерного сочувствия, не позволял себе шаблонных уговоров по схеме «сознайтесь, вам легче будет». Но, обнаруживая по ходу допроса полное и глубокое понимание того, что произошло и почему это произошло, того, что говорит в пользу обвиняемого и что против него, наконец, того, что смягчает или как-то объясняет его вину, или, наоборот, усиливает её, Бахметьев вызывал невольное уважение и доверие к себе со стороны обвиняемого, нередко приводившие к чистосердечному и полному признанию.
Совсем иным образом вели себя другие обвиняемые — профессиональные преступники, в глубине души сожалеющие не о том, что они совершили преступление, а о том, что следствие открыло их, напало на верный след. Такие обвиняемые сознавались в редчайших случаях и то лишь под давлением тягчайших, неоспоримых улик. Но даже признавая свою вину, они всё-таки стремились обмануть следователя, скрыв от него какие-то подробности, соучастников или подлинные мотивы преступления. Допрашивая таких людей, Бахметьев не забывал, что надо относиться с величайшей осторожностью как к их отрицаниям, так и к их «признаниям». Рассчитывать в этих случаях на полное и искреннее раскаяние и чистосердечность было более чем наивно — такие обвиняемые рассматривают следователя как своего врага и сами на следствии ведут себя, как враги.
Имея дело с такими преступниками, наивно рассчитывать на откровенный и честный разговор. Доверие к себе они склонны рассматривать как свидетельство слабости следователя, а не его силы, как «приёмчик» с его стороны. Если они и не подозревали следователя в желании их «обвести», то в глубине души смеялись над его попыткой вызвать в них раскаяние.
В таких случаях Бахметьев применял метод последовательного и настойчивого изобличения. Никогда не повышая голоса (Бахметьев никогда не забывал, что крики и угрозы со стороны следователя не только противозаконны, но и совершенно бессмысленны, так как способны лишь дискредитировать следователя в глазах обвиняемого), он наступал железным строем улик, постепенно, шаг за шагом разоблачая преступника, сокрушая его лживые доводы, вскрывая противоречия в его показаниях, доказывая всю несостоятельность его попыток обмануть следствие. Но, прежде чем начать изобличение обвиняемого, он всегда очень спокойно и терпеливо выслушивал его объяснения, подробно фиксировал их, а уже потом начинал, пункт за пунктом, факт за фактом, разбивать их объективными данными дела.
Такая методика допроса вдвойне себя оправдывала: во-первых, обвиняемый уже не мог отказаться от лживых показаний, данных им вначале, и теперь установление их лживости являлось лишней уликой против него; во-вторых, спокойствие, с которым следователь выслушивал и фиксировал эти лживые показания, вначале порождало в преступнике ошибочное представление, что следователь, по-видимому, доверчивый и недалёкий малый, которого легко удастся обвести вокруг пальца. Когда же этот следователь внезапно для обвиняемого переходил в наступление, сокрушая весь карточный домик его вымыслов и ссылок, преступник обычно шарахался в другую крайность, приходя к выводу, что перед ним дьявольски хитрый, очень коварный и опасный следователь, обмануть которого почти невозможно.
Разумеется, разделяя обвиняемых на эти две основные категории, Бахметьев никогда не забывал, что каждый преступник в конце концов неповторим по особенностям своего психологического склада, характеру, привычкам, мотивам преступления, порокам и слабостям. Соответственно с этим надо было его и допрашивать, учитывая свойства его психологии. Следовательно, при допросе любого обвиняемого необходимо было прежде всего по ходу допроса нащупать его индивидуальные особенности, а уже потом выбирать тактику допроса.
Теперь Бахметьеву предстоял допрос двух обвиняемых — Крашке и Игоря Мамалыги, людей, разных по возрасту, по национальности, по биографиям и характерам. В сущности, Бахметьев пока не знал ни того, ни другого, хотя их конкретная вина была для него ясна.
Бахметьев начал с Крашке, правильно рассчитывая, что тот играет более важную роль в этом деле и потому, естественно, больше осведомлён о планах американской разведки, которой в последнее время служил.
Бахметьев понимал, что Крашке сравнительно легко признает свою деятельность в гитлеровской разведке и свою роль в операции «Сириус», поскольку он прямо изобличён опознанием Фунтикова. Не станет он также отрицать и факта отравления советского часового, охранявшего его, и своего побега, последовавшего за этим отравлением. Наконец, его нетрудно будет изобличить и в участии в той комбинации, которая была начата в погоне за секретами Леонтьева, в связи с чем в Москве появился под видом племянника Леонтьева Игорь Мамалыга.
Что же в таком случае мог скрыть от следствия Крашке? По мнению Бахметьева, — многое. Прежде всего не было уверенности в том, что известна вся его деятельность в довоенный и военный период. Далее, можно было предположить, что, став агентом американской разведки, Крашке мог быть в курсе некоторых её замыслов и операций против Советского государства. Наконец, он мог знать, кто, помимо него, выполняет те или иные шпионские задания, мог иметь резервные явки в Москве.
Таким образом, смысл допроса Крашке заключался не столько в получении от него подтверждения того, что следствию уже было о нём известно, сколько в том, чтобы получить его показания о неизвестных ещё следствию фактах и обстоятельствах.
Вот почему на первом же допросе Бахметьев коротко сказал обвиняемому:
— Учтите, Крашке, что мы знаем о вас решительно всё, начиная с вашей деятельности в гитлеровской разведке как до, так и во время войны и кончая всем, что вы сделали для американской разведки и готовились для неё сделать. Вы достаточно опытный шпион, чтобы понимать бессмысленность при такой ситуации каких бы то ни было попыток скрыть что-либо от следствия. Нам известны не только ваша личная роль, но и роль Игоря Мамалыги, засланного в Москву под видом Коли Леонтьева. Учтите, кстати, что подлинный Николай Леонтьев уже находится в Москве и, если потребуется, может быть поставлен на очную ставку с вами…
— Николай Леонтьев в Москве? — испуганно воскликнул Крашке. — Его согласились вам выдать?
— Важен факт, а не его подробности, — усмехнулся Бахметьев, сразу отметив испуг Крашке. — Если вам захочется убедиться в этом, мы готовы пойти навстречу вашему любопытству и показать вам настоящего Николая Леонтьева, которого, кстати, вы отлично знаете…
Крашке вздрогнул, сразу сообразив, что все мучения, которым он подвергал юношу, теперь будут поставлены ему в счёт.
— Гражданин следователь, — произнёс он всхлипывая, — я прошу вас поверить: всё, что мне приходилось против своей воли делать, было мне приказано этим дьяволом Грейвудом!.. Я старый и больной человек и сам приходил в ужас! Но у меня не было выхода, поймите!..
— Я понимаю вас лучше, чем вы думаете, Крашке, и знаю о вас больше, чем вы предполагаете, — спокойно произнёс Бахметьев. — Поэтому я проверю вашу искренность — а это единственный выход в вашем положении — и тогда сделаю окончательный вывод о вас. Но прежде всего не будем торопиться. У нас достаточно времени. Начнём с вашей деятельности против нас с самого начала…
Скажи Бахметьев вместо «против нас» слова «против Советского государства» — и Крашке мгновенно бы понял, что следствию ничего не известно о его шпионском стаже и работе в немецкой разведке ещё до революции. Бахметьев, учитывая возраст Крашке, сознательно произнёс слова «против нас». С другой стороны, было опасно наобум говорить о том, что ещё точно не было известно, что можно было лишь предполагать. Малейший «перегиб» в этом смысле сразу подорвал бы убеждение обвиняемого в том, что следствию действительно почти всё о нём известно.
Вот почему Крашке, сразу заметив формулу «против нас», решил откровенно признать свою дореволюционную работу в России, понимая, что за давностью времени это не так уж усугубит меру его ответственности. В то же время Крашке очень хотелось произвести на следователя впечатление человека, решившего честно рассказать абсолютно всё…
Крашке, конечно, задумался над вопросом — откуда советский следователь может знать о его работе в дореволюционной России? Потом, вспомнив, что Петронеску в конце концов оказался в руках советской контрразведки, Крашке решил, что именно он рассказал следствию об его прошлом.
— Гражданин следователь, — начал Крашке, — в моём положении нет смысла что-либо скрывать. Да, вы правы, я работал против России ещё до первой мировой войны, будучи сотрудником германской разведывательной службы. Я всегда работал, как у нас выражались «по русскому профилю».
— Да, мы знаем об этом, — произнёс Бахметьев. — Давайте говорить обо всём по порядку. Одним словом, с самого начала…
— Слушаю, гражданин следователь, — сказал Крашке. — Покороче или со всеми подробностями?
— Нет, уж с подробностями, — ответил Бахметьев. — Повторяю, нам некуда спешить и незачем торопиться.
Крашке начал подробно рассказывать о том, как, будучи совсем ещё молодым человеком, он был зачислен в секретную школу германской разведки и сразу был нацелен на «русский профиль». В этой школе Крашке тщательно изучал русский язык, литературу, географию, историю, не говоря уже о целом ряде специальных предметов, к числу которых в те далёкие времена относились шифровальное дело и тайнопись, топография и черчение, фотография, снятие восковых слепков с секретных сейфов и замков, организация агентурной сети и явок, уроки «хорошего тона», который требовался для проникновения в аристократические салоны и установления необходимых связей в «светском обществе», сведения об организации русского земства и его учреждений, основные данные о русской армии и в особенности русской артиллерии.
После трёх лет специального обучения, когда Крашке отлично сдал нелёгкий экзамен в разведывательном управлении германского генерального штаба, он был более или менее посвящён в секреты германской разведывательной работы в России.
— В те годы широко велась разведывательная работа в России, — говорил Бахметьеву Крашке. — Не говоря уже о том, что в целом ряде министерств, банков, управлений железных дорог, всякого рода акционерных обществ занимали ответственные посты многие агенты-немцы, они проникли даже в министерство двора, то есть в ближайшее окружение императора, в генеральный штаб русской армии, в интендантство и так далее. Конечно, гражданин следователь, далеко не все немцы, проживавшие и работавшие в Российской империи, были нашими шпионами. Но некоторые из них, прямо или косвенно, были связаны с нашей разведкой, и это очень облегчало её работу. Кроме того, в пограничных районах империи была насаждена наша агентура, например, в Риге, Полоцке, Подволочиске, в царстве Польском, в Финляндии, в Ковно и Вильно, как тогда назывались эти города, в Ревеле и других пограничных районах.
— Да, это верно, — сказал Бахметьев. — Вы ещё не сказали о том, что в ряде крупных городов царской России германская разведка фактически владела некоторыми кафешантанами, гостиницами, всякого рода барами и тому подобными заведениями.
— Вы правы, гражданин следователь, — поспешил согласиться Крашке. — Такие заведения, в частности, были в Петербурге, Москве, Киеве. Впрочем, и русская разведка кое-что имела в Берлине и некоторых других городах Германии, если позволите заметить. В те времена, гражданин следователь, такие методы работы применялись обеими сторонами… Но мы владели не только кафешантанами, отелями и барами. Игорные дома, тайные дома свиданий, наконец, рестораны и пивные открывали превосходные перспективы для работы, секретных встреч, явок и тому подобного. Добавьте к этому, гражданин следователь, что в те времена любую границу можно было перейти без всякого риска, за четвертной билет: ведь почти в каждом пограничном местечке был человек, занимавшийся в виде постоянного промысла переводом через границу. В большинстве случаев он тоже ничем не рисковал, так как отдавал половину своего гонорара пограничному офицеру… Да что говорить, золотые были времена!.. — со вздохом заключил Крашке, сознательно продолжая разыгрывать роль обвиняемого, махнувшего на всё рукой и говорящего именно то, что думает.
— Не пора ли после такого лирического вступления перейти к рассказу о собственной персоне, — произнёс Бахметьев, решив осадить старого шпиона. — Ближе к делу, Крашке!..
— Слушаюсь! Сейчас перейду к своей собственной деятельности, — поспешно пробормотал Крашке. Он подробно рассказал о том, как его перебросили в Россию и как он там в конце концов женился, получил солидное приданое и начал понемногу «работать»…
***
Через несколько дней, когда Крашке подробно рассказал о своей шпионской деятельности ещё в дореволюционной России, Бахметьев убедился, что в этой части своей весьма пёстрой биографии старик, по-видимому, более или менее откровенен. Бахметьев отлично понимал, что это ещё вовсе не означает, что и о дальнейшем Крашке будет так же охотно и откровенно рассказывать. Скорее следовало ожидать, что обвиняемый, обманув следователя своей полной откровенностью при первых допросах, постарается в дальнейшем сказать как можно меньше.
Вот почему, когда речь зашла наконец об операции «Сириус», Бахметьев с особым интересом следил за показаниями Крашке, проверяя, насколько тот будет откровенен.
Но и тут Крашке всё рассказывал откровенно и подробно. Крашке понимал, что провал операции «Сириус» раскрыл советской контрразведке все детали этого дела и здесь скрывать что-либо рискованно. Больше всего Крашке боялся, что может быть вскрыта его работа в «комбинате смерти» под Смоленском. Слишком много там было пролито крови — если докопаются и до этого, смешно рассчитывать на то, что ему удастся избежать высшей меры наказания! Теперь, давая подробные показания обо всём, кроме «комбината смерти», Крашке надеялся, что смягчит свою участь таким поведением на следствии.
Правда, за ним, помимо прочего, числилось отравление советского солдата и пытки, которым он подвергал Колю Леонтьева. Но тут Крашке рассчитывал на то, что суд учтёт его роль исполнителя приказа Грейвуда в отношении Коли Леонтьева. Что же касается румяного солдата, которому он подбросил в стакан ампулу с ядом, то это, как казалось Крашке, ещё не обязательно повлечёт за собою в приговоре суда страшное слово — расстрелять.
Надежды Крашке, что ему удастся скрыть от следствия свои кровавые дела в «комбинате смерти», покоились прежде всего на том, что в этом «комбинате» он действовал не под своей фамилией. Только Петронеску, приезжавший тогда к нему, и некоторые другие работники гестапо знали, что начальник этого чудовищного «комбината» — не кто иной, как Ганс Крашке. Следовательно, если Петронеску после своего ареста не сообщил о том, кто являлся начальником смоленского «комбината», есть шанс это скрыть.
Самый факт существования смоленского «комбината смерти», разумеется, был известен Бахметьеву по материалам дела Петронеску и арестованных вместе с ним «делегатов» Ивановской области. Ларцев, который в своё время допрашивал Петронеску и его «делегатов», подробно выяснил, что это было за учреждение, чем там занимались и какие там творились дела. Всё это Ларцев, по своему обыкновению, подробно зафиксировал в протоколах допроса обвиняемых. Разумеется, Ларцев старался установить и личность начальника этого «комбината». Теперь перечитывая протоколы допроса, Бахметьев увидел, что Петронеску, отвечая на вопросы Ларцева, описал внешность начальника «комбината», назвав и фамилию, под которой он там был известен, — Генрих Зееринг. Петронеску тогда скрыл, что Зееринг на самом деле — Крашке и что он знает его давным-давно. «Делегаты» также назвали эту фамилию и в свою очередь описали внешность Зееринга.
Но Крашке повезло и тут. Дело в том, что в период работы в «комбинате» он был ещё не так стар, очень следил за своей фигурой, занимался спортом и не был тем обрюзгшим стариком, каким стал в последующие годы. Вот почему Бахметьеву и в голову не могло прийти, что сидящий перед ним Крашке и есть Генрих Зееринг, проливший столько крови ни в чём не повинных советских людей.
И, вероятно, Крашке удалось бы скрыть свою деятельность в «комбинате смерти», если бы криминалистический опыт Бахметьева не был так богат. Ещё будучи народным следователем, Бахметьев по некоторым делам применял для раскрытия преступления так называемый метод «МОС», предложеный в своё время начальником йоркширской полиции для расследования дел об убийствах.
Метод «МОС» (методикум операцион систем) был разработан на основе многочисленных наблюдений, показавших, что преступник, совершая те или иные преступления, часто пользуется одними и теми же методами, сохраняя, так сказать, свой «почерк». Именно благодаря этому опытный криминалист устанавливает «визитную карточку» преступника, исходя из аналогии применённых им методов.
Ларцеву в своё время не удалось установить подлинную фамилию начальника «комбината», и это было недочётом следствия. Но зато Ларцев подробно зафиксировал в протоколах допросов садистские склонности Генриха Зееринга и его ночные «развлечения», когда он лично пытал в подвалах «комбината» свои жертвы. Ларцев выяснил при допросах «делегатов» не только самый факт этих истязаний, но подробности пыток, которым подвергал несчастных начальник «комбината». И в протоколах всё это очень конкретно и подробно было зафиксировано.
Перечитав в связи с допросом Крашке все протоколы, относившиеся к операции «Сириус», Бахметьев содрогнулся, когда познакомился со страницами, описывающими этот «сад пыток».
Он вспомнил обо всех этих ужасах, когда в Москву прибыл Коля Леонтьев и Бахметьев встретился с ним, чтобы зафиксировать показания о пытках, которым его подвергал Крашке.
Как только Коля начал рассказывать Бахметьеву обо всех муках, которые ему суждено было перенести в «Золотом гусе», в памяти Бахметьева мгновенно ожили прочитанные страницы протоколов допроса. Да, да, ведь именно Генрих Зееринг в подвалах «комбината смерти» истязал свои жертвы теми же дьявольскими методами, которыми пытался сломить Колю Леонтьева старый палач Крашке!..
Бахметьев видел, что Коле тяжело вспоминать о пережитом, но в интересах дела он вынужден был выяснить все детали, каждая из которых снова напоминала ему о Генрихе Зееринге.
В конце концов в сознании Бахметьева блеснула догадка: а не является ли Крашке и Генрих Зееринг одним и тем же лицом? Правда, не очень совпадала их внешность, судя по показаниям «делегатов», но ведь с тех пор прошло несколько лет и Крашке мог за эти годы сильно измениться и постареть.
На очередном допросе Бахметьев спокойно произнёс:
— Давая показания о своей шпионской деятельности, вы почему-то обходите молчанием период с 1940 по 1944 год. Чем это объяснить?
— Моя деятельность за эти годы не представляет для вас интереса, гражданин следователь, — тихо ответил Крашке, мучительно стараясь понять, чем вызван этот вопрос. — Дело в том, что после провала на Белорусском вокзале в Москве я потерял доверие начальства и выполнял третьестепенные поручения.
— В Советском Союзе?
— Нет, гражданин следователь, в Германии.
— Разве вам не приходилось бывать на оккупированных территориях?
— Я был два раза во Франции, один раз в Бельгии.
— Я спрашиваю о территории Советского Союза. Подумайте, Крашке, прежде чем сказать «нет». Не торопитесь с ответом!..
И Бахметьев усмехнулся с видом человека, отлично знающего, почему он задаёт такой вопрос. Крашке растерялся и опустил глаза, лихорадочно размышляя, как ему ответить на этот вопрос.
— Вы долго намерены вспоминать, Крашке? — снова улыбнулся Бахметьев. — Вам, видимо, очень не хочется вспоминать этот этап своей «деятельности», чтобы не выразиться иначе. Не так ли?
— Право, я не понимаю, о чём идёт речь, — забормотал Крашке, начиная всё более волноваться. — Нельзя ли уточнить ваш вопрос, гражданин следователь, потому что я не хочу решительно ничего скрывать от вас…
— А вам и не удастся скрыть, даже если бы вы того хотели, — произнёс Бахметьев, хорошо заметив волнение Крашке. — И чтобы вы убедились раз и навсегда, что это так, я назову вам только одно имя: Генрих Зееринг…
— Зееринг? — переспросил Крашке, чтобы выиграть хоть секунду времени. — Вы сказали — Зееринг?
— Да, Генрих Зееринг. Вы хотите сказать, что среди ваших знакомых такого человека не было? Я готов согласиться с вами…
— Да, да, я такого не знаю! — сразу обрадовался Крашке и даже привстал со стула. — У меня не было такого знакомого, прошу мне верить!..
— Верю, — сказал Бахметьев очень серьёзно. — У вас и не могло быть такого знакомого по одной простой причине: Генрих Зееринг — это вы сами!..
Крашке побагровел. Глядя на следователя выпученными от ужаса глазами, он пытался что-то пролепетать, но у него получалось лишь нечленораздельное бормотанье.
— Я вижу, вам нехорошо, — сказал Бахметьев. — И понимаю ваше состояние. Тем не менее надо собраться с силами и признать, что ваша попытка скрыть от нас преступления против человечности, совершённые вами в «комбинате смерти» под Смоленском, успехом не увенчались. Впрочем, если вы намерены отрицать это, — я охотно запишу ваше отрицание, но потом изобличу вас в том, что вы лжёте. Выбирайте!..
И Бахметьев встал, спокойно закурил папиросу и подошёл к окну, делая вид, что его очень мало интересует, какую позицию займёт теперь Крашке. Впрочем, в какой-то мере Бахметьев действительно уже успокоился: из поведения Крашке он понял, что попал прямо в цель. Крашке, ёрзая на стуле, всё не мог решиться, как ему теперь быть. Но очевидное равнодушие следователя к тому, признает он или нет, что был начальником «комбината смерти», убедило Крашке, что отрицать этот факт бессмысленно, так как следователь отлично о нём осведомлён.
— Простите! — закричал что есть силы Крашке и, вскочив со стула, рухнул на колени перед Бахметьевым. — Я… Я работал в этом «комбинате», вы правы, как всегда!.. Но что я мог сделать — приказ есть приказ! Если бы я не выполнял приказа, меня самого потащили бы в этот страшный подвал!.. Простите!..
И Крашке завыл, как зверь. Он уже понимал, что разоблачён полностью и до конца.
***
С Игорем Мамалыгой всё было проще. После первого допроса Бахметьеву стало ясно, что перед ним сидит ещё молодой, но уже вполне созревший негодяй, предатель по призванию, авантюрист по складу характера, готовый пойти на любую подлость, если только она сулит какую-нибудь выгоду. Его социальная опасность усугублялась ещё тем, что он был очень хитёр, умел притворяться, и это не только не стоило ему труда, но, напротив, доставляло удовольствие.
Мамалыга сразу понял, что разоблачён, и вначале разыграл приступ бурного раскаяния. Да, он виноват, но сам, в сущности, является жертвой, так как Гревс и Грейвуд вынудили его пойти на все эти подлости. Мало того, собственный отец действовал заодно с ним!..
— Да, да, гражданин следователь, — истерически кричал Мамалыга, всхлипывая и сморкаясь. — Подумайте только, что мне оставалось делать, когда отец пилил меня целыми днями, требуя моего согласия… Ах, папа, папа, что ты натворил!..
С брезгливым интересом смотрел Бахметьев на этого кривляющегося юнца, на его притворные слёзы и попытки изобразить истерику, симулировать искреннее раскаяние и горе.
Потом очень спокойно, но строго Бахметьев сказал:
— Ну, вот Мамалыга, спектакль будем считать оконченным. Занавес опущен, аплодисментов не последует. Что же касается ваших претензий к собственному папаше, то вы сможете изложить их ему лично, поскольку он тоже находится в Москве…
— В Москве? — вскрикнул Мамалыга, решив, что он ослышался.
— Да, в Москве, — ответил Бахметьев. — В отличие от вас, он приехал сюда под своей фамилией, с нашего разрешения, одним словом, вполне легально. Если вы будете настаивать на том, что он вас заставил стать шпионом, я дам вам очную ставку.
Игорь сразу перестал кривляться и задумался. Потом, видимо, поняв, что Бахметьев сказал правду, он спокойно произнёс:
— Вы меня огорошили. А папаша, я вижу, не дурак… Я бы хотел иметь с ним очную ставку, если это возможно…
— Вам хочется его изобличить? — улыбнулся Бахметьев.
— Нет, просто сказать ему всё, что я о нём думаю, — тоже с улыбкой ответил Игорь, и Бахметьева перевернуло от этой холодной, циничной улыбки.
На следующий день Бахметьев вызвал старика Мамалыгу и начал беседовать с ним. Узнав, что ему предстоит встреча с сыном, Мамалыга заплакал от радости.
— Благодарствуйте, век не забуду! — пролепетал он. — Вы уж разрешите, гражданин следователь, ему кое-что из продуктов захватить… Ах, Игорёк, Игорёк, сыночек ты мой!..
Бахметьеву стало не по себе. Он видел, что старик искренне беспокоится о сыне, и понимал, что именно отцовское чувство помогло Мамалыге порвать с американцами и вернуться на Родину. Но ведь Мамалыга сам растлил душу своего сына, подав ему пример своим предательством и службой сначала у гитлеровцев, а затем в американской разведке. Теперь пришёл час расплаты.
***
На следующий день Игорю Мамалыге была дана очная ставка с его отцом.
Когда старик Мамалыга вошёл в кабинет Бахметьева, Игорь сидел перед столом следователя. Увидев сына, Мамалыга всхлипнул и пролепетал:
— Игорёк, посмотри, это ведь я!..
Игорь медленно повернул голову в сторону отца и процедил сквозь зубы:
— Ну и что следует из этого факта, папахен?
Мамалыга, поражённый не столько тем, что было сказано, сколько тем, как это было сказано, невольно остановился посреди кабинета и растерянно пролепетал:
— Гражданин следователь, я могу… это… Поцеловать сына…
— Пожалуйста, — ответил Бахметьев. — Не возражаю.
Мамалыга неуверенно подошёл к сидящему Игорю и протянул к нему руки, желая обнять. Игорь с усмешкой отвёл его руки.
— К чему эти нежности при нашей бедности, — произнёс он. — У нас ведь не свидание, а очная ставка, насколько я понимаю. Я сам просил об этом следователя, он согласился.
— Игорёк, какая очная ставка, да что ты? — пробормотал Мамалыга. — Не чужие ведь мы!..
— Какая очная ставка? — спросил Игорь. — А вот сейчас увидите, уважаемый родитель…
— Вы по-прежнему настаиваете на очной ставке, Игорь Мамалыга? — подчёркнуто официальным тоном спросил Бахметьев.
— Да, настаиваю, — ответил Игорь.
— Что ж, это ваше процессуальное право, — заметил Бахметьев и, обращаясь к старику, произнёс: — Садитесь, пожалуйста, вот здесь, напротив Игоря Мамалыги.
Мамалыга сел, отёр платком пот, выступивший на лбу, и тихо сказал:
— Слушаю, что прикажете?
— У вас имеются личные счёты с арестованным Игорем Мамалыгой?
— Нет… Какие же могут быть счёты, ведь он мне сыном приходится.
— Понимаю, а у вас, обвиняемый Игорь Мамалыга, имеются личные счёты со своим отцом, вызванным на очную ставку с вами?
— Какой он мне отец? — воскликнул Игорь. — Подстрекатель он, а не отец!.. Это он из меня шпиона сделал, он!.. Так и запишите!..
— Всё, что будет сказано на очной ставке вами обоими, будет зафиксировано, — сказал Бахметьев. — Можете об этом не беспокоиться. Итак, вы заявили, что стали шпионом по настоянию своего отца. Я верно вас понял?
— Верно. Именно так и было, — ответил Игорь. — Сначала он меня заставил стать провокатором в лагере перемещённых лиц, а потом потребовал, чтобы я согласился поехать в Москву под видом Коли Леонтьева.
— Гражданин Мамалыга, — обратился Бахметьев к старику, — вы подтверждаете показания своего сына?
— Я не знаю… Я… Если так нужно, могу подтвердить… Если ему так нужно…
— Гражданин Мамалыга, нельзя так ставить вопрос. Я спрашиваю: было или не было то, что сказал ваш сын. Если это было — подтверждайте, если этого не было — отрицайте.
— А как лучше для… для него? — спросил, задыхаясь от волнения, старик.
— И для него, и для вас лучше всего показывать правду, — ответил Бахметьев. — И следствию тоже нужна только правда. Это единственное, что я могу ответить на ваш вопрос. Больше прошу мне вопросов не задавать, вы должны сами отвечать на вопросы.
Мамалыга закрыл лицо руками и зарыдал. Игорь, не глядя в сторону отца, сидел молча, с бледным от волнения лицом. Бахметьев заметил это и тоже молчал, стараясь разгадать, почему побледнел Игорь. Потому ли, что его нервы в конце концов не выдержали и ему стало жаль отца, или потому, что в эти минуты он опасался потерпеть неудачу в попытке свалить на старика часть собственной вины. В сущности, этот вопрос не был так уж важен для дела, но он занимал Бахметьева с психологической стороны: не каждый день случаются очные ставки между отцом и сыном, на которых один хочет изобличить другого…
Долгой была пауза, и каждый из этих трёх людей, сидевших в кабинете, думал о своём. Старику Мамалыге вспомнились вдруг молодость, которой не вернёшь, и Орёл, в котором он родился, учился, работал, а потом стал немецким прислужником и предателем. И ещё вспомнился ему тот далёкий и счастливый день, когда позвонили ему из родильного дома и поздравили с сыном. И вот через несколько дней он поехал за женой и сынишкой и вынес его на руках, а жена всё говорила: «Осторожнее, не оступись, уронишь маленького»… А он отвечал ей: «Что ты, не уроню!» — но действительно боялся уронить, и в ногах не было крепости, и почему-то дрожали руки, и он очень боялся, что это заметит молодая жена. А потом — Игорьку было уже пять лет — поехали они как-то летом в тургеневское Лутовиново, долго бродили по аллеям парка, сидели у дуба, который так любил Иван Сергеевич, ходили по комнатам музея, разглядывая письма, пожелтевшие от времени, старинные миниатюры на стенах и стол, за которым были написаны «Записки охотника».
Игорёк, мягко топая ножками, всё спрашивал: «А это что?», «А кто этот дядя?», «А это почему?» — и, не дожидаясь ответа, задавал следующий вопрос. Какой вопрос он задаст теперь, на этой страшной очной ставке с отцом, которую сам потребовал, да, да, сам!..
И ещё вспомнилось старику Мамалыге, как тогда, в одной из комнат тургеневского дома в Лутовинове, прочёл он слова: «Россия без каждого из нас обойтись может, но никто из нас без неё не может обойтись. Горе тому, кто это думает, двойное горе тому, кто действительно без неё обходится»…
Ещё тогда, много лет тому назад, запомнились ему эти вещие тургеневские слова, и вот теперь, на закате лет, после всего, что случилось за эти годы, он ясно видит стену, на которой висела карточка с этими словами, написанными тушью. Почему он не помнил об этих словах в тот чёрный год, когда пошёл служить в «русскую полицию»? А ведь всё, решительно всё, что происходило все эти годы: и бегство по чужим, неприветливым немецким городам, и бараки, в которых приходилось ютиться, и презрительные окрики Гревса, и хамство Пивницкого, и помещение сына в лагерь для провокации и предательства, а потом отправка в Москву для шпионажа, и сын, сидящий теперь напротив него и кричащий ему в лицо: «Это он из меня шпиона сделал!» — всё это подтверждает вещие слова Тургенева — «двойное горе тому, кто действительно без неё обходится»…
Наступила расплата за то, что он, русский человек, посмел забыть об этих словах!..
— Итак, Мамалыга, вы подтверждаете или отрицаете показания своего сына? — донёсся вдруг спокойный голос Бахметьева.
Старик Мамалыга поднял голову, будто очнувшись, и ответил на заданный ему вопрос довольно странно:
— Да, да… он был прав… Двойное горе тому, кто действительно без неё обходится…
— Кто был прав? — спросил Бахметьев.
— Он… Иван Сергеевич Тургенев… — пробормотал Мамалыга и, неожиданно захрипев, с остановившимися глазами медленно сполз со стула.
Доктор Али Хаджар
На последнюю радиограмму Грейвуда Маккензи ответил, что по приказанию шефа вылетает в Нюрнберг с «новым вариантом».
Получив это сообщение, Грейвуд четырхнулся: что это за новый вариант, кмкие ещё идеи пришли в голову шефу и этому кретину Маккензи?
Грейвуд провёл бессонную ночь, ломая голову над вопросом: зачем и для чего прилетает Маккензи? Он строил всевозможные предположения, но менее всего могло ему прийти в голову то, в связи с чем прилетел Маккензи.
Ещё на аэродроме Маккензи, только выйдя из самолёта и поздоровавшись с Грейвудом, многозначительно произнёс:
— Ну, могу вас поздравить, милейший Грейвуд, я привёз вам приятные новости…
— О чём идёт речь, генерал? — не очень радостно спросил Грейвуд, зная, что Маккензи имеет привычку сообщать неприятности с самым радостным видом.
— Потом, потом, не всё сразу. Сначала поужинаем, а затем я всё вам расскажу… Будете довольны!..
У Грейвуда ёкнуло сердце.
Уже на вилле, с аппетитом поужинав, Маккензи закурил сигару и, плотно притворив дверь, весело сказал:
— Ну, старина, вы так славно меня накормили, что больше не стану вас мучить. Слушайте меня внимательно…
— Я всегда внимательно слушаю вас, генерал.
— Принято решение — вы поедете в Москву для руководства всей операцией. Рассчитывать на одного Крашке глупо. Здесь нужны вы, с вашим опытом и талантом подлинного разведчика…
— В Москву?! — почти с отчаянием воскликнул Грейвуд. — Я ничего там не забыл!.. Зачем мне туда ехать?
Маккензи улыбнулся.
— Что с вами, парень? — произнёс он. — Не слышу энтузиазма в вашем голосе… Вам оказывается величайшее доверие… Вам даётся ответственнейшее поручение… На вашем месте я пришёл бы в восторг!.. Вам можно только позавидовать…
— Под какой крышей я туда поеду? — уныло спросил Грейвуд. — Всё не так просто, как вам кажется, генерал. Надеюсь, что мне будет обеспечена, по крайней мере, дипломатическая неприкосновенность?
— Это вас только свяжет, — быстро ответил Маккензи. — Есть гораздо лучший вариант…
— Именно?
— Вы поедете как иранский хайямовед доктор Али Хаджар.
— Хайямовед? Что это такое?
— Специалист по Омару Хайяму. Был такой великий персидский поэт. Всего восемьсот с лишним лет тому назад. В Москве будет конгресс хайямоведов. Мы вспомнили, что вы много лет работали в Иране и хорошо знаете язык. Готовьте речь для выступления — вас будут слушать хайямоведы всего мира…
— Позвольте, я не настолько знаю Хайяма, чтобы выступать, — с отчаянием воскликнул Грейвуд.
— Зато у вас смуглая кожа и знание языка, — ответил Маккензи. — Я, например, изучил Льва Толстого в пять дней. Так это же всё-таки граф Толстой, а не какой-то перс, которого, может быть, вообще не существовало…
— Не знаю, право, — бормотал Грейвуд. — Речь на конгрессе, перед хайямоведами всего света… Это так ответственно…
— Ну и что? — рассмеялся Маккензи. — Чем больше глупостей вы там наговорите, тем больше шансов на то, что вас признают выдающимся специалистом по Омару Хайяму!.. Главное, старайтесь, чтобы вас нельзя было понять… Тогда успех обеспечен!..
Маккензи захохотал, затянулся дымом сигары и благодушно добавил:
— Поди, разберись через восемьсот лет!.. Короче, собирайтесь в путь, парень!.. От души вам завидую… А речь вам помогут составить, я уже дал задание…
***
«Приятные новости», привезённые генералом Маккензи, свалились на Грейвуда, как снег на голову. Он снова провёл бессонную ночь, размышляя по поводу предстоящей и, к несчастью, явно неминуемой поездки в Москву.
Грейвуд хорошо понимал, что решение об этой поездке окончательно и избавиться от неё невозможно. Теперь надо было тщательно, во всех деталях, обдумать, что сделать для того, чтобы эта поездка благополучно закончилась. Конечно, он предпочёл бы выехать в Москву с дипломатическим паспортом, что обеспечивало бы его неприкосновенность. Но, с другой стороны, он понимал, что по-своему прав и Маккензи, заявивший, что дипломатический паспорт только свяжет Грейвуда. Что и говорить, в оперативном отношении было гораздо выгоднее появиться в Москве в качестве одного из многочисленных делегатов конгресса. Грейвуд действительно свободно владел фарсидским языком и с этой точки зрения не беспокоился за свой доклад. Он достаточно много лет прожил в Иране, где даже подвизался в качестве шейха, ни у кого не вызывая подозрений.
Но не менее важно было обдумать, где, когда и как организовать встречи с Игорем Мамалыгой и Крашке. Грейвуд имел представление о советской контрразведке и очень боялся её. Кроме того, поездка, совершённая им в своё время в Дебице, где он встречался с несколькими советскими людьми, и в частности, с конструктором Леонтьесым, также беспокоила его: а вдруг, чисто случайно, кто-гибудь из этих людей встретит его в Москве и сразу узнает? Вот почему Грейвуд решил отпустить усы, которых у него не было при поездке в Дебице, и вообще, по возможности, хоть немного изменить свою внешность.
Кроме того, надо было подумать о том, кого оставить вместо себя на нюрнбергской вилле. Перебрав мысленно нескольких своих работников, Грейвуд остановился на майоре Уолтоне, который, во-первых, был более или менее в курсе всей операции, а во-вторых, отличался достаточным опытом и сообразительностью. Правда, Грейвуд знал, что майор большой любитель женщин, и с этой точки зрения в какой-то мере было рискованным оставлять его вместе с фрейлейн Эрной, которой Грейвуд всё ещё дорожил. Поэтому на всякий случай Грейвуд решил предоставить фрейлейн Эрне на время своего отсутствия отпуск, отправив её к родителям.
На следующий день за утренним завтраком Грейвуд предложил генералу Маккензи кандидатуру Уолтона, и Маккензи сразу принял её. Уолтон был вызван из Берлина, и Грейвуд в течение двух дней ввёл его в курс дел, после чего вылетел из Нюрнберга.
Для большей достоверности «легенды» с иранским доктором Али Хаджаром Грейвуд решил сначала отправиться в Тегеран и уже оттуда выехать на конгресс в Москву.
Так он поступил, и за два дня до открытия в Москве конгресса, посвящённого Омару Хайяму, прилетел из Тегерана в столицу Советского Союза.
Его, как всех других делегатов конгресса, встретили тепло и поместили в отеле «Националь», где почти целый этаж был занят делегатами конгресса, прибывшими почти из всех стран мира.
За это время Грейвуд проштудировал литературу о великом персидском поэте, выучил на память много его стихов и, познакомившись со своими коллегами по конгрессу, мог теперь с учёным видом говорить с ними о биографии и творчестве Омара Хайяма.
Внешность и чисто восточная вежливость Грейвуда, отличное знание фарсидского языка, красная феска, в которой он обычно появлялся, и даже янтарные чётки, которые он всегда перебирал, а также вовремя и умело вставляемые в разговоры замечания о творчестве Омара Хайяма вызвали к Грейвуду уважительное отношение со стороны делегатов конгресса.
Помимо французских, британских, бельгийских, голландских и других делегатов конгресса, Грейвуд познакомился и с американскими делегатами. Их было трое, и все они являлись подлинными знатоками древневосточной поэзии, энтузиастами своего дела, и в свою очередь с интересом слушали, как выразительно читает в подлиннике стихи Омара Хайяма доктор Али Хаджар.
Кстати, как это ни странно, на конгрессе Иран представлял только он один. Дело в том, что, благодаря принятым американской разведкой мерам, иранский делегат, который должен был поехать на конгресс, в последний момент был задержан под благовидным предлогом в Ширазе, где он постоянно жил и работал, и таким образом выехать на конгресс не смог. Разумеется, этот подлинный иранский хайямовед меньше всего мог предположить, что задержка с его выездом в Москву вызвана тем, что туда поедет доктор Али Хаджар.
Как и все иностранные делегаты, Грейвуд оценил великолепную организацию конгресса, гостеприимство советских ирановедов и абсолютную свободу, которая была предоставлена делегатам. Они могли в свободные от конгресса часы осматривать Москву и её окрестности, знакомиться с музеями, посещать театры и клубы, и были во всех отношениях предоставлены самим себе.
В первые дни Грейвуду ещё казалось, что за участниками конгресса ведётся какое-то наблюдение, но потом, приглядевшись, он увидел, что его опасения напрасны и что ни за ним, ни за другими делегатами конгресса никакого наблюдения нет.
Убедившись в этом, Грейвуд решил встретиться со своими подопечными. Ещё перед выездом в Москву он договорился с генералом Маккензи, что никакой связи с работниками американской разведки, находящимися в Москве, как и с американским посольством, он иметь не будет, и теперь, очень довольный своим решением, Грейвуд начал действовать самостоятельно.
Однажды под видом загородной прогулки он поехал в Малаховку, где, соблюдая все предосторожности, встретился с Крашке.
Увидев полковника Грейвуда, Крашке на некоторое время лишился дара речи — настолько это было для него неожиданно. Грейвуд с трудом его успокоил и начал выяснять положение дел.
Крашке рассказал Грейвуду о своих встречах с Игорем и о том, что, по его мнению, пока всё идёт благополучно.
Было условлено, что через пару дней Крашке организует встречу Грейвуда с Игорем.
Доклад Крашке ещё больше успокоил Грейвуда.
Стоял весёлый солнечный день, и Крашке решил проводить Грейвуда до станции, но Грейвуд предусмотрительно отказался, решив, что на всякий случай надо соблюдать максимальную осторожность.
Они вышли из дачи, в которой жил Крашке, и простились у калитки. На улице посёлка никого не было — это порадовало Грейвуда.
— Здесь очень мило, — сказал он.
— Да, здесь спокойно, — согласился Крашке. — И абсолютная уверенность, что за тобой никто не следит.
Но Крашке ошибался: именно в тот момент, когда он и Грейвуд стояли за распахнутой калиткой, их сфотографировал проживавший напротив седоусый Семён Петрович, осуществлявший наблюдение за Крашке.
И на следующий день на столе Бахметьева лежал фотоснимок, сделанный при помощи сильного телеобъектива.
Установить личность человека, который посетил Крашке, не составляло большого труда. Теперь не оставалось сомнений: полковник Грейвуд находится в Москве.
Крах доктора Али Хаджара
Бахметьев связался по телефону с Ларцевым и они решили, что Грейвуда необходимо арестовать.
Это произошло в тот самый день, когда Грейвуд выступал на конгрессе хайямоведов.
В Колонном зале Дома союзов, где происходил конгресс, было много публики. Грейвуд стоял на трибуне и очень выразительно читал свой доклад о жизни и творчестве Омара Хайяма. Он произносил его на фарсидском языке и по ходу доклада цитировал стихи великого поэта. Грейвуд отлично читал стихи и, хотя многие из сидевших в зале не знали фарсидского языка, но музыка стихов Омара Хайяма доходила до них, и Грейвуд имел успех.
Закончив свой доклад под аплодисменты, доктор Али Хаджар спустился с трибуны и вышел в фойе Колонного зала покурить.
К нему сейчас же подошли двое молодых людей.
— Позвольте вас поздравить с отличным докладом, мистер Грейвуд, — сказал один из них.
Грейвуд вздрогнул.
— Простите, я доктор Али Хаджар, — сказал он.
— Как доктор Али Хаджар, — улыбнулся один из молодых людей, — вы уже блистательно закончили свою задачу. А теперь, мистер Грейвуд, пройдёмте с нами.
Когда Грейвуда доставили к Бахметьеву, он категорически заявил, что является доктором Али Хаджаром, не имеет ни малейшего понятия о каком-то Грейвуде и считает, что задержан по недоразумению.
— Я буду вынужден жаловаться в президиум конгресса и в наше посольство, — сказал Грейвуд.
— Это ваше право, — ответил Бахметьев. — И больше того: мы сами пригласили сюда представителя иранского посольства, которому хотим вас предъявить, так что вы сможете заявить свою жалобу ему непосредственно.
И в самом деле, в кабинет Бахметьева тут же вошёл представитель консульского отдела иранского посольства, которому Бахметьев предъявил Грейвуда и его паспорт.
Представитель посольства, внимательно рассмотрев паспорт, сказал:
— Господин посол поручил мне заявить, что по наведённым им справкам доктор Али Хаджар в Тегеране неизвестен, и о нём мы ничего сообщить не можем. Что же касается паспорта, то он является фальшивым, хотя и сделан довольно искусно. Во всяком случае, я запрошу Тегеран и окончательно уточню, был ли выдан иранскими властями этот паспорт на имя доктора Али Хаджара.
На следующий день иранское посольство прислало официальное письмо, что такого паспорта иранские власти никогда не выдавали. Когда Бахметьев показал Грейвуду это письмо, тот улыбнулся и сказал:
— Фальшив не паспорт, фальшиво утверждение иранского посольства. Я не могу отвечать за действия, вызванные чувством мести.
— Как прикажете вас понимать? — спросил Бахметьев.
— Очень просто: я был в оппозиции к шахскому правительству, и теперь мне за это мстят, — с достоинством ответил Грейвуд. — Прошу занести это в протокол.
— Пожалуйста, — ответил Бахметьев и записал заявление Грейвуда в протокол.
После этого Грейвуду была дана очная ставка Крашке.
Как только Крашке вошёл в кабинет и увидел сидящего перед столом Бахметьева Грейвуда, он воскликнул.
— Мистер Грейвуд! Мы оба погибли!..
— Что это за тип? — обратился Грейвуд к Бахметьеву. — Я не имею никакого понятия об этом человеке.
Крашке ухмыльнулся:
— Ах, мистер Грейвуд, — с горечью произнёс он, я тоже с удовольствием не имел бы ни малейшего понятия о вас! К сожалению, мы оба безнадёжно провалились, и я рекомендую вам, не теряя времени, признаться во всём.
— Я просил бы освободить меня от нравоучений этого подозрительного субъекта, — снова обратился Грейвуд к Бахметьеву. — Повторяю: он мне решительно неизвестен, и я считаю его наёмным провокатором. Так и прошу зафиксировать в протоколе.
Вслед за Крашке в кабинет Бахметьева ввели Игоря Мамалыгу. Он тоже сразу опознал Грейвуда.
— Да, это полковник Грейвуд, — сказал Игорь. — Именно он направил меня под видом Коли Леонтьева в Москву. Именно он инструктировал меня перед выездом.
— Именно он рассказывает сказки Шехерезады, — улыбнулся Грейвуд. — Стоит посмотреть на этого мальчишку, чтобы убедиться, что нельзя верить ни одному его слову. Господин следователь, на каких странных свидетелей вы опираетесь!..
Игорь Мамалыга искренне рассмеялся.
— Хорош гусь! — воскликнул он. — Нет, мистер Грейвуд, любишь кататься, люби и саночки возить! Вам уже не отвертеться.
— Какое катанье? Какие саночки? — скорбно вздохнул Грейвуд. — Я решительно не понимаю, что здесь происходит!..
И тут же, приняв молитвенную позу, он забормотал:
— Нет бога, кроме бога, а Магомет его пророк.
Бахметьев с интересом наблюдал за ним. Было совершенно очевидно, что полковник Грейвуд ни при каких обстоятельствах не станет давать показаний и будет утверждать, что он — доктор Али Хаджар.
Об этом Бахметьев и сообщил по телефону Ларцеву, находящемуся в Берлине.
— Надо доставить этого прохвоста в Берлин, и как можно скорее, — сказал Ларцев. — Мы здесь дадим ему новые очные ставки, и, кроме того, нам помогут американские газеты.
— Американские газеты? — удивился Бахметьев.
— Да, да, именно, — засмеялся Ларцев. — Дело в том, что, узнав об аресте доктора Али Хаджара, наши бывшие союзники на всякий случай придумали хитроумный номер: они поместили в газетах некролог в связи с гибелью полковника Грейвуда при авиационной катастрофе. Видимо, они рассчитывали на то, что Грейвуд ни за что не признается, во-первых, и что такой некролог поможет им отказаться, в случае чего, от Али Хаджара, во-вторых. Задумано, что и говорить, недурно, но я надеюсь, что это даст обратный результат… В общем, присылай этого Грейвуда, тем более что он нам требуется для главной задачи, которая пока всё ещё не выполнена.
Под главной задачей Ларцев имел в виду необходимость добиться освобождения советских юношей и девушек из Ротенбургского лагеря и возвращения их на Родину.
По этому вопросу шла длительная переписка между советскими и американскими властями в Берлине. Сначала американцы вообще отрицали наличие такого лагеря. Затем, будучи припёрты к стене, они заявили, что не могут вернуть на Родину эту молодёжь, потому что будто бы она не хочет возвращаться, и «принуждение их к этому противоречит нормам морали и права в нашем понимании».
В связи с этими переговорами состоялись даже две встречи Малинина с генералом Маккензи. Они познакомились ещё в первые дни после капитуляции Берлина.
Теперь, добиваясь освобождения наших ребят, Малинин нанёс визит генералу Маккензи. Генерал встретил его с распростёртыми объятиями.
— О, полковник, как я счастлив вас видеть! — кричал Маккензи. — Вы помните эти незабываемые дни?!
— Ну как же, как же, генерал, — ответил Малинин. — Как вы себя чувствуете?
— К сожалению, в наши годы, полковник, опасно задавать такие вопросы, — ответил Маккензи. — То мучает бессонница, то сердцебиение, то дьявольски болит голова. А вы, полковник, прекрасно выглядите.
— Не жалуюсь, — улыбнулся Малинин.
Обняв Малинина за плечи, Маккензи повёл его к столу и стал угощать виски, сигарами и кофе.
— Прошу вас, прошу вас, дорогой коллега, — суетился Маккензи. — Вот это шотландское виски имеет отличный вкус. Правда, ему далеко до вашей превосходной водки, которой вы меня, помните, угощали в мае сорок пятого года. Но всё-таки попробуйте.
И, подняв рюмку, Маккензи с наигранным пафосом произнёс:
— За дружбу солдат! За братство по оружию! За нашу и вашу победу, коллега.
После протокольного «обмена любезностями» Малинин сказал:
— А я приехал к вам, генерал Маккензи, по очень серьёзному вопросу.
— Я рад слушать вас по любым вопросам, — галантно улыбнулся Маккензи. — О чём идёт речь, коллега?
— Речь идёт о том, что американские военные власти незаконно задерживают многих советских юношей и девушек в Ротенбургском лагере, — подчёркнуто сухо ответил Малинин.
Маккензи сделал удивлённое лицо.
— Ротенбургский лагерь? — спросил он. — Впервые слышу.
— Вот уже несколько месяцев, как мы ставим об этом вопрос перед американскими военными властями и не можем добиться ясного ответа.
— Весьма прискорбно, — вздохнул Маккензи. — Однако, дорогой коллега, при чём тут мы с вами? Какое отношение я имею к этим вопросам? Мы оба — контрразведчики и выполняем общую задачу: розыск немецких военных преступников, пресечение деятельности сторонников нацизма. Ведь мы же союзники, чёрт возьми!
— Тем более загадочна линия американских властей, — улыбнулся Малинин. — Почему американские военные власти насильственно задерживают советских юношей и девушек? И напрасно, генерал Маккензи, вы делаете вид, что не знаете об этом. Мне точно известно, что вы вполне в курсе этого дела.
— Я слышал, что многие советские юноши и девушки не хотят возвращаться в Советский Союз, — ответил Маккензи, — и мы, естественно, не можем их принуждать, но повторяю, что никакого отношения к этим вопросам я не имею и они не входят в мою компетенцию, как, полагаю, не входят и в вашу, полковник Малинин. И, признаться, удивлён, что вы занимаетесь этим. Какое отношение могут иметь эти перемещённые лица к вашей прямой деятельности разведчика?
И Маккензи, очень довольный таким поворотом дела, уставился прямо в лицо Малинину.
Малинин спокойно выдержал его взгляд.
— Я думаю, генерал Маккензи, — медленно протянул он, — что и этот вопрос вам достаточно ясен, как ясен и мне. И если я занимаюсь им, то не по нашей, а по вашей вине, генерал Маккензи… Надеюсь, вы меня понимаете?
— Увы, нет, — вздохнул Маккензи. — Я не могу понять, почему вопрос о перемещённых лицах может иметь отношение к нашей с вами служебной деятельности. Впрочем, из чувства глубокой симпатии к вам я обещаю выяснить, в чём причины задержки возвращения этих юношей и девушек на Родину, и поставить вас об этом в известность.
***
Сразу после того, как Грейвуда на самолёте доставили в Берлин, Малинин начал его допрашивать. Ларцев, как это было условлено заранее, вошёл в кабинет Малинина через несколько минут после начала допроса.
Подойдя к Грейвуду, он сказал:
— Здравствуйте, полковник Грейвуд. Рад вас видеть. Надеюсь, вы меня помните?
Грейвуд улыбнулся:
— Как можно помнить человека, которого видишь впервые? — сказал он. — Вы меня с кем-то путаете, полковник.
— Вы всё ещё продолжаете играть комедию? — ответил Ларцев. — Ну что ж, продолжайте, если вам так нравится. — И он сел рядом с Малининым.
— Итак, — продолжал допрос Малинин, — ещё в Москве, на очной ставке с вами, Крашке заявил, что вы — полковник Грейвуд, направивший его со шпионским заданием в СССР. Так?
— Да, так он сказал, — согласился Грейвуд. — На самом деле не так.
— Но представитель иранского посольства, которому вы были предъявлены, отказался от вас и заявил, что ваш паспорт подложный. Так?
— Да, так он заявил. На самом деле не так. Я уже дал объяснения по этому вопросу.
— Так вот, мы доставили вас в Берлин для новых очных ставок. Поэтому я спрашиваю в последний раз: признаёте ли вы, что являетесь полковником Грейвудом?
— Ни в коем случае, — улыбнулся Грейвуд, продолжая перебирать свои чётки, которые, по его просьбе, были ему оставлены вместе с красной феской.
Малинин нажал кнопку. Вошёл адъютант.
— Пригласите Наташу Серову, — сказал Малинин. И, обращаясь к Грейвуду, спросил: — Вам знакома эта фамилия, Грейвуд?
— Грейвуду она может быть знакома, мне — нет.
— Это девушка, которая вместе с другими комсомольцами из Ротенбургского лагеря содержалась по вашему приказанию в подвале и сумела с ними бежать оттуда.
— Какой подвал? Какая девушка, какие комсомольцы? — пожал плечами Грейвуд.
В кабинет вошла совсем ещё молоденькая, заметно взволнованная девушка.
— Садитесь, Наташа, — обратился к ней Малинин. — Вам известен этот человек?
— Да, к несчастью… это полковник Грейвуд. По его приказанию я и мои товарищи были арестованы.
— Обвиняемый Грейвуд, — произнёс Ларцев, — вас опознаёт уже третий свидетель. Не хватит ли валять дурака?
Грейвуд опять ухмыльнулся:
— Если меня опознает даже сто ваших свидетелей, то от этого Хаджар не превратится в Грейвуда, — сказал он. — Кроме того, эта свидетельница — женщина. А в коране сказано: «И лучшая из них — тоже змея».
И снова начав перебирать чётки, он забормотал:
— Нет бога, кроме бога, и Магомет его пророк.
— Вы свободны, Наташа, — обратился Малинин к девушке, и она вышла из кабинета.
— Послушайте, Грейвуд, — снова начал Ларцев, — ссылки на Магомета не имеют юридического значения, тем более что при судебно-медицинском осмотре вы оказались, увы, не правоверным.
Грейвуд улыбнулся:
— Эта мелкая деталь, господа, ещё не повод для обвинения в шпионаже, — произнёс он. — Единственный вывод, который вы можете из этого сделать, — это то, что мой отец был плохим мусульманином. Если это наказуемо по советским законам — судите его, а не меня.
— О, вы ещё в состоянии острить, — сказал Ларцев. — Ну что ж, если вам не нравятся женщины-свидетели, пойдём вам навстречу. Мы предъявим вас сейчас господину Винкелю, которого мы пригласили из американской зоны.
Тут Малинин нажал кнопку звонка, и в кабинет вошёл Винкель.
— Честь имею, господа, — галантно произнёс он. — Чем могу служить?
— Господин Винкель, вам известен этот человек? — спросил Малинин.
Винкель повернулся к Грейвуду и радостно воскликнул:
— Всевышний, кого я вижу?! Мистер Грейвуд, такая приятная неожиданность!
— Впервые вижу этого человека, — развёл руками Грейвуд.
— Что? Простите, но ещё ни у кого не было оснований отказываться от знакомства с фирмой Винкель… Всегда вовремя платил по векселям и…
— Он сумасшедший или провокатор, — перебил Винкеля Грейвуд.
— Что! — воскликнул Винкель. — Дорогой — вы действительно дорогой, вы недёшево мне обошлись, но я заплатил вам всё до последнего пфеннига, рассчитался с вами как джентльмен.
— Я не Грейвуд, вы меня с кем-то путаете!..
— Путаю? Когда надо было получать деньги, вы не считали, что я путаю. Что здесь происходит, господа?
— Мистер Грейвуд уверяет, — ответил Ларцев, — что он иранский доктор Али Хаджар, специалист по персидской поэзии.
— Остановитесь, я могу умереть от смеха! — воскликнул Винкель. — Его поэзия обошлась мне в десятки тысяч марок! Как вам нравится такая поэзия, господа? Это скорее похоже на мелодраму! Разрешите мне уйти!
— Вам придётся подождать, пока будет готов протокол, — ответил Малинин.
— Протокол? Я терпеть не могу протоколов, господа.
— Вы подпишете протокол как свидетель, — сказал Малинин.
— Свидетель? Господа, есть слова, от которых я бегу, как от чумы. Например: «наш великий фюрер», «дранг нах остен», «мировое господство» и «реванш»… Слово «национализация» тоже не украшает жизнь, между нами говоря… но слово «протокол» безусловно укорачивает её, как я давно заметил.
— Но вы свидетель, вам придётся подписать, — улыбнулся Малинин.
Винкель подошёл к Грейвуду:
— Вот видите, мистер Грейвуд, из-за того, что вы, американский полковник, морочите головы этим советским полковникам, вашим бывшим союзникам, мне, вашему бывшему противнику, приходится подписывать протокол… как свидетелю… Я далёк от политики, господа, но хочу на прощанье дать вам один совет, мистер Грейвуд, как ваш бывший компаньон…
— Я не был вашим компаньоном! — закричал Грейвуд.
— Нет, фактически были, но уже не будете, судя по протоколу, который мне предстоит подписать. История опять повторяется, мистер Грейвуд! Гитлер полез в Россию, и это кончилось протоколом о капитуляции Германии. Теперь полезли вы, и это кончается протоколом, который я подпишу как свидетель. Не пора ли прекратить эту дурацкую погоню за протоколами?.. Не пора ли всем подписать единственный и последний протокол — ни за что и ни к кому не лезть, особенно не лезть в Россию, поскольку это всегда кончается протоколом… Я буду ждать в приёмной, господа.
Когда Винкель вышел, Малинин обратился к Грейвуду:
— Ну, что вы скажете о свидетеле-мужчине?
Грейвуд снял с головы феску, бросил её на стол и, встав, произнёс подчёркнуто твёрдо:
— Господа, мы все — седые люди, полковники. Мы отлично понимаем друг друга. Если даже сам американский президент опознает меня как Грейвуда, я буду это отрицать! Бессмысленно тратить время на эти очные ставки, джентльмены!
— Да, я тоже так думаю, Грейвуд, — сказал Ларцев. — Мы действительно с первого момента прекрасно понимаем друг друга. Вот только одного я не могу понять: у вас в Чикаго семья — мать, жена, двое детей. Через несколько дней после того, как вас арестовали в Москве, в американских газетах был опубликован некролог.
— Некролог? — удивился Грейвуд. — О ком?
— О полковнике Джеймсе Грейвуде, погибшем при авиационной катастрофе. Вот американские газеты с этим некрологом, Грейвуд.
И Ларцев протянул Грейвуду газету.
Грейвуд с улыбкой прочёл некролог.
— Даже семьи вашей не пожалели, Грейвуд, — заметил Малинин.
— Вы любите свою мать? — спросил Ларцев.
— Очень, — ответил Грейвуд.
— Тогда прочтите: этот некролог убил вашу мать… — и Ларцев протянул Грейвуду другую американскую газету, в которой было опубликовано траурное извещение о смерти его матери.
Грейвуд судорожно схватил газету, прочёл извещение. Лицо его исказилось, он опустил голову.
В комнате было очень тихо, и только низкий бой башенных часов неожиданно донёсся с улицы и медленно расходился под потолком.
— Проклятье!.. Мерзавцы!.. — пролепетал Грейвуд.
— Я понимаю вас: мать есть мать, — тихо сказал Ларцев.
— Негодяи! Изверги! — с полными слёз глазами бормотал Грейвуд.
В этот момент в кабинет вошёл адъютант Малинина и шепнул ему:
— С прощальным визитом приехал генерал Маккензи.
Ларцев и Малинин переглянулись, а потом Ларцев снова обратился к Грейвуду:
— Среди лиц, подписавших некролог, ваш старый друг генерал Маккензи.
— Друг, будь он проклят! — воскликнул Грейвуд. — С каким наслаждением я плюнул бы ему в лицо!.. Ведь это он послал меня в Москву… Он!.. Я не хотел, поверьте…
— Я знаю, я всё знаю, Грейвуд, — ответил Ларцев. — Кстати, генерал Маккензи сейчас явился сюда с прощальным визитом. Он возвращается в Америку. Я могу устроить вам встречу с ним, если вы этого, конечно, хотите.
— Хочу!..
— В таком случае, сначала пройдём в другую комнату, — сказал Ларцев.
Грейвуд встал и вместе с Ларцевым вышел из кабинета.
Вслед за ними, в другую дверь, вышел Малинин, чтобы встретить Маккензи. Через минуту Маккензи и Малинин вошли в кабинет. Маккензи был в парадной форме, при всех регалиях.
Адъютант вкатил вслед за ними столик с вином и закусками. И в этот момент из другой двери в кабинет вошёл Ларцев.
— Здравствуйте, джентльмены! — весело сказал Маккензи. — Я всегда рад вас видеть.
— Мы тоже, генерал Маккензи, — ответил Малинин. — Прошу садиться.
— Если НКВД говорит — садитесь, как-то неудобно стоять… — усмехнулся Маккензи и сел к столу. — Коллеги, друзья, я хочу сегодня, под этим серым берлинским небом, видевшим нашу общую победу, выпить за братство по оружию, за дружбу, господа!
— Прекрасный тост, — произнёс Лардев.
Все выпили.
После небольшой паузы Малинин сказал:
— Генерал, самые лучшие тосты не могут ответить на ряд вопросов, возникших в последнее время.
— Какие вопросы, полковник? — насторожился Маккензи.
— Вы ссылались на то, что юноши и девушки, которые содержатся в Ротенбургском лагере, будто бы не хотят возвращаться домой.
— А что делать — они действительно не хотят, — ответил Маккензи.
— Однако некоторое время тому назад несколько юношей и девушек из Ротенбургского лагеря бежали и явились к нам, — продолжал Малинин. — Правда, по их показаниям, последнее время они находились под арестом в подвале какой-то виллы в Нюрнберге по приказанию полковника Грейвуда. И вот они удостоверяют, что заявление американских властей о нежелании заключённых Ротенбургского лагеря возвратиться на Родину не соответствует истине.
— Сомневаюсь, — протянул Маккензи. — Что же касается упомянутого вами полковника Грейвуда, то он скончался совсем недавно.
— Как вы сказали? — спросил Малинин.
— Я сказал, что он скончался. Умер в результате несчастного случая, о чём я весьма скорблю. Это был мой старый друг…
— Я могу вас утешить, генерал Маккензи, — улыбнулся Ларцев. — Полковник Грейвуд жив и здоров. Он арестован нашими органами безопасности в Москве.
— К сожалению, вы заблуждаетесь, — возразил Маккензи.
— Это вы заблуждаетесь, генерал Маккензи, — снова улыбнулся Ларцев. — Грейвуд арестован за шпионаж. Он приехал в Москву под именем иранского филолога, доктора Али Хаджара, и даже выступал на конгрессе хайямоведов с докладом о творчестве Омара Хайяма.
Маккензи покачал головой.
— Насколько я знал полковника Грейвуда, он был весьма далёк от поэзии вообще, и персидской в частности, — сказал он.
— Да, но иранский доктор Али Хаджар сам признался в том, что он — полковник американской разведки Грейвуд, и он, кроме того, утверждает, что в Москву его направили именно вы со специальным шпионским заданием…
Маккензи весело расхохотался:
— Этот доктор с равным основанием может утверждать, что он — последний русский царь и что в Москву его послал наш покойный президент Вильсон, ха-ха! Господа, меня, признаться, гораздо больше занимает другой вопрос…
— Именно? — спросил Малинин.
— Я хотел бы выпить ещё одну рюмку этой превосходной водки, джентльмены.
— О, пожалуйста, — радушно ответил Малинин. — На этой почве между нами не возникнет недоразумений. — И он снова налил в рюмки вино.
Маккензи встал.
— Я пью за то, чтобы у нас вообще не было никаких недоразумений, — произнёс он. — Господа, я обещаю вам срочно разобраться в вопросе об этих перемещённых лицах.
— Принимаем ваше обещание к сведенью, — сказал Малинин.
— Вернёмся, однако, к полковнику Грейвуду, — продолжал Ларцев. — По нашим законам всякий арестованный имеет право на защиту.
— По нашим тоже, — заметил Маккензи.
— Тем лучше. Мы хотим дать вам возможность встретиться, — и Ларцев нажал кнопку звонка.
— Позвольте, но ведь он, как вы сказали, в Москве! — удивился Маккензи.
— Он был арестован в Москве, — уточнил Ларцев, — но сейчас он доставлен в Берлин.
Маккензи поморщился.
— А, собственно, зачем, с какой целью? — произнёс он. — Поскольку полковник Грейвуд погиб при авиационной катастрофе…
В этот момент дверь распахнулась, и в кабинет вошёл Грейвуд. Подойдя к Маккензи, он громко произнёс:
— Здравствуйте, генерал Маккензи!
Маккензи повернулся к Грейвуду, посмотрел на него и спросил:
— Что это за перс? Кто это такой? Впервые вижу этого человека.
— Чего, к несчастью, я не могу сказать о вас, генерал Маккензи, — с яростью произнёс Грейвуд. — Как вы смели поместить этот некролог? Он убил мою мать! Это подлость!
— Господа, что это за субъект? — с наигранным удивлением обратился Маккензи к Ларцеву и Малинину.
— Это полковник Грейвуд, арестованный за шпионаж, — ответил Ларцев.
Маккензи вскочил и нарочито медленно протянул:
— Полковник Грейвуд погиб при авиационной катастрофе и его оплакивает вся наша стратегическая служба.
— Вы поторопились меня похоронить и объявить покойником, генерал Маккензи! — закричал Грейвуд. — Я не очень спокойный покойник, я покойник со странностями… Делая этот сатанинский ход, вы подумали о моей семье?
— Господа, я не желаю разговаривать с этим проходимцем! — в свою очередь закричал Маккензи.
Тут Грейвуд подошёл к Ларцеву и быстро произнёс:
— Господин полковник, на следствии мне были разъяснены мои процессуальные права, вытекающие из советских законов.
— Да, так у нас полагается, — ответил Ларцев.
— По моей просьбе, — продолжал Грейвуд, — мне дали в камеру стихи Омара Хайяма и ваш уголовно-процессуальный кодекс. Я с интересом изучаю то и другое. Статья двести шестая даёт мне право ходатайствовать о дополнении следствия…
— Верно, даёт, — согласился Ларцев.
— Так вот: я ходатайствую, чтобы мне дали возможность выступить на пресс-конференции и доказать, что я жив.
— Категорически возражаю!.. — воскликнул Маккензи.
— Возражаете? — спросил Малинин. — А собственно, на каком основании, генерал? Вы не процессуальная фигура в этом деле.
— В таком случае я заявляю официально, — вскипел Маккензи. — Человек выдающий себя за полковника Грейвуда, нам неизвестен и является самозванцем. Мы решительно отказываемся от него!
— Это ваше право, — произнёс Ларцев. — Потрудитесь, однако, зафиксировать свой отказ письменно. Прошу вас! — Ларцев протянул Маккензи большой блокнот.
— Охотно это сделаю, — ответил Маккензи и, сев к столу, начал быстро писать. Затем, повернувшись к Ларцеву и Малинину, он сказал:
— Я написал то, что сказал, и сказал то, что написал. А теперь позвольте проститься, господа. Как всегда, признателен за гостеприимство, всё было очень мило… за исключением встречи с покойным мистером Грейвудом.
Маккензи встал, подошёл вплотную к Грейвуду и, глядя ему прямо в глаза, добавил:
— Да, я не оговорился: вы действительно Грейвуд и действительно покойник. По крайней мере, для Америки.
Затем, приблизившись к Ларцеву и Малинину, Маккензи с усмешкой произнёс:
— Тем не менее, джентльмены, всё, что я написал, остается в силе. Мы отказываемся от Грейвуда, хотя бы потому, что сам он не сумел отказаться от себя. Как разведчики, вы должны меня понять. Игра есть игра, господа.
— Игра без правил, — заметил Ларцев.
— Да, но в этой игре и вы делали свои ходы, — ответил Маккензи.
— Да, делали, генерал Маккензи, — согласился Ларцев. — Но только игру эту начали вы, а не мы. Как разведчик, вы должны меня понять.
Маккензи рассмеялся, потом махнул рукой и, бросив «Имею честь!», быстро вышел из кабинета.
Выйдя из здания советской контрразведки и сев в свою машину, Маккензи сразу помчался к себе на виллу. Он был потрясён встречей с Грейвудом. Кто бы мог подумать, что такой старый разведчик, опытный человек, может сразу во всём признаться, вопреки всем правилам и традициям? Мало того, этот проклятый Грейвуд не только разоблачил самого себя, хотя обязан был упорно отрицать свою принадлежность к американской разведке, но ещё, кроме того, выдал самым наглым образом своего патрона, и притом ещё позволил себе орать на него в присутствии этих чекистов, чем, конечно, доставил им немалое удовольствие, будь они все прокляты!..
Как теперь быть, что делать, как информировать шефа, который и без того рвёт и мечет в связи с побегом комсомольцев и арестом Грейвуда?.. И, надо признать, что шеф прав. История получилась самая скандальная. Дело может дойти до президента, может попасть в газеты, Москва даже имеет основания выступить с нотой… какой чудовищный провал!..
Грейвуд разъярён тем, что некролог убил его мать. Правда, старухе и без того давно пора было отправиться на тот свет — ведь ей, как минимум, восемьдесят, — но если вся эта история получит огласку, неизбежен большой скандал…
Обуреваемый этими мыслями, Маккензи приехал к себе на виллу и стал обдумывать текст донесения, которое следовало немедленно отправить шефу. Как всегда в таких случаях, он решил прежде всего выгородить себя и свалить всё на Грейвуда. Да, если бы Грейвуд был более осторожен в Москве, с ним бы ничего не случилось. Да, уже после ареста Грейвуда, если бы он вёл себя твёрдо и отрицал всё, чекисты ничего не смогли бы сделать, даже будучи убеждены в том, что Али Хаджар на самом деле полковник Грейвуд. Теперь же, после того, как он решительно во всём признался и выдал, судя по всему, многие секреты американской разведки, возникают совершенно необратимые последствия. Прежде всего, провалилась операция «Сириус» и теперь надо на время оставить в покое этого конструктора Леонтьева, хотя его работы представляют огромный интерес!.. Затем надо решить, как поступить с советскими юношами и девушками из лагеря в Ротенбурге. Отрицать после всего, что произошло, наличие этого лагеря или продолжать тупо твердить, что они будто бы сами не хотят возвращаться на Родину, уже невозможно. Более того, задержка возвращения всех этих лиц на Родину может теперь толкнуть советские власти на самые решительные действия, начиная с огласки всех обстоятельств довольно грязного дела. А это, без сомнения, нанесёт серьёзный удар по престижу США, особенно её разведки. Нет, видимо самое разумное — как можно скорее вернуть этих мальчишек и девчонок на родину, хотя, с другой стороны, вернувшись домой, они могут выступить с очень неприятными разоблачениями. Как быть тогда, и чем это чревато?..
Маккензи несколько раз переписывал своё донесение и, наконец, отправил его. Оно получилось чрезмерно длинным, но зато обстоятельным и, главное, ему, кажется, удалось выгородить себя из этой скандальной истории. По крайней мере, так ему казалось. Охарактеризовав Грейвуда как предателя и негодяя, Маккензи предложил вернуть питомцев Ротенбургского лагеря на Родину.
Передав шифровальщику текст донесения, Маккензи принял снотворное и лёг в постель. Увы, снотворное против обыкновения не помогало, и он долго кряхтел и ворочался, с волнением ожидая следующего дня, когда должен прийти ответ от шефа.
Но вот наступило утро, за ним день — ответа не было. По-видимому, дома совещались. И, может быть, советовались с Госдепартаментом и Пентагоном.
Наступил вечер. Маккензи слонялся из комнаты в комнату, не находя себе места. Самые чёрные предчувствия томили его. Сколько можно советоваться, в конце концов?! Что они там тянут, когда вопрос не терпит ни малейшего отлагательства?! Работает целый «мозговой трест», а толку никакого!..
В полночь ответ ещё не поступил. Маккензи, потеряв терпение, звонил через каждые полчаса в шифровальную, но слышал неизменный ответ: «Пока не поступило, генерал». Он швырял трубку и чертыхался, выкурил целую коробку сигар. Начала болеть голова. Заныло сердце. Ах, будь проклята эта работа, когда ничего нельзя предусмотреть и никогда не знаешь сегодня, что может случиться завтра!..
Наконец, около двух часов ночи, шифровальщик принёс ответ. Маккензи схватил трясущимися руками листок и прочёл:
«Генералу Маккензи — срочно.
Ваше сообщение чрезвычайно огорчительно. Попытки всё свалить на Грейвуда не снимают с вас личной ответственности, поскольку вы были командированы для руководства всей операцией. Идея направить Грейвуда в Москву принадлежит вам, равно как и предложение опубликовать некролог после его ареста. Вы даже не позаботились о том, чтобы доверительно предупредить его семью о том, что Грейвуд в действительности не погиб. По всем этим вопросам приказываю представить письменные объяснения. При создавшихся условиях мы вынуждены принять ваше предложение вернуть всех заключённых Ротенбургского лагеря на Родину. Однако предварительно вам надо самому выехать в лагерь, собрать заключённых и объявить им следующее: американские власти были введены в заблуждение русскими руководителями лагеря — Пивницким и другими, — которые утверждали, что заключённые не хотят возвращаться на Родину. Поэтому, исходя из обычных для нас норм гуманизма, мы не возвращали их на Родину. Теперь же, когда выяснилось, что они в действительности хотят вернуться на Родину, эта возможность им предоставляется. Вместе с тем, как выяснилось теперь, Пивницкий и другие нарушали нормы права и морали в обращении с заключёнными, вопреки инструкциям американских властей. За это они будут привлечены к строгой ответственности. Сделав это заявление, вы должны тут же, в присутствии заключённых, арестовать Пивницкого. Это заявление вы должны сделать в присутствии представителя советских военных властей, которого вам надлежит пригласить в лагерь. Во избежание осложнений, вам нужно заранее подготовить Пивницкого и его помощников, разъяснив им, что они в действительности ничем не рискуют и в дальнейшем получат другую работу. Пивницкий, конечно, должен публично признать свою вину, объяснив всё своей ненавистью к советскому строю. Затем произведите передачу заключённых советским властям в порядке, согласованном с нами».
Прочитав эту шифровку, Маккензи немного успокоился. Правда, она начиналась с упрёков по его адресу, но шеф явно старался в свою очередь свалить всё на Маккензи, и последний по-своему понимал его. Зато предложение Маккензи принято. С другой стороны, Маккензи не мог не отдать должное «мозговому тресту»: очень ловко придуман ход с Пивницким. Недурно, очень недурно, чёрт возьми!.. И, главное, выглядит вполне достоверно.
Потирая руки, Маккензи помчался в лагерь и прежде всего заперся с Пивницким. Тот, узнав о готовящейся инсценировке, сначала было струхнул, но Маккензи его заверил, что всё будет в порядке. В конце концов Пивницкого удалось успокоить, и он обещал, что публично покается и вообще сделает всё, что требуется. Он также обещал подготовить своих помощников.
После этого Маккензи помчался в Берлин и условился по телефону с Малининым, что тот завтра поедет с ним в лагерь, чтобы присутствовать при беседе с советскими девушками и юношами.
***
На следующий день Маккензи, как было условлено, заехал за Малининым, и они направились в американскую зону, в Ротенбург. По пути Маккензи сказал Малинину, что, проверив положение дел в лагере, он убедился, что подавляющее большинство содержащихся в нём девушек и юношей действительно хотят вернуться на Родину.
— Как честный человек, я должен признать, коллега, что вы оказались правы. Но вы, как честный человек, должны понять, что американские власти здесь ни при чём…
— Как ни при чём? — удивился Малинин. — Ведь американские власти долгое время доказывали обратное.
— Совершенно верно. Но они были введены в заблуждение вашими врагами.
— Какими врагами?
— Бывшими русскими, которые работают в этом лагере и возглавляют его. Они заверили наши власти, что никто возвращаться не хочет. Теперь выяснилось, что эти заверения были вызваны их враждебным отношением к советскому строю. За это они будут сурово наказаны.
— За враждебное отношение к советскому строю? — улыбнулся Малинин.
— Нет. Их отношение к советскому строю дело их убеждений, в которые мы не можем вмешиваться, — не замечая улыбки Малинина, ответил Маккензи. — Они будут наказаны за заведомо ложную информацию.
Через несколько часов Малинин и Маккензи приехали в Ротенбург. Встретивший их Пивницкий испуганно покосился на форму Малинина и доложил Маккензи, что все обитатели лагеря собраны.
— Прошу вас, полковник, — сказал Маккензи Малинину, и они пошли на площадь лагеря, окружённую со всех сторон бараками, колючей проволокой и наблюдательными вышками.
Несколько сот юношей и девушек сгрудились на площади. Когда в воротах появились Маккензи, следовавший за ним Малинин и сопровождающий их Пивницкий, площадь взволнованно загудела. Маккензи не без труда вскарабкался на грузовой «студебеккер», заменявший трибуну. Малинин поднялся за ним.
Мгновенно установилась взволнованная тишина, которую внезапно прорезал, как молния, крик девушки, стоявшей перед грузовиком и увидевшей форму Малинина:
— Советской Армии слава!.. Ура!..
Вся площадь будто взорвалась. В воздух полетели береты, кепки, платки. Сотни людей бросились к борту машины, крича, плача, смеясь, молитвенно протягивая руки.
— Ур-р-ра! — гремела площадь. — Слава!.. Слава!.. Да здравствует Родина!.. Ур-р-ра!..
Услышав эти крики, увидев измученные, бледные и ставшие вдруг такими счастливыми лица сотен юношей и девушек, окруживших машину, Малинин почувствовал ком, подступивший к горлу, и огромным напряжением воли сдержал себя, чтобы не заплакать.
— Леди энд джентльмен! — закричал Маккензи. — Господа!.. Минутку внимания…
И он поднял руку, чтобы установить тишину.
Но это было не так просто.
Маккензи обратился к Малинину.
— Может быть, попробуете вы, коллега, — сказал он. — Может быть, вас они послушают…
Тогда поднял руку Малинин. На площади мгновенно, чудодейственно установилась почти фантастическая после всего, что здесь только что творилось, тишина. Маккензи, не выдержав, удивлённо покачал головой и подумал, что чем скорее эта молодёжь уберётся отсюда, тем будет спокойнее — общего языка с нею не найдёшь…
— Товарищи! — глухим от волнения голосом начал Малинин, но продолжать уже не смог, потому что одно только это простое, такое привычное и, казалось, будничное слово — товарищи — вновь взорвало площадь…
***
На следующее утро Малинин и Ларцев приехали на границу советско-американской зоны, чтобы принять возвращаемую молодёжь. Малинин рассказал Ларцеву обо всём, что произошло вчера, о том, как Маккензи сделал заявление, что задержка была вызвана тем, что Пивницкий и его помощники неверно информировали американские власти, и о том, как затем выступил и публично признал свою вину Пивницкий, после чего, так же публично и подчёркнуто торжественно, он был арестован.
— Ловко придумали инсценировку, жулики, — засмеялся Ларцев. — Можно сказать, целый спектакль поставили в твою честь, Петро. Ох, артисты!..
Они подъехали к пограничному шлагбауму, за которым начиналась уже американская зона и где соответственно стоял другой, уже американский шлагбаум.
Малинин посмотрел на часы — скоро должны были подъехать грузовики с подлежащими передаче «перемещёнными лицами», как именовали американские власти своих узников.
На американской стороне царило необычное оживление. Видимо, там тоже готовились к передаче. У шлагбаума стояли, широко расставив ноги и заложив руки за спину, американские пограничники, вперемешку с сержантами американской военной полиции, которые выделялись своими белыми касками, белыми кушаками и белыми гетрами. Какой-то офицер, выбежав из пограничной будки, начал суетливо выстраивать солдат и полицейских — он только что получил по телефону подтверждение, что колонны приближаются.
Через две минуты примчался и круто затормозил у шлагбаума сверкающий «крейслер», из которого выскочил Маккензи. Заметив Малинина и Ларцева, он направился к ним.
— Доброе утро, джентльмены! — сказал он. — Как видите, генерал Маккензи — хозяин своего слова. Сейчас их привезут, и мы подпишем акт о передаче.
— Разумеется, генерал Маккензи, — ответил Ларцев. — За подписью дело не станет.
Вдали показались грузовики. Офицер останавливал их метров за триста от шлагбаума, и там юношей и девушек стали выстраивать в колонны, по сто человек в каждой.
Потом, вернувшись к Маккензи, офицер спросил:
— Разрешите начинать, генерал?
— Начинайте, — махнул рукою в перчатке Маккензи.
Офицер снова побежал назад и, став впереди первой колонны, скомандовал:
— Следовать за мной!.. Раз-два!.. Раз-два!..
Подчёркнуто торжественно печатая шаг, он повёл за собой колонну. Остановив её у шлагбаума, офицер вынул список и начал громко читать:
— Петров?
— Есть, — ответил один из колонны.
— Кондурушкин?
— Есть.
— Прохоренко?
— Есть…
Делая отметки в списке, офицер хотел было продолжать перекличку, но вся колонна внезапно ринулась к шлагбауму, прямо на стоявших перед ним стеной пограничников и полицейских.
— Стой!.. Стой!.. Куда? — закричал офицер, но было уже поздно. Мигом растолкав дюжих полицейских и пограничников, толпа хлынула к советскому шлагбауму, снова крича, бросая вверх шапки, плача и смеясь от счастья. Стоявшая за нею вторая колонна тоже побежала…
И вот уже начали качать советских пограничников. Потом ребята окружили Малинина и Ларцева и стали качать их. Объятия, поцелуи, слёзы, восклицания смыли весь заранее разработанный Маккензи порядок передачи, как могучий горный поток смывает прогнившую плотину.
Когда Ларцев и Малиник, наконец, снова оказались на ногах, Маккензи бросился к ним:
— Джентльмены, это невозможно! — кричал он. — Это вопреки правилам?.. Я протестую!..
Ларцев, тяжело дыша, ответил:
— Это советские ребята, генерал. Их любовь к Родине сильнее и выше всех правил… Так их воспитали дома, такими они остались на чужбине… Поймите и запомните это навсегда, генерал Маккензи!..
Трудный разговор
Несмотря на то, что Бахметьев был занят допросами обвиняемых, он выкраивал время, чтобы навещать Фунтикова, помещённого в военный госпиталь. Удар ножом, который Игорь Мамалыга нанёс Фунтикову, задел верхушку левого лёгкого, рана была довольно глубокой. Фунтиков потерял много крови, и это осложняло его положение. Правда, по заключению врачей, опасности для жизни не было, но госпитализировать лейтенанта пришлось.
В первый же вечер, когда Бахметьев приехал в госпиталь, он застал своего любимца в самом унылом состоянии, вызванном, однако, не ранением, а тем, что он не явился на свидание с Люсей, как это было условлено.
— Главное, Люся-то ведь ничего не знает, — говорил Фунтиков Бахметьеву, не скрывая своей тревоги. — Сколько лет не виделись, наконец встретились и вот, совсем неожиданно жених исчез невесть куда!..
— Ты уже проходишь по делу в качестве жениха? — спросил улыбаясь, Бахметьев.
— Ну как же!.. В первый же день, когда мы разговорились, я ей всё сказал… Одним словом, сделал предложение…
— Правильно поступил!.. Как она отнеслась к этому? — спросил Бахметьев.
— Тоже правильно отнеслась, — уклончиво ответил Фунтиков. — Пока согласна…
— Что значит — пока?
— Пока не знает, кем я был до войны, — вздохнул Фунтиков. — Ох, Сергей Петрович, прямо не пойму, что будет…
— Всё будет хорошо, — заметил Бахметьев. — Прежде всего надо ей сообщить, что ты находиться в госпитале и потому не явился на свидание. Думаю, что для Люси это важнее твоего прошлого. Словом, завтра я привезу её к тебе.
— Вы только сразу ей всего не говорите, — испугался Фунтиков. — А то она может и не поехать…
— Хорошо, хорошо, не волнуйся, — улыбнулся Бахметьев. — Можешь не сомневаться, что я её привезу.
На следующий день, в перерыве между двумя допросами, Бахметьев поехал в кафе «Форель». Он сразу догадался, кто из официанток — Люся, и сел за столик, который она обслуживала. Когда девушка подошла, подполковник сказал:
— Вы, если не ошибаюсь, Люся?
— А вам это откуда известно? — спросила Люся, удивлённая, что незнакомый ей военный называет её по имени.
— От общих знакомых, — ответил Бахметьев.
— Вы что хотите заказать? — сухо спросила Люся, расценив ответ как попытку завязать знакомство, к чему она вовсе не была расположена.
— Вот что, Люся, — ответил Бахметьев. — Подать вы мне можете, что хотите. Но у меня к вам дело. Я от Маркуши…
— От Маркуши?! — воскликнула Люся, сразу густо покраснев. — А в чём дело?
— Маркуша — мой большой друг, — ответил Бахметьев. — И я приехал к вам по его поручению. Ваш директор здесь?
— Да, вот за той дверью его кабинет, — сказала девушка. — Да вы скажите, в чём дело?
— Не волнуйтесь, я вам всё объясню. Но здесь не место для разговора, и потому я похлопочу у директора, чтобы он вас отпустил на сегодняшний день.
И Бахметьев пошёл к директору, а вскоре, вернувшись от него, протянул Люсе записку — ей предоставлялся отпуск на сутки.
В машине, по пути в госпиталь, Бахметьев представился девушке и осторожно подготовил её к тяжёлой вести.
— Даю вам честное слово, что нет никакой опасности, — говорил он, — самое пустячное ранение, можете мне верить!..
— Да где же его ранили? — взволновалась Люся.
— Я скажу вам откровенно: Маркуша молодец, он задержал опасного преступника, а тот нанёс ему удар ножом. Ваш жених вёл себя так, как подобает советскому офицеру, он молодец!..
Бахметьев нарочно вставил слово «жених» и с удовольствием отметил, что Люся вовсе не удивилась. Да, было ясно, что девушка считает себя невестой Фунтикова.
В госпитале, когда Люся и Бахметьев вошли в палату, в которой лежал Фунтиков, тот, увидев любимую, хотел было вскочить с постели, но тут же, охнув от острой боли, отвалился на подушку. Люся подбежала к нему и, всхлипнув, обняла его за голову.
— Маркушенька, родненький, да что это такое? — лепетала девушка.
— Ничего, пустяки, Люсенька, — отвечал Фунтиков. — Через недельку-полторы всё будет в порядке, ты только не расстраивайся…
Бахметьев вышел из палаты в коридор и направился в кабинет ординатора, с которым уже не раз беседовал о здоровье своего любимца.
Доктор, поздоровавшись с полковником, сказал, что дела идут неплохо и Фунтиков скоро поправится.
***
Через полчаса Бахметьев и Люся вышли из госпиталя и сели в машину. Девушка всё ещё не могла прийти себя.
— На Ленинские горы, — коротко приказал Бахметьев шофёру и, заметив удивлённый взгляд Люси, сказал:
— Нам, Люся, надо кое о чём поговорить. Потом я отвезу вас домой.
Уже на Ленинских горах, где в это время дня почти не было гуляющих, Бахметьев выбрал свободную скамью.
— Ну вот, сядем, — сказал он. — И слушайте меня, Люся, внимательно.
Они сели. Бахметьев закурил, обдумывая, как лучше начать этот трудный разговор. Люся молчала, но было видно, что и она волнуется.
— Так вот, Люся, — начал наконец Бахметьев. — Вы знаете, что я чекист. И знаете, что Маркуша близкий и дорогой мне человек. Вероятно, вы это почувствовали, не так ли?
— Да, большое вам спасибо за внимание, — ответила Люся.
— Теперь слушайте дальше. Как вы думаете, если бы я не был уверен в том, что Маркуша честный, добрый, хороший человек, мог бы я так к нему относиться? Конечно, нет. Я старше вас обоих, благодаря своей профессии научился разбираться в людях и, наконец, если бы не был полностью уверен в Маркуше, то просто не имел бы права с ним дружить… Понятно?
— Да, он очень хороший, — сказала девушка. — И вы не ошиблись в нём, голову могу дать на отсечение!..
— Да, мы оба не ошиблись, — сказал Бахметьев. — Я уверен, что, став женой Маркуши, вы будете по-настоящему счастливы, я в этом не сомневаюсь, Люся.
— И я в этом не сомневаюсь, — твердо сказала Люся, глядя прямо в глаза Бахметьеву. — Я ведь не девочка и знаю Маркушу не один год. Мы оба себя проверили, оба воевали, всё время переписывались… Я вам проще скажу: все эти годы дня не было, чтобы я о нём не думала. И он обо мне думал — это я всем сердцем чую…
— Спасибо за откровенность, — сказал Бахметьев. — Тем легче мне будет с вами говорить дальше.
— Я слушаю, — сдержанно произнесла Люся, и Бахметьев снова мысленно одобрил эту немногословность и выдержку.
— Дело в том, Люся, что Маркуша хочет, чтобы всё его прошлое было вам известно во всех подробностях ещё до того, как вы произнесёте решающее слово…
— Решающее? Да ведь я его уже произнесла, — тихо сказала Люся. — Я его люблю и всегда любить буду. Ну а прошлое — так оно ведь прошлое, мало ли с кем он до меня гулял…
— Понимаю, но речь идёт о другом, — продолжал Бахметьев, правильно поняв это выражение «гулял». — Маркел Иванович хочет, чтобы вы знали о нём решительно всё… И он прав.
— О чём же идёт разговор, я что-то не пойму? — произнесла чуть дрогнувшим голосом Люся. — И почему он сам не говорит со мной об этом?
— Да ведь это трудный разговор. А трудный он для него потому, что он дорожит вашим чувством…
— Да в чём дело, скажите прямо! — воскликнула Люся. — Вы за меня не бойтесь…
— У Маркела Ивановича было тяжёлое детство. И не лучшая юность. Одним словом, как это иногда случается, попал он в своё время в плохую компанию, ну и, как говорят, поскользнулся…
— Поскользнуться не трудно, вставать не легко, — сказала Люся. — Так вот, вы мне тоже говорите прямо: сам он встал или его за ручки поднимать пришлось?
— Сам. Даю вам честное слово. Можете мне верить.
— Верю. И зря Маркуша боялся мне об этом сказать. Кто полюбил, тот и простил… Долго он колобродил или нет?
— Порядочно. Несколько лет, — ответил Бахметьев.
— Сидел? — спросила Люся.
— Было.
Люся замолчала. Молчал и Бахметьев, хотя понимал, что разговор надо довести до конца. Люся ждала, что Бахметьев объяснит, за что сидел её любимый и в чём он был виноват. Бахметьев же хотел, чтобы Люся сама спросила об этом.
После длительной паузы Люся, не глядя на Бахметьева, сказала:
— Значит, он вас просил поговорить со мной?
— Да.
— И вы ему это обещали?
— Да, обещал. И, как видите, исполняю обещание.
— Так почему же не договариваете?
— А вы этого хотите?
— Раз он хочет, так и я хочу.
— Хорошо, но прежде чем сказать об этом, я хочу вас спросить…
— Спрашивайте.
— Вы верите в то, что, когда человек по-настоящему любит, он становится лучше? Что настоящее чувство способно на чудеса? Что любовь облагораживает человека?
— Верю. И всегда в это верила, — тихо ответила Люся.
— Значит, вы понимаете, что любовью надо дорожить и за неё стоит бороться?
— С кем бороться? — спросила Люся.
— Иногда с самим собой. Человек, которого вы любите, как я уже сказал, имел нехорошее прошлое. Это ещё не всегда значит, что он неисправимый человек, уж поверьте мне, как специалисту. Поверьте мне также, если такой человек порывает со своим прошлым, он заслуживает, чтобы ему верили и никогда не напоминали о том, что он сам преодолел. Никогда!.. Маркел Иванович держал трудный, может быть, самый трудный в жизни экзамен. И он его выдержал. Я хочу, чтобы вы это поняли, Люся. Короче, — он был вором, карманником. Несколько лет. Но ещё до войны, случайно обокрав на вокзале одного немецкого шпиона, увидев по содержанию бумажника, кого он обворовал, Маркел Иванович поступил так, как обязан поступить честный советский человек: он сам пришёл ко мне, отдал этот бумажник и сказал, что выкрал его. И знаете, с чем он пришёл ко мне?
— С чем? — чуть слышно произнесла Люся.
— С чемоданчиком, в котором было всё необходимое для тюрьмы. Потому что, идя ко мне, Маркел Иванович не сомневался, что будет арестован. Но мы не арестовали его, как положено по закону, потому что это было бы издевательством над законом. Да, да, издевательством!.. Мы помогли ему поступить на работу, и он отлично работал. Потом началась война, и он добровольцем пошёл на фронт и храбро воевал. Стал отличным офицером, учился и ещё будет учиться. Я верю ему и верю в него, в его будущее, в его счастье!.. Теперь я спрашиваю — кто посмеет бросить камень в такого человека, у кого хватит тупости, бесстыдства, равнодушия, цинизма не поверить ему?!
Люся неожиданно всхлипнула и, быстро встав, подбежала к самому краю крутого обрыва. Далеко внизу широко-широко раскинулась Москва с её парками, гранитными набережными, разноцветными куполами дворцов и старинных церквей, шумными, залитыми солнцем улицами, стадами фыркающих машин на перекрёстках, красными и голубыми автобусами и троллейбусами, гудящими пчелиным гудом и снующими по зеркальной глади Москвы-реки белыми, похожими на огромных чаек, речными трамваями.
Голубоватая, пронизанная сиянием летнего солнца дымка млела над огромным городом, и снизу сюда, на Ленинские горы, доносилась могучая симфония трудового дня, сложная, разноголосая музыка того удивительного слаженного многомиллионного оркестра, которым гениально дирижирует сама жизнь.
В этой неповторимой музыке была такая бодрящая сила и радость жизни, такая уверенность в будущем и в человеческом счастье, что Бахметьев, подошедший к Люсе и теперь стоявший рядом с нею на самом краю обрыва, не огорчился тем, что она продолжала плакать, и даже не старался успокоить её, хорошо понимая, что снова — в который раз! — победит мудрая и человеческая формула, давно уже ставшая законом и смыслом его жизни и работы: «Надо верить людям! Надо верить в людей!… Надо делать все, чтобы они были счастливы!»
1942 — 1965 гг.
Примечания
1
Подлинный документ, который был оглашён на Нюрнбергском процессе.
2
Подлинный текст из дневника Додда, оглашённый на Нюрнбергском процессе.
3
Так назывался пост, занимаемый Кейтелем.
4
Шулленбург был расстрелян по приказу Гитлера 10 декабря 1944 года.
5
Текст подлинного документа.
6
Эти показания были оглашены на Нюрнбергском процессе.
7
Подлинный текст показаний Штольца, оглашённый на Нюрнбергском процессе.
8
Переписка Председателя Совета Министров СССР с президентами США и премьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг. Т. I, Госполитиздат, 1957, стр. 337-339.
9
Переписка…, т. I, стр. 240.
10
Переписка…, т. I, стр. 250-251.
|