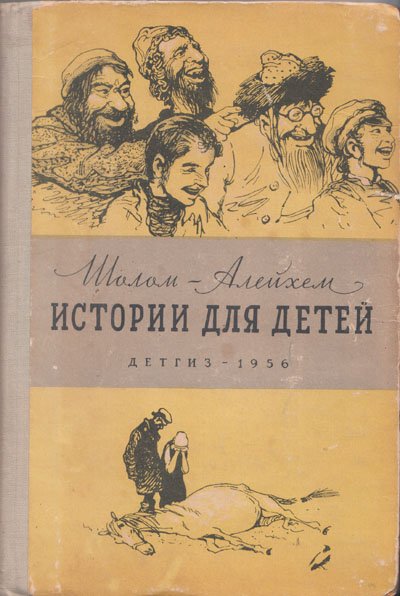Сделал и прислал Кайдалов Анатолий.
_____________________
СОДЕРЖАНИЕ
В. Финк. Предисловие
Мальчик Мотл. Перевод Л. Гольдберга
Ножик. Перевод Б. Черняка
Мафусаил. Перевод Л. Юдкевича
Часы. Перевод Е. Аксельрод
Юла. Перевод Е. Аксельрод
Флажок. Перевод И. Слонима
Скрипка. Перевод Л. Юдкевича
Праздничный ужин. Перевод Л. Юдкевича
Учитель Бойаз. Перевод Д. Волкенштейн
В гостях у царя Артаксеркса. Перевод Я. Слонима
Перед читателями лежит хорошая, интересная книжка. Написана она давно — в начале нынешнего столетия. В ней собрано несколько историй. Их главными героями являются мальчики — неглупые, весёлые, немного озорные, в общем — хорошие ребята. Но, к несчастью, они бедные и находятся в довольно-таки сложных взаимоотношениях с окружающим миром.
Этот мир населён взрослыми, из которых каждый, вероятно, считает себя умным: взрослые всегда страшно высокого мнения о себе. Но скажите, пожалуйста, почему они, в таком случае, не могут понять девятилетнего мальчика?
«Всё у них — озорство! — жалуется, например, мальчик Мотл. — Привязать кошке бумажку к хвосту, чтобы кошка веселее вертелась, — озорство! Постучать палкой по ограде поповской усадьбы, чтобы сбежались собаки, — тоже озорство! Вытащить у Лейбки-водовоза затычку из бочки, чтобы побежала вода, — опять озорство!»
Взрослые не понимают Мотла. Но и Мотл не может понять взрослых. Очень уж они, в самом деле, странно организовали свою жизнь: ужасно мало радостей и страшно много нужды и горя. Вот тебе и взрослые! Вот тебе и умные!..
Трудно с ними Мотлу.
Посудите сами: он уж кое-как привык к тому, чтобы взрослые щедрой рукой раздавали ему шлёпки и пинки, таскали его за волосы и ругали с утра до вечера. Но вот обрушивается горе: умирает отец. Семья обречена на совсем уж голодное прозябание; мать продаёт всё, что есть в доме, и плачет с утра до вечера. А Мотлу становится легче жить: его перестали бить, его даже не ругают. Все говорят:
«Что вы хотите, он сирота, его надо пожалеть».
Мотлу начинает казаться, что ему привалило величайшее счастье.
«Мне хорошо! — часто восклицает он. — Я сирота!»
История мальчика Мотла сильно напоминает истории горького сиротства Давида Копперфильда и Оливера Твиста, описанные Чарльзом Диккенсом. Вместе с тем, если бы эту повесть прочитали два таких весельчака, как Том Сойер и Гекльберри Финн, они бы тоже узнали своего и закричали:
«Нашего полку прибыло!»
Но уж кто наверняка почуял бы в Мотле родную душу, так это чеховский Ванька. Вы, конечно, помните маленького деревенского горемыку, которого привезли в Москву и отдали в ученье к сапожнику. Сапожник бил его нещадно, таскал за волосы и «чесал шпандырем». Жизнь была непостижимо страшная. И вот мальчик написал своему дедушке, умоляя забрать его от сапожника. Но на конверте Ванька вывел: «На деревню дедушке Константину Макарычу». После этого он опустил драгоценное письмо в щель почтового ящика и стал ждать ответа, который должен был принести конец его мучениям. Ванька Жуков не подозревал, что не дойдёт его письмо к дедушке и не будет конца его тяжёлой жизни.
Чехов сумел так рассказать эту грустную историю, что её нельзя читать без смеха, но, когда читаешь этот смешной рассказ, трудно сдержать слёзы.
Такое же чувство испытал А. М. Горький, прочитав повесть выдающегося еврейского писателя Шолом-Алейхема «Мальчик Мотл».
Шолом-Алейхем написал её в 1907 году по-еврейски. На русский язык она была переведена лишь в 1910 году, и автор послал её А. М. Горькому, с которым давно находился в дружеской переписке. Горький откликнулся тёплым письмом.
Вот оно:
.«Искренно уважаемый собрат!
Книгу Вашу получил, смеялся и плакал. Чудесная книга! Перевод, мне кажется, сделан умело и с любовью к автору. Хотя местами чувствуется, что на русском языке трудно передать печальный и сердечный юмор оригинала. Я говорю — чувствуется.
Книга мне сильно нравится. Ещё раз скажу — превосходная книга. Вся она искрится такой славной, добротной и мудрой любовью к народу, а это чувство так редко в наши дни. Искренно желаю Вашей книге успеха, не сомневаюсь в нём.
Крепко жму руку. М. Горький.
Капри, 21. 4. 10».
Не следует во вступительной статье пересказывать содержание книги. Читатель должен сам всё прочитать — на то он и читатель.
Но предпослать этой книжке несколько слов, рассказать, как сложилась своеобразная жизнь, которую Шолом-Алейхем с неподражаемым блеском описывал в течение всей своей тридцатипятилетней литературной деятельности, следует хотя бы потому, что увидеть эту жизнь уже больше нельзя. Она ушла. Даже тем, кто её помнит, она кажется настолько далёкой, что иной раз трудно бывает поверить собственной памяти. А уж тому, кто никогда её и не видел, многое в повести может показаться непонятным.
Поясню хотя бы на одном примере.
В дореволюционное время рассказы, собранные в этой книге, назывались в русских переводах «Дети черты».
В ту пору все понимали, что это значит.
Интересно, что подумал бы современный молодой советский читатель, встретив произведение с таким названием.
«Что это за черта такая? — недоумевал бы он. — Черта характера? Или черта, какую проводит чертёжник? И почему у неё дети? Можно было бы понять слова: «черты детей»! Но «дети черты»? Что это такое?»
Картина вряд ли станет яснее, даже если мы скажем, что речь идёт о черте оседлости.
«Что это значит?» — всё-таки спросит читатель.
Ему пояснят:
«Речь идёт о черте оседлости евреев в Российской империи».
А он всё равно не поймёт.
Дело же заключалось в следующем: в царской России начиная с 80-х годов прошлого века евреям разрешалось проживать в строго перечисленных местностях: на территории современной Украины, Белоруссии и Литвы. Эти местности и назывались «чертой еврейской оседлости».
80-е годы, когда эта «черта» была установлена, вошли в историю России как годы самой мрачной полицейской реакции. Призрак революции бродил по стране: рабочие стачки, крестьянские волнения, студенческие демонстрации — всё следовало одно за другим. Под самодержавием горела земля.
Но самодержавию казалось, что ещё не всё кончено, что оно может ещё как-нибудь продлить своё слишком затянувшееся презренное существование. Оно делало большую ставку на разжигание вражды между народами, населявшими царскую Россию.
Правительство рассуждало так: все эти многочисленные народы ненавидят царизм. А нельзя ли поссорить их между собой? Пусть перегрызают горло друг другу. Это отвлечёт их от борьбы с царём, капиталистами и помещиками.
Старая политика! В одинаковой мере старая и подлая. Ещё Герцен писал, что самодержавие обратило многонациональную
Россию в «тюрьму народов». А уж начиная с 80-х годов охранители этого тюремного режима стали особенно исступлённо изощряться в коварстве и жестокости. Со страниц реакционных газет беспрерывно лились потоки гнуснейшей клеветы на каждый из населявших Россию народов. Все были плохи в глазах наёмных писак: и украинцы, и кавказцы, и поляки, и евреи, и белорусы, и татары.
Всем давали оскорбительные клички, всех старались показать в позорном или смешном виде. Главное, всех выставляли как врагов русского народа, как бы указывая, что именно они и виноваты в тяжёлой жизни русских трудящихся.
Но кто же были эти «заступники», эти «друзья» русского народа, которые «ограждали», «оберегали» его от таких «врагов», как украинцы, белорусы, евреи, кавказцы и другие?
Этими «друзьями» и «защитниками» были помещики, капиталисты и цари.
Эти «друзья» и «защитники» только тем и жили, что эксплуатировали русских крестьян, русских рабочих и всякий другой мелкий люд, — эксплуатировали, угнетали, держали в нищете, в невежестве и презирали.
Там, где хоть сколько-нибудь благоприятствовали обстоятельства, эти «друзья» привлекали себе на помощь религиозную рознь. Они искусственно раздували её до фанатизма и в руки фанатикам вкладывали ножи. Так, например, было на Кавказе. Кровь лилась там беспрерывно в искусственно вызываемых стычках христиан с мусульманами. Особенно кровопролитны бывали набеги тюркской черни на армян в Баку. Страшным погромам подвергалось также еврейское население черты оседлости. Ни для кого не было тайной, что и на Кавказе и в «черте» кровь одинаково льётся по приказу из Петербурга, из министерства внутренних дел.
Что касается евреев, то они были поставлены в особенно тяжёлые условия. Причины этого сложились исторически, и останавливаться мы на них не будем. Скажем только, что евреи были опутаны целой сетью специальных законов, указов, приказов, постановлений и пресловутых «сенатских разъяснений», которые делали их жизнь невыносимой.
Выше мы рассказали о черте оседлости. Но ограничение в выборе места жительства не было единственным. Евреи были ограничены также в выборе профессии. Их, например, не принимали на государственную службу — хотя бы даже на должность чернорабочего или ночного сторожа в казённом учреждении или предприятии. В армии они могли служить только рядовыми. Доступ к образованию был им затруднён: в гимназии и университеты их принимали только в количестве двух — трёх процентов общего числа учащихся. Евреям было запрещено
селиться в деревнях — стало быть, они не могли заниматься земледелием. А промышленность в черте оседлости была лишь мелкая, кустарная и полукустарная. Она не могла поглотить всю рабочую силу, какую предлагало местное еврейское население.
Исключения из суровых правил делались только для крупной еврейской буржуазии. Купцы первой и второй гильдии пользовались правом выезжать за пределы «черты». Этим правом пользовались также евреи, получившие высшее образование. Но таких было сравнительно немного, да и принадлежали они главным образом к буржуазии.
Таким образом, в маленьких городках и местечках «черты» скапливалась самая обездоленная еврейская беднота. Официально её называли «избыточным еврейским населением». По тогдашней терминологии «избыточным» — проще говоря, лишним — считалось население, которое в данной местности не могло найти себе работу и пропитание.
Но еврейское «избыточное» население не имело права выехать за пределы «черты», поискать себе работу и пропитание в глубине страны. Это было воспрещено.
А этого «лишнего» населения было несколько миллионов душ!
Как же прожить «лишним» людям?
Один пытался сделаться, например, парикмахером. Но в местечке уже и без него было столько парикмахеров, что им только и оставалось, что стричь друг друга. Другой брался за ремесло портного. Но портным только и оставалось, что обшивать друг друга. И сапожников было больше чем надо. И часовых дел мастеров. И профессиональных сватов было больше, чем женихов и невест Была торговля — счастливая, свободная отрасль, верный путь к богатству. Но и торговцев было больше, чем покупателей. В те годы в еврейском местечке можно было видеть «торговое предприятие», в котором товару было за всё про всё на три рубля. Лавочник покупал у «оптовика» селёдку. Он платил за неё три копейки, разрезал на пять кусков и продавал по копейке кусок. Он жил в окружении такой беспросветной бедноты, которой не по средствам было выложить три копейки и купить целую селёдку. Но лавочник выручал пять копеек за то, что ему стоило всего три. Сорок процентов чистой прибыли! Неслыханно! Небывало! Никакой миллионер не получает такой прибыли! Только вот беда: никак невозможно продать больше десятка селёдок в день.
В этой-то уродливой обстановке сложился образ — одновременно и смешной и грустный — нищего фантазёра, который уверен, что счастье где-то тут, поблизости, нужно только найти его и схватить.
Вы встретите такого чудака и в повести о мальчике Мотле.
Это Эля, брат Мотла. Посмотрите, как он радуется, когда ему в руки попадает книга, в которой описываются многочисленные и «верные» пути к богатству.
Можно зарабатывать сто рублей в месяц на изготовлении чернил. Можно зарабатывать сто рублей в месяц на изготовлении хорошей чёрной ваксы. Можно зарабатывать сто рублей в месяц на истреблении мышей, тараканов и прочей нечисти. Сто рублей и больше можно зарабатывать, изготовляя ликёры, сладкие водки, лимонады, содовую воду, квас и другие напитки.
Как заманчиво! Но когда Эля берётся разрабатывать эту золотую жилу, то оказывается, что в местечке просто некому продать на сто рублей чернил и ничего нельзя заработать на истреблении мышей! Всё разлетается! Надежда — миф, она пустой бред! Нельзя заработать! Не на что жить!
Шолом-Алейхем блестяще описывает такого фантазёра-неудачника в серии рассказов о Менахем-Менделе из местечка Касриловки, которое, как говорит автор, «находится в самой середине благословенной черты оседлости, куда евреев посадили голова к голове, как сельди в бочке, и велели плодиться и размножаться».
Менахем-Мендель неутомимо гоняется за удачей, которая должна принести ему благополучную жизнь.
Вот он попадает в большой город. Здесь много богатых людей, они делают большие коммерческие дела, и Менахем-Мендель уверен, что ему удастся сорвать солидный куш на какой-нибудь этакой миллионной сделке, в которой он выступит хотя бы только в скромной роли посредника.
Но какое там! Менахем-Мендель даже пробраться не может в среду людей, делающих большие дела. Он становится мелким агентом по страхованию жизни. Но и здесь у него ничего не ползчается: слишком много агентов.
И вот Менахем-Мендель — профессиональный сват. Он знает девицу из богатого дома, ему поручено найти для неё подходящего жениха. Дело нетрудное и верное. Менахем-Мен-дель предвкушает солидное вознаграждение, которое ему отвалят благодарные родители невесты, когда свадьба будет сыграна. Он списывается со знакомым сватом из другого города и получает благоприятный ответ: у того тоже есть «товар». Дело налаживается! Остаётся познакомить молодых людей и сыграть свадьбу, а тогда — пожалуйте денежки на стол. Оба свата, каждый со своим «товаром», выезжают навстречу друг другу. Встреча происходит в маленьком городке на полпути. В добрый час! Но тут Менахем-Мендель с ужасом узнаёт, что второй сват тоже привёз девицу!
Опять рухнули мечты! Боже, как трудно поймать счастье!
Менахем-Мендель измучен. Он пишет жене:
«Хоть бы сотворил господь чудо со мной: хоть бы напали на меня разбойники и убили, или как-нибудь иначе мне помереть — пускай даже на улице! Потому что, дорогая моя супруга, нет у меня уже больше сил переносить всё это».
Советскому читателю такое существование кажется непостижимым. Советский человек привык, чтобы все были заняты производительным трудом, чтобы все жили полнокровной созидательной жизнью. Поэтому то, что он узнает от Шолом-Алей-хема, представляется ему прежде всего нелепым. Да оно и в самом деле противоречит природе человека, потому что человек создан не для бессмысленного и безрадостного прозябания, а для жизни созидательной, разумной, плодотворной, такой, которая обогащает всё человечество, двигает его вперёд, навстречу счастью.
Но такова звериная природа капитализма: одним он предоставляет труд, но обращает его в каторгу, других он лишает права на труд и обращает их жизнь в тягостную бессмыслицу.
Конечно, еврейская беднота не была исключением. Рядом с ней в городе прозябали широкие слои нееврейского населения, а в нескольких верстах от города, в деревне, погибала беднота русская, или украинская, или белорусская. Каждый мучился и прозябал на свой лад. Шолом-Алейхем описывает лишь национальные, еврейские формы прозябания, созданные царизмом.
Шолом-Алейхем (Шолом Нохумович Рабинович) родился в 1859 году на Украине, в городе, который ныне называется Пе-реяславль-Хмельницкий.
Писатель прожил трудную жизнь. Особенно трудными были его детство и юность. Он с замечательной яркостью и правдивостью описал их в своей книге «С ярмарки». Книга эта — одновременно и художественная автобиография и широкая картина еврейской жизни того времени.
Отец писателя был человек состоятельный, но разорился, когда маленький Шолом был ребёнком. Беда не приходит одна: от холеры умерла мать, в доме вскорости воцарилась злая мачеха. Будущий писатель рано узнал горе жизни. Ему хотелось учиться, но уже в тринадцать лет он был вынужден работать в качестве мальчика на побегушках в заезжем доме.
Шолом был наделён жадным, пытливым умом, страстью к знанию. Научившись русской грамоте, он пристрастился к чтению. Русская литература раскрывала перед ним незнакомый ему, но широкий и сложный мир. Ему было двадцать лет, когда он впервые выступил в печати и очень скоро завоевал внимание еврейской читающей публики. Она сразу узнала в нём
правдивого и тонкого певца её горестной жизни, она почуяла в нём своего поэта и заступника, глубоко знающего её жизнь, её чаяния.
На что же надеялась еврейская масса? В чём видела она разрешение своих бедствий — в каких идеях, в каких событиях?
Шолом-Алейхем отвечает на эти вопросы устами своих героев.
Вот мы упоминали, например, о неудачнике Менахем-Мен-деле, который всю жизнь неутомимо, но бесплодно гоняется за богатством. Что он такое, этот Менахем-Мендель? Ничто! Смешной и жалкий человечишка! Однако Шолом-Алейхем рассказывает, как этот бедняга внезапно увидел ещё неясный, но всё же светлый луч великой правды, — и человек переменился. Он ещё продолжает мечтать о богатстве и могуществе, но они делаются нужны ему для новой цели: он заявляет, что «прекратил бы войны и прежде всего распорядился бы уничтожить деньги: от них всё зло на земле!»
Смотрите, как сразу поднимается «смешной и жалкий человечишка»! Как он вырастает!
Наиболее законченным носителем своих гуманистических идей Шолом-Алейхем сделал некоего старика Тевье, простодушного, немудрящего человека из народа. На его примере, на примере его семьи Шолом-Алейхем показывает, как под влиянием великих событий, происходивших в стране, ломались и в еврейской среде устои старого, отжившего быта, как приходили новые идеи, новые взгляды и новые надежды.
У Тевье несколько дочерей. Когда они были маленькими девочками, жизнь ещё казалась простой и несложной. Но выросли они как раз в такие годы, когда ветер первой революции ворвался в застойный быт еврейского местечка. И тут произошли в жизни семьи большие события. Одна из дочерей выходит замуж, вопреки всем традициям, не по сватовству, а по выбору сердца. Её муж — революционер. Его ссылают в Сибирь, и дочь Тевье добровольно следует за мужем. Старик не совсем разбирается в идеях зятя, но чувствует, что простая и честная правда на стороне революционера. Тевье любит этого зятя и ставит его гораздо выше мужа другой дочери, который сумел разбогатеть.
Третья дочь выходит за христианина. В условиях того времени, в обстановке патриархально-религиозной семьи, это был тяжёлый удар для Тевье. Не так-то легко на старости лет отказаться от взглядов, которые ты всосал с молоком матери. Но под влиянием постигшего его потрясения Тевье приходит к выводу, что эти взгляды всё-таки тлен, пустые предрассудки, порождение темноты.
« — Что такое еврей и нееврей? — спрашивает он. — И зачем создал бог евреев и неевреев? А уж если он создал евреев
и неевреев, то почему должны они быть обособлены одни от других, почему должны они враждовать между собой, как если бы одни были от бога, а другие не от бога?»
« — Досадно мне, — прибавляет старик в заключение, — что я не так разбираюсь в книгах, как другие, и не так образован, чтобы найти толковый ответ на все эти вопросы »
Конечно, Тевье плохо «разбирается в книгах». Он человек простой, необразованный. Но у него чуткое, необманывающее сердце. После поражения революции 1905 года, в самый разгар черносотенной реакции, Тевье бережно хранит тот оптимизм, ту веру в лучшее будущее, которые пробудило в нём солнце революции.
И старик заверяет свою жену, что всё-таки придёт счастливое время.
« — Пусть бог пошлёт нам всем такую хорошую жизнь, какая ещё будет у нас хорошая конституция!» — говорит Тевье на своём образном языке.
Шолом-Алейхем пользовался громадной любовью читательской массы ещё и потому, что в неравной борьбе, которая происходила между бедняками и богачами, он всегда и неизменно был на стороне угнетённой бедноты.
Вы встретите в книге, лежащей перед вами, прекрасно написанные фигуры местечковых богачей.
Присмотритесь к ним и подумайте: чем они отличаются от богачей, о которых вы читали у великих русских писателей, в особенности у А. Островского и Щедрина; или у авторов английских, как Диккенс и Теккерей; или у славного американца Марка Твена; или у блестящи французов, как Альфонс Доде, Бальзак и другие? В чём разница, кроме внешней обстановки и языка? Ни в чём. У всех богачей одинаково чёрствые сердца и глухие души. Все богачи высокомерны, все презирают человека, у которого нет денег, все рады затоптать того, кто сам никого топтать не может. Посмотрите, с какой ненавистью говорит о них Шолом-Алейхем!
У него есть юмористический, но ядовитый рассказ о том, как бедняк из Касриловки попал в Париж, к известному миллионеру — еврею Ротшильду, и предложил ему необыкновенный товар: бессмертие. Миллионер соблазняется и отваливает продавцу целые три сотни. Тогда бедняк говорит ему:
« — Если хотите жить вечно, поселитесь у нас, в Касрилов-ке. С тех пор как она существует, у нас ещё ни один богач не подох».
В комедии «Якнегуз» Шолом-Алейхем с такой беспощадной правдивостью показал еврейских толстосумов, что они обратились к властям с требованием запретить пьесу. Конечно, это требование было удовлетворено.
Шолом-Алейхема ненавидела крупная еврейская буржуазия. Но его высоко чтила передовая русская интеллигенция, среди которой он имел бесчисленное множество читателей; с ним дружили наиболее выдающиеся русские писатели его времени. Шолом-Алейхем состоял в переписке со Львом Толстым, А. М. Горьким, А. И. Куприным, В. Г. Короленко и многими другими. Эти выдающиеся русские люди громко протестовали против глупых и варварских царских законов, которые отнимали у миллионов людей право на разумную и полноценную жизнь и превращали их существование в уродливое и горестное прозябание.
Шолом-Алейхем не был революционером. Но «мудрая любовь к народу» сама толкала его навстречу передовым идеям его времени. Он пишет, например, о своих героях, что они, вероятно, будут влачить жалкое существование, «пока не наступит то счастливое время, о котором говорили Карл Маркс, Август Бебель и все добрые и умные люди».
Слова эти были сказаны задолго до Великой Октябрьской социалистической революции. Шолом-Алейхем до неё не дожил: он умер в 1916 году.
Мы упоминали в начале этой статьи чеховского мальчика Ваньку Жукова. Когда вы познакомитесь с некоторыми мальчиками из этой книги, вы увидите, как много общего в их горестной жизни с жизнью Ваньки Жукова. Кто же ещё мог изменить эту их жизнь, сделать её счастливой, если не Великая Октябрьская социалистическая революция?
Нет больше в нашей стране несчастных мальчиков — ни русских, ни еврейских, ни грузинских, ни татарских. Да и взрослые, которые некогда были несчастны, потому что варварский государственный строй отнимал у них национальное достоинство и обрекал их на нужду, тоже давно перестали быть несчастными. Распались стены «тюрьмы народов», и миллионы людей увидели необозримые и свободные просторы, которые можно заполнить счастьем человеческим. Все народы равны в Советском Союзе, все они трудятся над умножением богатства, славы и могущества своей великой страны, все они борются за светлое грядущее, когда человечество освободится от власти денег и от всего того, что эта власть порождает: от войн, от расовой розни, от национальной вражды.
Виктор Финк
МАЛЬЧИК мотл
ПОВЕСТЬ
I. СЕГОДНЯ ПРАЗДНИК — ПЛАКАТЬ НЕЛЬЗЯ!
1
Я готов биться об заклад — никто на свете так не обрадовался ясной погоде, наступившей сразу после пасхи, как я, Мотл, сын кантора Пейси, и соседский телёнок Мени (это я и дал ему такую кличку).
Оба одновременно почувствовали мы с ним первые ласковые лучи солнца в этот первый тёплый день, оба одновременно почуяли мы аромат первых побегов зелёной травки, которая начала пробиваться из только что обнажившейся земли, и оба одновременно выбрались мы каждый из своего мрачного закутка навстречу первому приветливому, настояш,ему весеннему утру.
Что касается меня, то я вылез из холодного, сырого подвала — из суш,ей дыры, насквозь пропахшей квашнёй и лекарствами. А телёнка выпустили из маленького, тёмного, грязного, загаженного хлева, в который сквозь покосившиеся, дырявые стены зимой попадает снег, а летом хлещет дождь.
Вырвавшись таким образом на вольный божий свет, мы оба — я и телёнок — преисполнились благодарности к при-
Кантор — главный певец в синагоге.
роде и принялись, каждый по-своему, проявлять свой восторг. Я воздел обе руки кверху и, широко раскрыв рот, изо всех сил вдыхал чистый и ароматный весенний воздух. Мне казалось, что меня поднимает ввысь, в беспредельную голубизну неба — туда, где лёгкой дымкой плывут облака, где белоснежные пташки, появляясь и вновь исчезая, ш,ебечут и заливаются, купаясь в глубокой синеве. Из переполненной моей груди невольно вырывается песня куда прекраснее той, которую мы с отцом исполняли в праздники у амвона, — песня без слов, без мелодии, песня бурлящего водопада, стремительных волн, какая-то песнь песней, полная упоения и восторга.
Так проявлял свою радость по поводу первого весеннего дня я.
Совсем по-иному выражал её телёнок.
Он первым делом уткнул свою влажную чёрную мордочку в кучу навоза, потом поскрёб передним копытцем, потом задрал хвост, подскочил, подобрав сразу все четыре ноги, и замычал:
— Мэ-э-э!..
Это «мэ-э-э» показалось мне до того смешным, что я не мог сдержать хохот и стал тут же передразнивать телёнка, издавая совершенно такое же «мэ-э-э».
Телёнку это, видимо, понравилось: он снова замычал и снова подскочил, подобрав все четыре ноги. Само собой разумеется, и я, в свою очередь, тоже подпрыгнул. И так несколько раз: я прыгну — телёнок прыгнет; телёнок «мэ-э-э» — и я «мэ-э-э»!..
Кто его знает, сколько могла бы продолжаться эта игра, если бы мой старший брат Эля не огрел меня по шее:
— Чтоб ты просалился! Парню скоро девять лет, а он балуется с телёнком! Марш домой, негодный мальчишка!.. Подожди, отец тебе задаст!..
Какая чепуха! Ничего отец мне не задаст. Отец болен. С осени, с самых праздников, он уже больше не служит в синагоге и только кашляет ночи напролёт. К нам ходит доктор, смуглый толстяк с чёрными усами и смеющимися глазками, — весёлый человек. Меня он зовёт «Пузырь» и щёлкает по животу. Он всё пытается убедить маму, что нехорошо кормить меня одной картошкой. А больному он велит давать бульон и молоко, молоко и бульон. Мама внимательно выслушивает эти советы, а когда доктор уходит, она прячет лицо в передник, и у неё начинают трястись плечи. Потом она вытирает глаза, отзывает в сторонку брата, и они начинают шептаться. О чём — не знаю, но похоже, что они ссорятся. Мама куда-то его посылает, а он отказывается идти.
— Лучше мне провалиться сквозь землю, чем пойти одалживаться у этих людей! — говорит он. — Лучше мне сегодня же помереть!..
— Откуси себе язык, нечестивец! Что ты там болтаешь! — шёпотом, стиснув зубы, обрывает его мать и машет на него руками.
Поглядеть со стороны — она готова его растерзать. Однако скоро она смягчается и говорит:
— Что ж нам делать, сынок? Жаль отца! Надо его спасать
— Лучше что-нибудь продать, — предлагает Эля, поглядывая на буфет.
Мама тоже смотрит на буфет. Вытерес глаза, она шепчет:
— Что ж мне продать? Душу? Кажется, больше уж и продать нечего. Разве что пустой буфет!..
— Что ж! — соглашается Эля.
— Разбойник! Душегуб! — внезапно восклицает мама, и глаза у неё краснеют. — Ив кого только у меня дети такие душегубы?!
Она вне себя от негодования. Однако, немного поплакав, она утирает глаза и соглашается с Элей.
Так было, когда продавали книги, серебряную бахрому с отцовского молитвенного покрывала, два позолоченных бокальчика, мамино шёлковое платье, да и все прочие вещи, уплывшие одна за другой, каждая в другие руки.
Книги купил книгоноша Михл, человечек с реденькой боро-денкой, которую он постоянно почёсывает. Бедняжке Эле пришлось ходить за ним три раза, пока наконец удалось привести его к нам. Мама очень обрадовалась, увидев его, но, приложив палец ко рту, сделала ему знак говорить тихо, чтобы не услышал отец. Михл понял. Задрав голову к книжной полке и, по обыкновению, почёсывая бородёнку, он сказал негромко:
— Ну-ка, покажите, что у вас там?
Мама кивком приказала мне влезть на стол и подавать книги. Повторять приказание ей не пришлось. Я был в восторге и одним прыжком очутился на столе, но тут же растянулся во всю длину. Тогда мне влетело от брата за то, что я прыгаю, по его мнению, «как сумасшедший». Затем он сам взобрался на стол и принялся подавать книги Михлу.
Тот перелистывал их одной рукой, другой продолжая почёсываться. В каждой книге он находил какой-нибудь недостаток: у одной переплёт не в порядке, у другой повреждён корешок, третья — вообще не книга. Когда наконец он осмотрел все книги, все переплёты и все корешки, он поскрёб бородку и заявил:
— Будь это талмуд полный комплект, я бы, пожалуй, уступил
Мама даже побелела, а брат, наоборот, стал красный, как кумач.
— Почему же вы раньше не сказали, что покупаете только комплекты талмуда? — набросился он на Михла. — Вы просто пришли морочить людям голову, время у них отнимать!..
— Тише, Эля! Прошу тебя, тише! — умоляет мама.
Из соседней комнаты доносится хриплый голос отца:
— Кто там?
— Никого здесь нет! — отвечает мама.
Она посылает брата к больному, а сама торгуется с Мих-лом и в конце концов сбывает ему все книги. Но, видимо, она продала их за бесценок, потому что, когда входит Эля и спрашивает, сколько Михл заплатил, мама говорит:
— Не твоё дело!
А Михл поспешно пихает книги в мешок и столь же поспешно исчезает.
Самое большое развлечение доставила мне продажа буфета.
Правда, когда спарывали серебряную бахрому с отцовского молитвенного покрывала, тоже было забавно. Прежде всего было интересно слушать, как торгуется ювелир Иосель. Этот бледный человек с красным пятном посреди лица уходил и возвращался три раза и в конце концов, разумеется, добился своего. Тогда он сел у окна, заложил ногу за ногу, достал из кармана ножик с жёлтым черенком из оленьей кости и, загнув средний палец, стал ловко спарывать бахрому. Кажется, если бы я умел так ловко спарывать бахрому, я бы считал себя самым счастливым человеком на свете.
А мама — посмотрели бы вы, как она рыдала! Даже Эля, взрослый молодой человек, почти жених, и тот почему-то повернулся лицом к дверям, как-то странно взвизгнул и стал вытирать глаза полой пиджачка.
— Что там? — спрашивает отец из своей комнаты.
— Ничего, — отвечает мама и тоже вытирает красные от слёз глаза.
А нижняя губа и вся нижняя половина лица так у неё и трясутся!.. Нужно было быть каменным, чтобы удержаться от смеха, глядя на неё.
Но всё это пустяки в сравнении с тем, что творилось при продаже буфета.
Талмуд — свод религиозных, бытовых и правовых предписаний иудейства, составленный в период между V — VII веками до новой эры.
Во-первых, как это так — заберут наш буфет? Мне всю жизнь казалось, что он прирос к стенке. Разве можно его отодрать? Во-вторых, куда мама будет запирать хлеб, субботнюю халу, тарелки, оловянные ложки и вилки (у нас были две серебряные ложки и одна серебряная вилка, но мама их уже продала) и где мы в пасху будем держать мацу?
Я думал обо всем этом, когда столяр Нахман измерял буфет, водя по йем пальцами с огромными красными ногтями. Нахман считал, что буфет в дверь не пройдёт.
— Как же он вошёл? — заинтересовался Эля.
— У него и спроси! — огрызается Нахман. — Откуда я знаю, как он вошёл? Втащили — вот он и сошёл.
Была минута, когда я даже стал бояться за буфет — я подумал, что он останется у нас. Но мои сомнения продолжались недолго. Нахман явился с двумя сыновьями, тоже столярами, и они подхватили свою покупку с дьявольской ловкостью. Впереди пошёл Нахман, за ним — сыновья с буфетом, за сыновьями — я.
Старик командовал:
— Копл, заходи сбоку! Мендл, бери вправо! Копл, не торопись! Мендл, держи!..
Я помогал, прыгая вокруг них. Эля и мама не хотели помогать. Они стояли и печально смотрели на опустевшее место, на стену, затянутую паутиной, и плакали. Странные они оба — только и знают, что плачут!
Вдруг трррах! Почти у самого выхода в буфете разбилось стекло.
Между столяром и его сыновьями началась перебранка, каждый обвинял другого:
— Чучело!
— Медведь!
— Черти тебя носили!
— Шею бы тебе свернуть!
— Будь ты проклят!
— Что там такое? — послышался хриплый голос из комнаты больного.
— Ничего, — отвечает мама и вытирает слёзы.
Наконец очередь дошла до моей кроватки и Элиного дивана.
Вот когда было по-настоящему весело.
Элин диван рашзше назывался кушеткой, им пользовались только для сидения. Но когда Эля сделался женихом, он стал спать на кушетке, а я — на его кровати, и кушетка была переименована в диван.
В доброе старое время, когда отец ещё был здоров и с четырьмя певчими пел в синагоге мясников, в диване были пружины. Потом они перешли ко мне, и я стал проделывать с ними разные штуки. Я покалечил руку, едва не выколол себе глаз; однажды я надел пружину на шею и чуть-чуть не задохся. Кончилось тем, что Эля здорово меня поколотил, забросил пружины на чердак и убрал лестницу.
Диван и кровать купила у нас некая Хана. Мама не позволяла ей подходить к вещам близко и осматривать их, пока не сторговались в цене.
— Покупайте, что видите. Рассматривать тут нечего!
Но когда Хана, внеся задаток, подошла к дивану и кровати и приподняла постель, она стала отчаянно плеваться. Маму это так обидело, что она даже готова была вернуть задаток. Но вмешался Эля:
— Раз куплено — значит, куплено!..
Нам с Элей постелили на полу, и мы растянулись, как два графа, под одним одеялом (Элино одеяло было продано). Мне было приятно услышать из уст старшего брата, что на полу вовсе не так уж плохо спать.
Когда он прочёл молитву на сон грядущий и уснул, я принялся кататься по всему полу.
Места теперь, слава богу, хватало. Какой простор! Какое раздолье! Рай, да и только!
— Что будет дальше? — спрашивает мама однажды утром, сосредоточенно разглядывая голые стены.
Мы с Элей делаем то же самое. Вдруг брат оборачивается ко мне и говорит с озабоченным видом:
— Пойди-ка во двор, нам нужно кое о чём побеседовать с мамой.
В одно мгновение я был во дворе и, конечно, сразу пустился к телёнку.
За последнее время Мени вырос и — только бы, не сглазить! — похорошел. Чёрная мордочка стала ещё миловиднее, а круглые глаза смотрят по-человечьи, разумно, точно Мени ждёт, чтобы ему дали чего-нибудь пожевать или, по крайней мере, почесали ему шейку. Он очень это любит.
— Опять ты с телёнком? Никак ты не можешь расстаться со своим милым дружком? — слышу я вдруг голос брата.
На этот раз обошлось всё-таки сравнительно тихо.
Эля берёт меня за руку и говорит, что сейчас мы пойдём к кантору Герш-Беру. Там мне будет хорошо. Во-первых, меня будут кормить. Дома сейчас дела плохи — отец болен, надо его спасать.
— Мы, — говорит Эля, — делаем всё, чтобы его спасти.
Эля расстёгивает пиджак и показывает на свою жилетку:
— Видишь, у меня были часы, подарок будущего тестя. Пришлось их продать. Ужас, что было бы, если бы он узнал! Просто светопреставление!
Я благодарю бога за то, что старик ничего не знает о продаже часов и мы, таким образом, спасены от светопреставления. Не дай бог, если бы оно в самом деле произошло!.. Что было бы с телёнком? Бедное бессловесное создание
С каждой минутой Эля становится ласковее и добрее.
— Вот мы и пришли, — говорит он наконец.
Кантор Герш-Бер — человек музыкальный. Сам он, правда, не поёт: у него, у бедняги, нет голоса. Так говорит мой отец. Но Герш-Бер знает толк в пении. У него пятнадцать певчих в хоре. А сам он страшно строгий.
И вот он стал пробовать мой голос. Я ему понравился. Он погладил меня по голове и сказал, что у меня сопрано. На это брат заметил, что у меня не просто сопрано, а всем сопранам сопрано
После этого они стали торговаться, и наконец Эля получил задаток и объявил мне, что я остаюсь жить у Герш-Бера.
— Слушайся его и не скучай!
Легко сказать — не скучай! Могу ли я не скучать, когда на дворе лето, солнце печёт, небо прозрачно, как хрусталь, а грязь
давно просохла? Во дворе, прямо у нашего дома, свалены брёвна. Они не наши: это богач Иося собирается строить дом и заготовил лес; ему негде держать — и он свалил его у нас. Дай ему бог здоровья, этому богачу! Из его брёвен я себе строю крепость. А в крепости растут репейник и хлопушки. Репейником можно швыряться в мальчишек, а хлопушку надуешь, хлопнешь ею себя по лбу, и она с треском лопается.
Здесь, у брёвен, хорошо и мне и телёнку. Мы с ним — единственные хозяева на весь двор. Как же мне не скучать?!
Вот уже скоро три недели, как я живу у Герш-Бера, а петь мне почти не приходится. Для меня нашли другую работу: я нянчу маленькую Добце. Она горбунья. Ей ещё и двух лет не исполнилось, а она такая тяжёленькая — тяжелее меня. Я прямо надрываюсь, таская её на руках.
Добце меня любит. Она крепко обнимает меня своими худыми ручонками; её тонкие пальчики впиваются в меня. Зовёт она меня «Кико». Почему «Кико» — не знаю. Добце меня любит. По ночам она не даёт мне спать:
— Кико, ки!
Это значит:
«Кико, качай меня!»
Добце меня любит. Когда я ем, она вырывает у меня кусок изо рта:
— Кико, пи!
Это значит:
«Отдай мне!»
Меня тянет домой. Да и кормят здесь неважно.
Сегодня праздник — пятидесятница. Говорят, в этот день, вечером, разверзаются небеса. Как хочется посмотреть! Как тянет на улицу! Но Добце меня не отпускает. Она меня любит.
— Кико, ки! Качай меня!..
Я баюкаю и баюкаю её, пока сам не засыпаю. Ко мне приходит в гости телёнок Мени. Он смотрит на меня своими разумными глазами и говорит: «Идём!»
И мы с ним спускаемся к речке. Недолго думая я закатываю штанишки, гоп! — и я в воде. Я плыву, а Мени за мной. И вот мы на другом берегу. Там хорошо. Там нет ни Герш-Бера, ни Добце, ни больного отца.
Просыпаюсь — это был только сон.
Бежать, бежать, бежать отсюда!
Но как? Куда?
Конечно, домой.
Однако уже встал Герш-Бер. Он держит большой камертон, пробует его у себя на зубах и подносит к уху. Затем он приказывает мне одеться побыстрее и идти с ним в синагогу:
— Сегодня мы будем петь нечто особенное!..
А в синагоге я с удивлением вижу брата. Как он сюда попал? Обычно он ходит молиться в синагогу мясников, где служит наш отец. В чём дело?
Вижу, Эля о чём-то говорит с Герш-Бером, и тот явно недоволен.
— Помни же! — говорит он. — Немедленно после обеда.
— Идём! — предлагает мне брат. — Повидаешься с отцом.
И мы направляемся домой. Брат идёт шагом, а я бегаю и
прыгаю.
— Что ты носишься? — говорит Эля.
Я вижу, ему хочется поговорить со мной.
— Ты знаешь, отец очень-очень болен. Один бог ведает, что с ним будет. Надо его спасать, но не на что, никто помочь не хочет. А положить его в больницу мама ни за что не соглашается. «Пока я жива, говорит она, я его в больницу не пущу» Тише, вот она идёт.
Мама шла нам навстречу, вытрнув руки вперёд. Она сжала меня в объятиях, и я почувствовал у себя на щеке её слезу. Эля вошёл в дом, к отцу, а мы с мамой остались во дворе. Нас обступили со всех сторон. Тут и соседка наша — толстуха Песя, и её дочь Миндл, и невестка Перл, и ещё какие-то две женщины.
— У вас к празднику гость! — говорят они. — Поздравляем вас!
А мама опускает распухшие от слёз глаза.
— Да, гость Ребёнок пришёл проведать больного отца. Всё же ребёнок!.. — говорит она и тихо добавляет, обращаясь к Песе, которая сочувственно кивает головой: — Что за город?.. Хоть бы кто-нибудь поинтересовался!.. Человек двадцать три года молился у амвона Всё здоровье своё погубил Быть может, ещё можно было бы его спасти, но не на что. Все уже, с божьей помощью, распродано — до последней подушки. Ребёнка отдали в певчие Всё ради больного, всё, чтобы его спасти.
Песя слушает мамины жалобы, а я смотрю по сторонам.
— Кого ты ищешь? — спрашивает мама.
— Кого же ещё искать такому озорнику? Конечно, телёнка! — говорит Песя и обращается ко мне как-то особенно ласково: — Ах, дитя моё, нет уже телёнка! Пришлось продать его мяснику! Ничего не поделаешь. Нам и одну скотину кормить трудно, где уж двух держать
Вот тебе и на — телёнок вдруг стал скотиной!..
Всё-таки она странная женщина, эта толстуха! Всюду ей надо совать свой нос! Обязательно ей надо знать, есть ли у нас молочный обед, как полагается в праздник пятидесятницы!
— Это вы к чему? — спрашивает мама.
— Просто так, — отвечает Песя.
При этом она достаёт из-под шали кувшин сметаны и предлагает матери. Та отталкивает его обеими руками:
— Бог с вами, Песя! Что вы делаете? Разве мы нищие какие-нибудь? Вы не знаете, кто я?
— Вот именно, — оправдывается Песя, — именно потому, что я вас знаю Коровка у меня за последнее время поправилась, слава богу. У нас теперь есть и немножко творога и немножко масла Я вам даю взаймы Бог оглянется — вернёте!..
Песя ещё долго о чём-то беседует с мамой, а меня так и тянет к брёвнам, к телёнку, к телёнку, к телёнку Если бы мне не было стыдно, я бы заплакал
Но мама почему-то читает мне наставление:
— Если отец станет тебя о чём-нибудь расспрашивать, скажи: всё, слава богу, хорошо!
А брат растолковывает более обстоятельно:
— Не жаловаться! Никаких историй ему не рассказывать! О чём он ни спросит, ответ один: слава богу! И — всё! Понял?
Мы входим с Элей в комнату больного. Весь стол здесь заставлен пузырьками, баночками, коробочками. Пахнет аптекой. Окно закрыто. Но ради праздника комната убрана зеленью. Пол устлан пахучей травой. Это, конечно, работа Эли.
Отец увидел меня и длинным, иссохшим пальцем делает л-не знак подойти.
Эля подталкивает меня. Я подхожу, но еле узнаю отца: лицо у него землистого цвета; чёрные глаза запали как-то неестественно глубоко; седые волосы лоснятся и торчат, как искусственные; зубы тоже стали похожими на вставные; шея до того исхудала, что голова еле держится. Счастье, что он не может сидеть! Всё время он как-то странно шевелит губами и отдувается, как пловец:
— Тпфу! Тпфу!..
Он прикасается к моей щеке. Рука у него костлявая и горячая. Он улыбается какой-то кривой улыбкой и становится совсем уж похож на мертвеца.
В эту минуту входит мама, а за ней — доктор, весёлый смуглый человек с большими чёрными усами. Он встречает меня как старого приятеля, угощает щелчком в живот и весело говорит отцу:
— У вас к празднику гость! Поздравляю!
— Спасибо! — отвечает мама и знаками просит его поскорее осмотреть больного и прописать ему какое-нибудь лекарство.
Доктор с шумом раскрывает окно и ругает брата за то, что оно вечно закрыто:
— Я вам тысячу раз говорил: окна любят, чтобы их держали открытыми!
Эля отвечает ему молчаливым кивком в сторону мамы — мол, она виновата, она не разрешает открывать окна: она всё боится, как бы это не повредило отцу, как бы он, упаси бог, не простудился.
Мама снова молчаливо, одними знаками, просит доктора поскорее осмотреть больного и назначить ему какое-нибудь лекарство. Но доктор не торопится. Он достаёт часы, большие золотые часы, и брат впивается в них глазами.
— Хотите знать, который час? — спрашивает доктор, заметив его взгляд. — Без четырёх минут половина одиннадцатого. А на ваших?
— Мои стоят, — отвечает Эля, весь зардевшись от кончика носа до ушей.
Маме не терпится: она хочет, чтобы доктор всё-таки поскорее занялся больным. А доктор не спешит. Он расспрашивает о всяких посторонних вещах: когда свадьба у брата? Что говорит Герш-Бер о моём голосе? По мнению доктора, у меня должен быть хороший голос, по наследству от отца Мама вне себя.
Наконец доктор резко поворачивается вместе со стулом к больному, берёт его сухую руку и спрашивает: -
— Ну, как у вас сегодня сошла молитва?
— Слава богу, — отвечает отец, а улыбка у него мёртвая.
— Меньше кашляли? Больше спали? — спрашивает доктор, наклоняясь к нему.
— Нет, — говорит отец задыхаясь. — Наоборот Кашлял много спал мало Вовсе не спал всю ночь Но, слава богу, сегодня праздник такой праздник А тут и гость к празднику пришёл
Все глаза устремляются на «гостя». А «гость» стоит поту-
пившись, и мысли его далеко — они во дворе, у сваленных брёвен; у репейника, которым можно швыряться в мальчишек; у хлопушек, которые так интересно трескаются; у телёнка, который стал так понятлив, что его уже считают скотиной; у речки, журчащей внизу, под горой; а может быть, и в необъятной глубине того огромного лазурного свода, который зовут небом.
Сметана, которую дала нам «взаймы» соседка Песя, пришлась весьма кстати. Мы с братом макали свежую булку в блюдце с холодной сметаной, и получалось совсем не плохо.
— Жаль только, что мало, — заметил Эля.
В этот день он был настроен так добродушно, что не торопил меня к Герш-Беру.
— Ведь ты у нас гость, — сказал он и даже позволил мне поиграть во дворе, на брёвнах, однако с условием, чтобы я не забывался и не порвал, упаси бог, единственной пары штанов.
Ха-ха-ха! Не порвать единственрой пары штанов! Смеяться некому, право! Посмотрели бы вы на эти штаны. Ну и ну! Лучше уж о них не вспоминать! Давайте поговорим о брёвнах богача Иоси. Какие брёвна!.. Иося, конечно, думает, что они принадлежат ему. Чёрта с два! Они мои! Я построил себе из них дворец с виноградником. Я — принц! Принц разгуливает по своему винограднику, сорвёт хлопушку — и хлоп себя по лбу, ещё одну — и опять хлоп по лбу
Все мне завидуют. Даже косоглазый Генох, сын самого Иоси, и тот смотрит на мои владения с завистью, когда проходит мимо в своём новеньком люстриновом костюмчике. Он тычет пальцем в мои штаны, косит глазом и, посмеиваясь, говорит мне:
— Смотри не потеряй чего-нибудь.
— Уходи лучше подобру-поздорову! — отвечаю я. — Не то я позову брата!..
Брата моего все мальчишки побаиваются, и косоглазый Генох убирается восвояси. А я снова принц в своих владениях. Жаль только, что нет Мени. Но телёнок уже больше не телёнок — он скотина. Так говорит толстуха Песя. Что, собственно, это значит — скотина? И зачем телёнка продали мяснику? Неужели Мени зарежут? Для того ли он родился, чтобы его зарезали? Для чего же рождается телёнок и для чего рождается человек?
Внезапно из дома доносятся страшные крики и плач. Узнаю
голос мамы. Смотрю — вокруг дома толпа. М)жчины, женщины. Одни входят, другие выходят
Но я лежу на бревне. Мне хорошо.
Тише, тише, идёт сам Иося! Он староста синагоги мясников, в которой вот уже двадцать три года служит отец. Иося и сам когда-то был мясником, но теперь он торгует скотом и кожей. Он богат, он очень богат!..
Иося сердится, он машет на маму руками:
— Как зе это так? Поцему мне не сказали, цто кантор Пейсе так болен? Цего вы молцали? (Иося не выговаривает «ж» и
— Зачем же мне было кричать? — оправдывается мама, обливаясь слезами. — Весь город видел, как я мучаюсь Я старалась спасти его Он так умолял спасти его
Мама не в состоянии говорить. Она ломает руки, голова у неё запрокидывается. Эля подхватывает маму.
— Мама, — говорит он, — зачем ты оправдываешься? Не забудь, что сегодня праздник, мама! Нельзя плакать.
А богатый Иося мечет громы и молнии:
— Цто вы мне рассказываете — весь город знал! Цто такое город? Мне надо было сказать, только мне!.. Я всё беру на свой сцот! Погребение, саван — всё! А если потребуется цто-ни-будь для сирот — приходите прямо ко мне!..
Но маму его слова не утешают. Она всё рыдает и виснет без чувств на руках у Эли. А он, сам не переставая обливаться слезами, всё твердит ей одно:
— Сегодня праздник, мама! Нельзя плакать, мама!..
И вдруг мне всё становится ясно. Сердце сжимается от боли. Меня охватывает тоска, мне хочется плакать, но я не знаю, по какому поводу. Мне просто жаль маму, я не могу смотреть, как она убивается, как она поминутно теряет сознание.
И тут я покидаю свой дворец и виноградник. Я подхожу к маме и тоже говорю ей:
— Мама, ведь сегодня праздник! Сегодня нельзя плакать, мама!..
А слёзы у меня самого так и льются.
II. МНЕ ХОРОШО-Я СИРОТА!
"Никогда в жизни мне не оказывали такого уважения, как сейчас.
Почему? Потому что, как вы знаете, в первый день пятидесятницы умер мой отей.
Как только праздники кончились, мы с Элей стали читать поминальную молитву. Эля и научил меня этой молитве.
Эля — добрый и преданный брат, но учитель из него плохой. Он всё время раздражается и дерётся. Вот он садится рядом со мной, раскрывает молитвенник и начинает:
— Да возвеличится и святится имя твоё
Ему бы хотелось, чтобы я сразу всё запомнил наизусть. Он снова и снова читает всю молитву, от начала и до конца, а потом требует, чтобы я её всю повторил на память.
А у меня не получается. До середины я ещё кое-как добираюсь, а дальше — стоп, дальше — плохо. Тогда я получаю локтем в бок. Брат говорит, что у меня голова не здесь, а где-то во дворе (ведь как угадал!) или что она занята мыслями о телёнке (как в книгу смотрел!).
Эля не ленится, он повторяет всё с самого начала. Одну трудную фразу я кое-как одолеваю, но дальше — опять ни с места!
Эля хватает меня за ухо и говорит:
— Если бы отец встал из могилы и увидел, что у него за сын!..
— Тогда мне не пришлось бы читать поминальную молитву, — замечаю я и тотчас же получаю здоровенную оплеуху.
Но тут немедленно вмешивается мама. Отчитав брата как следует, она напоминает ему, что меня бить нельзя: я сирота!
— Бог с тобой! — кричит она. — Что ты делаешь?! Кого ты бьёшь? Одумайся! Ты забываешь, что этот ребёнок — сирота!
Сплю я теперь с матерью на отцовской кровати. Эта кровать — всё, что осталось в доме из мебели. Почти всё одеяло мама отдаёт мне.
— Бедный ты мой сиротка! — причитает она. — Накройся потеплее и спи! Кормить-то тебя нечем!
Одеяло я на себя, конечно, натягиваю, но уснуть не могу. Я всё твержу на память слова молитвы. Зато я не хожу в школу, не учусь, не молюсь, не пою у Герш-Бера. Никаких забот.
Мне хорошо — я сирота!
Можете меня поздравить! Я уже знаю всю молитву наизусть. В синагоге я становлюсь на скамью и залпом выпаливаю её всю сразу. Голос у меня хороший, я его унаследовал от
отца, — настоящий сопрано. Другие ребята смотрят на меня с завистью, женщины плачут, а многие молящиеся дарят мне медяки.
Косоглазый Генох, сын богача Иоси, — ужасный завистник: в самую трудную минуту он показывает мне язык. Ему хочется во что бы то ни стало рассмешить меня. Но, ему назло, я смеяться не буду! Однажды синагогальный служка Арон заметил его проделки, схватил его за ухо и потащил за дверь. Так тебе и надо!
Читать поминальную молитву полагается утром и вечером. Поэтому к Герш-Беру я уже не вернулся, и мне больше не приходится нянчить Добце.
Так что я свободен. Целые дни провожу я на реке, купаюсь и ловлю рыбу.
Ловить рыбу я научился сам. Если хотите, я могу научить и вас. Вот как это делается. Надо снять рубашку, завязать рукава узлом и войти в реку, пока вода не достигнет вам до горла. Ходить надо долго, очень долго. Наконец вы почувствуете, что рубашка отяжелела, — значит, она уже полна. Тогда поскорее выходите, вытряхните из рубашки весь ил и тину и хорошенько смотрите. В тине можно найти много мелких лягушат — выбросьте их. Но иной раз попадается и пиявка. Это другое дело. За десяток пиявок дают полторы копейки. Такие деньги на улице не валяются. А рыбы не ищите. Было время, когда в нашей речке водилась и рыба, но сейчас её нет. Я за рыбой и не гоняюсь. Я рад, когда хоть пиявки попадаются. По и пиявку не всякий раз найдёшь. За нынешнее лето я ещё ни одной не взял.
Не могу понять, каким образом пронюхал Эля, что я занимаюсь рыбной ловлей. Он мне чуть все уши не оборвал за эту рыбу. На моё счастье, поблизости оказалась наша соседка Пе-ся. Родная мать не могла бы заступиться за своего ребёнка более горячо!
— Разве можно бить сироту?!
Эле стало стыдно — он выпустил моё ухо.
За меня все заступаются.
Мне хорошо — я сирота!
Наша соседка, толстуха Песя, прямо-таки полюбила меня. Она просит маму отпустить меня пожить у неё.
— О чём вы беспокоитесь? — говорит она. — У-меня за стол садится двенадцать человек. Будет тринадцатый. И пристала, как клещ.
Мама уже готова была согласиться. Но тут вмешался брат:
— Кто будет следить за тем, чтобы он аккуратно ходил читать поминальную по отцу?
Я сама послежу. Хорошо?
Толстуха Песя — женщина небогатая. Она жена переплётчика Мойши. Правда, Мойша считается прекрасным мастером своего дела. Но одного мастерства мало.
— Нужно ещё, чтобы человеку везло, — говорит Песя моей маме.
Мама того же мнения.
— Ив невезенье тоже нужно везение, — говорит она Песе и приводит меня в пример.
Вот я — сирота, а все хотят меня взять к себе. Кое-кто хочет даже взять меня к себе навсегда.
— Но, — говорит мама со слезами на глазах, — не доживут мои враги до того, чтобы я отдала своего ребёнка навсегда Как ты полагаешь, — советуется она с Элей: — отдать его на время Песе?
Эля уже взрослый — иначе с ним не стали бы советоваться. Он проводит рукой по своему лицу, на котором ещё не видно никакой растительности, но делает это так, как будто у него густая борода, и говорит важным тоном взрослого человека:
— Ну что ж! Только бы он не озорничал
На том и решили: я поживу у соседки Песи, но только чтоб никакого озорства
Всё у них — озорство! Привязать кошке бумажку к хвосту, чтобы кошка веселее вертелась, — озорство! Постучать палкой по ограде поповской усадьбы, чтобы сбежались собаки, тоже озорство! Вытащить у Лейбки-водовоза затычку из бочки, чтобы побежала вода, — опять озорство!
— Твоё счастье, что ты сирота, — говорит мне Лейбка, — не то я бы тебе перебил руки и ноги! Уж положись на меня
Я в этом и не сомневаюсь. Зато я знаю, что теперь он меня не тронет: я сирота.
Мне хорошо — я сирота!
А Песя, не в обиду ей будь сказано, соврала. Она говорила, что за стол у неё садится двенадцать человек. А по моему подсчёту выходит, что я — четырнадцатый. Она, очевидно, забыла посчитать слепого дядю Боруха. Впрочем, она, пожалуй, не берёт его в расчёт потому, что очень уж он стар, у него нет зубов, и он жевать не может. Не буду спорить. Жевать у него нечем, это верно, зато уж глотает он, как гусь, и всё норовит схватить лишний кусок.
Впрочем, все они здесь хватают и рвут друг у друга из рук,
как черти. Попробовал и я, но мне за это досталось: меня стали бить ногами под столом. И Вашти — больше всех. Он сущий разбойник. Его настоящее имя — Герш, но его прозвали Вашти из-за шишки на лбу.
Здесь у каждого своё прозвище: Колода, Кот, Черногуз Буйвол, Дай-ещё, Смажь-маслом.
И что замечательно — прозвища метки и даны ке зря. Пиню, например, прозвали Колодой, потому что он толстый и круглый и действительно напоминает колоду. Велве.пя прозвали Котом, потому что он чёрный. Хаим — увалень и в самом деле похож на буйвола. Менделя прозвали Черногузом за длинный нос, похожий на клюв аиста. У Файтла заплетается язык. Его прозвали Пе-тэ-лэ-лэ. Берл — страшный обжора: дадут ему кусок хлеба с гусиным жиром, а он: «Дай ещё». Зорах получил постыдную кличку «Смажь-маслом», правда, не по своей вине. Он страдает неприятной болезнью, в которой скорей виновата его мать, которая редко мыла ему голову. А быть может, и она не виновата. Спорить не стану, а уж в драку из-за этого и подавно не полезу.
Словом, в этом доме у каждого своё прозвище. Чего уж больше — кошка, невинная, бессловесная тварь, и та получила у них прозвище: «Старостиха Фейга-Лея». Знаете почему? Потому что она толстая, откормленная, как Фейга-Лея, жена синагогального старосты Нахмана. Сколько их лупили за то, что они кошке дали человеческое имя! Но ничего не помогает — как горох об стенку! Уж они если прилепили кому-нибудь прозвище — кончено!
А меня знаете как они прозвали? Не угадаете Мотл-губо-шлёп! Им, видите ли, мои губы не понравились. Они говорят, что во время еды я шевелю губами. Хотел бы я видеть человека, который может есть, не двигая губами!
Я, право, не такой уж гордец, чтобы нельзя было затронуть мою честь. Однако не знаю почему, но эта кличка весьма мне не нравится. А они это заметили и все время дразнят меня. Нахалы, каких свет не видал!
Сначала они меня звали Мотл-губошлёп, затем просто Губошлёп, а потом ещё проще: Губа.
— Губа, где ты был?
— Губа, утри нос!
Вашти — жена легендарного царя Артаксеркса. По преданию, у неё была шишка на лбу.
2 Черногуз — по-украински: аист.
Мне делается обидно и досадно прямо до слёз.
Однажды их отец, муж Песи, спрашивает меня, почему я плачу.
— Как же мне не плакать, — я говорю, — когда моё иМя Мотл, а они меня зовут Губа?,
— Кто тебя так зовёт?,
Я говорю:
— Вашти!
Он хочет вздуть Вашти, но тот отнекивается: мол, это не он меня обидел, а Колода. Тогда отец хочет наказать Колоду. Но Колода взваливает на Кота. И так все: один сваливает на другого, другой — на третьего Поди разберись.
Кончилось тем, что отец разложил их, одного за другим, и здорово всех отшлёпал переплётом большого молитвенника, приговаривая:
— Стервецы! Я вам покажу, как обижать сироту!
Бот видите, всякий за меня заступается. Никто меня в обиду не даёт.
Мне хорошо — я сирота!
III. ЧТО из МЕНЯ выйдет?
Ну-ка, попробуйте отгадать, где находится рай! Никогда вы не отгадаете.
Каждый называет какое-нибудь другое место. Например, мама уверена, что рай находится там, где сейчас пребывает отец. Она говорит, что там обретаются все праведные души, которые страдали на земле. Они заслужили себе царство небесное тем, что здорово намучились, прожив свою жизнь на земле. Это ясно как день, и мой отец может служить лучшим примером.
— Где ему ещё и быть, если не в раю? Мало он настрадался при жизни? — говорит мама и вытирает слёзы, как всегда, когда вспоминает об отце.
А вот спросите моих товарищей, и они вам наговорят, будто рай находится на горе, которая вся из чистого хрусталя, а вершина упирается в небо. Детям живётся там очень хорошо: они свободны, учиться их не заставляют, они ничего не делают, с утра до вечера купаются в молоке и едят мёду сколько влезет.
Бы думаете, это всё, что людям известно о рае? Нет, конечно, нет! Например, переплётчики считают, что рай находится в бане. Я это собственными своими ушами слышал от пезо
реплетчика Мойши, мужа нашей соседки Песи, даю вам честное слово!
Вот после этого и разберись!
А если бы спросили меня, я бы сказал, что рай — это не что иное, как сад фельдшера Менаше. В жизни вы такого сада не видали. Другого такого нет не то что на нашей улице или в нашем городе — я почти уверен, что во всём мире нет таких садов, как сад нашего фельдшера Менаше. Нет, не было и не будет! Это вам всякий скажет.
Но что описать вам раньше: самого Менаше, или его жену Менашиху, или их сад, то есть рай?
Всё-таки, я думаю, начать надо с фельдшера и его жены. Они хозяева — им и честь.
Фельдшер Менаше подражает нашему доктору. Поэтому он зимой и летом носит пелерину. Один глаз у него меньше другого, а рот чуть съехал на сторону. Вернее — не чуть, а здорово, очень здорово съехал у него рот на сторону. Менаше говорит, что это его ветром продуло. Однако мне непонятно, как может ветер сдвинуть у человека рот. Сколько раз стоял я сам на ветру! Уж, кажется, не то что рот — голову могло бы мне своротить задом наперёд! И ничего!
Я думаю, у Менаше просто такая привычка — кривить рот. Вот, например, мой товарищ Берл. У него привычка все время моргать глазами. А Велвел говорит, точно лапшу хлебает. Всё на свете — дело привычки.
Однако хоть рот у него и съехал на сторону, дела у Менаше идут лучше, чем у любого доктора. Потому что, во-первых, он из себя не корчит барина, как наши доктора. Только его позвали — он тут. Во-вторых, он не прописывает рецептов. Все лекарства он изготовляет сам.
Однажды меня стало трясти, как в лихорадке, и началось колотьё в боку. Очевидно, я слишком долго проторчал в речке. Мама сразу побежала за Менаше. Тот пришёл, осмотрел меня и говорит кривым своим ртом:
— Нечего пугаться. Пустяки. Парень застудил лёгкие.
И тут он достаёт из кармана синий пузырёк и что-то отсыпает из него в шесть маленьких бумажек. Это называется — порош-
ки. Один порошок он заставляет меня принять немедленно. Как я кричал, как я отбивался! Чуяло сердце моё, что порошок горек, как смерть. Так оно и оказалось! Да ведь ещё и горечь горечи рознь. Пробовали вы когда-нибудь пожевать кору, только что содранную с зелёного куста? Такой же вкус имели порошки Менаше. Вообще, знайте раз навсегда: если порошок, значит, горечь.
Но мне не помогли никакие мольбы — порошок пришлось-таки принять. И тут мне показалось, что вот она, моя смерть!
Остальные пять порошков Менаше приказал давать мне через каждые два часа. Нашёл тоже любителя!
Только мама на минуту отлучилась, я высыпал все пять порошков в помойное ведро, а в бумажки завернул по щепотке муки.
У мамы была потом работа: каждый раз бегать к соседке Песе смотреть на часы, не пора ли дать мне порошок. Замечательно, что после каждого порошка мне становилось лучше. После шестого я был совершенно здоров.
— Вот это доктор! — говорила мама.
Она не пустила меня в школу и поила сладким чаем с белой булкой.
— Фельдшер Менаше — всем докторам доктор, дай ему бог здоровья и долгие лета! У него есть какие-то необыкновенные порошки, которые воскрешают из мёртвых.
Так расхваливая фельдшера Менаше, мама, по обыкновению, вытирала глаза.
Жену фельдшера называют Менашихой — по мужу. Вредная баба! Все так считают. Знаете почему? Потому что она злая. Она и не похожа на женщину: у неё грубое мужское лицо, мужской голос, и даже сапоги она носит мужские, а говорит — будто с кем-нибудь ссорится. Неважная у неё слава. Никогда она нищему куска хлеба не даст, а дом у неё — полная чаша. Варенье вы у неё найдёте, например, прошлогоднее, и позапрошлогоднее, и даже десятилетнее. Зачем ей столько варенья — она, вероятно, и сама не знает. Характер у неё такой, а этого не переделаешь. Едва наступит лето, она одно дело делает: варит варенье. И вы думаете — на угле? Ничего подобного! Менашиха собирает шишки, сухие листья, мелкий хворост — дым валит такой, что на всей улице не продохнуть. Если вам случится как-нибудь летом заехать к нам и вы услышите запах гари, не пугайтесь — это не пожар, это Менашиха варит варенье из собственных фруктов, в собственном саду.
Вот мы и добрались до сада, как я обещал вам.
Каких только фруктов здесь нет! И яблоки, и груши, и черешни, и сливы, и вишии, и крыжовник, и смородина, и персики, и абрикосы, и малина, и шелковица — что твоей душе утодно! Чего вам больше: в осенние праздники у Менашихи можно найти даже виноград! Правда, от него глаза на лоб лезут, от этого винограда. Но Менашиха зашибает деньги даже за эту кислятину. Из всего она умеет делать деньги. Даже из подсолнуха. Упаси вас бог попросить у неё подсолнух! Ни за что! Скорей она даст себе зуб вырвать, чем подарит вам хоть один подсолнух. А уж о яблоке, или груше, или сливе и говорить нечего!..
Я знаю её сад как свои пять пальцев. Я знаю, где какой кустик растёт и какой в этом году урожай.
Вы спросите, откуда мне всё это известно? Не беспокойтесь, в этом саду ноги моей не было. Да и как бы я мог туда попасть, когда вокруг стоит высокий забор, к тому же с колючками, да в саду ещё держат собаку, а эта собака — настоящий волк! Он сидит, этот проклятый пёс, на длинной цепи, но пусть только кто-нибудь пройдёт мимо или пусть ему только померещится, что кто-нибудь проходит мимо, и он начинает рваться с цепи, и бросаться, и лаять, точно на него все черти напали, на окаянного.
Тогда вы спросите, откуда же я знаю Менашихин сад?
А вот послушайте, я вам расскажу.
Знаете ли вы сына нашего резника Менделя?.. Нет? Стало быть, где он живёт, вам и подавно неизвестно.
А дом его стоит рядом с домом фельдшера, и окна выходят прямо к Менашихе в сад. Когда вы сидите у Менделя на крыше, весь сад перед вами как на ладони.
Вся штука в том, чтобы попасть к Менделю на крышу. Но для меня это пустяк, потому что дом Менделя стоит рядом с нашим домом и гораздо ниже нашего. Значит, надо только пробраться к нам на чердак (я умею обходиться без лестницы и когда-нибудь, при случае, расскажу вам, как это делается) и просунуть ногу в слуховое окно — и вот вы уже у Менделя на крыше. Там вы устраиваетесь по вашему желанию: вы ложитесь на спину или ничком — как вам заблагорассудится. Но лечь надо обязательно, иначе вас ещё, упаси бог, заметят, и тогда начнётся история.
Я для этого дела обычно выбирал сумерки, когда отправ-
2 Истории для детей 33
лялся читать поминальную по отцу. Самое подходящее время: уже не так светло, но ещё и не так темно. Проберёшься к Менделю на крышу и смотришь к Менашихе во фруктовый сад, — клянусь вам, никакой рай с ним не сравнится!
В самом начале лета начинают цвести деревья: они покрываются белыми цветами. А придёт время — появляются фрукты и ягоды, например крыжовник.
Есть чудаки, которые ждут, пока крыжовник станет жёлтым и даже розовым.
Как это глупо! Уверяю вас: в зелёном виде он гораздо вкуснее и лучше. Вы скажете, что он тогда кислый и от него бывает оскомина? Ну и что? Кислое душу радует, а против оскомины есть верное средство: соль. Надо натереть себе зубы солью и полчаса держать рот открытым. Всякая оскомина долой и можно снова есть зелёный крыжовник.
После крыжовника поспевает смородина. На тоненькой веточке гроздьями висят красные ягодки с чёрными пупырышками и жёлтыми зёрнышками. Проведёте такой веточкой между губами — и вот у вас полный рот кисленьких и ароматных ягод. Объедение! Мама покупает мне на грош кружечку смородины, и я ем с хлебом.
А у Менашихи в саду два ряда кустов густо усыпаны смородиной. На солнце она горит и сверкает, и так хочется сорвать хоть одну гроздочку, хоть одну ягодку, взять её двумя пальцами — и в рот!
Вы мне поверите, стоит мне только заговорить о зелёном крыжовнике или смородине, как я начинаю чувствовать оскомину на зубах.
Поговорим лучше о черешне. Она остаётся зелёной недолго, она быстро созревает. Могу вам поклясться, что однажды, лёжа у Менделя на крыше, я сам, своими глазами, видел несколько черешен — они были совсем зелёные, как трава. Я их хорошо заприметил. Это было утром. Днём, на солнце, у них уже зарделись щёчки, а вечером они были красные, как огонь.
Черешню мама мне тоже покупала, но сколько?.. Пять ягодок на ниточке. Что с ними делать — с пятью ягодками? Чуть поиграешь с ними и сам не заметишь, куда они девались.
Черешни в саду у Менашихи — как звёзд на небе! Вы, конечно, догадываетесь, что мне захотелось сосчитать, сколько всё-таки ягод на одной ветке. Какое там! Считал, считал — никак сосчитать не мог.
Черешня держится на ветке крепко. Редко бывает, чтобы
черешня упала на землю, — разве если она перезрела и стала чёрной, как слива.
А вот, скажем, персики. Я их люблю больше, чем всякие другие фрукты. Я съел всего-навсего один персик за всю свою жизнь, но до сих пор чувствую вкус во рту.
Это было несколько лет назад. Мне тогда шёл пятый год. Отец был жив, и в доме ещё всё было на своём месте: буфет, диванчик, книги, постельные принадлежности. И вот приходит однажды отец, суёт руку в задний карман сюртука и спрашивает меня и брата Элю:
— Дети, персиков хотите? Я принёс вам персики! Два персика!..
При этом он вытаскивает руку из кармана и подносит нам — Эле и мне — по большому золотистому ароматному плоду.
Эля не может утерпеть. Он быстро читает молитву «Благословен создавший плоды земные» и запихивает себе персик в рот.
А я предпочёл сперва вдоволь наиграться моим персиком, налюбоваться им, насладиться его ароматом и лишь тогда стал его есть. Да и то не весь сразу, а по кусочку и с хлебом. Персики хороши с хлебом. С тех пор я больше персиков не ел, но не могу забыть вкус этого единственного съеденного персика.
Сейчас передо мной целое персиковое дерево. Я лежу у Менделя на крыше и смотрю, как перезревшие плоды срываются и падают на землю. Один, золотистый, с чуть румяной щёчкой, треснул и раскрылся так, что видна пузатая косточка.
Интересно, что сделает Менашиха с такой уймой персиков? Вероятно, опять наварит варенья и поставит в погреб, и там оно будет стоять, пока не засахарится и не покроется плесенью.
Вслед за персиками поспевают сливы. Впрочем, не все сорта одновременно. У меня в Менашихином саду два сорта. Есть чернослив — круглая, сладкая, мясистая такая слива, почти чёрная. И есть попроще, её зовут «ведёрная слива», потому что она дешёвая и продаётся на ведро. Она липкая и водянистая, и кожица у неё тонкая, скользкая. И всё же она не так уж плоха, как вы думаете. Только бы давали!.. Но Менашиха не из щедрых. Уж лучше она себе наварит из слив повидло на зиму. Когда только она сожрёт столько повидла?
Едва отошли черешня, персик и слива, наступает время яблок. Яблоки, надо вам знать, — это не груши. Груши, даже самые лучшие в мире — бергамот, — если они ещё не совсем
созрели, никуда не годятся. Всё равно что жевать дерево! Зато яблоко — пусть оно совсем зелёное и косточки белые, а всё-таки вкус яблока оно имеет. Вонзишь зубы — и сразу во рту становится кисло-прекисло.
Знаете, что я вам скажу? Я и половины зелёного яблока не отдам за два спелых. Заметьте, что спелых надо ждать бог знает сколько, а зелёные — вот они, едва дерево отцвело. Разница только в величине. Чем дольше яблоко растёт, тем оно становится крупнее, — всё равно что человек. Но отсюда еше далеко не следует, что крупное яблоко обязательно должно быть вкусным. Маленькое яблочко нередко вкуснее самого крупного. Возьмите, например, райские яблочки. Они, правда, с кислинкой, а какой вкус! Или, скажем, антоновка. Нынешним летом их масса!.. Менашиха сама, при мне, уверяла торговца фр>Ктами Рувина, что будет продавать яблоки возами.
Яблони ещё стояли в цвету, и Рувин пришёл осмотреть .ад — он намеревался скупить весь урожай на корню. Рувин — знаток в этом деле. Стоит ему взглянуть на дерево, и он вам сразу скажет, сколько оно принесёт дохода. И никогда не ошибётся. Разве уж налетят какие-нибудь сильные ветры, и яблоки осыплются не дозрев, или червь на них нападёт, или гусеница там какая-нибудь заведётся. Но этого человек предвидеть не может. Ветер — от бога, гусеница тоже. Я только не понимаю, зачем богу гусеницы и черви. Разве только, чтобы отнять у Рувина кусок хлеба. Рувин уверяет, что ничего ему от дерева не нужно, кроме куска хлеба. А Менашиха утверждает, что её деревья дадт не только хлеб, но также и мясо.
— Такие деревья могут принести человеку счастье, — говорит она и поясняет: — Это не деревья, а золото Вы отлично знаете — я вам не враг. Пусть бог пошлёт мне самой то, чего я желаю вам! — клянётся Менашиха.
— Аминь! — отвечает Рувин, и его доброе загорелое лицо, на котором от солнца облупилась кожа, расплывается в улыбку. — Дайте мне гарантию, что не налетят ветры и не заведутся ни черви, ни гусеницы, и я готов заплатить вам дороже, чем вы сами просите!..
Менашиха как-то странно, снизу вверх, поднимает на него глаза и бухает своим мужским басом:
— Дайте мне гарантию, что, выйдя отсюда, вы не споткнётесь и не сломаете себе ногу.
— В таких делах гарантии нет, — отвечает Рувин, глядя на Менашиху своими добрыми, улыбаюшимися глазами. — И с человеком богатым такая беда может приключиться даже скорее, чем с бедняком: у богача есть на что лечиться.
— Ах, какой вы умный! — вскипает Менашиха. — Вы за-
бываете, что если человек способен пожелать ближнему сломать ногу, то у него у самого может отсохнуть язык.
— Ну что вы, — всё с той же улыбкой отзывается Рувин. — Не так уж плохо и когда язык отсохнет! Лишь бы, упаси бог, не у бедняка.
Жаль, не остался Менашихин сад за Рувином. Мне это было бы гораздо больше по душе, чем сейчас, когда хозяйничает сама ведьма. Нет второй такой на свете! Упадёт, скажем, с дерева яблочко. Пусть оно ссохшееся, червивое, сморщенное, как лицо старухи, — ничего, Меиашихе не лень нагнуться, подобрать его и положить в передник. В прошлом году, говорят, у неё сгнил полный погреб яблок.
Ясно после этого, что сам бог велит рвать яблоки у неё в саду. Да, но как это сделать? Хорошо бы забраться в сад ночью, когда все спят, и набить себе полные карманы яблок. Но что скажет собака?
А яблоки в нынешнем году, как назло, одно другого красивее и сами просят, чтобы их сорвали! Что тут делать? Хорошо бы знать такое слово, заклинание какое-нибудь, чтобы яблоки сами шли к тебе!..
Думал я, думал и наконец придумал. Не слово, правда, и не заклинание, а нечто совершенно иное: шест, длинный шест с гвоздём на конце. Стоит вам только наколоть яблоко на гвоздь — готово, оно ваше. Главное, держите шест с умом, чтобы яблоко не упало на землю. Конечно, если оно у вас сорвётся и упадёт, беда не так уж велика. Менашиха еше ни о чём не догадается — она подумает, что яблоко упало само по себе. Но, конечно, не надо оставлять на яблоке следы, не надо задевать его гвоздём. Могу похвалиться, что я, например, ни одного яблочка не попортил и ни одно у меня не сорвалось! Надо знать, как рвать яблоки. Первое — не торопиться. Куда вам спешить? Досталось вам яблочко, съешьте его на доброе здоровье, отдохните немножко — и опять за дело. Уверяю вас, ни одна душа знать не будет.
Но кто бы мог подумать, что эта ведьма Менашиха знает, сколько у неё яблок на каждом дереве! И в одно прекрасное утро она обнаруживает, что несколько штук не хватает. Тогда она решает выследить вора. Она забирается к себе на чердак и сидит там притаившись. По-видимому, дело было именно так Иначе я не понимаю, как могла бы она догадаться, что я лежу у Менделя на крыше и орудую шестом.
Бели бы не было свидетелей в тот момент, когда она меня накрыла, я бы ещё как-нибудь отделался от неё. Всё-таки я си-
рота — она, быть может, и пожалела бы меня. Но она привела мою маму, и соседку Песю, и жену Менделя к нам на чердак — подумайте только, какова чертовка! — -ас чердака видно, как я орудую шестом.
— Так! А теперь что вы скажете о вашем сокровище? — гудит Менашиха. — Теперь вы верите?
Я внезапно узиал её симпатичный голос и, обернувшись, увидел всех четырёх женщин. Шеста с яблоком я, однако, не бросил, он сам выпал у меня из рук. Не знаю, как я ещё удержался на ногах. Мне было ужасно стыдно. Если бы не собака, я бы со стыда бросился в сад и разбился. Самое неприятное были мамины слёзы. Казалось, она не перестанет ахать, и охать, и стонать, и причитать!
— Горе моё, горе! До чего я дожила! А я-то думала, что мой сиротка в синагоге и молится за упокой души своего отца! А он, горе моё, лежит на чужой крыше и рвёт яблоки в чужом саду!..
А та ведьма стоит сбоку и подзуживает:
— Пороть его надо, этого выродка! Сечь его надо! До крови! Исполосовать его надо! Мальчишка должен знать, что нельзя вор
Мама не дала ей произнести оскорбительное слово.
— Он сирота! Он несчастный сирота! — всё повторяет она умоляющим голосом и целует Менашихе руки. — Он больше не будет!
Мама клянётся, что это было в последний раз! Умереть ей самой или, упаси бог, меня похоронить, если это повторится.
— Пусть сам поклянётся, что больше на мой сад и смотреть
не станет! — требует Менашиха. Она не проявляет к сироте ни капли жалости.
И я клянусь:
— Пусть у меня руки отсохнут! Пусть я ослепну!..
Наконец мы идём домой. Мама причитает и плачет. Я слушаю и молчу, и тоже плачу.
— Ты мне только скажи, что из тебя выйдет? — спрашивает мама сквозь рыдания и рассказывает всю историю брату Эле.
Тот сразу бледнеет, по-видимому от ярости, и мама пугается. Она уже боится, как бы он меня не побил, и потихоньку, чтобы я не слышал, напоминает, что я сирота, меня нельзя бить.
— Да кто его трогает! — восклицает Эля. — Я бы только хотел знать, что из него выйдет?! Что из него выйдет?
Эля скрежещет зубами и ждёт, чтобы я ответил на его вопрос. Как будто я знаю, что из меня выйдет! Быть может, вы знаете что-нибудь по этому поводу?
IV. ЭЛЯ ЖЕНИТСЯ
Поздравьте! Эля женится!
Что творится! Толстуха Песя уверяет, что весь мир пошёл ходуном и город кипит, как в котле. Она считает, что свадьба будет такая, какой наш город ещё сроду не видел!..
И всё из сострадания: мать — вдова, а жених — сирота. Кроме того, папино имя! Царство ему небесное, покойник оставил по себе добрую память. Правда, когда он был жив, не слышно было, чтобы о нём так уж много говорили. Но сейчас, когда его нет, его превозносят до небес. Прямо-таки невероятно! Чего только не наговорили маме за эти дни. Её уверяют, что будущему тестю Эли вполне подобало бы взять все расходы по свадьбе на себя, да ещё и приплатить: он не должен забывать, что берёт в зятья сына самого кантора Пейси!
А брата такие разговоры смущают. Он теребит бородку, как взрослый, как настоящий мужчина, хотя бородка стала у него пробиваться совсем недавно. С тех пор как умер отец. Эля даже стал курить. Поначалу это давалось ему с трудом, он задыхался от кашля, но сейчас ничего — он уже умеет затягиваться и пускать дым через нос.
Тоже велика важность! Думаете, я не умею? Беда только, что вот табаку у меня нет и приходится курить всякую дрянь:
бумагу, солому А тут, как назло, узнаёт об этом брат, и я получаю здоровую взбучку.
Ему можно, а мне нельзя! Потому что, видите ли, мне ещё и девяти не исполнилось. Как будто я в этом виноват. Пришлось пообещать и поклясться библией, что кончено — больше я не курю.
Как вы думаете, долго я держал слово? Скажите на милость, кто же в наше время не курит?!
Будет светопреставление!
Так утверждает соседка Песя. Она была у будущего Элино-го тестя и вернулась разъярённой. Получается пренеприятная история. Старик пронюхал, что нет больше на свете часов, которые он подарил жениху, то есть Эле, а часы были хорошие, серебряные.
Вы спрашиваете, куда они девались? Не проиграл же он их, упаси бог, в карты. Он их продал, а деньги ушли на врачей и на лекарства. Песя объяснила свату, что Эля просто хотел спасти больного отца. Нельзя же осуждать его за это.
Но старик — человек грубый. Он спрашивает, какое отношение имеет чужой отец к его часам. Он не обязан на свои драгоценности содержать чужих отцов. Таким образом, какие-то паршивые часы сделались драгоценностью, а наш покойный отец превратился в «чужих отцов».
Песя говорит по этому поводу, что свинья остаётся свиньёй.
Что с него взять — он грубиян.
Зовут его пекарь Иойна. Он печёт бублики.
— Провалиться бы вам в преисподнюю и там печь ваши бублики! — желает ему Песя.
Но зачем на том свете печь бублики? Кто их станет покупать? Вероятно, Песя шутит.
Старик — человек состоятельный. Песя считает его даже богачом. Но говорит ему прямо в глаза, что не хотела бы с ним породниться, потому что терпеть не может свиней. А он предпочитает молчать. Он знает, что Песе только попадись на язык — тоже не обрадуешься. Он даже готов плюнуть на часы, только бы отделаться от неё. Но теперь Песя вошла в раж: она требует, чтобы Иойна купил жениху новые часы.
— Не подобает, — говорит она, — такому жениху венчаться без часов.
Тогда старик спрашивает, при чём тут она, какое отношение она имеет к жениху.
А Песя отвечает, что жених — сын кантора Пейси, а он, пекарь Иойна, — всего только богач и свинья.
Старик выходит из себя, хлопает дверью и кричит:
— Провалитесь вы в преисподнюю!
А та ему в ответ:
— В преисподней ваше место, вы там будете бублики печь!
Мама боится, как бы не расстроилась свадьба. Но Песя уверяет её, что она может быть спокойна: жених — сирота, а с сиротой не так-то просто расторгнуть помолвку.
И кто, вы думаете, поставил на своём?
Мы! Старик купил брату новые часы, тоже серебряные и даже лучше прежних. Эх, будь у меня такие часы! Я бы вмиг выташ,ил из них все внутренности и узнал бы, почему часы ходят.
Мама пожелала свату дожить до такой счастливой поры, когда он сможет подарить зятю золотые часы.
А сват, в свою очередь, пожелал маме дожить до счастливой свадьбы младшего сына, то есть моей. А я согласен жениться хоть сегодня, если мне за это подарят часы.
Мама гладит меня по голове и говорит, что много ещё воды утечёт до моей свадьбы, и тут же у неё глаза делаются влажными.
Не понимаю, почему должна течь вода до самой моей свадьбы и почему у мамы текут слёзы.
Но у неё это вошло в привычку — нет того дня, чтобы она не плакала.
Принёс портной костюм для жениха — мама плачет. Испекла соседка Песя свадебный пирог — как тут маме не поплакать? Завтра венчание — опять слёзы. Откуда только у человека берётся столько слёз?!
Выдастся же иной раз такой чудесный день! Начало сентября, в воздухе уже слышны запахи приближающейся осени, но зато не томит зной; солнце греет, но мягко — оно тебя ласкает, как родная мать. И небо чистое, точно оно тоже умылось и принарядилось по случаю торжественного дня: сегодня Эля женится
Утром в местечке открылась ярмарка. Конечно, такое дело без меня не обойдётся. Я ужасно люблю ярмарки. Торговцы суетятся, как зачумлённые крысы, они обливаются потом, кричат, галдят, хватают покупателей за фалды. Потеха и только! Каждый хочет сбыть свой товар, каждый хочет заработать.
А покупатели не торопятся. Сдвинув шапки на затылки, они деловито и осторожно ко всему присматриваются, приценяются и так торгуются, точно хотели бы, чтобы им всё отдали за полцены.
Больше всего я люблю конный рынок. Здесь всё смешалось: лошади, цыгане, кнуты, евреи, крестьяне, паны. Шум, гам — оглохнуть можно! Цыгане торгуются, евреи бьют по рукам, паны щёлкают бичами, а лошади скачут. Страшно люблю смотреть, как скачут лошади. А жеребята!.. Я всё отдам за жеребёнка. Впрочем, я люблю не только жеребят, но всех маленьких животных: щенят, котят. Знаете, даже маленькие огурчики, картошечку молодую, молодой лучок, чесночок — всё маленькое я люблю.
Однако вернёмся к лошадям. Лошади бегают, жеребята - — за ними, я — за жеребятами. Так мы все и гоняем. Бегать я мастер. Ноги у меня ловкие, хожу я босиком, и одежды на мне не очень-то много: рубашка и штанишки. Когда я несусь под гору и ветер раздувает мою рубашку, мне иной раз кажется, будто у меня выросли крылья и я лечу.
— Мотл! Бог с тобой! Остановись на минутку!
Я узнаю голос переплётчика Мойши, мужа нашей соседки Песи. Он несёт с ярмарки обёрточную бумагу.
Как бы он не наболтал маме! Как бы мне не влетело от ЭлI! Я подхожу весьма степенным шагом и опустив глаза, Мойша утирает вспотевший лоб, и тут начинается:
— Как это не стыдится мальчик, сирота, болтаться на ярмарке и бегать как угорелый за лошадьми?! Да ещё в такой день! Ведь скоро у твоего брата венчание — это ты знаешь? Идём домой!
— Где ты пропадал, горе моё?.. — набрасывается на меня мать и, всплеснув руками, принимается осматривать мои изодранные штаны, исцарапанные до крови ноги и раскрасневшееся, потное лицо.
Дай бог здоровья переплётчику Мойше! Он меня не выдал: никому ни слова!
Мама меня умывает и надевает мне новые штанишки и картуз, купленные специально к свадьбе брата. Не пойму, из какого материала они сделаны, эти штаны: наденешь иx — они скрипят, снимешь — они стоят колом. Странные штаны!
А мама говорит:
— Если ты и эти штаны порвёшь, тогда уж я не знаю
Правильно! Такие штаны нельзя порвать — их можно только поломать. Зато картуз у меня замечательный: с чёрным блестящим козырьком. Когда козырёк тускнеет, надо поплевать на него — и он снова блестит.
Мама глядит на меня и не нарадуется — слёзы так и катятся по её морщинистым, щекам. Ей очень хочется, чтобы на свадьбе я всем понравился. Она говорит жениху:
— Эля, как ты думаешь, мне за него не придётся краснеть? Одет он. слава богу, как принц!..
Брат осматривает меня, поглаживая бородку. Его взгляд останавливается на моих ногах. Я понимаю, в чём дело: «принц» ходит босиком. Мама тоже догадывается, почему Эля уставился на мои ноги, но она притворяется, будто ничего не понимает.
Сама она вырядилась в какое-то странное жёлтое платье. Оно ей ужасно широко. Могу поклясться, что я его как-то видел на нашей соседке — толстой Песе Зато платок у мамы шёлковый и совсем новёхонький. Только вот цвет его трудно определить: днём он кажется светло-розовым, под вечер — желтоватым, а вечером он белый; рано утром он как будто зеленоватый, а если хорошо вглядеться, то начинает казаться, что он того самого цвета, который называется «антик морэ», или — более точно — светло-красновато-сине-тёмно-зелёно-пепельного цвета.
Ничего худого о платке не скажешь, платок замечательный, но беда в том, что на маме он выглядит чужим, совсем чужим. Как-то не к лицу он ей. Платок сам по себе, а лицо само по себе. А для женщины платок — то же, что для мужчины картуз. Картуз и лицо должны подходить друг к другу. Взять, например, моего брата — картузик сидит на голове так, точно на ней родился и вырос. У Эли вообще нарядный вид — белая манишка, твёрдый воротничок с отогнутыми уголками и галстук белый в крапинку. Роскошный галстук! И сапожки со скрипом. А каблуки высокие — потому что женишок-то наш ростом не вышел.
Собственно, не такой-то уж он маленький сам по себе, да вот невеста выдалась очень рослая. Дочке этого бубличных дел мастера Иойны господь послал богатырский рост и сложение, да ещё впридачу красное и рябое лицо и мужской голос. Зовут её Броха.
Интересно было, когда эта парочка стояла под венцом.
Впрочем, мне было не до того, чтобы разглядывать жениха и невесту. У меня были дела поважнее: я не мог оторваться от музыкантов — вернее, от инструментов: от контрабаса и барабана.
Замечательные инструменты! Одно плохо — нельзя подойти к ним поближе, потрогать руками. За это музыканты сразу дают по затылку или хватают за уши. Ты только пальцем дотронешься, а они сразу начинают беситься, точно ты собирался откусить у них кусок барабана
Эх, была бы моя мама доброй мамой, она отдала бы меня в музыканты! Но об этом и говорить нечего — она не согласится. Не потому, что она недобрая, а потому, что недопустимо, чтобы сын кантора Пейси стал музыкантом! Ни музыкантом, ни ремесленником! Уже не раз обсуждался вопрос о моём будущем. Мама советовалась и с братом, и с соседкой Песей, и с её мужем Мойшей. Переплётчик не прочь взять меня в ученики, но его собственная жена против. По её мнению, не подобает сыну кантора Пейси быть простым ремесленником
Однако я заболтался и забыл о свадьбе. Венчание давно кончилось. Накрывают на стол. Молодые женщины и девушки танцуют кадриль, а я, в своих деревянных штанах, затесался в самую гущу. Меня толкают, и я лечу из стороны в сторону.
— Это ещё кто такой? — недовольно говорит один из гостей.
— Это ещё что за чурбан? — замечает другой.
— И чего он тут путается под ногами? — огрызается третий.
Услышала это наша Песя и пошла кричать:
— Вы сошли с ума? Или вы спятили? Или вы рехнулись? Или вы тронулись умом? Да ведь это брат жениха!..
Песя на всех и на всё кричит с самого утра, и голос её обратился в сплошной хрип. Однако результаты получились удивительные. Меня мгновенно посадили за стол среди родственников невесты. Знаете, рядом с кем? Да будь вы семи пядей во лбу, и то вы бы не угадали! Рядом с сестрёнкой невесты — Алтой, младшей дочерью пекаря Иойны. Она старше меня всего на год, и у неё две косички. Они перевязаны ленточкой и похожи на плетёный бублик. Мы с ней сидим недалеко от новобрачных и едим из одной тарелки. Эля незаметно следит за тем, чтобы я вёл себя прилично, ел с вилки, а не хватал руками, и чтобы нос у меня был в порядке.
Знаете, что я вам скажу? Никакого удовольствия мне этот ужин не доставил. Не люблю, когда на меня смотрят. А тут ещё нелёгкая принесла соседку Песю. Она хрипит из последних сил:
— Смотрите! Смотрите! Чем не пара? Сам бог предназначил их друг для друга
В это время появляется разодетый по-праздничному пекарь Иойна, и начинается разговор о том, что мы с Алтой — жених и невеста. Иойна улыбается как умеет, то есть криво, так что верхняя губа смеётся, а нижняя плачет. Все смотрят на нас, а мы с Алтой сидим, опустив глаза, и нас душит смех. Я не знаю, как быть, чтобы не прыснуть. Я зажимаю нос и при этом надуваюсь, как пузырь. Ещё мгновение — и пузырь лопнет. Тогда будет скандал. На моё счастье, начинает играть музыка. Все умолкают.
Поднимаю глаза и вижу маму в чужом жёлтом платье. Она занята своим обычным делом: она плачет.
Как вы думаете, перестанет она когда-нибудь плакать?
V. ДОХОДНОЕ МЕСТО
Мама сообщила мне приятную новость: я поступаю на службу. Работа лёгкая, плата хорошая. Днём я, как всегда, буду ходить в школу, а ночевать должен у старика Лурье.
Мама говорит, что он человек богатый, но больной. Так-то он, в общем, ничего — ест, пьёт, спит, как все, — а вот по ночам беда: он глаз не смыкает. Поэтому домашние боятся оставлять его на ночь одного. Нужно, чтобы при нём кто-нибудь находился, хотя бы ребёнок.
Платить обещали пять рублей в неделю.
— И ужин. Ты пришёл из школы, а ужин уже тебя ждёт, — говорит мама. — И какой ужин! Были бы у нас их объедки — мы бы все ходили сытые. Иди, иди, дитя моё, в школу, а вечером я тебя отведу к Лурье. Подумай — никакой работы, богатый ужин, и мягкая постель, и пять рублей в неделю! Я тебе сошью костюмчик и сапожки тебе куплю.
Как будто неплохо, правда? Чего же тут плакать? Но моя мама иначе не может. Она обязательно должна поплакать.
В школу я хожу, но учитель всё никак не решит, в какую группу меня определить, и я пока болтаюсь без дела и не учусь. Чтобы не терять времени, я помогаю жене учителя по хозяйству и играю с кошкой. Работа у меня нетрудная: пол подмести, натаскать дров, сбегать куда-нибудь — в общем, пустяки, а не работа, учиться труднее.
Самое приятное — возиться с кошкой. Говорят, кошка — нечистая тварь. По-моему, враньё. Кошка — животное опрятное. Говорят, кошки злы. Тоже неправда. Кошка — ласковое животное. Вот, например, собаки — те льстивы, собака вечно виляет хвостом. А кошка любит, чтобы её приласкали. Погладишь её по шёрстке — она закроет глаза и сразу замурлычет.
Я люблю кошек, и, по-моему, ничего плохого в этом нет. А вот спросите моих товарищей, они наговорят вам кучу всякого вздора: будто, если подержишь кошку, нужно потом мыть руки, или будто у того, кто возится с кошкой, память портится. Просто не знают люди, что и выдумать. Иной увидит кошку и сразу — ногой в бок! Не могу, когда бьют кошку! А ребята
надо мной смеются. Нет у них жалости к живой твари. Настоящие разбойники! Смеются надо мной, прозвали меня «деревянные штаны», а мою маму — «плаксой», из-за того, что онз постоянно плачет.
— Вон твоя плакса идёт!
А мама как раз пришла, чтобы взять меня и отвести на службу.
Пока мы шли, она не переставала жаловаться на то, что у неё доля горькая и мрачная (она не могла сказать, что у неё доля только горькая или только мрачная: этого ей, вероятно, показалось бы мало): бог дал ей двух сыновей, а жить приходится в одиночестве.
— Эля, — говорит она, — женился, слава богу, очень удачно. Он попал в богатую семью и катается как сыр в масле! Одно только неприятно: тесть — грубиян. Сказано — пекарь, что t него взять!..
Тем временем мы пришли к месту моей службы — к старику Лурье. Мать мне расписывала, что он живёт, как царь. Интересно, конечно, побывать в царском дворце. Но нас с мамой пока держат на кухне. Здесь тоже неплохо. Белая печь сверкает, посуда сверкает, всё сверкает.
Нас просят присесть. Потом приходит какая-то женш.ина в очень богатом платье; она говорит о чем-то с мамой, всё время кивая в мою сторону. Мать тоже кивает головой, поминутно вытирает губы и не хочет садиться. А я сижу. Но вот мама собирается уходить и наказывает мне вести себя как следует. И, конечно, плачет. Завтра она придёт за мной рано утром и отведёт меня в школу. Я остаюсь. Мне дают покушать: бульон с белым хлебом (в будний день белый хлеб!) и мясо — много мяса. Когда я поел, меня послали наверх. Я не понял, что это значит. Тогда меня повела кухарка.
Кухарку зовут Ханой. У неё чёрные волосы и длинный нос.
И вот мы поднимаемся по лестнице.
Ступени устланы чем-то мягким. Очень приятно ступать босыми ногами.
До вечера ещё далеко, а в доме уже горит множество ламп. На стенах какие-то необыкновенные рисунки, а потолок разрисован ещё лучше, чем в синагоге. Хана вводит меня в огромную комнату — такую огромную, что не будь посторонних, я бы стал бегать из конца в конец или катался бы по полу, по бархатному одеялу, которое разостлано на полу. Неплохо, должно быть, кататься по такому одеялу. Да и спать на нём, я думаю, тоже недурно.
Старик Лурье — красивый, высокого роста человек с широким лбом и седой головой. На нём шёлковый халат, ермолка 113 чистого бархата, на ногах туфли, тоже бархатные, расшитые гарусом.
Старик сидит, склонившись над огромной, толстой киигой, молча жуёт кончик бороды, покачивается взад и вперёд и что-то тихо бормочет про себя.
Странное впечатление он производит, этот старик. Я смотрю на него и думаю: видит он меня или не видит? По-моему, не видит. Он в мою сторону и не посмотрел, о моём приходе ему не доложили. Меня впустили в комнату и сразу заперли за мной дверь.
Вдруг, всё ещё не глядя на меня, старик говорит хриплым голосом:
— Подойдите-ка сюда, я покажу вам одгю место у Рам-бама
К кому он обращается? Ко мне? Неужели это он мне говорит «вы»? Я смотрю по сторонам, но, кроме как ко мне, старик ни к кому обращаться не мог: мы с ним одни.
А он повторяет:
— Подойдите, посмотрите, что говорит Рамбам!
Я решаюсь подойти поближе:
— Это вы меня зовёте?
— Вас, вас! Кого же ещё?
Не поднимая головы, он хватает меня за руку и тычет моим пальцем в свою толстую книгу, не переставая говорить о Рамбаме. При этом голос у него всё повышается, старик горячится, волнуется и багровеет и всё время делает большим пальцем такое движение, будто что-то откуда-то выковыривает. Он толкает меня локтем в бок и беспрестанно повторяет:
— Что вы скажете? Каково? А? Хорошо?
Я, признаться, не вижу, что он тут нашёл особенно хорошего, и молчу. Я молчу, а он кипятится. Он кипятится, а я молчу.
Вдруг я слышу, в дверях, с наружной стороны, щёлкает ключ в замке. Дверь открывается, и появляется та самая богато одетая дама, которую я видел на кухне. Она близко подходит к старику и кричит ему в самое ухо, как глухому, чтобы он меня отпустил, потому что мне пора спать. И действительно, она забирает меня у старика и укладывает на мягкий диван. Постель у меня белая, как снег, одеяло шёлковое, мягкое! Какая прелесть!.. Уложив меня, дама уходит и снова запирает дверь на ключ.
Рамбам — сокращённое имя еврейского средневекового учёного и мыслителя Маймонида (1135 — 1204).
А старик принимается расхаживать по комнате. Заложив руки за спину, он как будто поглощён рассматриванием своих красивых туфель. Однако он что-то негромко поёт, бормочет и странно поводит бровями. У меня слипаются глаза, страшно хочется спать. Вдруг старик подходит ко мне и говорит:
— Знаешь, я тебя съем!
Я смотрю на него и ничего не понимаю.
— Вставай, я тебя съем!
— Кого? Меня?
— Тебя! Тебя! Я должен тебя съесть! Иначе и быть не может, — говорит старик и снова принимается шагать по комнате, опустив голову и держа руки за спиной. Он морщит лоб и говорит сам с собой — чем дальше, тем тише.
Затаив дыхание, прислушиваюсь я к каждому слову старика.
— Рамбам утверждает, что мир не мог возникнуть произвольно, сам собой. Из чего это видно? Из того, что каждое явление имеет свою причину. Как я могу доказать это? Проявлением своей воли. Пример: я хочу его съесть и съедаю его. Вы скажете, помешает жалость? Но она никакого отношения к делу не имеет. Я осуществляю свою волю. Я хочу его съесть, я должен его съесть, и я его съедаю!..
Нечего сказать, весёленькая новость: старик хочет меня сожрать!.. А мама что скажет?
Меня охватывает ужас, я весь дрожу.
Между диваном, на котором я лежу, и стенкой есть некоторое расстояние. Я потихоньку придвигаюсь к краю и соскальзываю на пол. Теперь я лежу за диваном. И всё-таки у меня зуб на зуб не попадает: я всё жду, что старик вот-вот начнёт меня есть.
Как он это сделает?
Я потихоньку зову маму, по лицу у меня катятся слёзы и попадают мне прямо в рот. Они солёные. Никогда ещё меня так не тянуло к маме, как теперь. Меня тянет и к брату, но не так сильно, как к маме. Я вспоминаю отца, по которому каждый день читаю молитву. Но кто будет молиться за меня, когда старик Лурье меня съест?..
я, должно быть, крепко спал. Проснувшись, я не мог понять, где я: ощупываю стенку, диван, осторожно осматриваюсь — я в большой и светлой комнате. На полу большие бархатные одеяла, стены разрисованы, потолок разрисован. Старик всё ещё сидит над своей толстой книгой, которую он называет «Рам-бам». Мне нравится это название — оно похоже на «бим-бом». Вдруг я вспоминаю, что лишь вчера вечером старик хотел меня съесть. Как бы у него снова аппетит не разыгрался! Потихоньку снова прячусь за диван.
С шумом открывается дверь, входит вчерашняя дама, за ней кухарка Хана с большим подносом. На подносе кофейник, горячее молоко, свежие сдобные булочки
— А мальчик где? — спрашивает Хана. Она обводит глазами всю комнату и наконец видит, что я притаился за диваном.
— Ты порядочный баловник, я вижу! Что ты там делаешь? Идём. Мама ждёт тебя на кухне.
Я стрелой вылетаю из своего убежища и несусь вниз по лестнице, устланной мягкими дорожками, и сам себе подпеваю:
— Рам-бам! Бим-бом! Рам-бам! Бим-бом!
И так я влетаю в кухню.
— Не спешите, — уговаривает Хана мою мать. — Дайте ему спокойно выпить чашку кофе с булочкой. Да вы и сами выпейте! Ничего им не будет, они достаточно богаты.
Мама благодарит и садится за стол, и нам подают горячий, чудно пахнущий кофе со свежими сдобными булками.
Случалось ли вам когда-нибудь попробовать яичные коржики с сахаром? Такой же вкус имеют сдобные булки, какие едят богачи. Пожалуй, булки даже вкуснее. А какой вкус имеет кофе — я передать не могу: нет у меня таких слов!
Мама пьёт маленькими глотками, она смакует, а большую половину своей булочки отдаёт мне. Кухарка Хана поднимает крик:
— Что вы делаете? Ешьте сами! Хватит и для вас и для мальчика!
При этом она даёт мне ещё одну булочку, так что у меня их теперь две с половиной.
Сижу, ем, пью и слушаю, о чём говорят мама с кухаркой Знакомые разговоры. Мама жалуется на судьбу: вдова, двое детей. Один, правда, попал в богатую семью, он катается как сыр в масле. А вот другому живётся неважно
Мне хотелось бы посмотреть, как это брат Эля катается в масле.
Хана слушает, сочувственно покачивает головой и начинает, Б свою очередь, жаловаться: ей приходится жить по чужим людям, а она из хорошей семьи, у отца были средства, но он
погорел, а потом захворал и умер. Ах, если бы он встал из могилы и увидел, что его дочь возится у чужой печи!.. Правда, жаловаться она не может. Слава богу и за это — место хорошее. Только вот беда: старый хозяин немножко того
Чего — того? Не понимаю. Хана указывает на лоб. Мама слушает её и качает головой. Затем приходит мамина очередь говорить, а Хана слушает и качает головой.
Наконец мы уходим, и Хана даёт мне ещё одну булочку. В школе я её показываю ребятам. Они меня окружают и во все глаза смотрят, как я ем. Для них это нечто необыкновенное. Я даю каждому по кусочку. Они едят и облизывают пальцы.
— Где ты взял такую вкусную булку?
А я набиваю себе полный рот, и жую, и глотаю, и прыгаю от удовольствия. Я засовываю руки в карманы моих деревянных штанов и всем своим гордым видом как бы говорю:
«Эх вы, беднота! Тоже велика важность — сдобные булки! Вы бы их попробовали с кофе! Вот когда бы вы узнали, что такое райская пища!»
VI. ЭЛЯ КАТАЕТСЯ КАК СЫР В МАСЛЕ
Единственное мамино утешение во всех её горестях, единственное, что её поддерживает, — Это сознание, что брату Эле живётся, слава богу, хорошо. Он попал в такой дом! Он катается как сыр в масле!
Всякий раз, когда мама говорит об этом, она от счастья плачет. Она считает, что за Элю ей можно быть спокойной: его она обеспечила на всю жизнь.
Правда, невестка не бог весть какая (я того же мнения!), но зато бог послал Эле богатого тестя. Он пекарь.
Конечно, сам-то он ничего не выпекает, это делают другие. Иойна только покупает муку и продаёт готовый хлеб, а под пасху торгует мацой.
Иойна своё дело знает. Но человек он противный. Прямо скажу — разбойник!
Однажды я пришёл навестить брата и угостился сдобным бубликом — он был свежий, горячий, прямо из печи.
Но тут нелёгкая принесла Иойну! Вы бы посмотрели, какая у него сделалась зверская рожа, какие разбойничьи глаза!..
С тех пор я, конечно, не пойду туда ни за что на свете, ноги там моей не будет!.. Что это, скажите, за манера — он
схватил меня за шиворот и вытолкал на улицу, да ещё вприда-чу надавал мне тумаков!
Я, конечно, пожаловался маме. Она тут же побежала к Иойне объясняться и несомненно устроила бы ему порядочный скандал, но брат не позволил. Брат считает, что старик прав. Он даже пытался убедить маму, что я его позорю. Когда бы я ни пришёл, я принимаюсь за бублики! Он даст мне копейку, чтоб я лучите купил себе бублик в другом месте. На это мама ему замечает, что у него нет ни капли сострадания ко мне, его нисколько не трогает, что я сирота. А брат отвечает, что можно быть сиротой, но нигде не сказано, что сирота может таскать бублики из чужой печи.
Мама просит его говорить потише. А он говорит, что, наоборот, будет кричать погромче, чтобы все знали, что я воришка.
Этого мама вынести не может. Она сразу меняется в лице и советует брату не забывать, что есть бог на свете, а с ним шутить нельзя. Он покровитель сирот, и он за меня заступится. И если он только пожелает, то вполне может случиться, что у богатого Иойны не останется и копейки себе самому бублик купить.
Высказав брату всё это, она хватает меня за руку, и мы уходим, хлопнув дверью.
А с богом, представьте себе, шутки в самом деле плохи! Пекарь Иойна действительно кончил скверно!
Я уже сказал, что сам он в пекарне не работает. Хлеб пекут другие: двое черноволосых мужчин и три женщины. Все рабочие ходят грязные, оборванные, а женщины, несмотря на жару, зачем-то повязали головы тёплыми красными платками.
И вот приключилась с Иойной история. Даже не одна, а несколько сразу.
Уже давно жаловались покупатели, что в хлебе попадаются нитки, тесёмки, даже тараканы и даже, что ещё хуже, битое стекло.
Вдруг приходит покупатель и приносит Иойне хлеб, в котором оказался целый клубок чёрных волос. Покупатель был человек серьёзный и сразу пригрозил Иойне полицией. Старик испугался. Взялись за рабочих: чьи волосы? Мужчины сваливают на женщин, женщины — на мужчин. Женщины говорят, что они здесь ни при чём: они все рыжие, а волосы в хлебе были чёрные. Значит, виноваты пекари. А те говорят: «Волосы у нас действительно чёрные и в хлебе — чёрные. Но где вы видели, чтобы у мужчины волосы были такие длинные?!»
Так и не добились толку! И никогда ничего не добились бы,
если бы женщины не поссорились между собой. Тогда стали всплывать интересные дела: одна замесила в тесто свою подвязку, другая замесила бинт с больного пальца, третья, ложась спать, кладёт себе под голову тесто. Правда, она поклялась, что всё это выдумки и враньё! Если даже это и случилось, то всего один раз, быть может два, — просто у ней не было подушки.
Весь город пошёл ходуном! Старик лез из кожи, но ничто ему помочь не могло — его хлеба никто в руки не брал!.. Хоть собакам выбрось!
И поделом! Так ему и надо!
Но Иойна тоже не дурак! Всех своих рабочих он прогнал и взял других. И в блинайшую субботу во всех синагогах было объявлено, что у пекаря Иойны работают новые люди и за чистотой в пекарне следит он сам. Больше того: он обязуется выплатить десять рублей всякому, кто найдёт хотя бы один волосок в его хлебе.
И сразу дела у него пошли — все стали раскупать его хлеб, каждый надеялся найти волос и заработать десятку.
Но, как назло, никто ничего не находил!
Правда, иные и находили, но Иойна поднимал крик и прогонял такого удачника, говоря, что тот сам подложил какую-то дрянь, чтобы выманить у него десятку! Мол, знаем мы эти штучки!
Ох, и хитрюга он, этот Иойна!..
Но бог, видимо, всерьёз решил свести с ним счёты и послал ему новую беду.
В одно прекрасное утро все его рабочие собрали свои пожитки и ушли, заявив, что ни за какие деньги не вернутся, разве только он прибавит каждому по рублю в неделю, будет отпускать на ночь домой и бросит свою манеру тыкать кулаком в зубы. Тоже миленькое обращение у него: чуть что — в зубы.
Иойна вскипел. Он уже, слава богу, не первый год хозяин и не привык, чтобы рабочие указывали ему, как надо драться. Это он сам знает. О прибавке и говорить нечего. Он найдёт десять желающих вместо каждого, кому у него не нравится! Подумаешь, важная птица — рабочий! Мало народу подыхает с голоду?!
И пошёл Иойна искать себе новых пекарей. А пекарей-то и нет! Никто к нему не хочет идти.
Что за история?
Оказывается, все пекари сговорились к нему не идти, пока он не примет обратно всех старых рабочих и не удовлетворит все их требования:
1) рубль в неделю,
2) на ночь — домой и
3) без мордобоя.
Ах, и забавно же было смотреть, как Иойна бесился, как он колотил кулаками по столу, как он проклинал всех на свете! Ох, и веселился же я!
Но всё это пустяки в сравнении с тем, что было дальше.
Знойное лето. Только что поспели дыни и арбузы. Самое лучшее время года. Но скоро осень. Не люблю я, прости господи, осени. Я люблю, чтоб было весело! А что может быть веселее, чем базар, заваленный дынями и арбузами, когда куда ни глянь — дыни и арбузы!.. Дыни жёлтые и чудесно пахнут. Арбузы красные, как огонь, семечки чёрные, а сладкие же они — как мёд!
Но мама не любит арбузов. Она говорит — дыня экономнее: хорошей дыни может хватить для нас двоих на два дня — на завтрак, обед и ужин. Арбуз она считает просто лакомством: полное брюхо воды и ничего больше. По-моему, она ошибается. Был бы я царём, я бы круглый год ел арбуз с хлебом. Ничего, что в арбузе много семечек. Встряхнёшь как следует — все они вылетают, а ты себе ешь и наслаждайся!
Однако я так заболтался об арбузах, что едва не забыл самое главное. Мы говорили об Элином тесте, о пекаре Иойне. Пришла-таки на него погибель!
Сидим мы как-то с мамой и обедаем — едим дыню с хлебом, вдруг открывается дверь и вваливается мой Эля, а в руках у него отцовская библия. Вслед за Элей — его жена. В одной руке у неё меховой воротник, в другой — дуршлаг. Вы знаете, что это такое? Посудина для процеживания лапши.
Эля бледен как смерть. Броха пылает как огонь.
— Мамаша, мы пришли к вам, — заявляет Броха.
— Мама, мы еле живы остались, — добавляет Эля.
И оба — в слёзы. А мама — за ними.
— Что случилось? Пожар? Или старик прогнал вас из дому?
Ничего подобного! Просто-напросто Иойна вылетел в трубу, то есть обанкротился, то есть перестал платить долги. Тогда пришли все, кому он должен, и описали его с головы до ног Забрали всё до нитки — буквально всё, что только нашлось в
Мотл выражается неточно: описали не Иойну, а его имущество, чтобы продать н вырученные деньги поделить между кредиторами.
доме, и даже самый дом! И попросили очистить помещение — другими словами, Иойну с позором выгнали!
— Горе моё! — кричит мама и ломает руки. — Куда же девались его деньги? Ведь он был так богат?!
Тут Эля начинает ей объяснять, что, во-первых, старик был вовсе не так уж богат. Во-вторых
Но его перебивает Броха. Она считает нужным сказать, что её отец был безусловно богат — послал бы ей бог половину его капиталов! Вся беда в том, что он ухлопал целое состояние на её свадьбу!
Она страшно любит поговорить о своей свадьбе. Всякий раз, когда она приходит к нам, она садится на своего конька! Такой свадьбы ни у кого на свете не было! Сколько напекли, сколько наварили, сколько нажарили! Сколько было тортов, и пирогов, и печенья, и варенья!
Что из этого? Сейчас у неё только и есть, что меховой воротник в одной руке и дуршлаг — в другой!
Папаша её наобещал брату приданое, — теперь об этом уже и говорить не стоит. Брат даже «заработал» на этом деле: судебный пристав наложил арест на его праздничный костюм, постель и даже на его часы. Теперь Эля гол как сокол.
Мама в отчаянии:
— Подумать только, какое несчастье! Кто мог ожидать!..
Мама считает, что здесь не без дурного глаза. Возможно даже, что это именно она сама накликала беду на голову Иой-ны — в тот день, когда поссорилась с ним из-за меня. Во всяком случае, ей хуже, чем кому бы то ни было!.. Хотелось ей, чтобы сын катался как сыр в масле. Вот тебе и масло! Вот тебе и сыр!
— Что ж, оставайся у меня, дитя моё, пока бог на тебя оглянется, — говорит мама и уступает невестке свою кровать — всё, что осталось у нас из мебели.
VII. НАПИТОК МОЕГО БРАТА ЭЛИ
«За один рубль — сто! Сто рублей в месяц и больше может зарабатывать каждый, кто ознакомится с содержанием нашей книги, стоящей всего один рубль с пересылкой. Спешите! Торопитесь! Не медлите! Не опоздайте!»
Такое объявление прочёл однажды мой брат Эля вскоре после того, как перестал жить на иждивении у тестя. Правда,
тесть обязался содержать его три года, а не продержал и девяти месяцев, но с богатым Иойной приключилась беда — он обанкротился. Богач стал бедняком! Я уже рассказал вам, как это случилось, а повторять одно и то же я не люблю — разве только меня попросят. Но сейчас и просьбы не помогут, потому что я очень занят: я зарабатываю деньги — торгую напитком, который Эля изготовляет собственными руками. Он научился по книге, которая стоит всего рубль, а заработка может принести сто рублей в месяц и даже больше.
Как только Эля прочитал, что на свете есть такая книга, он тотчас отправил по почте рубль (последний рубль) и поспешил обрадовать маму, сказав ей, что отныне нам больше беспокоиться не о чем.
— Мама, слава богу, мы спасены! Заработком мы теперь обеспечены по горло. — И показывает рукой на своё горло.
— Каким образом? — спрашивает мать. — Ты поступаешь на службу?
— Почище всякой службы! — говорит брат, сияя от радости. — Через несколько дней прибудет книга!
— Какая книга?
— Замечательная книга! — отвечает Эля и спрашивает маму, хватит ли ей ста рублей в месяц.
Мама смеётся: она была бы рада ста рублям хотя бы в год, только бы деньги были верные. На это брат ей замечает, что у неё слишком скромные желания, и уходит на почту.
Он каждый день ходит на почту — справляться, не прибыла лн книга. С тех пор как он отправил свой рубль, прошло больше недели, но книги всё нет. А жить-то ведь надо!
— Живая душа кушать просит! — говорит мама и прибавляет: — А душу ведь не выплюнешь!
Не понимаю, как это можно выплюнуть душу.
Можете нас поздравить: книга пришла! Едва только вскрыли пакет. Эля сразу сел читать. Чего только в книге не оказалось! Каких только здесь нет способов добывать деньги!
Рассказывается, например, как зарабатывать сто рублей в месяц, выделывая чернила. Как зарабатывать сто рублей в ме-
сяц, изготовляя чёрную ваксу. Как зарабатывать сто рублей в месяц, занимаясь истреблением мышей, тараканов и всяких паразитов. Как зарабатывать сто рублей в месяц, приготовляя ликёры, наливки, лимонад, содовую воду, квас и другие напитки.
Эля остановился на напитках.
Во-первых, это больше ста рублей в месяц — в книге прямо так и сказано. Во-вторых, работа чистая, в то время как чернила, или вакса, или возня с мышами и тараканами — пачкотня.
Вопрос только в том, какими напитками заняться. Для изготовления лимонадов или содовой воды требуется специальная машина и какой-то камень, который бог его знает сколько стоит.
Ликёры и наливки? Но тут уж нужно состояние Ротшильда.
Остаётся квас. Это напиток дешёвый, и он может получить большой сбыт, в особенности когда лето стоит такое жаркое, как в нынешнем году. Должен вам сказать, что торговец квасом Борух только на квасе и разбогател. Борух продаёт так называемый бутылочный квас, который пользуется большой славой: он стреляет, как из пушки. В чём тут фокус, почему квас стреляет, неизвестно. Это секрет Боруха. Говорят, он что-то кладёт в бутылку — не то хмель, не то изюм. Зато, едва наступает лето, у Боруха просто рук не хватает, так идёт торговля.
Наш квас, который Эля готовит по рецепту из книги, не бутылочный и не стреляет. Наш квас — напиток совсем другого рода. Как он приготовляется, я не знаю. Эля никого и близко не допускает. Пока он льёт воду, ещё ничего. Но как только доходит до рецепта, он запирается у мамы в комнате, и тогда ни я, ни мама, ни Броха — никто присутствовать не должен. Всё же, если вы обещаете никому не разболтать, я вам скажу, из чего он делает свой квас, — я-то ведь вижу, что он туда кладёт: лимонные корки, патоку и какое-то вещество кислее уксуса. Оно называется кривотартар А затем — вода. Главное в этом квасе вода. Чем больше воды, тем больше квасу. Всё это хорошенько размешивается при помощи обыкновенной палки (так сказано в книге), и квас готов. Тогда его сливают в большой кувшин и кладут кусок льда. Самое главное — лёд! Без льда весь напиток ни черта не стоит. Это я вам говорю уже не по книге, а по опыту. Я как-то выпил немного квасу без льда — меня едва не вырвало.
Мотл опять выражается неправильно: речь идёт о винном камне, по-латыни — «кремортартар».
Когда была готова первая бочка, решили, что торговать вразнос буду я. Кто же, в самом деле, если не я!.. Брату как-то не пристало — он уже человек женатый. Маме — тем более. Мы и не допустили бы, чтобы мама ходила по базару с кувшином и кричала: «Квасу! Квасу! Кому квасу!» Все решили единогласно, что делать это должен я. Да я и сам так думал, и общее решение чрезвычайно меня обрадовало.
Эля стал давать мне наставления. Кувшин держать в одной руке, на верёвочке, стакан — в другой и для привлечения покупателей громко и нараспев кричать:
Вот напнток прохладительный! Освежающий, утешительный!
Голос у меня, как я вам уже давно сказал, хороший — сопрано. Это от отца, мир праху его. Но я забыл слова, которым меня обучил брат, и запел свои:
Квас! Квас! Квас!
Для каждого из вас!
Стакан — копейка!
Копейки не жалей-ка!
Не знаю, песенка ли моя так понравилась, или действительно квасок был хороший, или всё дело в том, что день выдался очень знойный, но домой я принёс целых семьдесят пять копеек. Деньги Эля отдал маме, а мне тотчас налил новый кувшин и сказал, что если я сумею обернуться за день раз пять или шесть, то вот мы и загребём свои сто рублей в месяц — как одна копейка!
Теперь отбросьте, пожалуйста, четыре субботыи вам сразу станет ясно, во сколько напиток обходится себе и сколько он нам приносит чистой прибыли. Себе он обходится очень дёшево. Можно даже сказать, что себе он почти ничего не стоит. Самое дорогое — лёд. Поэтому надо стараться распродавать квас так быстро, чтобы одного куска льда хватило и на второй кувшин, и на третий, и так далее. Так что ходить с кувшином надо быстро, самое лучшее — бежать. За мной увязалась целая ватага мальчишек. Они смеются и дразнят меня. Но я — ноль внимания. Я стараюсь поскорее сбыть свой кувшин — и бегом домой, за следующим.
Сколько я выручил за первый день торговли, я и сам не знаю. Знаю только, что и мама, и брат, и даже Броха очень меня хвалили. На ужин мне дали большой кусок дыни, кусок
Мотл имеет в виду нерабочие дни.
арбуза и две венгерские сливы. О квасе и говорить нечего — квас мы пьём, как воду.
Вечером мама постелила мне на полу и спросила, не болят ли у меня ноги, упаси бог.
Эля только рассмеялся. Он сказал, что у такого парня, как я, никогда ничего не болит.
— Конечно! — подтвердил я. — Если хотите, я готов хоть сейчас, ночью, опять пойти с кувшином!
Все смеялись над моей прытью. Но у мамы на глазах были слёзы. Старая история — мама обязательно должна поплакать.
Интересно знать, все ли мамы так часто плачут, как моя?..
Дела наши идут, слава богу, блестяш;е. Стоит невыносимый зной — один день жарче другого. Люди прямо-таки изнывают. Если бы не стаканчик холодного квасу, можно было бы пропасть. Я оборачиваюсь со своим кувшином — без преувеличений — раз десять за день. Эля заглядывает в бочку и говорит, что уже видно дно. И тут он недолго думая бухает несколько вёдер воды.
Блестящая мысль!
Но я эту великую мудрость постиг раньше его. Должен вам сознаться, что я уже несколько раз доливал бочку.
Почти каждый день я забегаю к соседке Песе и подношу ей стаканчик нашего напитка. Её мужу, переплётчику Мойше, я
подношу два стаканчика — очень уж он человек хороший. Всем их ребятишкам я тоже даю по стаканчику — пусть они тоже знают, какие напитки мы умеем готовить. Я угощаю даже слепого дядю — наль мне его, беднягу. Я угощаю всех своих знакомых и ни гроша с них не беру.
Но нельзя ведь и убытки терпеть. Поэтому я доливаю свой кувшин водой. Вместо каждого стакана кваса, который я отдал даром, я вливаю в кувшин два стакана воды.
Да и дома у нас делают то же самое. Выпьет, скажем. Эля из бочки стакан квасу. Сию же минуту в бочку вливается стакан воды.
И правильно — зачем нести убытки? И то же самое его жена, Броха. Una ужасно любит Элин квас и, как только выпьет стакан-другой, сейчас же доливает воды. Иной раз и мама попробует. Её приходится упрашивать, сама она не возьмёт! И сразу же кто-нибудь доливает за неё воды. Вообще, у нас зря ни одной капли не пропадает, и мы, слава богу, зарабатываем недурно. Мама уже выплатила много долгов, она выкупила кое-какие заложенные вещи, постель. В доме снова появился стол, стулья. По субботам у нас бывает мясо, рыба, белый хлеб. Мне даже обещали заказать к праздникам новые сапоги.
Кажется, никому не живётся так хорошо, как мне!
Но кто, какой пророк мог бы предвидеть, что с нами случится такая беда и наш напиток вдруг сделается противен людям, хоть вылей его на помойку?.. Ещё спасибо, что меня самого не забрали в полицию!
Вот как дело было.
Захожу я как-то со своим кувшином к соседке Песе. Всем по стаканчику. Выпил и я заодно. Подсчитываю: ушло стаканов двенадцать — тринадцать. Тогда я иду в сени, где стоит кадка с водой. Но вместо кадки я, очевидно, зачерпнул из лохани, в которой стиралось бельё. Плюхнул я оттуда в кувшин стаканов пятнадцать — двадцать и выхожу на улицу торговать и распеваю новую песенку, которую сам сочинил:
Пейте квас холодный. Напиток очень модный! Пейте квас прохладный. Будьте вы неладны!
Останавливает меня какой-то прохожий, платит копейку, выпивает свой стакан, и тут, я вижу, на лице у него гримаса.
— Мальчик, что это у тебя за напиток? — спрашивает он.
Но я на него и внимания не обращаю, не до него мне было:
меня ждали ещё двое покупателей. Один из них выпил полстакана, другой — ещё меньше, оба сплюнули и ушли. Подходит новый покупатель, подносит стакан ко рту, пробует и заявляет, что от кваса отдаёт мылом и почему-то он солёный. Следующий только взглянул на стакан и возвращает мне:
— Это что у тебя?
— Такой напиток, — говорю я.
— По-твоему, это напиток? А по-моему, вонючая дрянь.
Подходит ещё один. Тот едва попробовал и сразу выплёскивает стакан прямо мне в лицо.
Минуты не прошло — вокруг меня толпа! Мужчины, женщины, дети. Все кричат, все волнуются, все размахивают руками!..
На шум приходит городовой. Он спрашивает, в чём дело. Ему объясняют. Он заглядывает в кувшин и требует стакан квасу. Едва только он попробовал, как стал плеваться и прямо-таки рассвирепел:
— Ты где эти помои взял?
— Это по книге, — отвечаю я. — Мой брат сам делает по книге
— Кто такой твой брат?
— Эля.
— Что это ещё за Эля?
— Помалкивай про брата, болван! — советуют мне из толпы.
Шум, гам, крик. Люди всё подходят и подходят. А городовой держит меня за руку и собирается отвести нас (то есть меня и мой квас) в участок. Тут шум становится невообразимым. Со всех сторон кричат:
— Он сирота! Он бедный сирота!
Я чувствую, что дело принимает скверный оборот, и начинаю умолять:
— Люди добрые, сжальтесь!
Кое-кто пытается сунуть городовому монетку, но он не берёт. Плохо моё дело.
Вдруг какой-то старик с бойкими глазами кричит мне из толпы:
— Мотл, вырви руку и удирай!
Так я и делаю. Сильным рывком я освобождаю руку и бегом домой.
Я ввалился ни живой ни мёртвый.
— Где кувшин? — спрашивает Эля.
— В участке!..
И я с плачем припадаю к маминой груди.
VIII. ЧЕРНИЛЬНОЕ НАВОДНЕНИЕ
Ох, и дурак же я был! Ох, и дурак! Мне казалось, что за скверный квас мне оторвут голову. Ничего подобного! Напрасно я испугался! Ведь вот продаёт же тётушка Ента свечное сало за гусиный жир — и ничего!
Беда мне только с мамой — она всё принимает близко к сердцу. Зато брат у меня молодец! Он нисколько не унывает
оттого, что вышла такая неприятность с квасом. Покуда у него есть заветная книга, ему ничего не страшно! Ведь недаром она называется: «За один рубль — сто!» В ней собрано бесчисленное множество самых точных советов, как заработать деньги, и почти все советы Эля знает уже наизусть.
Он знает, например, как приготовлять чернила, ваксу, как истреблять мышей, тараканов и прочих паразитов.
В первую очередь он решил заняться чернилами. Он считает, что чернила — товар ходкий. Писать учатся все. Он даже не поленился пойти к учителю Юделю узнать, сколько тот тратит на чернила.
Юдель ответил кратко:
— Состояние!
И верно: Юдель обучает письму шестьдесят девочек. Мальчики у него не учатся, мальчики его боятся: он лупит линейкой по рукам. Девчонок бить нельзя, тем более — пороть. Жаль, что я не родился девчонкой. Во-первых, не пришлось бы каждый день молиться Во-вторых, я бы не ходил в талмудтору Я хожу, правда, лишь на полдня; учиться приходится самую малость, а оплеух не оберёшься! Главное, бьёт меня даже не сам учитель, а его жена. Её бесит, что я кормлю кошку. Видели бы вы эту кошку! Смотреть больно. Вечно она ходит голодная и так жалостно мяукает — совсем по-человечьи. Прямо душа болит! А они её ничуть не жалеют. Стоит ей только показаться, они сразу поднимают крик:
— Брысь!
И с перепугу кошка удирает куда глаза глядят. Жить они ей не дают. Недавно она пропадала несколько дней подряд. Я было решил, что она, не дай бог, околела. Но потом я узнал, что она окотилась
Однако вернёмся к чернилам моего брата.
Эля говорит, что всё в мире переменилось. Взять хотя бы изготовление чернил. В былые времена приходилось покупать чернильные орешки, толочь их, кипятить бог его знает сколько, затем добавлять медный купорос, а для придания блеска — сахару. Вот какая сложная была история! То ли дело теперь! Купишь в аптеке специальный порошок, бутылочку глицерину, разведёшь в воде, прокипятишь — и чернила готовы. Красота!
Так говорит Эля.
Поминальную молитву читают только сыновья умершего.
Талмуд тора — еврейская религиозная начальная школа для мальчиков; содержалась на средства благотворительности.
и вот он идёт в аптеку и приносит целую кучу порошков, большую бутыль глицерина и запирается в маминой комнате. Что он там делает, мне неизвестно. Тайна. Всё у него тайна! Когда ему нужно попросить у мамы пестик, он таинственно отзывает её в сторону и говорит шёпотом:
— Мама, дай пестик!
Порошки и глицepш он смешал в довольно вместительном, специально для этого купленном горшке, поставил в печь и шёпотом попросил маму запереть дверь. Мы все насторожились. Мама ежеминутно с тревогой поглядывала на печь, точно боясь, как бы печь не взорвалась. Затем в комнату вкатили бочку, которая в своё время служила для кваса, осторожно вынули из печи горшок и так же осторожно вылили содержимое в бочку, после стали лить воду. Когда бочка наполнилась до половины. Эля скомандовал:
— Хватит!
Затем, заглянув в книгу «За один рубль — сто!», он велел подать ему новенькое перо и лист белой бумаги.
— На какой пишут прошения! — шепнул он маме на ухо.
Обмакнув перо в бочку. Эля что-то написал на поданной ему бумаге, сделал росчерк с завитушками и показал сначала маме, затем своей жене. Едва взглянув, каждая из них признала:
— Чернила!
Тогда мы снова принялись за знакомую работу: вкатили в бочку ещё пару вёдер воды. Эля поднял руку:
— Хватит!
Он снова обмакнул перо, что-то написал на бумаге и снова показал матери и жене. Опять обе, едва взглянув, заявили:
— Чернила!
Так было проделано несколько раз, пока бочка не оказалась полной до самых краёв. Больше уже и лить некуда было.
Тогда Эля поднял руку:
— Хватит!
И мы все четверо сели за стол.
После еды мы принялись разливать чернила в бутылки. Брат натаскал их со всего света и всевозможных видов: пивные, винные, из-под водки и всякие другие. Накупил он и пробок, тоже старых: старые — дешевле, да ещё приобрёл воронку и жестяную кружку для разливания чернил.
и вот Эля, как всегда шёпотом, попросил маму закрыть дверь, и мы вчетвером принялись за работу. Обязанности были распределены очень хорошо. Броха прополаскивала бутылки и подавала их маме. Мама заглядывала в каждую бутылку и передавала её мне. Мне было поручено вставлять в горлышко воронку и придерживать её одной рукой, а другой — держать бутылку. А брат зачерпывал кружкой из бочки и лил в воронку.
Работа, как видите, приятная и весёлая. Плохо лишь то, что чернила имеют свойство пачкать не только руки, но даже носы и лица. Мы с Элей перемазались, как черти. Впервые в жизни я увидел маму смеющейся. О Брохе я уже не говорю — та со смеху чуть не лопнула. Но Эля не любит, чтобы над ним смеялись. Он сердится на жену и спрашивает, чего, собственно, она гогочет. А её ещё больше разбирает: она уже смеётся как припадочная, с ней чуть ли не судороги, вот-вот она помрёт. Наконец мама кое-как успокоила её, а нам с Элей приказала умыться. Но Эле не до умывания: у него не хватает бутылок. Все бутылки уже наполнены. Больше нет бутылок. Где взять бутылки?
Он отзывает в сторону свою жену и шёпотом приказывает ей пойти раздобыть где-нибудь бутылки. Броха слушает, но, взглянув на него, снова прыскает со смеху. Тут Эля совсем уже выходит из себя. Он отзывает маму и так же таинственно обращается со своей просьбой к ней. Мама отправляется на попеки бутылок, а мы тем временем доливаем в бочку воды. Конечно, не сразу, а постепенно.
После каждого ведра Эля поднимает руку и командует:
— Хватит!
Потом он обмакивает в бочку перо, что-то пишет на своей бумажке и говорит, ни к кому не обращаясь:
— Чернила!
Так повторяется несколько раз, пока мама не возвращается с новым запасом бутылок. Мы опять берёмся за разлив, но бутылок всё же не хватает.
— Когда же будет конец? — спрашивает Броха.
— Ой, не сглазить бы! — восклицает мама.
А брат сердито смотрит на жену, как бы говоря ей:
«Хоть ты мне и жена, но и дура же ты, прости господи!»
4
Сколько у нас чернил, я и сказать не могу. Думаю, наберётся добрая тысяча бутылок. Но что толку, когда их некому сбыть. Эля уже толкался повсюду.
— Торговать в розницу смысла нет, — сказал он однажды нашему соседу, переплётчику Мойше.
Тот как-то зашёл к нам и прямо шарахнулся, увидев такое v>rpoMHoe количество бутылок. И тут между ним и Элей завязался довольно странный разговор. Передаю дословно.
Эля. Чего вы испугались?
Переплётчик. Что у тебя в бутылках
Эля. Вино! Чему же там быть, если не вину?
Переплётчик. Вино? Какое это, к чёрту, вино? Это чернила!
Эля. Зачем же вы спрашиваете?
Переплётчик. Куда тебе столько чернил?
Эля. Пить буду.
Переплётчик. Без шуток. В розницу будешь продавать?
Эля. С ума я сошёл? Если уж продавать, то десять, двадцать, пятьдесят бутылок сразу. Это называется «оптом». Вы понимаете?
Переплётчик. Понимаю. А кому ты собираешься продавать?
Эля. Как — кому? Дяде!..
И Эля отправился по лавкам. Приходит он к торговцу, крупному оптовику. Тот требует бутылку для пробы: он хочет видеть товар. Приносит Эля бутылку, а тот и в руки не берёт: нет этикетки.
— На каждой бутылке должна быть этикетка, да ещё с рисунком!
Эля говорит:
— я картинок не делаю. Я делаю чернила!
А тот ему в ответ:
— Ну что ж, и делай себе на здоровье!
Эля кинулся к учителю. Но тот преподнёс ему форменную гадость.
— У меня, — говорит он, — такой запас чернил, что на всё лето хватит!
— Сколько же это у вас бутылок? — спрашивает Эля.
— Бутылок? — удивляется учитель. — Я купил бутылку, и мне её надолго хватит. Кончится эта, куплю другую
Ну и дела! На что только человек бывает способен! Ещё недавно этот учителишка хвастал, что на чернила тратит состояние, а теперь оказывается, что ему больше одной бутылки и не надо!
Бедняга Эля вне себя! Он не знает, что ему делать с чернилами. Недавно он говорил, что в розницу продавать ни за что не будет, только оптом. Теперь он уже начинает сдаваться. Теперь он говорит, что готов продавать и в розницу.
Мне было интересно, что это значит — продавать чернила «в розницу».
И я узнал. Об этом стоит рассказать.
Эля принёс большой лист бумаги, разложил его на столе и написал крупными печатными буквами:
Здесь продают чернила оптом и в РОЗНИЦУ Хорошо и ДЁШЕВО
Слова «в розницу» и «дёшево» были написаны заглавными буквами и занимали почти весь лист.
Своё объявление Эля вывесил у нас на дверях. Прохожие останавливались и читали. Эля стоял, смотрел в окно и похрустывал пальцами. Он волновался.
— Мотл, — сказал он мне, — пойди послушай, что говорят. Меня в подобных случаях упрашивать не надо. Я стал у
дверей и прислушался к разговорам. Простояв этак с полчаса, я возвращаюсь домой.
Эля подходит ко мне почти вплотную и негромко спрашивает:
— Ну?..
— Что — ну?
— Что говорят?
— Кто?
— Люди.
— Говорят, что почерк красивый.
— И больше ничего?
— Больше ничего!
Эля вздыхает. Почему он вздыхает?
Мама спрашивает его:
— Почему ты вздыхаешь, глупенький! Подожди немного. Тебе бы хотелось сбыть весь товар сразу, в один день?!
— Хоть бы почин! — отвечает Эля.
И я слышу слёзы в его голосе.
— Глупенький ты! — повторяет мама. — Погоди, будет еш;е почин. Будет!
Так утешая его, мама собирает ужинать, мы моем руки и садимся за стол.
Сидим, прижавшись друг к дружке, потому что из-за бутылок в доме стало страшно тесно. Только принялись мы за еду, вбегает некий парнишка, по имени Копл. Я его знаю, у него уже есть невеста.
— Здесь продают чернила в розницу?
— Здесь. В чём дело?
— Мне нужны чернила.
— Сколько тебе?
— Дайте на копёнку.
Эля вне себя. Если бы ему не было стыдно перед мамой, он бы этого жениха сперва поколотил, а потом выставил за дверь. Однако он себя сдерживает и отпускает товару на одну копейку.
Не проходит и четверти часа — появляется девочка. Она держит палеп в носу и спрашивает:
— Здесь делают чернила?
— Здесь. А тебе что надо?
— Сестра просит, не можете ли вы дать ей в долг немного чернил. Ей надо написать письмо.
— Кто твоя сестра?
— Белошвейка Бася.
— Вот как! Как же ты выросла! — говорит мама. — Я тебя и не узнала!.. Чернильница у тебя есть?
— Откуда у нас чернильница?! Сестра просила не найдётся ли у вас и пёрышка. Ей нужно только одно письмо написать Жениху Она вам сейчас же вернёт и перо и чернила.
Брата зже за столом не видно. Он в маминой комнате. Он там шагает взад и вперёд и грызёт ногти.
— Зачем ты приготовил столько чернил? Ты хочешь весь мир обеспечить чернилами? — спрашивает брата наш сосед, переплётчик Мойше. — Ты боишься, как бы не наступил чернильный голод?
Чудак он, этот переплётчик! Как Э1Х), в самом деле, можно растравлять человеку раны? И ведь как будто неплохой старик, только нудный, въедливый! Правда, он здорово получил от Эли. Тот посоветовал ему не соваться в чужие дела, а внимательно следить за своими и не переплетать в одну книжку пасхальные песни и покаянные молитвы. Это был ядовитый намёк, и переплётчик его понял.
Дело в том, что какой-то извозчик заказал ему однажды переплести пасхальные песнопения. А Мойше, вероятно по ошибке, вплёл в тот же томик несколько страниц из молитвенника. Извозчик, пожалуй, и не заметил бы, но соседи услыхали, что вместо весёлой пасхальной песни о козе с козлятами он с плачем читает молитву об отпущении грехов.
Соседи смеялись. А извозчик пришёл к переплётчику и едва не порвал его в клочья.
— Разбойник! — кричал он. — Что вы со мной сделали? На кой чёрт вы мне влепили покаянные молитвы куда не надо?! Да я из вас кишки выпущу!..
Ох, и весёлая у нас была пасха в том году!..
Однако вы меня извините — я увлёкся посторонней историей. Вернёмся к нашим блестящим делам.
IX. ПОСЛЕДСТВИЯ ЧЕРНИЛЬНОГО НАВОДНЕНИЯ
Брат ходит сам не свой. Куда девать столько чернил?
— Опять ты о чернилах! — с раздражением говорит ему наша мать.
— Да нет же! — защищается Эля. — Чёрт с ними, с чернилами! Но бутылки Я потратил на них целое состояние! Надо их опорожнить и как-нибудь превратить в деньги.
Эля всё превращает в деньги!..
Решено бьшо вылить чернила. Ко всем чертям! Но куда? Куда вылить такое количество? Ведь это стыд и срам!..
— Ну что ж, — говорит Эля, — надо подождать до ночи. Ночью никто не увидит.
Дождались ночи, а тут, как назло, полная луна!
— Когда иной раз хочешь, чтобы было светло, она прячется, а когда не надо — она тут! — с досадой говорит Эля.
Всё же мы выносим из дому бутьижу за бутылкой и выливаем прямо на улицу. Получается целая река!..
— Не надо лить в одно место! — говорит Эля.
Я делаю, как он велит: каждую бутылку — в другое место. Одну — соседям на стену. Вторую — другим соседям на забор. Две козы жуют жвачку — на них идёт третья бутылка.
— На сегодня хватит, — говорит Эля.
И мы отправляемся спать.
Тихо. Темно. Слышно только, как поёт сверчок и как мурлычет кот за печью. Днём и ночью он только и делает, что греется и мурлычет. В сенях слышны чьи-то тихие шаги. Может быть, это домовой?
Мама ещё не спит. Кажется, она никогда не спит. Я слышу, как она по ночам хрустит пальцами, вздыхает, кряхтит, разговаривает сама с собой. Такая у неё привычка. По ночам она отводит душу — рассказывает о своей тяжёлой жизни. Кому? Неужели богу?
Я слышу, как она каждый раз взывает:
— Ох, боже, боже!..
Я сплю на полу и сквозь сон слышу крики. Различаю знакомые голоса. Открываю глаза. Солнце уже стоит высоко. Лучи его врываются в окно и зовут меня на улицу.
Я пытаюсь вспомнить, что было вчера. Ага, чернила! Вскакиваю и быстро одеваюсь. Вижу, мама вся в слезах, но ведь иначе почти не бывает. Броха ходит злая, но она всегда ходит злая. А брат стоит посреди комнаты, опустив голову, и молчит. Что за история такая?
Оказывается, не одна история, а несколько! Соседи подняли такой шум, точно их режут. Один увидел, что у него стена залита чернилами. У другого в чернилах новый забор. У третьего две белые козы стали чёрными!
Но всё это было бы ещё не так страшно, если бы не жена резника и её чулки. Она повесила к соседке на забор пару новеньких белых чулок, и вот чулки залиты чернилами!
Как будто кто-нибудь просил её развешивать чулки на чу-JKOM заборе! Но мама обещает купить ей новые чулки — лишь бы она перестала вопить.
А стена? А забор?
Покончили на том, что мама и Броха замажут пятна.
— Ваше счастье, — говорит маме соседка Неся, — что вы имеете дело с порядочными людьми. Нарвались бы вы с ва-
шими чернилами на фельдшера Менаше — он бы вам показал, где раки зимуют!..
— Конечно, и в беде нужна удача! — отвечает мама и смотрит на меня.
Что она имеет в виду?
— Теперь уж я буду умнее, — говорит мне брат. — Как только наступит вечер, мы понесём бутылки на речку.
Он совершенно прав! Что может быть прош,е? В речку всё равно спускают всякую гадость. Там и бельё стирают, и лошадей купают, и свиньи там прохлаждаются.
Я очень люблю речку, и вы уже знаете, что я рыболов. Так что вам нетрудно понять, с каким нетерпением ожидал я той минуты, когда мы все отправимся на реку.
Едва наступила темнота, мы уложили бутылки в корзину и пошли на реку. Выльем чернила, отнесём порожние бутылки домой и вернёмся с новыми.
Так мы проработали до утра. Давно уже не было у меня такой вееелой ночи. Подумайте только: город спит, небо всё в звёздах, луна смотрит прямо в речку. И тишина!..
А речка у нас быстрая. Весной, когда тает лёд, она вздувается, выходит из берегов и бушует. Потом вода понемногу спает, речка становится всё мельче, уже, а в конце лета она спокойно лежит, дремлет и едва слышно булькает: буль-буль! С противоположного берега откликаются лягушки: ква-ква!
Вот какая это река! Срам один, а не река! Я перехожу вброд с одного берега на другой, даже не подкатывая штанов.
Так что от наших чернил речка вздулась. Шутка ли — почти тысяча бутылок! Наработались мы, как волы, уснули на рассвете и спали как убитые!
Разбудили нас мамины вопли:
— Горе моё! Несчастная моя жизнь!.. Что вы там натворили, на реке?
Оказалось, что мы напакостили всему городу. Прачкам негде стирать бельё! Извозчикам негде поить лошадей Водовозы Вот они сейчас придут! Что с нами будет?
Всё это сообщает мама. Но у нас нет ни малейшей охоты видеть прачек, извозчиков и водовозов и ожидать, когда они придут и расправятся с нами. Нам это ничуть не интересно. Так что мы с Элей немедленно уходим к его приятелю Пине.
— Пусть они нас ищут, если им нужно! — говорит Эля.
Он берёт меня за руку, и мы бегом пускаемся к Пине.
Как-нибудь, при случае, я вас познакомлю с Пиней. С ним стоит познакомиться: ему тоже иногда приходят в голову удачные мысли.
X. УЛИЦА ЧИХАЕТ
Знаете, что у нас теперь на очереди? Мыши.
Целую неделю не разгибая спины просидел Эля над своей книгой «За один рубль — сто!», которая учит, как добывать деньги. Он говорит, что уже знает, как истреблять мышей, тараканов и прочую пакость, в том числе и крыс. Где бы он ни появился со своим порошком, там не останется ни одной мыши: они разбегутся или передохнут все до одной. Нет больше мышей!
Как он этого добьётся, не знаю. Это тайна, и она известна только сочинителю книги и ему. Книгу Эля всегда держит при себе, в боковом кармане, а порошок — в бумажнике. Порошок красноватого цвета, очень тонко размолот, как нюхательный табак, и называется «чемерица».
— Что такое чемерица? — спрашиваю я.
— Турецкий перец.
— А что такое турецкий перец?
— Вот задам я тебе сейчас «что такое»! — огрызается Эля.
Он терпеть не может, чтобы к нему приставали с расспросами во время работы. Приходится сидеть и молчать.
Однако я замечаю, что у него есть ещё какой-то другой порошок.
— Тоже от мышей. Но с ним надо быть осторожным! «Смертельный яд!» — чуть ли не сто раз предупреждает Эля маму, свою жену и меня — в особенности меня: не сметь прикасаться!
Первый опыт мы произвели над мышами нашей соседки Песи. Вот у кого мышей пропасть! Как вы знаете, её муж- — переплётчик, у него всегда много книг. А мыши любят книги.
Не то чтобы они любили читать, но им нравится клейстер, ко торым скрепляют книгу. Заодно они грызут уже и самые книги
Переплётчику они причиняют много неприятностей. Недав но они изгрызли у него совершенно новенький молитвенник И начали как раз с «Господи, владыка вселенной». Так на сели на «владыку», что от него ничего не осталось.
— Пустите меня только на одну ночь! — умоляет переплётчика мой брат.
Но тот и слышать не хочет:
— Боюсь, ты мне все книги попортишь!
— Как это я попорчу вам книги? Чем?
— Не знаю. Но я боюсь. Книги чужие.
Вот подите толкуйте с ним! Еле уломали его пустить нас на одну ночь.
В первую ночь нам не повезло — мы не поймали ни одной мыши. Но Эля считает, что это даже хороший признак: мыши разбежались, едва почуяв запах порошка.
Переплётчик выслушивает это объяснение, покачивая головой. Он, как видно, не верит.
Тем не менее по городу пошёл слух, что мы истребляем мышей. Пустила его соседка Песя. Рано утром она пошла и раструбила по всему базару, что никто не умеет так истреблять мышей, как мы. И о нас заговорили. Раньше она всем и каждому расхваливала наш квас. Затем она стала уверять всех встречных и поперечных, что мир ещё не видал таких чернил, как наши. Правда, от всех этих разговоров не было никакой пользы, потому что чернила никому не нужны. Но мыши — это не чернила! Мыши — совсем другое дело. Мышей везде хватает, в каждом доме. Правда, в каждом доме всегда есть кошка, но где одной кошке справиться со столькими мышами, и в особенности с крысами! Крысы плевать хотели на кошку. Говорят даже, что кошки сами побаиваются крыс. По крайней мере, сапожник Берл уверяет, что это именно так. Он рассказывает о крысах совершенно невероятные истории. Правда, о нём самом говорят, что он совершенно невероятный враль. Но всё равно, поетушать его бывает интересно.
Например, он уверяет, что крысы съели у него пару новых сапог. И так клянётся, что не поверить нельзя, хоть ты и знаешь, что он врёт. Он якобы сам, собственными своими глазами, видел, как две огромные крысы вылезли из норки и съели его сапоги. Дело было ночью. Подойти близко он боялся, потому что крысы были как телята. Не меньше! Он топал на них ногами, свистел, кричал им: «Кш-кш-кш!» — а они и вни-
мания не обращали. Тогда он запзстил в них колодкой, но эти твари только посмотрели на него и продолжали своё. Tjt он схватил кошку и бросил её прямо крысам в морды. И что вы думаете? Сожрали её крысы!
Это казалось неправдоподобным, но человек так клялся
— Пустите меня, — предложил ему Эля, — и я истреблю у вас крыс в одну ночь.
— Пожалуйста! С превеликим удовольствием! — согласился сапожник. — Буду вам очень благодарен.
Целую ночь напролёт просидели мы у сапожника. Он, положим, тоже не сомкнул глаз и до самого утра рассказывал нам удивительные истории.
Ведь он отставной солдат, он был на турецкой войне и участвовал в битве под Плевной. Там стреляли из пушек. Вы знаете, какие большие пушки бывают? Подумайте только: ядро больше, чем весь наш дом! А пушка может выбросить чуть ли не тысячу таких ядер в минуту! Можете вы себе это представить? А ядро, когда летит, воет так, что оглохнуть можно. Берл рассказывает, как он однажды стоял на посту, вдруг — трах! — и он чувствует, что его поднимает в воздух и куда-то несёт выше облаков. А там ядро разорвалось на тысячу кусков. Берл говорят, что ему ещё повезло — он упал на стог сена, иначе он мог разбить себе голову.
Эля слушает, и брови у него улыбаются. Сам он ничего, а брови как будто смеются над вралём-сапожником. Но тот даже не замечает. Он всю ночь, не умолкая ни на минуту, рассказывал нам свои необычайные приключения, одно страшнее другого, и этак мы просиде/ш до самого утра.
А крысы? Крыс не было ни одной.
— Вы настоящий волшебник! — сказал сапожник моему брату и даже отправился на базар рассказывать всему городу, как посредством заклинаний мы в одну ночь вывели у него всех крыс.
Он клялся и божился, что своими глазами видел, как Эля что-то шептал. После этого все крысы вылезли из нор и пустились под гору, к реке, переплыли её и ушли дальше.
Куда — он не знает
— Здесь выводят мышей?
С таким вопросом к нам приходят всё чаще и чаще и приглашают вывести мышей при помощи заклинаний. Но мой
Эля — человек правдивый. Он терпеть не может никакой лжи. Он всем прямо так и говорит, что истребляет мышей не заклинаниями, а при помощи порошка. Есть у него такой особенный порошок, которого мыши не любят.
— Пусть порошок, пусть чёрт, пусть дьявол! — говорят заказчики. — Лишь бы избавиться от мышей. Сколько это будет стоить?
Эля не любит торговаться. Он говорит, что за порошок причитается столько-то, за труд столько-то.
Правда, с каждым разом он просит больше. Он каждый день повышает цены.
Вернее — не он, а Броха, жена его, повышает цены.
— Уж если возиться с мышами, — говорит она, — то, по крайней мере, за хорошие деньги!..
— А справедливость где? А бог где? — возмущается мама.
На это Броха отвечает:
— Справедливость?.. Вот она, справедливость! — и указывает на печку. — Бог?.. Вот где бог! — и хлопает себя по карману.
— Броха, что ты сказала? Бог с тобой! — в ужасе восклицает мама.
— Зачем ты разговариваешь с этой коровой! — замечает Эля.
При этом он шагает по комнате и теребит бородку. У него уже порядочная бородка, она растёт как на дрожжах. Он её теребит, а она растёт, но как-то странно: только на шее. Лицо чистое, а шея вся заросла. Видали вы когда-нибудь такую бороду?
В другое время Броха показала бы ему «корову»! Он бы света божьего не взвидел. Но на сей раз она смолчала, потому что в настоящее время Эля зарабатывает. А когда он зарабатывает, она его уважает. Она даже ко мне теперь относится с уважением, потому что я помогаю её мужу зарабатывать деньги. Обычно я для неё — «голодранец», «растяпа», «обжора». А сейчас она меня ласкательно зовёт «Мотеле».
— Мотеле, подай мне ботинки!
— Мотеле, принеси мне кружку воды!
— Мотеле, вынеси помои!..
Совсем другой разговор, когда ты зарабатываешь деньги!..
У Эли странная черта: ему всего нужно помногу. Если квасу — то большую бочку; если чернил — то тысячу бутылок; если мышиной отравы — то мешок. Муж Песи пробовал отговорить его: — Зачем тебе так много сразу?
Но Эля только нагрубил ему в ответ.
И хотя бы он догадался куда-нибудь спрятать этот мешок! А то все ушли, а мешок оставили! А я, конечно, сел на него верхом. Что тут плохого? Не мог же я предвидеть, что мешок лопнет и из него посыплется какой-то жёлтый порошок! Но это оказался тот самый порошок, посредством которого Эля собирается истреблять мышей. Запах такой, что дух захватывает. Я хотел собрать то, что высыпалось, но стал страшно чихать. Если бы я набил себе в нос полную табакерку нюхательного табаку, я и тогда не мог бы так чихать.
Я выбежал из дому в надежде, что на воздухе это скорее пройдёт. Ничего подобного!
Тут является мама:
— В чём дело?
В ответ я мог произнести только одно:
— Апчхи! Апчхи! — И снова: — Апчхи!
— Горе ты моё! — начинает причитать мама. — Где ты схватил такой насморк?
Не переставая чихать, я ей указываю рукой на наш дом. Она входит и моментально выбегает обратно во двор, чихая так же, как я.
Приходит Эля и видит, что мы с мамой чихаем.
— В чём дело?
Мама указывает ему рукой на дом. Он бежит туда и тотчас выскакивает обратно:
— Кто это рас апчхи! апчхи! апчхи!..
Давно уже не видел я брата в такой ярости. Он бросается на меня с кулаками. Моё счастье, что он всё время чихает, иначе он бы избил меня до смерти.
Приходит Броха и видит, что мы все чихаем.
— Что это с вами? — спрашивает она. — Что это вы вдруг расчихались?
А мы не в состоянии и слова вымолвить. Руками указываем ей на дом, она бежит туда, побагровевшая вылетает стрелой и набрасывается на Элю:
— А что я тебе го апчхи! апчхи! апчхи!..
Тут появляется соседка Песя. Она что-то говорит, но мы даже не слышим, что именно. Указываем ей руками на дверь, она идёт в дом и тотчас возвраш.ается:
— Что вы на апчхи! апчхи! апчхи!..
Приходит её муж, смотрит на нас и смеётся:
— Что это на вас напало?
— Попробуйте зай апчхи! апчхи! апчхи!.. — отвечаем мы ему хором, указывая на дом.
Переплётчик входит в дом и выскакивает оттуда с хохотом:
— Знаю, знаю, что это! Я понюхал. Это чеме апчхи! апч-хи! апчхи!..
Он хватается за бока и хохочет, не переставая чихать, и каждый раз становится на цыпочки и подпрыгивает, и каждый раз снова чихает и снова подпрыгивает
Не проходит и получаса, как все наши соседи и соседки, их дяди и тётки, их двоюродные братья и сёстры, их друзья и знакомые — вся улица из конца в конец, все, все до одного, чихают как одуревшие.
Брат мой очень испугался — как бы чихающие не задумали с ним расправиться! Он хватает меня за руку, и мы, не переставая чихать, бежим к его приятелю Пине. Нам потребовалось не меньше полутора часов, чтобы успокоиться и снова обрести способность разговаривать по-человечески. Тогда Эля посвящает своего друга во всё случившееся.
Пиня слушает его внимательно, как врач выслушивает больного. Потом он говорит:
— Ну-ка, покажи мне её, эту книжку!
Эля извлекает из бокового кармана книгу и передаёт Пине.
«За один рубль — сто! Как зарабатывать в месяц сто рублей и больше».
Пиня смотрит и смотрит на книжку и вдруг как швырнёт её в печь, прямо в огонь! Эля пытается её спасти. Но Пиня спокойно останавливает его:
— Тише, не спеши!..
Прошло несколько минут, и от книги, содержавшей столько полезных советов, как зарабатывать в месяц сто рублей и больше, остаётся только горсточка пепла. Едва-едва уцелел маленький клочок бумаги. На нём кое-как можно было разобрать лишь слово «чемерица».
НОЖИК
Не укради!
Седьмая заповедь
Слушайте, ребята, я вам расскажу историю о ножике. Не выдуманную, а подлинную: она приключилась со мной самим.
Ни к одной вещи в мире меня так не тянуло, как к перочинному ножику. Ни одной вещью в мире я так не жаждал обладать, как собственным перочинным ножиком. Пусть он лежит у меня в кармане; когда захочу — достану; что захочу — буду резать, а товарищам будет завидно!
Как только я стал ходить в хедеря обзавёлся ножиком, вернее — неким подобием ножика. Смастерил я его сам. Я взял гусиное перо, обрезал с одной стороны, выровнял с другой и ьообразил, будто это настоящий ножик и им можно резать.
— Что это вдруг за перо? Какого чёрта ты носишься с перьями? — задыхаясь от кашля, спрашивает меня отец, болезненный человек с жёлтым, высохшим лицом. — Тоже игрушку нашёл — перья какие-то! Кхе-кхе-кхе!
— Тебе жаль? Пусть ребёнок забавляется, — говорит ему
X е д е р — еврейская религиозная начальная школа для мальчиков.
мать, маленького роста женщина, повязанная шёлковым платком. — Только зря кровь себе портишь
Позже, когда мы уже проходили «Пятикнижие», у меня появился ножик — почти настоящий и тоже моей собственной работы: я раздобыл стальную пластинку из маминого корсета и очень здорово присобачил её к кусочку дерева и наточил о горшок. Конечно, я изрезал себе при этом все пальцы.
— Взгляни-ка, взгляни, как твой наследничек себя разукрасил! — раскричался отец, стиснув мои пальцы так, что все кости захрустели. — Хорош, нечего сказать!
— Ох, несчастье моё! — говорит мать и, не обращая внимания на мои слёзы, отбирает у меня ножик и швыряет в печь. — Пусть с этим будет покончено, горе моё!
Но вскоре я разжился другим ножиком — на сей раз это был настоящий: деревянная ручка, похожая на бочонок, и кривой клинок, который открывается и закрывается. Хотите знать, как он мне достался? Я экономил на завтраках и скопил капиталец. На эти деньги я и купил ножик у Шлоймеле: семь гро-> шей наличными и три в долг.
Ох, как я любил этот ножик! Как я его любил! Придёшь бывало из хедера, унылый, голодный, сонный, щёки горят от оплеух (меламед Мотя Душегуб только что начал вдалбивать нам талмуд: «Вол, забодавший корову». Если вол бодает корову, то я должен получать оплеухи?!), и первым делом достанешь ножик из-под чёрного шкафа, где он хранился весь день, потому что брать его с собой в хедер я не решался, а домашним тем более не следовало знать о его существовании. Вытрешь его хорошенько, попробуешь разрезать кусок бумаги, перерубить соломинку, потом нарежешь им свой ломоть хлеба на маленькие, крохотные кусочки, подхватываешь их кончиком ножика и отправляешь в рот!
Перед сном я протирал ножик, начищал его до блеска, шлифовал, доставал точильный брусок, который отыскал на чердаке, плевал на него и приступал тихонько к работе: я точил ножик, точил и точил
Отец сидит в ермолке, склонившись над талмудом, читает и кашляет, кашляет и читает. Мать возится на кухне, собирается печь халу, а я продолжаю точить и точить свой ножик.
Вдруг отец вздрагивает, аювно он спал и проснулся:
— Кто там скрипит? Что это за возня? Что ты там делаешь, лодырь ты этакий?!
Он подходит, видит точильный брусок, хватает меня за ухо и кашляет.
— Что-о-о? Ножик? Кхе-кхе-кхе! — говорит он, отнимая у
Меламед — учитель d хедере.
меня и ножик и брусок. — Хорош молодчик, нечего сказать! Небось в книгу и не заглянет! Кхе-кхе-кхе! Хвороба тебя возьмёт, если ты будешь читать книгу?
Я плачу навзрыд. Отец даёт мне в утешение несколько оплеух. А мать прибегает из кухни, рукава у неё засучены, она кричит:
— Тише, тише! Что случилось? За что ты его бьёшь? Побойся бога! Зачем ты ребёнка обижаешь? Горе моё!
— Ножики! — кричит отец, продолжая кашлять. — Что он — дитя малое?! Этакий балбес! Кхе-кхе-кхе! Руки у него отвалятся, если он книгу возьмёт?! Восемь лет парню!.. Я тебе задам ножики, лодырь этакий! Ножика ему вдруг захотелось! Кхе-кхе-кхе!
Господи, и дался же ему мой ножик! Чем ножик-то провинился? Отчего отец так сердится?
Сколько я помню отца, он почти всегда болен, бледен, жёлт, вечно раздражён, вечно недоволен всем миром. Из-за малейшего пустяка он начинает сердиться и срывает свою злобу на мне.
Спасибо, мать меня защищает!
А ножик мой куда-то так далеко забросили, что я восемь дней подряд его искал и не мог найти. Я горько его оплакивал, мой кривой ножик, мой чудесный ножик! Как тяжко и грустно бывало мне сидеть на уроках и вспоминать, что вечером, когда я с опухшими щеками и красными ушами приду домой от Мо-ти Душегуба, который мучил меня за то, что вол забодал корову, мне не с кем будет отвести душу! Одиноким остался я, когда пропал мой ножик, одиноким, осиротелым, и никто не видел слёз, которые я проливал ночью в постели. Я тихо плакал, вытирал слёзы и засыпал, а рано утром опять марш в хедер, опять унылое «Вол, забодавший корову», опять оплеухи Моти Дзтие-губа, опять отец сердится, кашляет и ругает меня, — и ни одной радостной минуты, ни тёплого, ласкового взгляда, ни улыбки, ни одной человеческой улыбки! Я один-одинёшенек, один во всём божьем мире!
С тех пор прошёл год, а может быть, и полтора. Я уже почти позабыл о кривом ножике. Но, видно, на роду уж так было мне написано страдать все мои детские годы из-за ножиков. На мою беду, появился новый ножик: чудесный, с костяным черенком, замечательный ножик с двумя стальными лезвиями, острыми, как бритва, редкостный ножик, настоящий завяловский!
Завяловский — известная в то время фабричная марка7
Как попал ко мне дорогой ножик, какой мог мне разве только присниться?.. Это связано с одной грустной, но интересной историей. Прошу вас, выслушайте меня внимательно.
Какими глазами должен был я смотреть на нашего бритого жильца, полуеврея-полунемца, подрядчика герра Герца Гер-ценгерца, если говорил он по-еврейски, но ходил с непокрытой головой, не носил ни бороды, ни пейсов и сюртук был у него укорочен, извините, чуть ли не до половины спины? Как я мог, скажите сами, не прыскать со смеху, когда этот еврейский немец или немецкий еврей обращался ко мне на каком-то своём странном языке:
— Ну, либстер кнабекакой глава бибель мы читаем на эта недель?
— Хи-хи-хи! — отвечал я, закрыв лицо руками.
— Заге, заге, майн киндхен какой глава бибель приходится на эта недель?
— Хи-хи-хи! Глава «Болок»! — выпаливал я и, расхохотавшись, убегал.
Однако всё это было лишь вначале, когда я ещё мало знал нашего жильца. Позднее, узнав этого немца герра Герца Гер-ценгерца поближе (он прожил в нашем доме целый год), я его крепко полюбил, и меня уже не трогада, что он не читает молитвы по утрам и садится за стол, не совершив обряда омовения рук. Первое время я не понимал, как это он всё-таки ещё остаётся жив. Как это он не подавится едой? Как это бог терпит его на земле? Почему он ходит с непокрытой головой и не лысеет? Наш учитель Мотя Душегуб говорил (я сам слышал это из его собственных уст!), что этот полунемец-полуеврей — оборотень: какая-то еврейская дзиа временно переселилась в немца. Потом он может ещё обернуться волком, быком, лошадью или даже вовсе уткой Уткой?
«Ха-ха-ха! Вот так история!» — думал я, от души жалея немца. Я только не мог понять одного: почему отец, человек благочестивый и богобоязненный, усаживал его всегда на самое почётное место? Почему другие евреи, заходившие к нам, тоже бывали весьма с ним почтительны?
— Привет, реб Герц Герценгерц! Моё почтение, реб Герц Герценгерц! Садитесь, реб Герц Герценгерц!
Как-то раз я попытался спросить об этом отца, но он отрезал:
— Не твоего ума дело! Что ты всюду суёшься? Хвороба тебя возьмёт, если ты будешь читать книгу?! Кхе-кхе-кхе!
Милый мальчик (нем.)
Библия (нем.)
Скажи, скажи, моё милое дитя (нем.)
Одна нз глав библии.
Опять книга, боже ты мой! Мне ведь хочется послушать, о чём люди говорят!
Я забиваюсь в уголок и прислушиваюсь к беседе взрослых, к раскатистому смеху герра Герценгерца, наблюдаю, как он курит толстую чёрную сигару, которая так сладко дымит Внезапно подходит отец и отвешивает мне оплеуху:
— Ты опять здесь? Бездельник! Кем ты вырастешь, неуч? Что из тебя выйдет? Кхе-кхе-кхе!
Герр Герц Герценгерц заступается за меня:
— Абер лассен зи им! Лассен зи им!
Но заступничество не помогает. Отец выгоняет меня из комнаты. Я беру молитрснник, а читать не хочется. Чем мне заняться? Слоняюсь из одтой комнаты в другую, пока наконец не попадаю в нашу лучшую комнату, в которой обычно спит герр Герц Герценгерц. Ах, как здесь светло и уютно! Лампы горят, зеркала блестят; на столе огромная серебряная чернильница и замечательные ручки с перьями, статуэтки, лошадки, камешки, безделушки и ножик! Ах, какой замечательный ножик!.. Мне бы такой ножик. Как бы я был счастлив! Сколько всякой всячины я бы им вырезал! Стоит, пожалуй, попробовать, наточен ли он. Ах, он волос рассекает пополам! Ну и ножик! Минута — и яожик очутился в моих pjTcax. Я озираюсь по сторонам и пробую — на одно только мгновение! — положить его в карман Руки у меня дрожат Сердце бьётся так сильно, что я слышу, как оно стучит — тик-тик-тик! Вдруг чьи-то шаги, скрип сапог — это он, герр Герц Герценгерц. Ай-яй! Как же быть?.. Оставлю ножик пока у себя, а потом положу его на место. Пока нужно уйти, выбраться отсюда, бежать! Бежать!..
Ужинать я уже не могу. Мать щупает мой лоб. Отец бросает в мою сторону сердитые взгляды и велит мне идти спать Спать? Я разве могу сомкнуть глаза? Как быть с ножиком? Как положить его обратно на место?
— Иди-ка сюда, сокровиш;е! — зовёт меня утром отец. — Ты не видел ножика?
Оставьте его! Оставьте его! (нем.)
Вначале я сильно пугаюсь: мне чудится, что он уже знает, что все знают Я чуть не выдаю себя: «Что? Ножик? Вот он » Но что-то сжимает мне горло, и, весь дрожа, я бормочу:
— Что за ножик? Какой ножик?
— «Что ножик»! — передразнивает меня отец. — «Какой ножик»! Золотой ножик! Ножик нашего жильца. Балбес! Олух! Кхе-кхе-кхе!
— Что ты пристал к ребёнку? — заступается мать. — Ребёнок ни сном ни духом не виноват, а он заладил: ножик да ножик!
— Ножик, ножик! Как это он ничего не знает? — говорит отец сердито. — Целое утро кругом только и слышно: «Ножик, ножик», весь дом перевернули, а он ничего не знает?! «Что за ножик»?.. Ну, уж иди мыться, бездельник! Кхе-кхе-кхе! Пустая голова!..
Хвала тебе, создатель, что меня не обыскали! Но как же теперь быть? Ножик нужно спрятать в укромное местечко. Куда же его деть?.. Ага, на чердак! Я быстро достаю ножик из кармана и засовываю его за голенище
Я не знаю, что ем. Кусок не лезет мне в горло.
— Куда ты так торопишься? — спрашивает отец.
— В хедер, — отвечаю я и чувствую, что весь вспыхнул.
— Какое усердие на него напало! Новый праведник объявился! — ворчит отец, сердито на меня взглянув.
Я едва досидел до конца завтрака.
— Почему же ты не бежишь в хедер, праведник? — спрашивает отец.
— Что ты его из дому гонишь? — вмешивается мать. — Дай ребёнку посидеть минутку!
Вот я на чердаке Глубоко-глубоко в солому запрятан бе-чый ножик, он лежит и молчит
— Ты чего по чердакам лазишь? — кричит отец. — Неуч! Кхе-кхе-кхе! Бездельник!
— Ищу кое-что, — отвечаю я, едва не падая со страху.
— Что ты там ищешь? Что у тебя там спрятано, на чердаке?
— Кни-и-и-га Старый талмуд
— Что? Талмуд? На чердаке? Нашёл, где искать талмуд! Слезай сейчас же! Слезай, я тебе задам, бездельник этакий! Кхе-кхе-кхе! Выродок!
Я уже не так боюсь отца. Мне страшно, что могут найти ножик. Мало ли что может случиться? Вдруг именно сегодня по лезут на чердак развешивать бельё или замазывать щели? Нет ножик надо убрать и запрятать в более безопасное место.. Я весь дрожу от страха. Едва отец посмотрит на меня, и мне ка жется, что он всё знает, что вот-вот он меня потребует к ответу
я уже нашёл для ножика укромное местечко: у самой стены в земле есть ямка. Туда я закапываю ножик и набрасываю сверху соломы.
Вернувшись из хедера, я бегу во двор, достаю ножик, но не успеваю досыта налюбоваться им, как раздаётся голос отца: — Куда ты пропал? Почему молитву не читаешь? Водовоз! Кхе-кхе-кхе! Неуч!
Но сколько бы отец ни кричал на меня, сколько бы учитель ни колотил меня, всё это ничто в сравнении с радостью, которую я испытывал, когда, вернувшись из хедера, снова держал в руках свой бесценный милый ножик. Но эта радость была — увы! — отравлена страхом.
Лето. Вечереет. Прохладно. Благоухает воздух, квакают лягушки; облака клочьями проносятся мимо луны, словно желая её проглотить; светлая, серебряная луна то и дело прячется и вновь выплывает. Отец, полуодетый, в одном халате, сидит на траве; одна рука за пазухой, другая на земле; он смотрит на звёзды и кашляет. В серебристом свете луны его лицо кажется мертвенным. Он сидит как раз на том месте, где я закопал ножик, и ничего не подозревает. Что бы он сказал?! Как бы мне попало!
«Ага, — думаю я про себя, — ты выбросил мой кривой ножик, а у меня теперь другой — лучше и красивее! Ты на нём сидишь и ничего не подозреваешь. Эх, отец, отец!»
— . Что ты на меня глаза таращишь, словно кот?! — вспыхивает отец. — Что ты сидишь сложа руки, как городской голова?.. Делать тебе нечего? А молитву на ночь когда ты будешь читать?.. Чтоб тебе не сгореть!..
Раз отец говорит: «Чтоб тебе не сгореть!» — значит, он не очень сердит; более того — он в хорошем расположении. И в самом деле, можно ли быть в дурном расположении духа в такую прекрасную, ча1?уюш,ую летнюю ночь, когда так и тянет на улицу подышать свежим воздухом?! Все теперь на улице: и отец с матерью, и младшие дети, которые роются в песочке и йграют в камешки. Герр Герц Герценгерц тоже бродит без шапки по двору, курит сигару, напевает немецкую песенк>, смотрит на меня и смеётся Ему, видимо, смешно, что отец гонит меня Но я сам в душе смеюсь над ними всеми. Вот скоро они лягут спать, а я проберусь во двор (я сплю в сенях, прямо на полу, потому что в комнате очень жарко), и уж я налюбуюсь своим ножиком!..
Все спят. Кругом тишина. Я тихонько становлюсь на четвереньки и тихо, как кошка, крадусь во двор. Ночь тиха, воз-
дух свеж. Медленно ползу я к тому месту, где закопан мой ножик. Я бережно его достаю и рассматриваю при свете луны; он блестит, как серебро, как алмаз. Я поднимаю глаза — луна смотрит прямо на меня, на мой ножик. Почему она так смотрит на меня? Я отворачиваюсь — она смотрит мне вслед. Я закрываю ножик рубашкой, а она всё смотрит. Она, верно, знает, что это за ножик и где я его взял Взял? Да ведь я его попросту украл! Впервые за всё время мне приходит в голову это страшное слово. Украл! Выходит, я вор? Просто воришка? В святой библии, в десяти заповедях, большими буквами написано: НЕ УКРАДИ!
А я украл! Что же со мной за это будет на том свете? Руку мне отсекут, ту руку, что украла?! Будут стегать железными прутьями?! Поджаривать на раскалённых сковородках?.. Вечно, вечно я там буду гореть!.. Надо вернуть ножик. Надо его положить на прежнее место. Не нужен мне краденый ножик! Завтра же я его положу обратно туда, где взял.
С этим мыслями я засовываю ножик за пазуху и чувствую, как он меня словно обжигает. Нет, надо его опять запрятать, закопать в землю до утра. А сверху на меня смотрит луна. Чего она смотрит? Она всё видит, она свидетель Я осторожно ползу в сени, на свою постель, ложусь, но заснуть не могу. Я ворочаюсь с боку на бок, а сон не приходит Лишь на рассвете я заснул, и мне снилась луна, железные прутья и ножики Я проснулся рано утром, усердно помолился, наскоро позавтракал — и марш в хедер.
— Что это тебя так рано в хедер потянуло? — кричит на меня отец. — Куда тебя несёт? Не убежит от тебя ученье! Ты лучше помолись как следует после еды!.. И не глотай слов! Безбожник! Кхе-кхе-кхе! Бесстыдник! Нечестивая твоя душа!..
— Ты почему так поздно? — обращается ко мне ребеОн показывает пальцем на моего товарища Береле Рыжика, который, понурив голову, стоит в углу: — Видишь, бездельник? Знай, что отныне его зовут уже не Береле Рыжик. Нет! Теперь его зовут Береле-вор!.. Кричите же, дети, громче: «Береле-вор! Береле-вор!»
Эти слова ребе произносит нараспев, а ученики подхватывают хором, как певчие в синагоге:
— Береле-вор! Береле-вор!
Я оцепенел и весь дрожу. Что всё это значит?..
— Чего же ты, чучело, молчишь? — обращается ребе ко мне
Ребе — учитель.
и влепляет мне оплеуху. — Что ты молчишь, бездельник? Ты ведь слышишь — все поют. Подтягивай вместе со всеми: «Бе-реле-вор! Береле-вор!»
У меня дрожат руки и ноги, зуб на зуб не попадает, но я всё же пою вместе со всеми:
— Береле-вор!
— Громче, чучело, громче! — понукает меня ребе. — И внятно!
Вместе со всем хедером, который тянет на разные голоса, я выкрикиваю:
— Береле-вор! Береле-вор!
— Ш-ш-ш-ш! — неожиданно шипит ребе, хлопнув ладонью по столу. — Тише!.. Теперь приступим к суду. А ну, Береле-вор, — произносит он нараспев, — подойди-ка сюда, дитя моё! Попроворнее, поживее!.. Скажи, мальчик, как тебя звать?
— Берл!
— А как ещё?
— Берл Берл вор!
— Вот так, моё милое дитя, вот так, теперь ты славный мальчик. А теперь, Береле — пошли тебе бог здоровья и счастья! — потрудись, пожалуйста, Береле, скинь-ка с себя свои штаны Вот так! Поскорее, попроворнее! Прошу тебя, поскорее и попроворнее, Береле Вот так, мой дорогой! — продолжает ребе нараспев.
Береле остался в чём мать родила. На лице ни кровинки. Глаза потуплены.
Учитель всё так же нараспев вызывает одного из учеников постарше:
— Ну-ка, Гершеле Длинный, иди-ка сюда, ко мне Поскорее Вот так! И расскажи по порядку, как всё было, от начала до конца, — как наш Береле стал вором Слушайте, ребята, внимательно!
И Гершеле Длинный рассказывает, как Береле дорвался до кружки, в которую опускали подаяния в память Меера-чудо-творца и в которую мать Береле сама бросала каждую пятницу, перед вечерней молитвой, копейку, а то и две; как Береле дорвался-таки до этой кружки; как кружка была заперта на замок и как Береле ухитрился, пользуясь соломинкой и смолой, выуживать оттуда все медяки один за другим, до копейки; как его мать, хриплая Злата, открьша кружку и нашла там одни соломинки, обмазанные смолой; как она пожаловалась меламе-ду, и как Береле, когда его хорошо выпороли, сознался, что в течение всего года вытаскивал из кружки копейки и покупал себе каждое воскресенье два пряника и рожок. И так далее, и так далее
— А теперь, дети, судите его! Бы сами знаете как. Не впёр-
вые. Пусть каждый объявит свой приговор: как поступить с вором, который таскал копейки из кружки?.. Гершеле Маленький, скажи ты первый, как поступить с вором, который при помощи соломинки вытаскивал деньги из кружки?
Ребе склоняет голову набок, закрывает глаза и подставляет ухо Гершеле Маленькому. Гершеле Маленький отвечает громко, во весь голос:
— Вор, который таскает копейки из кружки, заслуживает, чтобы его хлестали до крови
— Мойшеле, как поступить с вором, который таскает копейки из кружки?
— Вора, — произносит Мойшеле плаксивым голосом, — вора, который таскает копейки из кружки, нужно положить Двое должны сесть ему на голову, двое — на ноги, а двое должны хлестать его солёными розгами
— Топеле Тутурету, как поступить с вором, который таскает копейки из кружки?
Копл Кук>реку — мальчик, не выговаривающий букв «к» и «г», — утирает носик и объявляет своё решение нараспев, визгливым голоском:
— Воришта, тоторый тастает топейти из тружти, заслуживает, чтобы все мальчити подошли т нему и дромто тритнули ему прямо в лицо: «Воришта! Воришта! Воришта!»
Все смеются. Меламед прижимает большой палец к своему кадыку, как кантор, и провозглашает торжественно, нараспев, как во время богослужения:
— Да предстанет отрок Шолом, сын Нохема! Поведай-ка ты нам, Шоломеню, мой дорогой, свой приговор: чего заслуживает воришка, который таскает копейки из кружки?
Я хочу ответить, но язык мне не повинуется. Я дрожу, как в лихорадке, в горле у меня ком. Меня прошибает холодный пот. В ушах звенит. Я уже не вижу перед собой ни ребе, ни голого Береле-вора, ни товарищей я вижу только ножики, бесчисленные ножики, белые, открытые, со множеством лезвий, а там, над дверьми, висит луна — и она ухмыляется и глядит на меня, как живая Голова у меня кружится, весь хедер вертится у меня перед глазами: стол, книги, товарищи, луна в дверях и бесчисленные ножики.
Я чувствую, что у меня подкашиваются ноги Ещё мгновение — и я свалюсь. Но все же я не падаю, я собираюсь с силами и стою
К вечеру я возвращаюсь домой. Лицо у меня горит, щёки пылают, в ушах гудит. Слышу, что ко мне обращаются, но слов не понимаю. Отец что-то говорит, сердится, хочет меня поколотить; мать заступается, прикрывает меня передником, как наседка, простирающая крьшья над цыплятами. Я ничего не слышу, да и слушать не хочу. Хоть бы поскорее ночь, чтобы я мог избавиться от ножика Как быть? Признаться и вернуть его? Тогда меня ждёт участь Береле. Подкинуть? А вдруг меня накроют! Забросить его — и конец! Но куда же бросить ножик так, чтобы никто его не нашёл? На крышу? Услышат ст>к. В огород? Там непременно найдут. Ага, знаю куда, придумал: в воду! Замечательно придумано: в воду, в колодец!.. Эта мысль мне очень нравится. Я хватаю ножик и бегу к колодцу, и мне всё кажется, что у меня в руках что-то омерзительное, какая-то гадина, от которой надо как можно скорее освободиться, избавиться. И всё же мне жаль: такой замечательный ножик! С минуту я стою в раздумье, и мне уже начинает казаться, что в руках у меня какое-то живое существо. Сердце ноет от жалости. Ведь ножик достался мне так трудно! Я набираюсь, однако, мужества и разжимаю пальцы — бултых!.. Ножик плюхнул в воду и исчез. Не стало ножика! Я стою ещё с минуту у колодца и вслушиваюсь — ничего не слышно. Слава богу, наконец я избавился! Сердце, правда, щемит и ноет: какой был ножик, какой ножик!..
Я иду домой, а луна за мной следит, и мне кажется, что она всё видела. Я как бы слышу её голос издалека: «А всё-таки ты вор! Ловите его, бейте, он вор! Во-о-ор!» Я пробираюсь в сени, ложусь спать, и мне снится, что я бегу, мчусь, парю в воздухе вместе с ножиком, а луна смотрит на меня и кричит: «Держите его! Бейте его! Он вор! Во-о-ор!»
Долгий-долгий сон. Тяжкий, очень тяжкий сон Я весь в огне. Голова гудит. Всё вокруг меня стало кроваво-красным. Раскалённые, огненные прутья хлещут мне тело, и я барахтаюсь в крови. Вокруг меня извиваются клубки змей и ящериц; они разевают пасти и хотят меня проглотить Над самым ухом я слышу протяжные и отрывистые звуки молитвенного рога.
И кто-то стоит надо мной и в такт звукам, нараспев, выкрикивает:
— Секите его! Секите его! Секите! Секите! Он вор! Он вор!..
А я кричу:
— Спасите, ради бога! Уберите от меня луну! Отдайте ей ножик! Что вы мучите беднягу Береле? Он невиновен, это я украл! Я вор!..
Больше я ничего не помню.
Открываю один глаз, потом другой Где я? Кажется, на кровати? Как я здесь очутился? Кто это сидит на стуле? Ах, это ты, мама? Мама! Она меня не слышит. Мама! Мама! Ма-а-ма! Что же это такое? Ведь я, кажется, кричу во всё горло! Ш-ш-ш Я прислушиваюсь. Она плачет? Я вижу также отца, его болезненно-жёлтое лицо. Он сидит, склонившись над молитвенником, что-то тихо шепчет, кашляет, вздыхает и стонет Похоже, что я умер Умер? Вдр>т я чувствую какое-то просветление, какую-то лёгкость во всём теле. В одном ухе звенит, в другом — дзин-н-нь Я чихаю. «Апчхи!»
— Будь здоров! Пошли тебе бог долгие годы! В добрый час! Слава богу!
— Это к выздоровлению! Раз чихнул — это к выздоровлению. Слава всевышнему!
— Не оставил нас господь! Он поправится, с божьей помощью. Да будет благословенно имя господне!
— Пошли непременно за знахаркой Минцей: она умеет заговаривать от дурного глаза.
— Врача бы позвать, врача!
— Врача? Для чего? Глупости! Всевышний — лучший врач. Да будет благословенно имя его! Он сам врачует.
— Расступитесь, люди добрые, расступитесь немного! Ведь духота какая! Ради бога, расступитесь!
— Слава богу! Слава его светлому имени!
Вокруг меня суетятся, меня осматривают, мне щупают лоб, меня заговаривают от болезни, что-то надо мной шепчут, лижут мне лоб и сплёвывают, вливают в рот горячий бульон и пичкают вареньем. Меня лечат усердно, ухаживают за мной, берегут как зеницу ока, закармливают жареной уткой, не оставляют, как маленького ребёнка, ни на минуту. Рядом постоянно сидит
мать и рассказывает — уже в который раз! — как меня нашли полумёртвого на полу, как я две недели метался в отчаянном жару и только квакал, как лягушка, и городил какую-то чепуху про ножики и розги Все кругом уже отчаялись, думали, что я, не приведи бог, не выживу А потом я неожиданно стал чихать, семь раз кряду чихнул, — и сразу перешёл от смерти к жизни.
— Господь милостив! — заканчивает мама со слезами на глазах. — Теперь это видно всякому: когда к нему взывают, он слышит наши грешные мольбы и видит наши покаянные слёзы Много-много слёз мы пролили, я и отец твой, пока господь сжалился над нами. Чуть-чуть было не потеряли, не приведи господи, ребёнка! А из-за чего? Из-за кого? Из-за мальчишки, из-за вора, из-за какого-то Береле, которого ребе высек до крови в хедере. Ты из хедера вернулся еле живой. Ну и злодей же он. Душегуб, покарай его господь! Когда ты, с божьей помощью, поправишься, дитя моё, мы уж тебя отдадим к другому меламеду, не к такому разбойнику и злодею, как этот Душегуб, пропади он пропадом!
Эта новость очень меня радует. Я крепко целую маму:
— Милая, дорогая мама!..
Отец медленно подходит, кладёт мне на лоб свою бледную, холодную руку и говорит мягким голосом, без всякой злости:
— Ну и напугал ты нас, проказник! Кхе-кхе-кхе1
Даже наш жилец, полунемец-полуеврей, герр Герц Герцен-герц, с сигарой в зубах, наклоняет своё бритое лицо над моей кроваткой, треплет меня по щеке и говорит по-немецки:
— Гут, гут! Гезунд, гезунд!
Прошло несколько недель — я встал на ноги, и отец сказал мне:
— Ну, сынок, отправляйся в хедер и перестань думать о ножиках и разных глупостях Пора тебе за ум взяться! Через три года ты, с божьей помощью, бармицво! Скоро ты будешь взрослым Кхе-кхе-кхе!
Хорошо, хорошо! Здоров, здоров! (нем.) 2 Бармицво — религиозное совершеннолетие; дцать лет.
наступает в трина-
Этими тёплыми словами отец напутствует меня в хедер к ме-ламеду реб Хаиму, по прозвищу «Кот».
Впервые слышу я от всегда сердитого отца такие мягкие, ласковые слова. Я сразу забываю его насмешки, и брань, и оплеухи, словно их и не было! Если бы не стыд, я бросился бы его целовать, но — хи-хи-хи! — разве можно целовать отца?
Мать даёт мне с собой в хедер целое яблоко и две полушки. Даже немец дарит мне несколько копеек, треплет по ш,еке и говорит:
— Юбшер кнабе! Гут! Гут!
Я сую талмуд под мышку, целую мезузу и направляюсь в хедер. Я точно переродился. На душе у меня легко, радостно и безоблачно, мысли какие-то новые, ясные, честные. Солнце приветствует меня своими тёплыми лучами. Ветерок треплет мои волосы, пташки чирикают: «Тиф-тиф-тиф!..» Воздух словно поднимает меня, несёт, мне хочется бегать, прыгать, плясать. Ах, как хорошо, как прекрасно быть честным человеком, не лгуном, не вором!
Я крепко прижимаю к сердцу талмуд, радостно бегу в хедер и мысленно клянусь священной книгой, что никогда-никогда не польщусь на чужое, никогда-никогда не буду воровать, никогда не буду обманывать, всегда буду честен, честен, честен.
Хороший мальчик! Хорошо, хорошо! (нем.)
Мезуза — пергамент с написанной на нём молитвой, прибитый к дверному косяку.
МАФУСАИЛ (ЕВРЕЙСКАЯ ЛОШАДКА)
Мафусаилом прозвали его в Касриловке, потому что он был обременён годами, не имел ни единого зуба во рту, если не считать двух — трёх корешков, которыми с трудом жевал, когда было что жевать. Высокий, тощий, облезлый, с продавленной спиной и тусклыми глазами (на одном — бельмо, другой — с краснотой), кривоногий, со впалыми боками, отвисшей губой, точно он вот-вот заплачет, и с ощипанным хвостом — таков его портрет. А пребывал он на старости лет в Касриловке у Касриэля-водовоза заместо лошади.
По природе своей Мафусаил был конь кроткий, работящий, только очень уж заездили его, беднягу. Натоптавшись за день по густой касриловской грязи и на сутки обеспечив весь город водой, Мафусаил бывал доволен, когда его наконец распрягали, кидали ему охапку соломы, а затем, на закуску, ставили перед ним лохань с помоями, которую Касрилиха подносила ему с таким видом, с каким, скажем, подносят фаршированную рыбу или миску вареников самому дорогому гостю.
Этих помоев Мафусаил ждал всегда с нетерпением, потому что там он находил размокший кусок хлеба, остатки каши и другие вкусные вещи, для которых не нужны зубы.
Целый день Касрилиха старалась для Мафусаила: она бросала в лохань всё, что подвернётся под руку, — пусть бедная лошадка покушает.
А Мафусаил, подкрепившись, поворачивался лицом к своему бочонку, а к Касрилихе, извините, задом, что должно было, очевидно, означать: «Спасибо за хлеб-соль». При этом у него ещё больше отвисала нижняя губа, зрячий глаз закрывался, и Мафусаила охватывало глубокое лошадиное раздумье.
Не думайте, однако, что Мафусаил был таким с первых дней своей лошадиной жизни. В молодые годы, когда ещё жеребёнком он трусил за матерью, Мафусаил обещал стать славным коньком. Знатоки предсказывали, что из него вырастет конь на славу. «Вот увидите, — говорили они, — он будет когда-нибудь ходить в карете, в паре с самыми лучшими, самыми знатными лошадьми!»
Когда жеребёнок подрос и стал лошадью, на него без церемоний надели узду, вывели на ярмарку и поставили на продажу среди других лошадей. Раз пятьдесят гоняли его покупатели взад и вперёд, ежеминутно смотрели в зубы, поднимали ноги, разглядывали копыта и передавали из рук в руки.
С той поры и начинается его хождение по мукам, бесконечные его скитания с места на место. Он переходит от хозяина к хозяину, с натугой тащит тридцатипудовые телеги, утопает по брюхо в грязи и вкушает прелести кнута и палки, которые гуляют по его бокам, по ногам и по голове.
Долгое время ходил он коренным в почтовой упряжке с колокольцами, которые не переставая гремели у него над ухом: «Глин-глин-глон! Глин-глин-глон!», и носился как оглашённый взад и вперёд все по одному и тому же тракту.
Потом он попал к простому мужику, у которого выполнял самые тяжёлые работы: пахал и сеял, возил огромные телеги с зерном, бочки с водой, повозки, гружённые навозом, выполнял ещё много всякой другой грубой работы, которая была ему совершенно непривычна.
От мужика он попал к цыгану. Цыган вытворял над ним такие штуки, применял такие подлые средства, чтобы он резвей бегал, что Мафусаил не забудет его никогда в жизни.
От цыгана он перекочевал в какой-то большой табун, а спустя короткое время очутился в Мазеповке у владельца тяжёлого, окованного железом фургона, над которым высился странного вида разодранный навес, называемый будой. Здесь, у извозчика, по Мафусаилу без конца гуляли кнут и палка, точ-
но лошадей делают из сыромятины, а не из плоти и крови, и бока у них из железа, а не из костей. О-ох-о! Сколько раз бывало Мафусаил уже еле ноги волочит, ляжки у него точно клещами тянет, в животе тяжесть, а этот безжалостный извозчик всё: «Но!» да «Но!», да хлоп кнутом, да бац кнутовищем!.. За что?
Счастье ещё, что у извозчика был заведён такой обычай — один день в неделю отдыхать: стоять на месте, жевать и ничего не делать. Мафусаил не однажды задумывался над этим. Его лошадиные мозги никак не могли у разуметь: в чём же смысл этого дня? Почему в этот день никто тебя не беспокоит? И почему бы не оставить этот порядок навсегда? Раздумывая так, он, бывало, напрягал слух и прикрывал один глаз, поглядывая другим на своих двух товарищей, которые стояли здесь же, привязанные к тому же фургону.
Извозчика и его фургон сменила молотилка. Здесь познал .Чафусаил самый каторжный труд: день-деньской ходил он по кругу, глотал пыль и мякину, которая забивалась ему в ноздри, в уши, в глаза, и дурел, дурел от грохота машины.
«Какой смысл в этом кружении? — не однажды спрашивал он себя, собираясь задержаться хоть на минутку. — Кто додумался до эдакой мудрости — кружиться на одном месте?»
Но ему не давали долго раздумывать; сзади стоял человек с кнутом и не переставая покрикивал: «Гу-ги! Гу-ги!..» — «Дурачина ты этакий! — думал Мафусаил, поглядывая на человека. — Хотел бы я видеть, как бы ты сам здесь кружился, если бы тебя впрягли в колесо да постёгивали кнутом!»
Разумеется, от такого кружения в вечной пыли бедняга Мафусаил скоро превратился в инвалида: на одном глазу у него появилось бельмо, другой покрылся краснотой; сдали и ноги. С такими явными пороками он уже годился только на свалку. Тогда Мафусаила вновь вывели на ярмар1су — может быть, его всё-таки удастся сбыть. Лошадь принарядили: расчесали ей гриву, подвязали жиденький хвост, а копыта освежили жиром. Однако ничего не помогло: людей не проведёшь. Сколько его ни муштровали, сколько его ни учили гордо нести свою лошадиную голову и держаться молодцом, он всё своё: голова свешивалась, ноги подгибались, нижняя губа отвисала, и ещё при этом он ронял слезу!.. Нет, охотников до него уже не было! Подходил один-другой, но они даже в зубы ему не глядели, лишь, бывало, пренебрежительно махнут рукой, сплюнут и пойдут своей дорогой. Польстился было один покупатель, но не на Мафусаила, а на его шкуру. Только в цене не сошлись. Покупатель подсчитал и увидел, что ему невыгод-
но. Увести лошадь, забить, освежевать обойдётся дороже, чем стоит сама шкура.
Но, видно, суждена была Мафусаилу спокойная старость: подвернулся Касриэль-водовоз и взял его к себе домой в Кас-рачовку.
Касриэль — широкоплечий, обросший до самых глаз человек, с приплюснутым носом — раньше был сам себе и водовозом и клячей, то есть попросту сам впрягался в бочку и развозил воду на себе. И как бы туго Касриэлю ни приходилось, он никогда никому не завидовал. Вот только увидев человека с лошадью, он, бывало, останавливается и долго-долго смотрит ему вслед. Лишь об одном мечтал он всю свою жизнь: чтобы господь помог ему раздобыть лошадь. Однако сколько он ни копил, ему никак не удавалось собрать достаточно денег, чтобы купить лошадь. И всё же он не пропускал ни одной ярмарки.
Увидев несчастную, чахлую лошадь, понуро стоящую посреди базара, Касриэль остановился. Сердце подсказало ему, что именно это как раз по его карману.
Так оно и вышло. Торговаться долго не пришлось. Взяв коня под уздцы, Касриэль, счастливый, заторопился домой. Он постучался, и на его стук вышла испуганная Касрилиха:
— Что это? Господь с тобой!
— Купил, ей-богу, купил!..
Касриэль и Касрилиха просто не знали, куда им девать лошадку. Если бы не было стыдно соседей, они бы оставили её у себя в комнате. Вмиг у них появилось сено, солома. А сами они — Касриэль и Касрилиха — встали перед своей лошадкой, долго любовались ею и никак не могли налюбоваться.
Собрались и соседи посмотреть диковинку, которую Касриэль привёл с ярмар™. Они подтрунивали над лошадью, шутили, отпускали, как водится, остроты.
— Да ведь это не лошадь, а мул какой-то! — заявил один.
— Какое там мул! Кошка! — добавил другой.
Третий вставил:
— Это тень! Её надо привязать, чтобы ветром, упаси господь, не унесло!
— Сколько, однако, лет этому существу? — полюбопытствовал кто-то.
— Наверно, больше, чем Касриэлю и Касрилихе вместе.
— Мафусаиловы годы!..
— Мафусаил!
С тех пор коня и прозвали Мафусаилом. Имя это так и осталось за ним по сей день.
Зато жилось ему у Касриэля, как никогда раньше, даже в самые лучшие годы. Во-первых, какая здесь работа? Смехота! Тащить бочонок с водой и у каждого дома останавливаться — разве это работа? А хозяин?! Да ведь это бриллиант! Человек не прикрикнет никогда и, уж конечно, не ударит. Если он и держит кнут, то так, просто для приличия.
А еда?! Правда, овсом здесь не балуют, но что проку в овсе, когда жевать нечем! Уж лучше помои да мякиш, которые ему каждый день подносит Касрилиха. И не столько сами помои, как вежливое обхождение Поглядеть только на Касрилиху, когда она стоит, сложив руки на груди, и умилённо посматривает на Мафусаила, хлебаюш;его помои, — тьфу-тьфу, не сглазить бы!
А наступит ночь, подстелют ему во дворе соломки, затем либо Касриэль, либо Касрилиха всё время выходят проведать, не увели ли его, упаси господи!
Чуть свет, ещё сам бог спит, а Касриэль уже около своего конька — потихоньку запрягает, взбирается на передок и направляется к реке по воду, напевая при этом как-то странно: «Блажен муж, иже не иде » У него это означает — хорошо человеку, который едет, а не идёт пешком. Наполнив бочку, Касриэль возвращается уже пешком; теперь он не подпевает, а шлёпает рядом с Мафусаилом по грязи и, знай себе, помахи-г-ает кнутиком: «Ну, ну, Мафусаил! Давай! Давай!»
Мафусаил упрямо месит ногами грязь, мотает головой и, поглядывая единственным глазом на хозяина, думает про себя: «С тех пор как я скотина, мне ещё никогда не приходилось работать на такого чудака». И вот лошадка, поразмыслив, начинает вдруг припадать на задние ноги, а затем, шутки ради, останавливается в самой грязи: «Дай-ка я посмотрю, что из этого выйдет!» Увидев, что лошадь внезапно остановилась, Касриэль начинает суетиться вокруг бочонка, осматривает колёса, ось, упряжь, а Мафусаил, обернувшись к Касриэлю и пожёвывая губами, кажется, улыбается: «Ну и дуралей же этот водовоз! Совсем глупое животное!»
Но вечного блаженства нет на земле. Мафусаил мог бы сказать, что он счастливо доживает свою старость у Касриэля и Касрилихи, если бы не дети. Хозяйские, соседские и всякие иные дети доставляли ему уйму неприятностей, издевались над ним, позорили его.
С первой же минуты, как только его ввели во двор, детвора почувствовала к нему не то чтобы вражду — боже сохрани! —
а, наоборот, большую любовь. Но эта любовь оказалась для Мафусаила роковой. Лучше бы они его меньше любили, да больше жалели.
Первым делом — это босые воспитанники талмудторы, дети Касриэля. Когда никого посторонних не бывало, они всё пытались узнать, наделён ли Мафусаил такими чувствами, как человек: хлестнули его палкой по спине — нет, ничего; пощекотали ногу — ничего; щёлкнули по уху — еле-еле; и, лишь проведя соломинкой по бельму, они окончательно убедились, что Мафусаил наделён такими же чувствами, как человек, потому что он мигнул глазом и мотнул головой, точно хотел сказать: «Нет, только не это! Это мне не нравится». Выяснив это, ребята достали прутик и засунули лошади глубоко в ноздрю. Тут Мафусаил дёрнулся, фыркнул и отскочил в сторону.
Зыбежал Касриэль:
— Шелопаи! Разбойники! Что вы делаете с лошадью?! Марш в школу, бездельники!
Ребята сразу — шмыг и давай бог ноги в талмудтору.
А в талмудторе был мальчуган, по имени Рувеле, — озорной парнишка, настоящий сорви-голова. Не приведи господи, родная мать проклинала его. Любимым его занятием было всем
надоедать, всем делать пакости. Он облазил все чердаки, все погреба. Гонять кур, гусей, уток, дразнить собак, пугать коз, мучить кошек — о свиньях уж нечего и говорить! — было его страстью. Ни тумаки матери, ни розги учителя, ни затрещины, получаемые от посторонних, ни к чему не приводили. Горох об стенку! Только что его как будто здорово выдрали, только что он обливался горючими слезами. Но вот вы отвернулись — ага! — Рувеле уже высунул язык, сложил губы вишенкой и надул щёки пузырём. А щёки у него — настоящие пампушки! Он был всегда весел и здоров. Что ему до того, что мать — горемычная вдова, что она так мучается, что ей так трудно платить за него рубль в талмудтору?!
Когда Рувеле узнал от ребят, что их отец привёл с ярмарки коня, которого зовут Мафусаил, он вскочил на скамью, провёл по своему носу одной рукой, потом другой и закричал во всё горло:
— Ребята, есть смычок!
Нужно заметить, что у Рувеле с малых лет была страсть к г.узыке, а по скрипке он прямо-таки пропадал. Кстати, у него был приятный голосок, и он знал на память уйму песен. Единственной его мечтой было вырасти, купить себе скрипку и день и ночь играть. А пока он смастерил себе маленькую скрипочку, натянул на неё нитки вместо струн — и, понятно, получил за это что полагается от матери.
— Музыкантом хочешь стать? Лучше и не дожить мне до этого!
Вечером, когда учитель Хаим-Хонэ отпустил учеников, они все гурьбой отправились к водовозу Касриэлю посмотреть лошадь.
И тут Рувеле сразу заявил:
— Мафусаил — отличная лошадь! Из хвоста у неё можно будет добыть сколько угодно волос на смычок. Сейчас попробуем
И Рувеле подошёл к Мафусаилу сзади и стал у него выдёргивать волосы из хвоста. Пока он вырывал по одному волоску, Мафусаил стоял спокойно. «Один волосок, — точно говорил старый конь, — не велика беда! Подумаешь, будет одним меньше!» Но когда Рувеле стал выдирать целыми жгутами, Мафусаил осерчал: «Вот как? Посади свинью за стол — она и ноги на стол!» И недолго думая копытом прямо Рувеле в зубы и рассёк ему губу.
— Так тебе и надо! О, горе мне!.. Очень хорошо! Все несчастья на мою голову! В другой раз не полезешь! О, погибель моя!.. — причитала Ента, мать Рувеле, прикладывая холодные компрессы к рассечённой губе сына. Она плакала, ломала руки, убивалась и побежала к знахарке Хьене.
Рувеле был, слава тебе господи, из тех ребят, на которых всё заживает, как на собаке. Не успели оглянуться — и губа у него срослась как ни в чём не бывало. Тогда он придумал новую штуку: надо прокатиться верхом на Мафусаиле всем школьникам разом. Но как это сделать, чтобы никто не узнал? И Рувеле решил, что это надо сделать в субботу после обеда, когда все лягут отдыхать. В эти часы можно вынести из дому всё местечко, со всем добром, и никто знать не будет.
Один из учеников стал было возражать:
— Как же это можно еврею ехать в субботу?
Но Рувеле ему ответил:
— Осёл! Разве это значит ехать? Это ведь игра!..
Настала суббота. Все пообедали, легли спать. Прилегли
также Касриэль и Касрилиха.
Тогда к ним во двор стали потихоньку стягиваться ребята. Рувеле сразу принялся наряжать МафусаиЛа. Раньше всего он заплёл ему гриву в косы и разукрасил их соломинками, затем надел ему на голову белый бумажный колпак, укрепил тесёмками и, наконец, к хвосту прицепил старый веник, чтобы хвост выглядел длиннее и красивее.
И ребята стали усаживаться. Они лезли на спину лошади друг через друга. Кто раньше захватил место, тот был на коне, а остальные сядут после. А пока все оставшиеся шли сзади и понукали Мафусаила.
Мафусаил, однако, не имел никакой охоты двигаться быстро, плёлся шажком. Во-первых, куда ему спешить, в самом деле? Во-вторых, ведь сегодня день отдыха. Но Рувеле не переставая подгонял лошадь, понукал её, чмокал губами, щёлкал языком и орал изо всех сил на остальную братию:
— Чёрт бы вас побрал! Что же вы молчите?
А Мафусаил всё — топ да топ, шажком, да подумывает про себя: «Ребятня возится, пусть повозится!»
Но когда ему стали слишком уж докучать, он пошёл быстрее, а когда он ускорил шаг, веник стал бить его по ногам. Тогда он побежал. Веник стал бить его еш,е сильнее. Мафусаил пустился вскачь. Ребята пришли в восторг, а Pyseie ёрзал от удовольствия и всё покрикивал: «Гоп-гоп-гоп!» Так они гопали до тех пор, пока стали сыпаться с коня наземь, как галушки. А Мафусаил только теперь, сбросив всех и почуяв свободу, пустился как безумный и бежал всё дальше, по ту сторону мельниц, за город.
Пастухи, увидев столь странно выряженную лошадь, да ещё в бумажном колпаке, загикали и погнались за нею, и стали кидать б неё палки, и натравливать собак. Собаки не заставили
4 Истории для детей 97
себя долго просить — они пустились вдогонку, стали кусать и рвать Мафусаила. Одни схватили сзади за ляжки, другие забежали вперёд и вцепились в горло. Мафусаил стал хрипеть. Терзали они его до тех пор, пока наконец не доконали.
На другой день ребята получили всё, что им полагалось. Разбитые носы и шишки на лбу — не в счёт. Самое главное получили они от своих родителей, да и учитель Хаим-Хонэ всыпал им плёткой.
Больше всего досталось, конечно, Рувеле, потому что во время порки все ребята плакали, как им и полагалось, а этот, наоборот, смеялся. Тогда его стали драть крепче. Но чем больше его били, тем громч5 он смеялся, а чем громче смеялся, тем крепче его били. Дошло до того, что сам учитель Хаим-Хонэ рассмеялся, а на него глядя, рассмеялись ученики. Поднялся такой хохот, что сбежались соседи, на улице останавливались прохожие. «Что случилось? Что за смех? Почему смеются?» Но никто не в силах был ответить: все смеялись. Тогда прохожие тоже стали смеяться. Тут ещё пуще стали гоготать ученики и сам учитель: все катались со смеху.
Не смеялись только двое: водовоз Касриэль и его жена. Не знаю, рыдают ли так по умершему ребёнку, как рыдали тогда Касриэль и Касрилиха по своей бедной лошади, по старому Мафусаилу.
ЧАСЫ Часы пробили тринадцать
Не подумайте, что я шучу. Я рассказываю вам вполне правдивую историю, которая случилась в Касриловке, в нашем доме, и которой я сам был свидетелем.-
У нас были старые-престарые стенные часы. Отец получил их в наследство от деда, дед — от прадеда, и так они переходили из поколения в поколение, чуть ли не со времён Хмельницкого. Право, жаль, что часы — не живое существо, что у них нет языка и они не умеют говорить: многое могли бы они рассказать!.. В городе наши часы пользовались славой самых лучших часов: «Часы реб Нохума!..» Они так хорошо, так верно шли, что по ним люди сверяли время. Можете себе представить, даже мудрец Лейбуш, философ, который определял время за хода солнца по самому солнцу и знал календарь наизусть, даже он говорил (я сам слышал это из его собственных уст), что хотя наши часы по сравнению с его часами и ерунда, понюшки табака не стоят, но по сравнению с другими часами наши часы — всё-таки часы А уж на Лейбуша можно было положиться, потому что каждую субботу под вечер, между предвечерней и вечерней молитвами, он не ленился взбираться на крышу женской молельни или на вершину холма возле старой синагоги и, затаив дыхание, следить за солнцем и ловить мгновение, когда
оно сядет. В одной руке он держал часы, в другой — календарь, и, когда солнце спускалось за Касриловку, реб Лейбуш говорил: «Поймал!» Часто он приходил к нам сверить часы. Войдя, он никогда бывало не скажет: «Добрый вечер», а только взглянет на наши стенные часы, на свои карманные и на календарь, потом ещё раз на наши стенные, на свои карманные и на календарь — и нет его!
Лишь однажды реб Лейбуш поднял у нас крик.
— Нохум, скорей! Где ты? — вопил он.
Отец прибежал ни жив ни мёртв:
— Что случилось, реб Лейбуш?
— Разбойник, ты ещё спрашиваешь!.. — отвечает реб Лейбуш и суёт отцу прямо в лицо свои карманные часы, потом показывает ему на наши стенные и кричит голосом человека, которому наступили на мозоль: — Но-хум! Они ведь спешат на полторы минуты! На целых полгоры минуты! Можешь их выбросить!..
Отцу досадно: как это так выбросить часы?
— Откуда известно, реб Лейбуш, что мои часы с п е ш а т на полторы минуты? Может, наоборот, ваши о т с т а ю т на полторы минуты? Чего на свете не бывает!..
Реб Лейбуш смотрит на него такими глазами, как если бы отец сказал, что первое число будет продолжаться три дня подряд, или что пасха будет в июле, или ещё тому подобные нелепости, от которых, если принять их всерьёз, человека может хватить удар. Реб Лейбуш молчит. Он глубоко вздыхает, поворачивается, не простившись, хлопает дверью — и нет его! Но это ещё ничего! Весь город знает: реб Лейбуш — человек, которому не нравится ни одна вещь на свете. О лучшем канторе он скажет, что это кочан капусты, бревно; умнейшего человека он назовёт коровой, которая приняла облик осла; самый счастливый брак он сравнит с кривой кочергой и о самом справедливом мнении скажет, что оно относится к делу, как пятое колесо к телеге. Такой уж он был человек, этот реб Лейбуш.
Но возвращаюсь к нашим часам. Это, говорю я вам, были необыкновенные часы. Их бой был слышен за три дома: «Бом!.. Бом!.. Бом!..» Почти половина города жила по нашим часам. По ним читали полуночную и утреннюю молитвы; в пятницу по ним пекли халу, солили мясо, благословляли субботние свечи, а к исходу субботы по ним зажигали свет. По нашим часам делали всё, что имело отношение ко всем религиозным обрядам. Словом, наши часы были городскими часами. Служили они, бедные, очень-очень верно, никогда не останавливались хотя бы на сутки, ни разу за всю свою жизнь не побывали в руках у часового мастера. Отец возился с ними сам (он достаточно разбирался в тонкостях часового дела). Каждый год, накануне
пасхп, он осторожно снимал их со стены, прочищал пером, извлекая из их внутренностей паутину с запутавшимися в ней мухами, которым пауки свернули головки, и заблудившихся там и погибших насильственной смертью тараканов. Протерев и прочистив часы, отец вешал их обратно на стену и сиял. Вернее, они вместе сияли: часы оттого, что их почистили и принарядили, а отец оттого, что сияли часы.
И был день и случилась история. Однажды в хорошую, ясную погоду мы все сидели за столом и завтракали. У меня была привычка: когда бьют часы, считать удары, и непременно вслух.
— Раз, два, три семь одиннадцать, двенадцать, тринадцать Ой, тринадцать!
— Тринадцать? — смеётся отец. — Ты, я вижу, умеешь считать, ничего не скажешь. Разве бывает тринадцать часов?
— Тринадцать! Провалиться мне на месте, тринадцать!
— Трршадцать оплеух ты от меня получишь! — говорит отец, уже начиная сердиться. — Не смей повторять такие глупости, неуч! Часы не могут бить тринадцать.
— Знаешь, Нохум, — вмешивается мать, — боюсь, что ребёнок прав. Мне кажется, я тоже насчитала тринадцать.
— Вот так новости! — говорит отец. Похоже, что и он начинает сомневаться.
После завтрака он подходит к часам, взбирается на табурет, толкает какое-то колёсико, и часы бьют снова. Мы все трое считаем и киваем головой в такт ударам:
— Раз, два, три семь девять двенадцать, тринадцать!..
— Тринадцать?! — Отец смотрит на нас, как человек, который вдруг услышал, как стена заговорила по-человечьи.
Он ещё немного ковыряется в колёсике, и часы ещё раз бьют тринадцать. Бледный, вздыхая, слезает отец с табурета, останавливается посреди комнаты, смотрит на потолок и, жуя кончик бороды, говорит самому себе:
— Тринадцать?! Что же это такое? Что бы это могло означать? Будь они испорчены, они бы остановились. В чём же тут дело? Наверно, надо понимать так — пружинка
— Что ты тут мудришь — пружинка, пружинка?! — говорит мама. — Часы надо взять и исправить. Ты ведь мастер!..
— Что ж, может, ты и права — отвечает отец, снимает часы со стены и начинает в них копаться.
Он потеет над ними весь день и наконец вешает их на место:
— Слава богу, идут как следует
А когда приходит полночь, мы все стоим и считаем. Двенадцать! Отец ликует:
— Слышали? Больше они не бьют тринадцать! Если я говорю: пружинка, значит, можете мне поверить!..
— Я давно знаю, что ты на все руки мастер, — говорит мама. — Только одного я не понимаю: почему они хрипят? Они никогда так не хрипели.
— Это тебе кажется! — говорит отец, прислушиваясь, как часы хрипят, когда им приходит время бить.
Словно старик, перед тем как раскашляться: «Хил-хил-хил-хил-тр-р-рр », и только после этого: «Бом!.. Бом!.. Бом!..» Но и самый «бом» уже не тот, что прежде: прежний «бом» был весёлый «бом», жизнерадостный, а теперь закралась в него какая-то грусть, тревога. И звучит он, как голос старого, отслужившего кантора, когда он в судный день в последний раз читает молитву.
Хрип всё усиливается, бой становится всё тише и печальнее, а отец всё мрачнее. Ему больно, он молча страдает, он вне себя оттого, что ничем не может помочь. Кажется, вот-вот часы и совсем станут. Маятник начинает проделывать какие-то диковинные номера: он замедляет ход, сворачивает в сторону, словно цепляется за что-то, как старик, который волочит ногу. Видно, часы собираются остановиться навсегда, навеки. К счастью, отец своевременно спохватывается: часы тут ни сном ни духом не виноваты — виноваты гири: мало груза! Он привешивает к гирям всё, что подвёртывается под руку (в общем, несколько фунтов). И снова часы наши веселы, как песня. И отец снова весел — совсем другой человек!
Однако наша радость продолжается недолго. Часы опять начинают лениться, и маятник опять вытворяет странные штуки: в одну сторону он идёт медленно, в другую — быстро; что-то в часах скрежещет, так что сердце ноет. Больно видеть, как умирают часы. И отец, глядя на них, мучится.
Как хороший, опытный врач, который жертвует собой, чтобы спасти больного, напрягает все силы, применяет все средства, чтобы исцелить его, не дать ему умереть, так и отец всячески старается спасти старые часы.
— Мало груза — мало жизни! — говорит он и привешивает к гирям одну тяжесть за другой: сначала железную сковородку, потом медную кружку, железный утюжок, мешочек песку, несколько кирпичей — часы набираются сил и идут с трудом, с мучениями, но идут.
Пока не случилось однажды ночью большое несчастье.
Дело было зимой. Мы покончили с субботним ужином: была вкусная наперчённая рыба с хреном, был горячий бульон с лапшой и компот из слив, — и благословение совершили по всем правилам. Субботние свечи ещё не догорели. Служанка достала из печи свежие, тёплые, хорошо высушенные семечки. Пришла тётя Ента, смуглая, молодая, но беззубая женщина, которую бросил муж: вот уже несколько лет, как он уехал в Америку.
— Доброй субботы! — говорит тётя Ента. — Я так и знала,
чго у вас свежие семечки. Беда только, грызть нечем. Чтоб ему, моему злодею, жить не больше, чем у меня осталось зубов во рту!.. Как тебе нравится. Малка, что творилось сегодня с рыбой? Я его спрашиваю, рыбника Меиашу: «Почему у вас так дорого?» Но тут подскакивает богачка Сора-Перл: «Дайте мне, дайте мне скорее, взвесьте мне вот эту щучку!» — «Куда вы так спешите? — говорю я. — Бог с вами, река не сгорит, и Ме-наше не повезёт рыбу обратно! У богачей, — говорю я, — деньги, видно, дёшевы, а ум дорог». И что же вы думаете? Она как откроет ротик. «Беднякам, — говорит она, — здесь нечего делать Бедняк и рыбы хотеть не должен » Видели вы такую мерзавку? Давно ли она стояла со своей мамашей на базаре и торговала лентами? Точно так же как Песл, жена Пейси-Авро-ма, хвастает своей дочерью — мол, вышла за богача, который взял её как есть, без гроша за душой Еврейское счастье! Говорят, она мучается — не про вас будь сказано! — и день и ночь, все с детьми не может поладить Очень просто, разве приятно быть мачехой? Упаси бог! Вот, к примеру, Хавеле, Кажется, что с неё возьмёшь? Вы бы посмотрели, что ей достаётся от его детей! День и ночь крики, вопли, шум, гам, дым коромыслом!..
Свечи оплывают. Тени ползут по стене и взбираются всё выше и выше. Семечки трещат, люди мирно беседуют, рассказывают разные истории о том о сём, и больше всех говорит тётя Ента.
— Постойте! — восклицает она. — Недавно случилась история ещё почище. Недалеко от Ямполя, версты за три, разбойники напали на корчму, вырезали целую семью, даже малое дитя в люльке и то не пощадили. Уцелела только служанка, которая спала в кухне: услышав крики, она спрыгнула с печи, посмотрела в замочную скважину и увидела на полу зарезанных хозяина и хозяйку, а крови — целая река Недолго думая выскочила в окно и побежала прямо в город с криком: <С , сите, люди добрые! Караул, караул, караул!!!»
Тётя Ента кричит: «Караул!», и вдруг мы слышим: «Тра:;-тарарах-бом-динь-динь-бом!» Увлечённые историей тёти Енты, мы подумали, что разбойники напали на наш дом и палят из десяти пушек, или крыша обвалилась, или началось землетрясение, или случилось ещё какое-нибудь несчастье!.. Мы не можем тронуться с места. Минуту мы молча смотрим друг на друга, а потом все разом как закричим:
— Караул! Караул! Караул!..
В панике мать прижимает меня к себе и кричит:
— Дитя моё, да сохранит тебя господь! О горе мне!
— Что? Что с ними? Что случилось? — кричит отец.
— Тише, тише! — кричит тётя Ента, размахивая руками.
Из кухни вбегает испуганная служанка:
— Кто здесь кричит? Что такое? Горит? Где горит?
— Кто горит? Что горит? Сама ты сгори, язва ты этакая! — кричит на служанку тётя Ента. — Черти тебя принесли Вот тебе на, горит!.. Чтоб тебе прова.питься! Слыха.пи вы такое?.. Какого черта вы кричите? Чего вы всполошились? Смеяться некому!.. Это часы, часы упали! Теперь вам ясно? Нацепили на часы всякой всячины, не меньше трёх пудов, вот они и упали. Что тут удивительного? Если бы столько повесили, простите, на человека, он бы тоже свалился.
Лишь теперь мы начинаем приходить в себя. Мы встаём из-за стола, подходим к часам и видим, что лежат они, бедные, на полу лицом вниз, сломанные, разбитые на мелкие куски, искалеченные навсегда.
— Конец часам!.. — произносит бледный, как стена, отец, низко опустив голову, словно перед ним лежит покойник. Отец ломает руки, и спезы стоят у него в глазах.
Я смотрю на него, и мне тоже хочется плакать.
— Что ты, успокойся, зачем принимать так близко к сердцу! — говорит мама. — Наверно, так было суждено на небесах, чтобы сегодня, в эту минуту, им пришёл конец, как, простите, человеку, да помилует меня бог! Пусть будут они искуплением за меня, за тебя, за наших детей, за всех наших родных и близких и за всех людей на свете. Аминь
Всю ночь после этого мне снились часы. Я видел, как наши старые часы лежат на полу, одетые в белый саван. Видел, как часы идут, но вместо маятника из стороны в сторону болтается длинный человеческий язык. И часы не бьют, а стонут, и каждый стон отнимает у меня частицу здоровья А на циферблате, где я привык видеть двенадцать, я вдруг вижу цифру тринадцать. Именно тринадцать! Можете мне поверить
ЮЛА
Больше всех товарищей по хедеру, больше всех мальчиков в городе и больше всех людей на свете любил я Беню, сына Меера Полкового. Я испытывал к нему странную привязанность, смешанную со страхом. Любил я его за то, что он был красивее, умнее и ловчее всех ребят, за то, что он был мне предан, заступался за меня, давал оплеухи и драл за уши каждого мальчишку, который пытался меня обидеть.
А боялся я его потому, что он был рослый и драчун. Как самый старший, самый сильный и самый богатый из всех мальчиков в хедере, он мог бить кого хотел и когда хотел. Отец его. Меер Полковой, был всего лишь полковым портным,, но считался богачом и в городе пользовался почётом; у него был хороший дом и лучшее место в синагоге — у восточной стены; на пасху у него была лучшая маца; на субботу он приглашал в гости какого-нибудь бедняка; милостыню он подавал щедро; когда у него просили взаймы, он не отказывал; детей обучал у лучших меламедов — короче говоря, Меер Полковой старался втереться в общество. Но тщетно. Не так-то это легко проникнуть в общество у нас в Касриловке; не так-то легко у нас в Касриловке забывают происхождение человека и какое место
ему подобает. Портной может выбиваться в люди двадцать лет подряд и прославиться сколько угодно, а у нас в Касриловке он так и останется всего лишь портным. Я думаю, нет на свете такого мыла, которое у нас в Касриловке могло бы отмыть подобное пятно. Увы! Как вы думаете, сколько дал бы, например, Меер Полковой за то, чтобы избавиться от прозвища «Полковой»? Беда его была в том, что фамилию он носил ещё в тысячу раз худшую, чем это прозвище. По паспорту, представьте себе, он назывался: «Каневский мещанин Меер Мовшович Тёлка».
Удивительное дело! Неужели прапрадед Меера — несомненно тоже портной, царство ему небесное, — выбирая себе фамилию, не мог найти более приличную?! Ну хотя бы, например: «Напёрсток», «Подкладка», «Иглоузлов», «Заплаткин», «Длин-носпинник» Тоже не ахти какие благозвучные фамилии, однако они всё-таки имеют отношение к портняжному делу. Но Тёлка? На что она ему сдалась, эта Тёлка? Вы скажете: а как же Бык? Разве нет людей, которые носят фамилию Бык? Можете говорить что угодно: бык и тёлка действительно одного происхождения, но это совсем не то же самое. Бык — это всё-таки не тёлка
Но возвратимся к моему товарищу Бене.
Беня был славный малый: белолицый, толстенький, веснушчатый, с рыжими колючими волосами, с пухлыми щёчками, редкими зубами и со странными красными, навыкате, как у рыбы, глазами. Эти выпученные глазки всегда плутовски усмехались. К тому же у Бени был вздёрнутый нос, и вся его физиономия имела довольно-таки нахальное выражение. Но мне она нравилась, и мы с Беней стали друзьями с первого знакомства.
Первое знакомство свели мы под столом, на уроке библии.
Когда мама привела меня в хедер, ребе, густобровый человек в остроконечной ермолке, читал с учениками книгу Бытия Экзаменов не полагалось, метрики не требовалось. Ребе сказал мне без всяких проволочек:
— Полезай вон на ту скамейку, между теми двумя мальчиками.
Я полез на скамейку, втиснулся между двумя мальчиками — и всё: я считался принятым. Особых переговоров с ребе моей матери тоже вести не пришлось. Они обо всём условились заранее.
— Помни же, учись как следует! — говорит мама уходя.
Книга Бытия — первая книга библии.
Она ещё раз оглядывается, смотрит на меня со смешанным чувством удовлетворения, любви и жалости. Я прекрасно понимаю мамин взгляд: ей доставляет радость, что я сижу среди детей порядочных родителей и учусь, но у неё болит сердце оттого, что она должна со мной расстаться.
По правде сказать, у меня на душе было намного веселее, чем у мамы: я сижу среди стольких новых товарищей, оии осматривают меня, я осматриваю их, мы осматриваем друг друга. Однако ребе не даёт нам сидеть без дела. Он покачивается взад и вперёд и громко нараспев читает и переводит, а мы за ним, во весь голос, один громче другого:
— Веаношох — и змей. Ойо — был. Орум — хитрее. Ми-кол — всех. Хаес — зверей. Асоде — полевых. Ашер — которых. Осо — он сотворил.
Когда мальчики сидят так близко друг к другу, то хоть они и изучают библию, по не может того быть, чтобы они не познакомились, не перекинулись хотя бы несколькими словами.
Беня Меера Полкового, с которым мы сидели рядом, плотно прижавшись друг к другу, даёт о себе знать, для начала ущипнув меня за ногу. Мы с ним переглядываемся. Он начинает ещё сильнее покачиваться взад и вперёд, как наш учитель, читает нараспев библию вместе со всеми и вставляет свои слова:
— Веоодом — Адам. Иода — познал Возьми эти пуговицы Эс хаве — Еву ишто — свою жену Дай мне рожок, я тебе за это дам потянуть из моей папиросы.
Я чувствую в своей руке его тёплую руку и несколько маленьких гладких скользких брючных пуговиц. Мне не нужны пуговицы, у меня нет рожков, и я не курю. Но мне нравится разговаривать таким образом, и я отвечаю Бене тоже напевно, раскачиваясь вместе со всеми:
— Ватаар — и она зачала Кто тебе сказал Ватейлед — и она родила что у меня есть рожки?
Так переговариваемся мы всё время, пока ребе не почуял, что голова у меня занята совсем не библией. Он ловит меня иа удочку и устраивает мне нечто вроде экзамена:
— Скажи-ка ты Как тебя там зовут?.. Ты, наверно, знаешь, чьим сыном был Каин и как звали брата Каина?
Эти неожиданные вопросы кажутся мне такими дикими, как если бы меня вдруг спросили, когда на небе бывает ярмарка или как сделать из снега сырок! Мои мысли были под столом, они были заняты пуговицами.
— Что ты смотришь на меня? — спрашивает ребе. — Разве ты не слышишь, о чём тебя спрашивают? Скажи-ка мне поскорее, как звали Адама, отца Каина, и кем приходился Каину его брат Авель, которого родила Ева?
я вижу, мальчики ухмыляются, давятся от смеха, и не понимаю, что тут смешного.
— Глупыш, скажи, что не знаешь, потому что мы этого ещё не проходили, — подсказывает Беня, подталкивая меня локтем.
Я повторяю за ним, как попугай, слово в слово, и хедер сотрясается от смеха.
«Почему они смеются?» — недоумеваю я, глядя, как покатываются со смеху не только мальчики, но даже ребе, а сам я в это время перекладываю под столом пуговицы из одной руки в другую: ровно полдюжины.
— Ну-ка, паренёк, покажи свои руки! Что ты там делаешь? — говорит ребе и заглядывает ко мне под стол
Вы умные дети. Вы, наверно, сами понимаете, какую взбучку я получил от ребе в этот мой первый школьный день.
Следы порки заживают, стыд забывается. Мы с Беней быстро стали добрыми и близкими друзьями, водой не разольёшь.
Вот как дело было.
На следующий день, когда я пришёл в хедер с библией в одной руке и с завтраком в другой, я нашёл моих новых товарищей весёлыми, возбуждёнными. В чём дело? Оказывается, нам повезло — нет ребе. Где он? Ушёл куда-то с женой на обрезание. Только не подумайте, упаси бог, что они ушли вместе, — ребе никогда не ходит вместе с женой: впереди идёт ребе, а за ним — жена.
— Спорим! — сказал мальчик с синим носом, по имени Ешие-Гершл.
— На что? — спросил Копл-Бунем, у которого из разодранного рукава торчал чёрный локоть.
— На четверть фунта рожков.
— Ладно, давай на четверть фунта рожков Значит, ты что говоришь?
— Я говорю: больше двадцати пяти он не выдержит.
— А я говорю: тридцать шесть.
— Тридцать шесть? А вот посмотрим Ребята, налетай!
И тут несколько мальчишек налетели на меня, как черти,
схватили и положили на скамейку лицом вверх. Двое сели мне на ноги, двое на руки, один держал меня за голову, а другой приставил мне к носу сложенные баранкой два пальца левой руки (видно, он был левшой); прищурив один глаз и приоткрыв рот, он начал щёлкать меня по носу. Но как! При каждом
щелчке мне казалось, что я вот-вот отправлюсь к покойному отцу на тот свет. Разбойники! Убийцы! Что им нужно было от моего носа? Что он им сделал, мой нос? Кому он мешал? Что они на нём увидели? Нос как нос!
— Считайте, ребята! — командовал Ешие-Гершл. — И раз! И два! И три!
Но вдруг
С тех пор как свет стоит, все чудеса совершаются неожиданно. Например, случается, упаси бог, несчастье с человеком: нападут на него в поле разбойники, свяжут его, наточат нож и велят ему читать предсмертную молитву. Но в то самое мгновение, когда они совсем уж соберутся сделать чик, вдруг прикатит становой с бубенцами — разбойники разбегутся, и человек спасён. Он воздевает руки к небу и благодарит создателя за избавление.
Со мной и с моим носом случилось точно так же. Не помню, после пятого или шестого щелчка открывается дверь и входит Беня, сын Меера Полкового. Ребята сразу меня отпустили и притворились невинными агнцами. А Беня начал расправляться со всеми поодиночке. Он хорошенько отодрал каждого за уши, напевая и приговаривая:
— Ну, теперь будешь знать, как обижать сына вдовы?
С тех пор ребята больше не покушались ни на меня, ни на мой нос: они боялись связываться с сыном вдовы, другом, избавителем и защитником которого был Беня, сын Меера Полкового.
«Сын вдовы» — иначе меня в хедере не называли. Почему «сын вдовы»? А потому, что моя мама была вдовой; она билась с нуждой, как рыба об лёд, и держала бакалейную лавку, где продавались, насколько я помню, главным образом мел и рожки — два товара, на которые у нас в Касриловке всегда большой спрос. Мел идёт на побелку, а рожки — хорошее лакомство: и сладко, и легко на вес, и дёшево стоит. Мальчишки из хедера тратят на рожки всё, что им дают на питание, а лавочники хорошо на рожках зарабатывают. Я не мог понять, почему мама вечно жалуется, что ей так трудно платить за наём лавки и за моё ученье. Почему именно за ученье? А всё осталь-
ное, что нужно человеку, у неё есть: еда, платье, обувь и тому подобное? Все её заботы были о моём ученье. «Если бог меня наказал, — говорила она, — и отнял у меня мужа, такого мужа, и оставил меня в молодые годы вдовой, одну-одинешеньку, я хочу, по крайней мере, чтобы мой сын учился». Ну, что тут скажешь? Вы полагаете, может быть, что она не ходила в хедер справляться, как я учусь? О молитвах и говорить нечего — тут уж она сама следила, молюсь ли я каждый день. Мама хотела, чтобы я стал хоть наполовину таким, каким был мой отец, царство ему небесное. И каждый раз, хорошенько в меня всматриваясь, она говорила, что я — дай бог на долгие годы! — вылитый «он». При этом глаза у неё увлажнялись, и лицо, подёрнутое грустью, становилось озабоченным.
Пусть простит меня мой отец на том свете — я не мог понять, что он был за человек. По маминым рассказам выходило, что он всегда или читал священные книги, или молился богу.
Неужели его никогда не тянуло на волю, например, в летнее утро, когда солнце ещё не особенно печёт, когда оно только появляется в огромном небе и движется быстро-быстро — словно в огненной карете, запряжённой огненными лошадьми, несётся огненный ангел, в светлое, горящее, золотое лицо которого больно смотреть? Какое удовольствие, спрашиваю я вас, может доставить молитва в такое божественное утро? Что за удовольствие сидеть в тесном, неуютном хедере, когда играет золотое солнце, когда оно накаляет землю, как железную сковороду? Вас тянет туда, под гору, к реке, к великолепной реке, сплошь покрытой зеленью. Уже издали несёт от неё запахом бани. Вас так и подмывает поскорее раздеться и бухнуться в воду. Она прохладна только внизу, у самого дна, а дно скользкое и вязкое. Разные твари, которые там копошатся — полурыбки-полу» лягушки, — мелькают, мелькают без конца перед глазами; диковинные мухи и комары с длинными лапками скользят по поверхности воды, как на санках. Вам хочется переплыть на другую сторону, где среди густой зелени сверкают белые и жёлтые лилии и на вас смотрит молодая зелёная верба с нежными свежими веточками. Вы бросаетесь в воду — и попадаете руками в грязь, но бьёте, бьёте ногами по воде — пусть думают, что вы плаваете. Что за радость, спрошу я вас снова, сидеть дома или в хедере в летний вечер, когда за городской чертой спускается на землю большой красный небесный шар, когда он зажигает купол церкви, освещает красную черепичную крышу бани и большие окна холодной старой синагоги? И оттуда, из-за города, движется стадо, бегут козы, блеют овцы, столб пыли достигает неба, а лягушки квакают и заливаются, и всё кричит, трещит, верещит — настоящая ярмарка! Как тут можно думать о молитве? Кому полезет в голову ученье?
Однако пойдите поговорите с моей мамой! Она вам скажет, что «он», мир праху его, не так поступал; «он», мир праху его, был совсем другим человеком. Каким он был человеком, да простится мне, я так и не знаю. Знаю только, что мама не оставляет меня в покое: она без конца напоминает мне, какой у меня был отец, и попрекает десять раз на день платой за ученье. Она требует от меня только двух вещей: учиться и молиться.
Нельзя сказать, чтобы «сын вдовы» учился плохо. Он не отставал от своих товарищей. Но что касается молитвы — тут другое дело. Все мальчики одинаковы, и «сын вдовы» был таким же сорванцом, как все. Он любил всякие проделки, любил поозорничать: надеть общественному козлу на рога ермолку из мочалы, которой жена меламеда мазала пол, и пустить его по городу; привязать кошке к хвосту бумажного змея, чтобы она как бешеная понеслась по улицам, опрокидывая горшки на своём пути; повесить в пятницу вечером замок на дверь женской молельни, чтобы женщины падали в обморок и потом надо было приводить их в чувство; приколотить гвоздями к полу шлёпанцы ребе или, когда он задремлет на уроке, приклеить его бороду к столу — пусть попробует встать! Сколько розог получали мы потом, когда находили виновника! И не спрашивайте
Само собой разумеется, что в каждом таком деле необходим зачинщик, вожак, командир.
Зачинщиком всех наших шалостей, нашим вожаком и командиром был Беня, сын Меера Полкового. Все затевал он, а отвечать приходилось нам. Беня, толстенький, рыжий Беня с глазами навыкате, постоянно выходил сухим из воды; чистым, как слеза; кротким голубем, который ни сном ни духом ни в чём не виноват. Мы перенимали от Бени всякую его ужимку, гримасу, во всём ему подражали. Кто научил нас тайком курить папиросы, пуская дым из обеих ноздрей? Беня. Кто водил нас зимой на лёд кататься с деревенскими мальчишками? Беня. Кто научил нас играть в пуговицы, в узелки, в орла и решку, проигрывая завтраки и обеды? Беня. В играх Беня был очень ловким: он обыгрывал всех, обставлял каждого, у кого только заводился грош. А когда дело доходило до расплаты за проделки, он всегда оказывался ни при чём.
Больше всего доставалось нам от ребе за эти игры.
— Вы у меня доиграетесь! С сатаной будете вы у меня играть!.. — говорил ребе.
Он вытряхивал содержимое наших карманов, отнимал всё, что находил, и взамен щедро одарял нас розгами.
Но была такая неделя в году, когда играть разрешалось. Да что там — разрешалось! Игра считалась святым делом, прямо-таки святым делом!
Это была неделя праздника хануки, а играли мы в «юлу».
Возможно, в нынешних азартных играх, как «очко», «стукалка», «трик-трак», «штос» и тому подобные, больше хитрости, чем в нашей тогдашней «юле». Однако, когда играют на деньги, разнида не так уж велика. Я видел своими глазами, как двое мальчишек сидели и бились головами об стенку, а когда я их спросил: «Что вы делаете? Вы дураки или сумасшедшие?» — они меня прогнали, сказав, что играют на деньги: кто скорее устанет. Вот и толкуйте после этого!
«Юла» — игра горячая и необыкновенно азартная. Можно дойти бог знает до чего, можно душу проиграть! И вам не так жалко денег, как досадно: почему выигрываете не вы, а другой? Почему у другого юла падает на «В», а у вас — на «Ч», на «П» или на «Т»? Вы, наверно, знаете, что обозначают четыре буквы, написанные на четырёх сторонах юлы: «Ч» — чушь, «Б» — выигрыш, «П» — половина, «Т» — темно. Юла — вроде лотереи: кому улыбнётся счастье, тот и выиграет. Возьмите, к примеру, Беню, сына Меера Полкового: сколько раз он ни запустит свою юлу, она всегда упадёт у него на «В».
— Просто чудеса! — говорят мальчишки и снова ставят монету.
А Беня играет против всех. Разве ему это трудно? Он ведь сын богача! И снова у него «В».
— Удивительное дело! — кричат мальчишки, берутся за кошельки и снова ставят деньги.
А Беня снова играет против всех и лихо пускает юлу головкой вверх. Она сначала пройдётся гоголем, потом завертится, потом покачается немного взад-вперёд, как пьяница, и упадёт.
— «В», — говорит Беня.
— «В»? «В»? Опять «В»?! Вот так чудо! — кричат ребята и, почёсываясь, снова берутся за кошельки.
Чем дальше, тем игра становится азартнее. Игроки горячатся, ставят деньги, ругаются, толкаются, осыпают один другого разными прозвищами:
— Сопляк!
— Шепелявый!
— Чёрный кот!
— Мятая ермолка!
— Рванина!..
Делая друг другу подобные комплименты, они не замечают даже, что неподалёку стоит ребе в телогрейке и в ватной шапке поверх ермолки, с молитвенными принадлежностями под мышкой. Он собирается в синагогу, но, увидев, как мы волнуемся, останавливается посмотреть. Ребе не вмешивается. Сейчас ханука. Мы свободны целых восемь дней подряд и можем играть в «юлу» сколько нам заблагорассудится. Лишь бы мы не дрались и не ссорились. Вовсе, оказывается, не такой уж плохой он человек, этот ребе, честное слово! Жена его берёт на руки маленького болезненного Рувеле, затыкает ему ротик грудью, чтобы он не кричал, становится у ребе за спиной и смотрит, как мальчики ставят деньги и как Беня играет против всех.
Беня весь горит, Беня трепещет, Беня пылает. Юла у него вертится, качается и падает.
— Снова «В»? Ну и комедия!
Беня показывает нам свою ловкость и мастерство, поражает нас своими великолепными фокусами, до тех пор пока не выиграет у нас всё, до последней копейки. Потом он кладёт руки в карманы, всем своим видом как бы говоря: «Ну, кто ещё желает?» — и мы расходимся по домам, унося с собой боль в сердце. А дома нам ещё приходится измышлять всякие небылицы: тот придумывает одно, этот — другое. Один сочиняет, будто все свои деньги истратил на лакомства, на рожки; другой клянётся, что деньги у него украли из кармана ещё ночью; третий приходит домой в слезах. «В чём дело, почему ты плачешь?» Как же ему не плакать, если он купил на подаренные к празднику деньги ножик. «Чего ж тут плакать?» Как же не плакать, если он его потерял!
Я тоже рассказываю маме сказку из «Тысячи и одной ночи» и выпрашиваю у неё ещё раз пять копеек, иду с ними к Бене, освобождаюсь от них в пять минут и сочиняю для мамы новую историю. Фантазия работает, небылицы возникают одна за другой, а все наши праздничные деньги уходят на «юлу», то есть к Бене в карман.
А один из нас так увлёкся игрой, что играл с Беней в «юлу» почти каждый день до конца праздников хануки. И этим одним был я — «сын вдовы».
Где брал «сын вдовы» деньги на игру, лучше не спрашивайте. Величайшие игроки мира, которые выигрывали и проигрывали целые состояния, — те знают, те поймут! Увы! Когда появляется искушение, нет ничего на свете, что могло бы ему противостоять. Оно не знает преград. Шутка ли: азарт игры!.. Прежде всего я всё стал обращать в деньги — всё, что имел! То есть я продал всё, что имел, одну вещь за другой: сначала ножик; потом кошелёчек; потом пуговицы; коробочку, которая открывалась и закрывалась; несколько колёсиков — хорошо почищенные, они ослепительно блестели, прямо как золото. Я на всё махнул рукой, всё уступал за полцены и каждый раз бежал с новыми деньгами к Бене, проигрывал ему всё до последнего гроша и уходил от него грустный, с поникшей головой, с истерзанным сердцем, с мучительной досадой и раздражением. Но я не злился на Беню, упаси бог! За что мне было злиться на него? Разве он виноват, если ему везёт? Он говорил, что, если бы юла падала на «В» у меня, я бы выигрывал; падает каждый раз на «В» у него — выигрывает он. Так говорил Беня и был, конечно, прав Нет, меня разбирала досада только на самого себя: как это я растранжирил столько денег, мамины трудовые гроши? Как это я пустил по ветру всё, что имел, и остался гол как сокол?! Даже молитвенник я продал. Ох, молитвенник, молитвенник! Когда я о нём вспоминаю, у меня сжимается сердце и лицо горит- от стыда. Это была игрушка, а не молитвенник. Мама купила мне его у книгоноши Песахьи как раз по случаю годовщины со дня смерти отца. Замечательный был молитвенник! Чего в нём только не было! «Песнь песней», «Пейрек» «Агада» все молитвы, все законы, все обычаи, а в конце — псалмы. А переплёт с золотым тиснением! А обрез! А корешок! Просто искушение, говорю я вам! Дьявол, а не молитвенник! У Песахьи было на глазу бельмо; он носил коротко подстриженные усы, от которых его озабоченное лицо казалось улыбающимся. Всякий раз, когда он раскладывал свой товар перед дверьми синагоги, я не мог оторвать глаз от молитвенничка.
— Что скажешь, мальчик? — спрашивал меня Песахья, как будто он не знал, что мне нравится молитвенничек: я уже раз двадцать ощупывал книгу и спрашивал, сколько она стоит.
«П е й р е к» — талмудический трактат. ® «А г а д а» — сказания.
— Ничего, — отвечал я. — Просто так..;
И уходил, чтобы не видеть это искушение.
— Ах, мама, если бы ты знала, какой у Песахьи молитвенник! Если б у меня был такой молитвенничек, я я ну, просто не знаю, что
— Разве у тебя нет молитвенника? А где отцовский молитвенник?
— Что ты сравниваешь, мама! То — молитвенник, а это
— Что — это? — удивляется мама. — Разве в нём больше молитв?
Подите объясните ей, что такое молитвенник реб Песахьи в красном переплёте, с синим обрезом и с зелёным корешком!
— Пойдём, — говорит мне мама однажды вечером и берёт меня за руку, — пойдём со мной в синагогу. Завтра — годовщина смерти отца. Мы поставим свечи и заодно увидим Пе-сахью. Посмотрим, что это у него за молитвенник такой.
Я понимаю, что в годовщину папиной смерти я добьюсь от мамы всего, и сердце у меня стучит от радости.
Мы приходим в синагогу, но Песахья ещё не разложил своего товара. Песахья не любит спешить. Он хорошо знает, что здесь у него нет конкурентов, что он своё возьмёт. Пока он развяжет мешок и достанет товар, пройдёт год. Я дрожу, я трепещу, я еле держусь на ногах, а он и в ус не дует, как будто это его не касается.
— Покажите, — говорит ему мама, — что это у вас там за молитвенник?
Песахья не спешит. Над ним не каплет. Потихоньку, не торопясь, развязывает он мешок и выкладывает весь свой магазин: большие и маленькие библии, мужские и женские молит-веннигат, псалмы
Мне кажется, что это никогда не кончится, — у него не мешок, а неисчерпаемый источник, бездонный колодец! Но вот наконец извлечены и маленькие книжки, и среди них заветный молитвенник.
— Только всего? — удивляется мама. — Такой малюсенький?
— Малюсенький, — говорит Песахья, — а стоит дороже большого.
— Сколько же вы хотите за эту козявочку, пусть меня бог не накажет за такие слова!
— Молитвенник вы называете козявочкой? — говорит Песахья и забирает у неё книжку из рук.
И у меня обрывается сердце.
— Ну, скажите наконец, что он стоит? — просит мама.
Но Песахье некуда спешить, и он отвечает нараспев:
— Что стоит молитвенничек? Ох, он стоит, он стоит Боюсь, он вам не по карману.
Мама проклинает своих врагов, призывает на их голову все несчастья и просит Песахью сказать, сколько стоит молитвенник.
Тот называет цену, и мама, не отвечая ему, направляется к двери и говорит мне:
— Пойдём, нам здесь нечего делать. Разве ты не знаешь, что реб Песахья любит запрашивать?
С горечью в сердце следую я за мамой, но во мне ещ.е теплится надежда: может быть, бог смилуется надо мной, и Песахья позовёт нас обратно. Но не такой он человек, этот Песахья. Он знает, что мы и сами вернёмся. И он прав — мы действительно возвращаемся. Мама просит его назвать человеческую цену. Но Песахья не трогается с места — он смотрит в потолок, бельмо блестит на его глазу. Мы снова уходим и снова возвращаемся.
— Нехороший человек этот Песахья! — говорила мне потом мама. — Ни за что бы я не купила у него молитвенника! Шутка ли, такие деньги! Жаль, честное слово, они пригодились бы на плату за ученье. Ну ладно, ничего. Завтра годовщина смерти отца. Ты будешь читать поминальную молитву, и я хотела доставить тебе удовольствие. Но ты тоже утешь меня, сынок! Обещай, что будешь честно молиться каждый день.
Так ли я усердно молился, как обещал, или нет — об этом мы говорить не будем. Но молитвенничек я страшно любил. Представьте себе, я даже спал с ним, хотя, как вы знаете, это запрещено. Весь хедер завидовал мне, и я берёг своё сокровище как зеницу ока. А в эти праздники я сам, собственными руками снёс его сыну столяра Мойше. Мальчишка давно лупил на него глаза, но теперь мне ещё пришлось упрашивать его Почти даром отдал я ему свой маленький молитвенничек! Ох, стоит мне только вспомнить об этом, у меня сжимается сердце и лицо горит от стыда! Сбыл, продал, и для чего, для кого? Для Бени. Чтобы Беня мог выиграть у меня ещё несколько копеек. Но разве Беня виноват, если ему так везёт в игре?
— На то и «юла», — утешает он меня и кладёт себе в карман последние мои грощи. — Если бы тебе везло, как везёт мне, ты бы выиграл. Везёт мне — выигрываю я.
Щёки у Бени горят, в комнате светло и тепло, на столе стоит серебряный подсвечник с красивой свечой. И в доме у Бени всего вдоволь, из кухни доносится запах свежего, только что растопленного гусиного сала.
— У нас сегодня пекут оладьи, — сообщает мне Беня радостную весть, когда я стою в дверях и у меня от голода подводит живот.
я бегу в своём рваном тулупчике домой и застаю там маму, с красным носом, с красными, опухшими руками, насквозь продрогшую. Она только что пришла из лавки и греется у печки. Увидев меня, она сияет:
— Из синагоги?
— Из синагоги!
— Читал вечернюю молитву?
— Читал вечернюю молитву!
— Согреешься, сынок, и благословишь свечи. Сегодня, слава богу, последний день праздника.
Конечно, если бы у человека были в жизни одни только неприятности и ни капли радости, ни крупицы счастья, он бы не смог этого вынести и покончил бы с собой. Я имею в виду мою маму, бедную вдову, которая маялась день и ночь, недоедала, недосыпала и только из-за меня, только для меня. Разве она не заслуживала хоть немного радости? Но каждый понимает это слово по-своему.
Для моей мамы бывало самой большой радостью, когда в субботу и в праздники я читал для неё молитву перед едой, освящал для неё пасхальную трапезу, а в хануку произносил благословение над свечами. Не важно, что стояло на столе во время молитвы: вино или пиво, фаршированные гусиные шейки или просто кусочек мацы с водой, и стояли свечи в подсвечниках или их воткнули в картофелину. Честное слово, дело не
в вине, не в гусиных шейках и, не в серебре, а совсем в другом: в том, как произносится молитва, как справляется трапеза, как благословляются свечи. Впрочем, к чему слова! Когда я читаю молитву, достаточно посмотреть на мою мать, как лицо у неё озаряется улыбкой, сияет, светится. Это и есть настоящая радость, подлинное счастье. Я наклоняюсь над разрезанной картофелиной и нараспев произношу слова благословения. Я читаю, а моя мама, так же нараспев, тихо повторяет за мной слово за словом. Я читаю, а мама смотрит на меня и шевелит губами, и я знаю, о чём она в это время думает. «Совсем «он»! — думает она. — Как две капли воды, дай ему бог долгие годы!» И я чувствую, что меня стоит разрезать на куски, как эту картофелину. Как я мог обмануть маму, да ещё так бессовестно! Продал молитвенник и деньги проиграл в «юлу»! Продал, продал, всё продал!..
Фитили в картофелинах — наши праздничные свечи — чадят, пока совсем не гаснут. И мама говорит мне:
— Иди умойся. Будем есть картофель с салом. По случаю праздника я купила стаканчик свежего вкусного гусиного жира!
Охотно иду умываться. И мы садимся за стол.
— У людей в последний день хануки пекут оладьи! — говорит мама со вздохом.
А я вспоминаю оладьи у Бени и его юлу, которая обошлась мне в целое состояние, и чувствую, как меня, словно иголкой, кольнуло в сердце. И больше всего болит у меня душа, и больше всего грызёт меня раскаяние из-за молитвенника.
Даже ночью не оставляют меня тяжёлые мысли. Я слышу, как мама вздыхает, как она хрустит пальцами. Я слышу, как скрипит под ней кровать, и мне кажется, что кровать не скрипит, а стонет. А на дворе завывает ветер, он стучит в окно, рвёт крышу, свистит в трубе, издаёт длинное, протяжное «вью-ю-ю-ю!» А сверчок, который завёлся у нас с некоторого времени, стрекочет в щели: «чири-ри, ч«ри-ри!» А мама всё вздыхает, стонет и хрустит пальцами. И каждый её вздох, каждый стон отдаётся в моём сердце. Я еле себя сдерживаю. Вот-вот я спрыгну с постели, подойду к маме, припаду к её ногам, буду целовать ей руки и покаюсь во всех моих великих грехах. Но я не делаю этого — я укрываюсь с головой всеми мамиными юбками, чтобы не слышать, как мама вздыхает и стонет и как скрипит её кровать. Гла.за у меня слипаются, а ветер дует и свистит: «вью-ю-ю-ю!», а сверчок всё трещит: «чири-ри, чири-ри, чири-ри!» Перед моими глазами вертится, как юла, какой-то человек, как будто знакомый, — да ведь это ребе! Я бы мог поклясться, что передо мной ребе в остроконечной ермолке и с библией в руках. Он вертится, вертится, вертится, как юла.
Ермолка мелькает перед глазами, и пейсы развеваются по воздуху. Нет, это не ребе, это юла! Диковинная юла, живая, в остроконечной ермолке и с пейсами. Понемногу юла, похожая на ребе, или ребе, похожий на юлу, перестаёт вертеться, и на этом месте вырастает фараон, царь египетский, о котором мы читали в хедере за неделю до хануки; фараон, царь египетский, стоит передо мной голый, совсем голый — он только что вышел из реки, и в руках у него мой молитвенник. Я не могу понять, как мой маленький молитвенник попал к нему, к этому злодею, который купался в еврейской крови И я вижу семь коров, тощих, измождённых, кожа да кости, с большими рогами и длинными ушами, все они бросаются на меня, одна за другой, открывают рты и хотят меня проглотить. Откуда ни возьмись, появляется Беня, мой товарищ Беня. Он хватает коров за уши и начинает крутить, и кто-то тихо плачет, и вздыхает, и стонет, и всхлипывает, и свистит, и стрекочет, и кто-то стоит возле меня и тихо говорит:
«Скажи-ка, сынок, когда годовщина моей смерти? Когда ты будешь читать по мне поминальную?»
Я понимаю, что это мой отец пришёл с того света, мой отец, о котором мама рассказывала мне столько хорошего. Я хочу ему сказать, когда годовщина его смерти, когда я буду читать поминальную, но я забыл. Именно теперь я всё забыл! Я мучусь, тру себе лоб, хочу в(;помнить, но не могу. Видели вы такое? Я забыл, когда годовщина смерти моего отца. Помогите, люди добрые! Не знаете ли вы, когда годовщина смерти моего отца? Что же вы не отвечаете? Помогите! Помогите! Помогите!..
— Бог с тобой! Что ты кричишь? Что случилось? Что у тебя болит?
Вы, конечно, понимаете — это говорит моя мама. Она стоит надо мной, щупает мой лоб, и я чувствую, как она вся дрожит. Наполовину прикрученный фитиль не светит, а чадит, тень моей матери причудливо пляшет иа стене,- концы маминого ночного платка торчат, словно два рога, и глаза её страшно блестят в темноте.
— Что ты? Ведь годовщина была совсем недавно!.. Тебе что-нибудь приснилось? Сплюнь три раза: тьфу, тьфу, тьфу! Да минет нас беда! Аминь, аминь, аминь!..
Дети, я вырос, я стал взрослым. Беня тоже вырос и стал мужчиной с рыжей бородкой. Он отрастил себе животик и носит на животике золотую цепочку. Видно, Беня — богач. Когда-то он был сынком богача, а теперь сам богач.
Мы встретились в поезде. Я его узнал по выпученным рыбьим глазам и по редким зубам. Мы не виделись столько времени! Мы бросились целоваться, а потом разговорились о давно прошедших, милых сердцу, сладостных детских годах и припоминали каждую мелочь.
— Помнишь, Беня, ту хануку, когда тебе так везло в игре? Всё время юла падала у тебя на «В»!
Я смотрю на него — он даже посинел от смеха. Так и покатывается, держится за бока, прямо умирает.
— Бог с тобой, Беня! Что это на тебя вдруг смех напал?
— Ох, — машет Беня руками, — отстань ты от меня со своей юлой! Вот была юла! Нет такой второй на свете! С такой юлой трудно проиграть: как бы она ни упала, она всё равно показывала выигрыш.
— Что же это была за юла такая, Беня?
— На ней буква «В» была выведена со всех сторон. Ха-ха-ха!..
ФЛАЖОК
Дети! Послушайте рассказ о том, как я, сын бедняка, приобрёл к осенним праздникам флажок. Я расскажу вам, каких трудов мне стоило раздобыть его и как я его быстро, в одно мгновение, потерял. Да, немилостив был ко мне бог — за кратковременную радость мне пришлось заплатить многими-многими днями болезни и страданий
Когда я был маленьким — вот таким, как вы, — меня называли «Топелэ Тутарету», что, собственно, означало «Копе-лэ Кукареку». Знаете почему? По двум причинам: во-первых, у меня был тоненький, пискпивый голосок, как у молодого петушка; во-вторых, я не умел произносить «к» и «г», вместо которых у меня получалось «т» и «д». И, как на беду, моего отца звали Калман, маму — Гита Калманова, меня — Копл, сын Гиты Калмановой, а учителя — Гершон-Горгл из Галгановки.
— Мальчик, как тебя звать? — спрашивали меня.
— Топл, сын Диты Талмановой.
— Громче!
— Топл, сын Диты Талмановой.
— Ещё громче!
Я кричу во весь голос:
— Топл, сын Диты Талмановой.
— У кого ты учишься?
— У Дершона-Дордла из Далдановти!..
Все смеются. Людям — смех, а мне — слёзы.
И не потому я плачу, что все надо мной смеются, а потому, что из-за моего произношения мне часто достаются пинки и колотушки. Все, кому не лень, измываются надо мной: отец, мать, сёстры, учитель, товарищи Все хотят побоями научить меня говорить правильно.
Однажды учитель вставил мне между зубов дош.ечку торчком и велел всем ученикам плевать мне в рот — авось это меня вылечит. Но тут в дело вмешался столяр реб Зяма, сосед учителя:
— Чего зря ребёнка мучить! Ни к чему все эти ваши средства! Дайте его мне на одну минуту — я мигом научу его говорить правильно, увидите.
С этими словами столяр реб Зяма взял меня за подбородок и сказал:
— Смотри на меня, мальчик, и повторяй за мной: «ку-хар-ка ки-да-ет-ся клец-ка-ми».
Глядя в упор на столяра, я говорю:
— «Ту-хар-та ти-да-ет-ся тлец-та-ми».
— Не так! — поправляет меня реб Зяма. — С; готри мне прямо в рот и повторяй за мной: «солн-це скрс-ет-ся в облаках»:
Я смотрю ему в рот и говорю:
— «Солн-це стро-ет-ся в обла-тах».
— Нет, глупенький! — снова поправляет мев i реб Зяма. — Ты говоришь: «в облатах». Не надо так говорить. Скажи: «в облаках, в облаках, в облаках»!
— «В облатах, в облатах, в облатах»!
Реб Зяма рукой махнул:
— Знаете, что я вам скажу, — напрасный труд! Горбатого могила исправит. Он на веки веков калека!
Обзавестись к осеннему празднику флажком и притом настоящим, разукрашенным по всем правилам, с хорошим древком, с яблоком, надетым на древко, и со свечой, воткнутой в яблоко, — казалось мне тогда недосягаемым счастьем. Я и мечтать о нём не смел. Мало ли есть на свете заманчивых вещей! Есть же у нас в хедере мальчики, у которых всегда найдутся деньги на покупку ножика, кошелька, тросточки. Есть даже такие, которые каждый день едят конфеты и щёлкают орехи, не говоря уже о блинах и бубликах; наконец, есть и такие, которые едят белую булку в будни Счастливцы!
Ах, деточки, я в будни никогда белой булки не ел! Я бывал рад-радёшенек, когда мог поесть досыта и чёрного хлеба. Мы
были — не про вас будь сказано! — горькие бедняки, нищая, горемычная семья, хоть и очень трудолюбивая и работящая. Отец, царство ему небесное, был помощником служки в пристройке синагоги мясников. Мать, царство ей небесное, была мастерица печь ржаные коврижки, а сёстры принимали в надвязку рваные чулки.
Верите ли, мне ни разу за все мои детские годы не пришлось пообедать настолько сытно, чтобы тотчас же не хотелось поесть ещё чего-нибудь.
Нечего и говорить, что у меня никогда не было медного гроша — такое счастье мне и по сне не снилось.
И вот представьте себе: я, Копл Кукареку, внезапно разбогател! Да, у меня появились деньги, я стал обладателем капитала в двадцать две копейки!
Вы думаете: произошло чудо? Скажем, какой-нибудь помещик потерял, а я нашёл? Вот вы и не угадали. Или вы, чего доброго, подозреваете, что я нажил эти деньги каким-нибудь неблаговидным способом: что я вытащил их из общественной кружки? Пусть господь хранит вас от таких мыслей. Нет, верьте мне, свой капитал я нажил честным трудом: я заработал его своими ногами.
Было это в праздник пурим. Отец поручил мне разносить гостинцы прихожанам своей маленькой синагоги. Раньше эта работа поручалась одной из моих старших сестёр. Но теперь, когда я чуть-чуть подрос, отец сказал, что и мне пора уже чем-нибудь быть полезным в семье. Я взял в руки подносик с пирогом и, шлёпая босыми ногами по холодной, скользкой грязи, обошёл всех прихожан. Из грошей, которые мне давали за труд, составился капитал в двадцать две копейки — один серебряный двугривенный и четыре медные полушки.
Оказавшись обладателем такой — не сглазить бы! — уймы денег, я стал думать и прикидывать, что с ними делать.
И тут явились два советчика — дух добра и дух зла — и принялись мучить и терзать мою душу. Дух зла, дьявол-искуситель, нашёптывал:
— Какой смысл беречь деньги, дурак ты этакий? Купи себе какое-нибудь лакомство, ну, скажем, маковник у Пирондички или хотя бы мороженое яблоко! Вообще, живи в своё удовольствие, наслаждайся своим богатством!
— Потакать утробе? — запротестовал я. — Этак можно в один день и весь капитал проесть. Нет, ни за что!
В день праздника пурим принято посылать друзьям лакомства. Посыльные получают чаевые.
— и правильно! — поддакнул дух добра. — Лучше отдать деньги маме взаймы! Ах, как они ей пригодятся!
— Умница! — говорю. — Хочешь, чтоб они пропали? Из каких шишей она тебе вернёт долг?
— Как она, бедная, мучится! — шепнул мне дух добра. — Думаешь, легко ей платить меламеду за твоё ученье?
— При чём тут плата за ученье? — огрызнулся дьявол-иску-сителй. — Купи себе лучше белый свисток с красными крапинками или острый ножик с двумя клинками да еш;е в медном футлярчике. А не то купи кошелёк с хорошим замочком.
— А что ты положишь в кошелёк? — язвительно спросил дух добра. — Нищету свою?
— Пуговицы! — ответил дьявол-искуситель. — Напихаешь полный кошелёк пуговиц. Все в хедере будут думать, что это деньги, и позавидуют тебе
— А какая тебе от этого радость? — возразил дух добра. — Послушай мать — раздай деньги нищим. Господь зачтёт тебе это доброе дело. Бедняки ведь с голоду помирают.
— Бедняки?! — с издёвкой воскликнул дух зла. — А сам-то ты не бедняк и не сын бедняка? Ты ведь и сам никогда сыт не бываешь! Конечно, легко быть щедрым за чужой счёт. Почему тебе никто никогда не подавал, когда у тебя не было ни гроша за душой?..
Чуть-чуть не соблазнил меня всё-таки дьявол-искуситель
Учился со мной вместе в хедере мальчик Элик, сын богатых родителей. В карманах у него всегда было полным-полно всякого добра. Но чтобы хоть чем-нибудь угостить товарищей, ни за что на свете! Это было не в его натуре. Проси не проси, хоть тресни, — он и понюхать не даст! И вот этот самый Элик неожиданно стал почему-то подлаживаться ко мне: сладенько улыбается, льнёт, всячески норовит завязать со мной крупную дружбу.
— Знаешь, что я тебе скажу? — обратился он однажды ко мне. — Ты славный малый. Ей-богу! Я люблю тебя за то, что ты никогда не попрошайничаешь, как другие: «Дай, мол, мне кусочек! Дай попробовать!» Ненавижу попрошаек!.. Хочешь кусок конфетки?
— Тусот тонфетти? Отчего же, с удовольствием! — ответил я.
— Ну, а орешки пощёлкать ты бы не прочь? — спросил он.
— Орешти? — говорю. — Отчего же нет? Будь у меня ореш-ти, я бы с удовольствием щелтал.
ЭлиК засунул руку в карман. «Вот-вот, — думаю, — выта-
щит он конфетку иле орешек и протянет мне». Не тут-то было! Он продолжал:
— Я дам тебе полмармеладки и три орешка, если ты согласишься поменяться со мной. Хочешь меняться?
— Меняться? — спросил я. — Чем?
— Я, — говорит, — дам тебе мой ножик. Знаешь, мой белый ножик? Иастояш,ий, завяловский!
Странный вопрос! Знаю ли я белый ножик Элика? Да кто ж его не знает? Сколько раз этот ножик был предметом моей жгучей зависти! Сколько раз он снился мне!
— Ну, а я-то? — спросил я с недоумением. — Что я моду тебе дать взамен?
— Ты, — говорит, — дашь мне свой серебряный двугривенный.
— Соглашайся! — подзадоривает меня дьявол-искуситель. — Бери ножик. Это отличный ножик! Все мальчики тебе будут завидовать.
Я уж собрался было выложить деньги на стол, но спохватился:
— Умнит татой! За двудривенный можно тупить новый нежит.
— Такой, как у меня? — возмутился Элик. — После дождичка в четверг!.. Постой, знаешь что? Я тебе дам еш;е полдюжины пуговиц впридачу.
— За деньди, — говорю, — можно тупить десять тысяч дюжин пудовиц.
— Ну, а конфеты, — говорит, — а орешки — пе деньги?.. Знаешь что? Обеш;аю тебе и клянусь честью: всякий раз, когда ты у меня что-нибудь попросишь, я тебе дам без отказа. Вот у меня есть железный гвоздь, смотри. Даю тебе этот гвоздь даром, ничего за него не возьму. Смотри, какой гвоздь!
— А на что, — говорю, — мне двоздь?
— Пригодится, глупенький, — отвечает он. — Можешь забить его куда угодно. А захочешь, можешь им ямку выкопать.
— А зачем мне, — говорю, — ямти топать?
— Я тебе разрешу, — говорит, — пользоваться моим молитвенником.
— А для чего, — говорю, — мне чужие молитвеннити? V меня есть свой.
— Я тебе дам примерить мой субботний картузик.
— А на что, — говорю, — мне примерять чужие тарту-зити?
— Не хочешь? Тебе всё мало? Так на ж тебе, на! — крикнул Элик, ткнул меня кулаком в бок и раскричался: — Как вам понравится этакий нищий, этакий голоштанник?! Я ему и ножик, и пуговицы, и конфеты, и орешки, и гвоздь, и молитвенник, и картузик примерить — всё ему мало! Ненасытная утроба у этих нищих — сколько в неё ни пихай, они просят ещё и ещё! Думает, ежели у него есть серебряный двугривенный, ему и сам чёрт не брат! Погоди, Топелэ Тутарету, ты ещё у меня доиграешься! Боком выйдет тебе твой двугривенный!.. Не-хемья, на вот, дарю тебе этот гвоздь!..
И Элик подарил гвоздь Нехемье (это был хромой и очень бедный мальчик). А со мной с тех пор дружба врозь.
Вам, конечно, интересно знать: для чего я всё же припрятал деньги?
Во-первых, на пирушку, которую хедер устраивает каждый год вскладчину в детский весенний праздник (на тридцать третий день после начала пасхи). В этот день все мальчики приносят в хедер каждый свою лепту: кто деньги, кто съестное, кто лакомства. Один только я всегда приходил со своим обычным завтраком: кусок хлеба с чесноком. И всегда у меня лицо горело от стыда. Хоть меня и принимали в компанию наравне со всеми, но я чувствовал, что это делается из жалости. Это отравляло мне всю радость весёлого детского праздника
«Теперь, — с гордостью думал я, — не нухна мне их доброта, не нужна их жалость. Слава богу, у меня у самого в кармане позвякивают деньжонки. И если такой папенькин сыкок, как Элик, вносит четвертак, то будет достаточно, если я внесу копейку. Ведь я против Элика — ничто, нищий! А если я дам не копейку, а целый пятак, — благородно это с моей стороны, как вы думаете? Так вот: я даю гривенник, и знайте, кто такой Копл Кукареку »
И я бросил в общую копилку целый гривенник. Остальную сумму я приберёг до другого раза.
Летом, когда начали поспевать ягоды и фрукты и на рундуке у Пирондички появились крыжовник и смородина, снова насел на меня дьявол-искуситель.
— Видишь, — говорит, — зелёный крыжовник? А вот погляди-ка, что за чудесная красная смородина!
— От зелёных ягод, — говорю, — только оскомину набьёшь.
Тут даже дух добра пришёл ему на помощь.
— На свежую ягоду, — говорит, — и на фрукты установлена особая молитва. Отведай и помолись. Сделаешь угодное богу.
— Молитва, — говорю, — от меня не уйдёт. Лето ещё впереди: дойдёт свой черёд до вишни и сливы, до яблок и груш, до
дынь и арбузов Лучше уж я сохраню деньги до праздника кущейа к последнему дню праздника, с божьей помощью, куплю себе флажок.
Решено и подписано: я приберегу, с божьей помощью, деньги к празднику кущей и куплю себе флажок.
Наступил наконец праздник кущей, и я купил бумажный флажок — большой, ярко-жёлтый, расписанный и разрисованный с обеих сторон.
На одной стороне были изображены два зверя, напоминавшие кошек. Но в действительности это были львы, разинувшие свои пасти, из которых высовывались длинные языки. На языках были нарисованы свистёлки; по-видимому, они должны были обозначать трубные рога, потому что на них крупными буквами было начертано: «фанфарами и трубными звуками».
Внизу, подо львами, было напечатано: справа — «знамя воинства иудейского», а слева — «знамя воинства Эфраима».
Так была расписана одна сторона флажка. Обратная сторона была куда красивее. Там были портреты Моисея и Аарона Как живые, стояли они: Моисей — в большом картузе, надвинутом на брови, а Аарон — с золотым ободком на рыжей шевелюре. Посередине, между Моисеем и Аароном, была намалёвана густая, плотная толпа. Все носили свитки закона, и все были похожи друг на друга, как две капли воды: все в длинных, совершенно одинаковых сюртуках; все в туфлях и белых чулках; у всех пояса повязаны чуть пониже живота; у всех подняты ноги для пляски; и все поют, если судить по надписи: «Радуйтесь и веселитесь».
Имея такой роскошный флажок, надо обзавестись и подобающим древком. Пришлось прибегнуть к помощи столяра реб Зямы, того самого, который когда-то пытался научить меня говорить правильно.
— Что скажешь хорошего, Топелэ Ттарету?
— Древто т флажту
— Древто? Что это означает? Не понимаю.
— Ну, — объясняю я, — тусочет дерева, чтобы притрепить т нему флажот.
Реб Зяма шутил и насмехался надо мной до тех пор, пока я не разревелся. Тут только он смягчился, стал ласков и забросил все дела. Он взял кусок дерева, обстрогал его раз и два, вперёд-назад, вперёд-назад, — и древко было вмиг готово.
Теперь не хватало яблока и свечи. Свеча должна быть, ко-
К у щ и — осенний праздник.
Моисей и Аарон — персонажи из библии.
нечно, восковая, а не стеариновая: если стеарин капнет на яблоко, оно осквернится, станет негодным к употреблению. А воск — другое дело, воск пищи не оскверняет.
Воску же у меня было больше, чем у кого бы то ни было из мальчиков. Мало того, когда кому-нибудь в хедере бывал нужен воск, больше не к кому было обратиться, кроме как ко мне. Ведь мой отец — помощник синагогального служки. И весь воск, остающийся от не догоревших в судный день свечей, при надлежит ему по праву — это одна из его доходных статей. Из этого воска отец делает тоненькие свечки для других праздников и продаёт их. А всё, что при выделке свечей падает на пол, принадлежит мне — это моя доходная статья.
Одним словом, у меня уже есть всё, что требуется!
Вечером восьмого дня кущей я торжественно отправился со своим флажком в синагогу, чтобы вместе со всеми детьми отпраздновать последний день праздника. В руках у меня был чудесный флажок, насаженный на новое древко; на древко было надето румяное яблочко, а в яблочко была вставлена восковая свеча. Я был весел и бесконечно счастлив, я ликовал и торжествовал! Я чувствовал себя принцем, счастливее которого нет в мире!
Иду я, и чудится мне, будто я уже в синагоге и занимаю самое почётное место, в восточном углу, рядом с детьми состоятельных родителей. Пылают свечи. Мой флаг красивее всех других флажков; моё яблоко румянее всех прочих яблок; моя свеча больше, чем свечи всех других мальчиков. В синагоге тесно и душно. Много женщин и девушек, по заведённому на этот праздник обычаю, спустились из женской половины синагоги в мужскую. Торжественное шествие вокруг амвона возглавляет кантор реб Мейлах. Широко расправив полы своего молитвенного облачения, он выступает впереди всех с видом фельдмаршала и надтреснутым, жестяным голосом поёт: «Помогающий обездоленным, помоги нам».
Женщины и девушки бегут навстречу торжественной процессии и визгливо выкрикивают пожепания:
— Дай вам бог дожить до будущего года! Дай вам бог дожить до будущего года!
На что им отвечают:
— И вам того же! И вам того же!
Но прежде чем спуститься в подвал, где помещается синагога мясников, приходится пройти почти мимо всех синагог и молелен местечка. Надо вам сказать, что все синагоги, все молитвенные дома и все молельни расположены у нас в местечке на одной улице, рядом, почти что в одном дворе. Недаром весь участок так и называется: «синагогальный двор».
Это своего рода одна огромная синагога с большим числом прихожан. Летом, когда все окна открыты настежь, к вам в ухо врывается многоголосый гул, и вы одновременно слышите разные молитвы: и заздравные, и заупокойные, и псалмы от первого стиха до «аллилуйя».
Два облика имеет наш синагогальный двор — будничный и праздничный. В будни это базар, на котором торгуют молитвенниками и разными предметами религиозного обихода; тут же вы можете купить по дешёвке гнилое яблочко, лесную грушу, семечки, варёные бобы, маковники, бублики и конфеты. На траве располагаются, как дома, местечковые козы и, тряся бородками, непрерывно жуют свою жвачку. Но лишь только наступает суббота либо праздник — синагогальный двор резко меняется. Нет ни базара, ни торговли, ни коз. Двор кишмя кишит людьми, которые, собираясь кучками, оживлённо беседуют, галдят, тараторят, рассказывают друг другу все новости за неделю и за целый год. Всё, что ни случилось в местечке или вне его, хотя бы даже далеко за его пределами, служит предметом разговоров и толков. Мальчишки из всех хедеров тоже все тут как тут. Они бегают, скачут, снуют взад и вперёд, носятся по двору, чувствуя себя как рыба в воде. Господь подарил им чудесный день — свободный от ученья, день полного отдыха! Осматривая друг у друга новые пиджачки или картузики, мальчики примеряют, чей пиджачок длиннее, у кого голова больше, у кого над ухом волосы короче. При этом, разумеется, не скупятся на взаимные щипки, толчки, колотушки, — словом, здесь весело!
Но наибольшее оживление царит на синагогальном дворе вечером восьмого дня кущей. Мальчики приходят с флажками и разбиваются на группы по возрасту: старшие образуют одну группу, малыши выстраиваются отдельно. Затем начинается взаимное ознакомление: осматривают друг у друга флажки и стараются установить, у кого древко длиннее, чьё яблочко румянее, у кого свеча из стеарина, у кого — из воска. При этом, конечно, обмениваются остротами, шутками и прибаутками.
Вот кто-то сыграл шутку: погасил свечу у товарища либо, подкравшись сзади, откусил у него кусок яблока. Взамен он получает пару оплеух и крепкие слова впридачу.
А потом ребята начинают расходиться — каждый в свою синагогу.
— Поздравляем! В добрый час! У Топелэ Тутарету есть свой флажок! Здорово, парень, нос ошпарен!..
Этими словами приветствовали меня школьные задиры, как только я показался на синагогальном дворе.
Я оглядел флажки товариш;ей и мысленно сравнил их со своим. Какое может быть сравнение! Ничего похожего! Куда им до моего флажка!
Во-первых, взять флажок сам по себе. Ни у кого он не посажен на древко так хорошо и так прямо, чтобы его одинаково ясно можно было видеть с обеих сторон. Ни у кого нет такого ровного, круглого, гладко отполированного древка, как у у меня. Ни у кого нет такого гладенького, чистенького, румяного яблочка. О свече и говорить нечего: у кого еш;е столько воску, сколько у меня, и кто еш;е может позволить себе воткнуть в яблоко такую большую свечу, как я? И уж никому, конечно, не выпало на долю столько пинков и затрещин, сколько я получил от отца, когда он застукал меня за сбором воска.
Я ещё раз мысленно сравниваю свой флажок с другими, и гордостью наполняется моё сердце. Мне кажется, будто я расту, становлюсь всё выше и шире и поднимаю голову высоковысоко Ноги у меня точно оторвались от земли и несут меня легко-легко. Хочется смеяться, хохотать, кричать, визжать, бешено кружиться.
— А ну-ка, покажи! — окликнул меня изумлённый Элик.
Каждый из нас осмотрел флажок другого. «Тоже ещё, с
позволенья сказать, флажок! — подумал я. — А что за древко! Кочерга, а не древко »
По лицу Элика было видно, что он необычайно взбудоражен и сгорает от зависти. Но я прикидываюсь, будто ничего не замечаю, и отвожу от него глаза.
— Копл1 — говорит он мне. — Откуда у тебя такое красивое древко?
— А? Что? О чём это ты?
— Где ты раздобыл такое чудесное древко? — переспросил он.
— Что? — отвечаю я. — Может, хочешь обменять его на свой двоздь?..
Элик понял намёк. Он сверкнул глазками, шмыгнул носом
и, заложив руки в карманы, отошёл в сторону. С чувством мстительного злорадства глядел я ему вслед, упиваясь своим превосходством. Но вот он отзывает в сторонку хромоножку Нехемью и, кивая в мою сторону, о чём-то с ним шепчется. Мне это ясно видно, но я всё ещё притворяюсь, будто ничего не замечаю. Минуту спустя ко мне подходит Нехемья, держа в руке флажок Элика с кривым, как кочерга, древком.
— Дай мне, пожалуйста, зажечь свечу, — говорит он. — Видишь, у меня свеча погасла.
— Разве это твой флажок? — спрашиваю я, наклоняя свою свечу. — Я ведь знаю, чей это флажок.
Не успел я оглянуться, как Нехемья зажёг свечу, поднёс к моему флажку и поджёг его. Мой флажок воспламенился, и вмиг от него ничего не осталось. Только пепел. Конец моему флажку! Конец!..
Если бы камень свалился с неба и угодил мне прямо на голову, если бы дикий зверь стал терзать меня на части, если бы ночью ко мне явился мертвец в белом саване и стал меня душить, я не испытал бы такого чудовищного страха, такого ужаса, какой потряс меня при виде моего древка со сгоревшим флажком. Дикий, неистовый вопль вырвался у меня из груди:
— Флажок! Боже, мой флажок! Мой флажок!..
Слёзы брызнули у меня из глаз. Весь мир как-то сразу померк для меня. Я поплёлся, сам не зная куда, — без цели, без смысла. Иду, а слёзы, горькие слёзы льются и льются у меня из глаз без конца. Прихожу домой, одинокий и обездоленный, забираюсь в угол, сижу в темноте, уткнув голову в колени, и рыдаю тихо и беззвучно, чтобы никто не услыхал, не узнал о моём горе. А мозг неотвязно сверлит мучительный вопрос: «За что, боже милосердный? За что, владыка небесный? Че i провинился я пред тобой? За какие грехи караешь ты меня?
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА
Знаете, дети, всякой сказке бывает конец — весёлый или печальный, но конец бывает обязательно.
У еврейской сказки, к сожалению, конец чаще всего бывает печальный. Есть у нас пословица: не для бедняков счастье. Да что долго рассказывать — подрастёте, сами увидите
История с моим флажком не кончилась на том, о чём я вам только что рассказал. После этого я серьёзно заболел и мучился долго-долго; я метался в лихорадке и весь пылал. Перед моими глазами проносились страшные чудовища: змеи, разные
пресмыкающиеся с огненными языками, страшные звери с человеческими головами. В ушах раздавались дикие крики, вой кошек, рёв неведомых зверей. Меня бросало в жар и в холод; я бредил, я был полумертвец. Никто не верил, что я выживу. В синагоге мясников молились о моём выздоровлении и читали псалмы, как по покойнику. Я был на краю могилы, я едва не переступил смертный порог.
Но так как в праздник вообще, а тем более в такой весёлый праздник, как последний день кущей, полагается быть весёлым и радостным, то и моя история с флажком тоже кончается весело.
Во-первых, как вы сами можете видеть, я, слава богу, не умер.
Во-вторых, знайте, что в следующем году у меня был к празднику флажок ещё лучше, с ещё более красивым древком, с яблоком ещё больше и румянее. И сидел я в синагоге в самом почётном углу, у восточной стены, рядом с детьми именитых обывателей нашего местечка. Пы.лали свечи. Мой флажок выделялся своей красотой и великолепием.
Торжественное шествие вокруг амвона возглавлял всё тот же кантор реб Мейлах, выступавший впереди всех с видом фельдмаршала. Надтреснутым, жестяным голосом он пел: «Помогающий обездоленным, помоги нам». Девушки и замужние женщины шли навстречу процессии и визгливо выкрикивали пожелания к будущему году.
— И вам того же! И вам того же!.. — слышали они в ответ.
И вам того же, детки! Шлю вам наилучшие пожелания!
СКРИПКА
Сегодня, дети, я вам немного поиграю на скрипке. Мне кажется, нет ничего прекраснее, ничего благороднее, чем игра на скрипке. Не правда ли, дети? Не знаю, как вы, но я, сколько я себя помню, всегда был без ума от скрипки, а музыкантов любил до самозабвения.
Бывало, как только свадьба в местечке, я первый лечу встречать музыкантов. Подберусь сзади к контрабасу, дёрну толстую струну: бум! — и бежать, бум! — и бежать.
За этот «бум» мне однажды здорово влетело. Контрабасист Берл был человек с приплюснутым носом, с острым взглядом и сердитый. Однажды он притворился, будто не видит, как я крадусь к контрабасу; но как только я протянул руку к струне, он — хвать меня за ухо и торжественно подвёл к двери: «Ну-ка, марш отсюда!»
Однако это меня ничуть не обескуражило. Я не отступал от музыкантов ни на шаг. Я любил их всех: от скрипача Йсай-ки, человека с красивой чёрной бородой и тонкими белыми пальцами, до барабанщика Геци, обладателя порядочного горба и плеши, простите за выражение, до самых ушей. Не раз прятался я под скамьёй и слушал этих музыкантов — меня ведь всегда гнали вон. Из-под скамьи я следил за тонкими пальцами Исайки, как они пляшут по струнам, и внимал сладостным звукам, которые он так искусно извлекал из своей скрипочки.
После этого я бывало несколько дней подряд хожу как за-
чарованный, а перед глазами всё время Исайка со своей скрипкой. Ночью я его видел во сне, днём — наяву. Из головы не выходил у меня этот Исайка. Мне начинало мерещиться, будто я сам скрипач. Изогну бывало левую руку в локте и перебираю пальцами, а правой вдруг проведу, как смычком, и при этом запрокидываю голову, зажмуриваю глаза — ну совсем Исайка, две капли воды.
Заметил наш учитель Нота-Лейб — это как раз случилось на уроке, — что я как-то странно двигаю руками, запрокидываю голову, закатываю глаза, и как влепит мне оплеуху:
— Ах ты, бездельник! Его азбуке обучают, а он корчит рожи! Мух ловит!
И я дал себе слово: во что бы то ни стало, что бы ни случалось, а я должен иметь скрипку. Но из чего же мне её сделать, эту скрипку? Конечно, из елового дерева. Легко, однако, сказать, еловое дерево! Попробуй-ка достань его, если растёт оно, как говорят, только в Палестине. И вот всевышний внушил мне такую мысль. Был у нас старый диван, доставшийся нам по наследству ещё от дедушки Аншеля. Из-за этого дивана в своё время перессорились между собой двое моих дядей с покойным отцом. Дядя Беня твердил, что он старший сын и поэтому диван должен перейти к нему; дядя Сендер утверждал, что именно потому, что он самый младший, диван должен принадлежать ему; а покойный отец заявлял, что он, правда, только зять и никаких прав на диван не имеет, но поскольку его жена, то есть моя мать, была у дедушки единственной дочерью, то диван должна наследовать она. Это — во-первых, а во-вторых, диван стоит у нас в доме, значит, это вообще наш диван. Тут вмешались обе тётки — тётя Ита и тётя Злата, — и пошли такие сплетни, что не приведи господь. Диван, дивана, диваном В городе только и было разговору, что о нашем диване. Короче говоря, диван остался у нас.
Это был простой деревянный диван, облицованный тонкой фанеркой, которая местами отстала и вздулась, как яйцо. Вот этот-то верхний, вздувшийся слой и был настоящей «ёлкой», которая идёт на скрипки. Так говорили все ребята в школе. Один лишь недостаток имел наш диван, но для меня этот недостаток обернулся достоинством: сядешь бывало и уж никак не встанешь, потому что весь диван завалился назад — сиденье у него с одной стороны вздулось бугром, а в середине яма. Bof это и было его достоинством — никто не хотел на него садиться. Диван задвинули в угол и дали ему чистую отставку.
Иа него я и обратил теперь свои взоры. Смычок я изготовил давно. У меня был товарищ, Шимеле, сын извозчика
Юды. Он дал мне пучок конского волоса, который надёргал у отцовской лошади из хвоста. Канифоль для смычка я сам достал. На чудеса я никогда не рассчитывал — я выменял канифоль у другого моего товарища, Мейера-Липы: я дал ему стальную пластинку из маминого корсета, который валялся у нас на чердаке. Эту пластинку Мейер-Липа хорошенько отточил с обеих сторон и смастерил себе ножик. Мне даже жалко стало, и я хотел снова обменяться, но он ни за что не согласился.
— Вишь, какой умник нашёлся! Весь в папашу! — раскричался он. — Я три ночи тружусь: точу, точу, все пальцы порезал, а он пришёл на готовенькое — давай меняться обратно!
— Подумаешь! — говорю я. — Ну и не надо! Какая невидаль, стальная пластинка! Мало их у нас валяется на чердаке! Внукам и правнукам хватит!..
Итак, я имею всё, что нужно. Теперь осталось только одно: содрать с дивана еловую фанеру. Для этого я выбрал самое подходящее время: мать была в лавке, а отец прилёг вздремнуть после обеда. Прихватив гвоздь, я забрался в угол и принялся за дело. Однако отец сквозь сон услышал возню и, думая, видимо, что это мыши, крикнул: «Кш-кш!..» Я обмер от страха. Но отец уже повернулся на другой бок. Услышав его храп, я снова спокойно принялся за работу. И вдруг гляжу — отец стоит и смотрит на меня какими-то странными глазами. По-видимому, он не сразу сообразил, что, собственно, я делаю. Но, увидев увечья, причинённые дивану, он за ухо вытащил меня из угла и так избил, что меня пришлось отливать холодной водой.
— Господь с тобой! Что ты сделал с ребёнком? — кричала мать, вся в слезах.
— Наследничек твой! Он меня живьём в могилу вгонит! — отвечал побелевший, как стена, отец и, хватаясь за грудь, весь затрясся от кашля.
— Зачем же тебе так огорчаться? — говорила ему мать. — Ты и без того больной! Взгляни на себя. Ведь на тебе лица нет! Врагам бы нашим так выглядеть!
Страсть к скрипке росла вместе со мной. Чем старше я становился, тем сильнее становилась моя страсть. А тут ещё, как назло, каждый день мне поневоле приходилось слышать музыку. Как раз на полпути между школой и нашим домом стояла небольшая хибарка, крытая соломой; оттуда постоянно доносилась игра на всяких инструментах, чаще всего — на скрипке. Там жил музыкант Нафтоле Безбородько, который носил короткий сюртук и крахмальный воротничок. У него был большой нос, который казался приставным, толстые губы, гнилые зубы,
рябое лицо и никаких признаков бороды; поэтому-то ему и дали кличку Безбородько. А жена его была женщина крупная, дородная, и звали её «праматерь Ева». Ребят у них было дюжины полторы, если не больше. Оборванные, полуголые, босые, все эти ребята, от мала до велика, играли кто на скрипке, кто на альте, кто на контрабасе, кто на трубе, на флейте, на фаготе, на арфе, на цимбалах, на балалайке, а кто на барабане и на тарелках. Были среди них и такие, которые умели исполнять самую сложную мелодию на губах, на зубах, на стаканчиках или горшочках, на куске дерева, даже на щеках. Дьяволы, черти, да и только!
С этой семейкой я познакомился совершенно случайно. Стою однажды у них под окном и слушаю, как они играют. Выходит один из старших ребят, Пиня-флейтист, парень лет пятнадцати, босой, и спрашивает, понравилась ли мне игра.
— Я бы хотел, — говорю, — так играть лет через десять!
— - Можешь этого добиться раньше — говорит он и намекает, что за два целковых в месяц его папаша научит меня играть; а если угодно, то он и сам будет меня учить. — На каком инструменте ты бы хотел играть? — спрашивает он. — На скрипке?
— На скрипке.
— На скрипке? — повторяет он. — А сможешь платить два с полтиной в месяц? Или ты такой же голодранец, как я?
— Платить-то я смогу, — отвечаю я. — Да только об этом не должны знать ни отец, ни мать, ни мой учитель.
— - Боже упаси! — говорит он. — Зачем о таком деле трезвонить?.. Нет ли у тебя табачку или папироски?.. Не куришь? Тогда одолжи пятачок, я куплю папирос Но смотри никому ни слова: отец не должен знать, что я курю. А мать, как пронюхает, что у меня деньги, сразу отнимет Пойдём в дом. Чего тут стоять!
Оробевший, с бьющимся сердцем и дрожащими коленями, переступил я порог этого маленького рая.
Мой новый приятель Пиня представил меня своему отцу: — Шолом, Нохума Вевикова Сынок богача. Хочет учиться играть на скрипке.
Нафтоле Безбородько засунул пейсы под шапку, поправил воротничок, застегнул сюртук и завёл со мной долгий разговор о музыке вообще и о скрипке в частности. Он объяснил мне, что самый лучший, самый замечательный инструмент — это скрипка, выше и благороднее скрипки нет ничего на свете. Даром, что ли, в оркестре всегда дирижирует скрипка, а не труба или флейта! Скрипка — мать всех инструментов.
Нафтоле Безбородько прочёл мне целую лекцию по музыке, размахивая при этом руками и, по своему обыкновению, шмыгая носом. Я же стоял и смотрел ему в рот, разглядывал его почерневшие зубы и жадно глотал каждое его слово.
— Скрипка, понимаешь ли — говорил Нафтоле Безбородько, очевидно довольный своей лекцией, — понимаешь ли, скрипка — самый древний инструмент. Первым скрипачом в мире был не то Каин, не то Мафусаил, точно не помню, тебе лучше знать, ты учишься в хедере. Второй скрипач был царь Давид. Был ещё один, третий скрипач, его звали Паганини, тоже еврей. Все лучшие скрипачи в мире евреи. Вот, например, Стемпеню, Педоцур. О себе я не говорю. Многие находят, что я играю на скрипке недурно. Но куда мне до Паганини! Паганини, говорят, за скрипку продал душу дьяволу. Паганини терпеть не мог играть пред великими мира сего, пред королями и папами, хоть те готовы были его озолотить. Зато он охотно играл в деревенских кабачках и для бедняков или в лесу — для зверей и птиц. Вот какой скрипач был Паганини!.. А ну-ка, ребята, за инструменты!
Нафтоле Безбородько только приказал, и вся команда немедленно собралась вокруг него с инструментами в руках. Сам Нафтоле стал посередине, ударил смычком по столу, строго взглянул на каждого в отдельности, затем на всех вместе, и они с такой силой рванули на всех своих инструментах, что я чуть не свалился. Все старались, но оглушил меня совсем маленький, худенький, мокроносый мальчик с босыми опухшими ножками. Хемеле играл на очень странном инструменте; это было что-то вроде мешка, который, если его надуть, испускает дикий звук, будто кошке наступили на хвост. Отбивая босой ногой такт, Хемеле всё время поглядывал на меня своими маленькими плутоватыми глазёнками и подмигивал, точно хотел сказать: «Не правда ли, я здорово дую?» Но неистовее всех работал сам Нафтоле Безбородько: он и играл и дирижировал, действуя руками, ногами, носом, глазами — всем телом. А если кто-нибудь ошибался, он ещё и зубами скрежетал, сердито покрикивая:
— Форто, прохвост! Форто, фортиссимо!.. Такт, бездельник! Такт! Раз, два, три! Раз, два, три!
Договорились с Нафтоле Безбородько: за три раза в неделю по полтора часа — два рубля в месяц. И я его снова и снова умоляю — держать всё в строгой тайне, иначе я погиб. Он даёт мне честное слово, что об этом даже пташка в небе не узнает.
— Уж такие мы люди! — заявляет он гордо и поправляет
воротничок. — Мы из тех людей, у которых нет денег, но совести и чести у них больше, чем у иных богачей!.. Не найдётся ли у тебя немного мелочи?
Я вынимаю рубль и отдаю ему. Нафтоле берёт рубль двумя пальцами, как профессор, зовёт «праматерь Еву», смотрит в сторону и говорит:
— На, купи чего-нибудь на завтрак.
«Праматерь» хватает рубль обеими руками, обследует его со всех сторон и спрашивает мужа, что купить.
— Что хочешь, — отвечает он как бы совсем безразлично- — Купи несколько булок, две — три селёдки и колбасы; не забудь головку луку, уксусу,
масла, ну и мерзавчика, конечно, прихвати.
Когда все эти прелести появились на столе, орава накинулась на еду г тпкой жадностью, точно она разговлялась после долгого поста. У мьня даже слюнки потекли. Меня пригласили к столу, и я не мог отказаться. Не помню, чтобы я когда-нибудь получил такое удовольствие, как за этой трапезой.
Поев, Безбородько снова мигнул своей команде. Все cнова взялись за инструменты, и меня угостили «собственной композицией» Нафтоле Безбородько. Эту «композицию» сыграли с таким грохотом, что у меня заложило уши, закружилась голова, и я ушёл, как пьяный. В школе у меня потом целый день вертелись перед глазами учитель, ученики, книги, а в ушах не переставала греметь «композиция». Ночью мне явился Паганини. Он сидел верхом на дьяволе и огрел меня скрипкой по голове. Я проснулся с криком — у меня болела голова — и начал молоть всякий вздор. Что я говорил, не знаю. Но моя старшая сестра, Песя, потом рассказывала, что сквозь сон я выкрикивал какие-то бессвязные, дикие слова, вроде: «Паганини», «композиция». И ещё об одном рассказала мне сестра: когда я болел, к нам раза два приходил от Нафтоле Безбородько какой-то босой мальчишка и справлялся, как я себя чувствую. Но его прогнали и запретили впредь появляться.
— Зачем приходил к тебе сынок музыканта? — допытывалась сестра.
Но я твердил одно:
— Не знаю. Жизнью своей клянусь, не знаю! Откуда мне знать?
— Ну, на что это похоже? — говорила мать. — Ты уже, не сглазить бы, взрослый парень. Тебе уже невесту присматривают, а ты возишься с босыми музыкантами. Хороши у тебя приятели! Что общего может быть у тебя с этими музыкантами? Зачем к тебе приходил Нафтолин мальчик?
— Какой Нафтоле? — спрашивал я, прикидываясь дурачком. — Какие музыканты?
— Погляди-ка на этого полоумного! — вмешивается отец. — Не знает, что и сказать. Бедняжечка! Агнец невинный! Я в твои годы уже давно был женихом, а он всё с мальчишками возится!.. Одевайся и марш в школу! Если тебя увидит Гершель и спросит, чем ты болел, отвечай: «лихорадкой». Слышишь, что тебе говорят? Лихорадкой!
Ничего не понимаю. При чём тут Гершель? И почему я должен ему рассказывать о лихорадке?
Через несколько недель я получил ответ на все мои недоуменные вопросы.
Гершель — балл-такса (так его звали потому, что он, его отец и дедушка были откупш,иками коробочного сбора ) — был человек с круглым брюшком, рыжей бородкой, влажными глазами и широким белым лбом — признак светлого ума. И он действительно слыл в местечке человеком просвещённым, образованным, знатоком библии и обладателем красивого почерка.-Прямо скажу, рука у него была исключительная: его почерк, говорят, славился во всём мире. Ко всему прочему у него были деньги и единственная дочь, девочка с рыжими волосёнками и влажными глазками — две капли воды Г( ршель балл-такса. Имя её было Эстер, а прозвали её «Флестер». Это было существо хрупкое, нежное, и нас, мальчишек из хедера, она боялась пуще смерти, потому что мы надоедали ей, вечно дразнили её и пели при встрече:
Эстер. Флестер!
Девочка-девчонка, Где твоя сестрёнка?
Казалось, что обидного в этих словах? Правда ничего? Но Флестер, как только услышит эту песенку, тотчас заткнёт уши и бежит с плачем домой, а там забирается в какой-нибудь закуток и несколько дней подряд не выходит на улицу.
Коробочный сбор — особый налог на мясо, дозволенное к употреблению еврейскими религиозными законами.
Но это было давно, когда она была ребёнком. Теперь она стала взрослой девицей, заплетает рыжую косичку и одевается, как невеста, по последней моде. Моей матери она всегда нравилась, мать не могла нахвалиться «тихой голубицей». Эстер иногда по субботам заходила к моей сестре Песе, но. завидев меня, становилась ещё краснее, чем всегда, и опускала глаза. А сестра Песя, бывало, нарочно позовёт меня под каким-нибудь предлогом и смотрит на нас обоих.
И был день, и произошло событие. Является в хедер мой отец вместе с Гершелем балл-таксой, а за ними плетётся сват Шолом-Шахне, превеликий бедняк и неудачник, человек с шестью пальцами на руке и курчавой чёрной бородой. Завидев таких гостей, учитель реб Зорах второпях напяливает на себя сюртук и шапку, но от волнения у него одна пейса заезжает за ухо, шапка набекрень, из-под шапки торчит пол-ермолки, и одна шека ярко пылает. Можно было сразу догадаться, что тут ие совсем просто, тем более что сват Шолом-Шахне в последнее время слишком уж зачастил к нам в хедер. Всякий раз он вызывал меламеда в сени, и там они подолгу простаивали вдвоём, перешёптываясь, пожимая плечами, размахивая руками. Заканчивалось всё это вздохом:
— Ну что ж, пускай так! Раз суждено, значит, суждено.
Разве можно всё знать наперёд?
Увидев гостей, реб Зорах не знал, что ему делать, куда их посадить. Он схватил кухонную скамейку, на которой его старуха солит мясо, завертелся по комнате, наконец поставил её н сам на ней уселся. Но тотчас вскочил как ошпаренный и, смутившись, ухватился за задний карман сюртука, точно потерял сокровище.
— Вот скамейка, садитесь, — предложил он гостям.
— Ничего, ничего, сидите, — ответил отец. — Мы зашли к вам, реб Зорах, только на минуту. Они хотят послушать моего мальчика что-нибудь из библии.
И отец показывает на Гершеля балл-таксу.
— Ох, пожалуйста, с удовольствием! Отчего бы нет! — говорит Зорах, хватает библию и подаёт её Гершелю так, точно говорит при этом: «На тебе, и делай что хочешь».
Гершель балл-такса берёт в руки книгу, как человек, знающий толк в этом товаре, склоняет голову набок, зажмуривает один глаз, листает, листает и наконец указывает мне на первый стих из «Песни песней».
— Гм, «Песнь песней»? — говорит меламед с усмешкой, которая должна означать: «Трудней ничего не мог найти?»
— «Песнь песней», — отвечает ему Гершель балл-такса. — Это совсем не такое пгостое дело, как вы думаете. (Он не выговаривает букву «р».) «Песнь песней» — это понимать надо!
— Безусловно, — вставляет с улыбочкой Шолом-Шахне.
Меламед делает мне знак. Я подхожу к столу и, раскачиваясь, начинаю громко, очень хорошо напевать:
— Песнь песней, всем песням песнь. Все песни сложил пророк, а эту сложил пророк пророков; все песни сложил мудрец, а эту сложил мудрец из мудрецов; все песни пел царь, а эту пел царь царей.
Пою, а сам поглядываю на моих экзаменаторов, и на каждом лице вижу другое выражение. У отца — гордость и удовлетворение; у меламеда — страх и
опасение, как бы я не запнулся и не наделал ошибок. Его губы шёпотом повторяют за мной каждое слово. Гершель балл-такса сидит, склонив голову несколько набок, кончик рыжей бородь во рту, один глаз закрыт, другой уставился в потолок. Гершель слушает как великий знаток. Сват Шолом-Шахне всё время глаз с него не сводит. Он сидит, навалившись всем телом на стол, покачивается вместе со мной и, не в силах сдержаться, поминутно перебивает меня каким-нибудь возгласом, одобрительным смешком, покашливанием или взмахом руки с шестью пальцами.
— Раз говорят, что он знает, значит, знает!
Через несколько дней у нас было торжество — били тарелки и я стал женихом единственной дочери Гершеля балл-таксы, маленькой Флестер.
Бывает, человек в один день вырастет так, как иной за десять лет. Став женихом, я сразу почувствовал себя взрослым; я как будто тот же, что и раньше, и всё же не тот. Начиная с моих товариш,ей по хедеру и до самого реб Зораха все стали относиться ко мне с почтением: как-никак, жених! И при часах! Даже отец и тот перестал на меня кричать. А о том, чтобы выпороть, уже и разговору быть не могло. Как это можно выпороть жениха с золотыми часами в кармане? Позор перед людьми. Да и для себя срам! Правда, у нас в хедере высекли одного жениха. Элю, за то, что он катался на льду вместе со всеми мальчишками. Об этой истории болтал потом весь город. Невеста рыдала, пока жениху не отослали обратно акт обручения. А сам жених Эля с горя и стыда хотел было утопиться, но река замёрзла.
Народный обычай — бить тарелки на помолвках.
Почти такая же беда случилась со мной. Но причиной были не розги и не катанье на льду, а скрипка.
Дело было так.
Частым гостем в нашей винной лавочке был капельмейстер Чечек, которого мы звали «пан полковник». Это был здоровенный дядька, с большой окладистой бородой и страшными бровями. Говорил он на каком-то странном диалекте — смеси нескольких языков. Во время разговора Чечек водил бровями вверх и вниз. Когда он опускал брови, лицо его становилось мрачным, как ночь; когда поднимал, лицо делалось светлым, как день, потому что под этими густыми бровями были голубые, добрые, улыбаюш,иеся глаза. Чечек носил мундир с золотыми пуговицами, поэтому его и прозвали полковником. К нам в лавочку он заходил часто, но не потому, что был горьким пьяницей, а только из-за того, что отец искусно готовил из изюма «лучшее венгерское вино». Чечек был в восторге, он нахвалиться не мог на это вино. Бывало положит свою здоровенную ручищу отцу на плечо и говорит на своём странном наречии:
— Гер келермейстер! У тебя найлепший унгерн-вейн. Нема такэ вина ин Будапешт! Перед богом!
Ко мне Чечек был особенно расположен. Он хвалил меня за то, что я учусь в школе, часто проверял мои знания, спрашивал, кто был Адам, кто Исаак, а кто Джозеф.
— Иосиф, — говорю я, — Иосиф Праведный?
— Джозеф, — отвечает он.
— Иосиф, — поправляю я его снова.
— У нас Джозеф, у вас Иоджеф, — говорит он, ухватив меня за щёку. — Джозеф — Иоджеф — Джозеф — вшистко едно, ганц егаль
— Хи-хи-хи
Я прячу лицо в кулак и смеюсь.
Но с тех пор как я жених, Чечек перестал обращаться со мной как с мальчиком. Теперь мы беседуем как равные. Чечек рассказывает мне полковые истории, разные небылицы о музыкантах (пан полковник любил поговорить).
Однажды зашёл разговор о музыке, и я спросил:
— На каком инструменте играет пан полковник?
— А на вшистских инструментах — отвечает он мне и вскидывает брови.
— И на скрипке? — спрашиваю я. И Чечек уже начинает представляться мне ангелом небесным.
Господин виноторговец! У тебя наилучшее венгерское. Такого вина не найти и в Будапеште! Ен-богу! (по-немецки, по-польски, по-украински).
Всё равно (по-польски и по-немецки).
На всех инструментах (по-польски).
— Заходи как-нибудь, — говорит он. — Я тебе сыграю.
— Когда же я могу к вам прийти, пан полковник? Только в субботу. Но чтобы никто не знал. Обещаете?
— Перед богом! — говорит Чечек и вскидывает брови.
Чечек жил далеко-далеко за городом, в маленькой белой хатке с малюсенькими оконцами и крашеными ставнями. Вокруг лежала зелень огорода; из-за плетня с важным видом выглядывали высокие жёлтые подсолнухи. Они покачивались, наклоняя головки набок, и будто звали меня: «Сюда! К нам, паренёк! Здесь свет божий приволен, свеж и душист! Здесь чудесно!..» И после душных, пыльных городских улиц, после шума, гама и толчеи в хедере в самом деле тянет сюда, потому что здесь действительно чудесно; свет божий здесь действительно приволен, свеж и душист! Хочется бегать, прыгать, кричать, петь или броситься наземь, уткнуться лицом в душистую зелёную траву. Увы, всё это не для вас, еврейская детвора! Жёлтые подсолнухи, весёлые кочаны капусты, свежий воздух, чистая земля, ясное небо — нет, извините, это не про вашу честь!..
Большой чёрный кудлатый пёс с огненно-красными глазами набросился на меня с такой яростью, что я чуть на месте не помер. К моему счастью, он был на пени. На мой крик выбежал Чечек и стал унимать собаку. Она вскоре угомонилась, тогда Чечек взял меня за руку и подвёл к чёрному псу, уверяя, что мне нечего его бояться: он не тронет. В доказательство хозяин предложил мне самому погладить пса. И тут же, не раздумывая, схватил мою руку и давай ею водить по спине этого зверя, обзывая его при этом странными кличками. Чёрная бестия опустила хвост, нагнула свою собачью голову, облизнулась и бросила на меня исподлобья взгляд, который мог означать только одно: «Счастье твоё, что пан здесь, не то ушёл бы ты отсюда без руки »
Оправившись от тяжёлых переживаний, я наконец вошёл с «паном полковником» в дом и остолбенел: все стены сверху донизу увешаны оружием, а на полу, оскалив острые зубы, лежит шкура с головой льва или леопарда. Впрочем, лев ещё полбеды: всё же он был мёртвый. Но ружья, ружья!.. Мне было не до свежих слив и прекрасных яблок, которыми потчевал меня хозяин. Глаза мои не переставали перебегать со стены на стену. Лишь потом, когда Чечек вынул из красного футляра маленькую, кругленькую, пузатенькую скрипку, положил на неё свою большую бороду и здоровенную руку, провёл по ней несколько раз смычком и полились мелодии, — лишь тогда забыл я про чёрного пca, про страшного льва, и про ружья на стенах. Я видел только большую, рассыпавшуюся по деке бороду Чечека, его густые насупленные брови, пузатенькую скрипку и пальцы, скакавшие по струнам с такой быстротой, что трудно было даже постигнуть, откуда у человека берётся столько пальцев.
Потом исчез Чечек, исчезла борода, пропали густые брови и чудесные пальцы, и я уже не вижу перед собой ничего. Я только слышу пение, стоны, плач, какое-то всхлипывание, шёпот, воркованье — чудесные звуки, каких никогда в своей жизни не слышал. Звуки сладостные, как мёд, чистые, как слеза, лились мне прямо в сердце, и душа моя унеслась далеко-далеко в мир песнопений.
— Гербаты хцешь? — спросил вдруг Чечек, отложив в сторону скрипку, и хлопнул меня по плечу.
Я точно с неба свалился.
С той поры я стал ходить к Чечеку каждую субботу после обеда слушать игру на скрипке. Ходил я уже смело, никого не боясь, и даже с чёрным псом подружился так, что он, завидев меня, издали вилял хвостом и порывался лизнуть мою руку. Но я ему этого никогда не разрешал — будем лучше добрыми друзьями на расстоянии.
Дома ни одна душа не знала, где я провожу субботний день, — всё-таки жених! Да и ке узнали бы никогда, не случись со мной новое несчастье, которое и будет описано в главе девятой.
Казалось бы, кому какое дело, что некий паренёк отправляется в субботу, после обеда, погулять чуть дальше обычного — за город, например? Неужели людям больше делать нечего, как следить за другими? Однако о чём толковать! Такова уж природа человеческая: подглядывать за другими, выискивать у них недостатки, давать им советы!.. У нас могут, например, подойти в синагоге к совершенно незнакомому чело-вехсу, когда он молится, и поправить у него на лбу тфилим или остановить человека, который спешит по делу, чтобы сказать, что у него, кажется, подвернулась штанина; или указать на кого-нибудь пальцем так, что тот даже не поймёт, что же ты, собственно, имеешь в виду — нос, бороду или, шут его знает, что ещё; или, когда человек пытается открыть какую-нибудь банку, коробку, выхватить у него из рук и сказать: «Вы не умеете! Дайте-ка "мне»; или остановиться у постройки и брякнуть хозяину, что потолок, кажется, слишком высок, или
Чаю хочешь? (польск.)
Тфилим — молитвенная принадлежность.
комнаты чересчур просторны, или окна непомерно широки — хоть ломай постройку и начинай всё заново! Так уж у нас, видите ли, водится издавна, с тех пор как мир создан. А мы с вами его не перестроим, да и не обязаны мы это делать.
После такого вступления вы поймёте, почему Эфраим Бревно — совершенно чужой мне человек, десятая вода на киселе — принялся следить за мной, разнюхивать, разведывать, куда я хожу, и подставил-таки мне ножку. Он клялся своим счастьем, что сам видел, как я ел трефное у «полковника» и курил в субботу. Он говорил, что если это неверно, то пусть ему не дойти, куда он идёт! Если он врёт хоть настолечко, пусть у него сведёт рот набок, пусть у него глаза вылезут!
— Аминь, дай бог! — говорю я и получаю от отца затрещину: не дерзи.
Но я, кажется, не с того конца начал. Ведь я забыл вам рассказать, кто такой Эфраим Бревно и что, собственно, он собой представляет и как дело было.
На краю города, за мостом, жил некий Эфраим Бревно. Почему его так прозвали? Когда-то он торговал лесом, теперь не торгует. С ним вышла история. У него на складе нашли бревно с чужим клеймом. Завязалось дело, пошло следствие, началась волокита — Эфраим еле-еле ушёл от тюрьмы. С тех поп он бросил торговать, занялся общественными делами и всюду совал свой нос: в дела общины, в дела мясного налога, в дела ремесленных цехов, в дела синагоги Поначалу у него шло не очень гладко, и он натерпелся сраму. Однако дальше — больше: он втёрся в доверие, клялся, что знает «все ходы и выходы». И вскоре наш Эфраим стал нужным человеком, без которого никак не обойтись. Так иногда заберётся в яблоко червяк, устроит себе просторное и мягкое ложе и чувствует себя совсем как дома, настоящим хозяином.
Эфраим был человечек маленького роста, на коротких ножках; крошечные ручки, красные щёчки; ходил он быстро-бы-стро, вприпрыжку, подёргивая головкой; говорил торопливо, пискливым голоском, а смеялся — словно горох сыпал. Я его терпеть не мог, не знаю почему.
Всякий раз, когда я ходил к Чечеку или возвращался от него, я видел, как Бревно прогуливался по мосту в своей длинной заплатанной праздничной разлетайке, заложив руки за спину; он пискливо что-то напевал, а длинная разлетайка волочилась за ним по земле.
— Добрый день, — говорю я ему.
— Добрый день, — отвечает он. — Куда это мальчик идёт?
— Просто так, погулять.
— Погулять? Один? — спрашивает он и смотрит мне в гла-
Трефное — не дозволенное религиозными законами.
за с такой усмешкой, по которой трудно понять, умно это, или глупо, или, может быть, смело, что я хожу гулять один.
Однажды, идя к Чечеку, я заметил, что Эфраим Бревно слишком пристально смотрит мне вслед. Я остановился на мосту и стал глядеть в воду. Тогда и Эфраим остановился и стал глядеть в воду. Я повернул обратно — и он за мной. Пошёл я опять к Чечеку — и он туда же. Наконец он исчез. Позже, когда я сидел у Чечека и пил чай, мы услышали, что собака яростно лает и рвётся с цепи. Выглянул я в окно, и мне показалось, будто что-то маленькое, чёрненькое, на коротеньких ножках семенит-семенит и исчезает. Я бы П01слялся, что это Эфраим Бревно.
Так оно и было. Прихожу в сумерки домой, весь красный от волнения, и застаю Эфраима. Он сидит за столом, что-то оживлённо рассказывает и смеётся противным Смехом. Увидев меня, он замолкает и начинает барабанить своими коротышками по столу. Против него сидит отец — бледный как смерть, мнёт бороду и выдёргивает по волоску: верный признак того, что он сердится.
— Ты откуда? — спрашивает отец и глядит на Эфраима.
— Как это — откуда? — отвечаю я.
— Я разве знаю? — говорит отец. — Скажи ты, тебе лучше знать.
— Из синагоги, — отвечаю я.
— А где ты был целый день? — спрашивает отец.
— Где же мне быть? — отвечаю я.
— Почём я знаю? — говорит отец. — Тебе лучше знать!
— В синагоге!
— Что же ты там делал, в синагоге?
— Что мне там делать?
— А я знаю, что тебе там делать?
— Я читал.
— - Что ты читал?
— Что же мне читать?
— Откуда я знаю, что тебе читать?
— Я читал талмуд.
— Какую книгу ты читал?
— Какую же мне читать?
— Откуда я знаю — какую?
— Книгу «Суббота».
Тут Эфраим сыпанул своим дробным смешком, и отец не выдержал — он вскочил с места и отвесил мне такие две звонкие, горячие оплеухи, что у меня из глаз посыпались искры.
Мать это услыхала и влетела с криком:
— Нохум, господь с тобой! Что ты делаешь? Жениха! Перед свадьбой! Подумай, что будет, если свет узнает!..
Мать была права. Гершель балл-такса всё узнал. Сам Эф-раим и рассказал, радуясь, что может ему досадить: они издавна были на ножах.
На следующий день рано утром мне отослали обратно акт обручения и все мои подарки. Кончено, больше я не жених. Отца это так огорчило, что он слёг, долго болел и не пускал меня к себе на глаза. Сколько мать ни упрашивала, как ни защищала меня — ничего не помогало!
— Позор! Позор, — повторял отец, — хуже всего!
— Да пропади она пропадом! — убеждала его мать. — Бог пошлёт ему другую невесту! Что ж поделаешь? Жизни себя лишить? Видно, она ему не суждена
Как-то пришёл проведать отца и капельмейстер Чечек.
Отец, увидев его, снял ермолку, приподнялся на постели, протянул ему свою тонкую, исхудавшую руку и, посмотрев ему в глаза, сказал:
— Ой, пан пулковник, пан пулковник!..
Больше он не мог вымолвить ни слова: его душили кашель и слёзы.
Первый раз в жизни я видел отца плачущим. Это так меня взволновало, так больно сжалось у меня сердце! Я стоял у окна и глотал слёзы. В эту минуту я искренне каялся во всём, что натворил. Я колотил себя в грудь, как отчаянный грешник, и дал себе слово: никогда больше не огорчать отца, никогда-никогда не причинять ему неприятностей.
Конец скрипке!
ПРАЗДНИЧНЫЙ УЖИН
— Ума не приложу, что может выйти из этого ребёнка! Что из него вырастет?! Сопля какая-то, рёва, мокрая тряпка, плакса! Видали вы, чтобы ребёнок вечно плакал?!
Это моя мама так разговаривает сама с собой, наряжая меня во всё праздничное, и то толкнёт меня в бок, то шлёпнет по спине, то схватит за ухо, то рванёт за волосы или пребольно ущипнёт. И она ещё хочет, чтобы я не плакал, а смеялся! Она застёгивает на мне сверху донизу мой праздничный сюртучок, который давно уже стал настолько тесен, что глаза у меня лезут на лоб; да и рукава удивительно коротки: мои сине-крас-ные рукп совсем вылезают и имеют такой вид, точно они распухли. А мою маму это приводит в ярость.
— Ну и лапы!.. — говорит она и шлёпает меня по рукам, чтобы я их опустил, может, их не так видно будет. — Когда будешь у дяди Герца, лапы держи под столом! Слышишь, что тебе говорят?.. А морда чтобы не была багровой, как у девки
Явдохи! И глаза не таращи, как кот! Слышишь, что тебе говорят?.. И сидеть по-человечески! А главное — нос! Ох, этот носик! Дай-ка сюда носик, я его приведу в порядок.
Пока у меня нос считается «носом», ещё туда-сюда, но как только мой нос становится «носиком» и мама начинает его «приводить в порядок», ему несдобровать. Не пойму, чем мой нос провинился перед ней больше, чем, например, ухо, бровь или глаз. Нос у меня вроде как все носы: чуть толстоват, чуть красноват, немного вздёрнут кверху и чуть-чуть мокроват. Ну и что? За это его нужно со свету сжить?
Поверите ли, бывали дни, когда я молил бога, чтобы он избавил меня от этого носа: пусть лучше отвалится ко всем чертям — и кончено.
Я рисовал себе такую картину. В одно прекрасное утро я встаю совсем без носа и за завтраком подхожу к матери. Она кричит: «Ой, горе мне! Где же твой нос?» А я отвечаю: «Какой нос?» Я спокойно ощупываю лицо, а сам гляжу на маму, как она выходит из себя, и торжествую: «Ага, так ей и надо! Пусть знает, какой вид у её сына без носа!..» Глупые фантазии! Детские мечты! Господь не внемлет моим мольбам: нос растёт, мама всё время приводит его «в порядок», а я страдаю; И больше всего достаётся моему носу, когда наступает какой-нибудь праздник, например пурим, и мы собираемся на праздничный ужин к дяде Герцу.
Дядя Герц не только самый богатый из наших родственников, он первый богач в местечке. Да и во всей округе, во всех местечках только и слышишь: «Герц, Герц и Герц!..» Вам всё станет понятно, если я скажу, что дядя Герц держит пару рысаков, имеет собственный экипаж, который так гремит, что всё местечко выбегает поглядеть. А дядя Герц, с пышной медно-красной бородой и строгими серыми глазами, величественно восседает в экипаже, важно покачиваясь из стороны в сторону, и поглядывает на всех сверху вниз сквозь свои серебряные очки, точно хочет сказать: «Куда вам, мелюзге, до меня! Я — богач Герц, я разъезжаю в собственном экипаже, а вы, голодранцы, нищие, шлёпаете по грязи».
Не знаю, как другие, но я дядю Герца терпеть не могу; Я ненавижу его красное лицо, его жирные щёки, его медную бороду, его серебряные очки, его большой живот с массивной золотой цепью и его круглую шёлковую ермолку. Но больше всего ненавижу я его кашель: когда дядя кашляет, он дёргает плечом, откидывает назад голову и фыркает, точно хочет ска-
зать: «Внимание! Это я. Герц, кашлянул. И не потому, что я, упаси господи, простужен, но просто так: захотел и кашлянул».
Никак не пойму моих родных: что с ними творится, когда приходит праздник пурим и мы начинаем собираться к дяде Герцу? Казалось бы, его любят не больше, чем хворобу, и даже мама, которая приходится ему родной сестрой, тоже не слишком по нём тоскует. Когда старших детей нет дома (меня мама, видно, мало стесняется), она высказывает насчёт дяди Герца странные пожелания: «Пусть он окажется в моём положении». Но если кто-нибудь другой попробует дурно отозваться о дяде Герце, она глаза выцарапает. Однажды я был свидетелем того, как попался мой отец. Он всего только спросил у мамы:
— Что слышно? Твой Герц уже приехал?
И мама задала ему такую взбучку, что бедный отец не знал, куда деваться.
— Почему это «мой» Герц? Что это за разговоры? Что это за выражение? Почему именно «мой»?.. Почему?..
— Конечно, твой, а то чей же? Мой, что ли? — пытается защищаться отец.
Но это ему не удаётся, потому что мама атакует его со всех сторон:
— А если мой? Ну, мой! Тебе это не нравится? Это роняет твоё высокое достоинство?.. Ты, наверно, истратил на него отцовское наследство?! И ты, конечно, никогда никакого добра от него не видал!
— Да кто говорит, что не видал? — мягко возражает отец. Он ищет мира.
Но не тут-то было. Мать не перестаёт наступать:
— У тебя, наверно, лучшие братья, чем у меня? Да?.. Они знатнее, добрее, богаче? Да?..
— Ну довольно! Будет! Конец!.. Оставь ты меня в покое! — уже кричит ©тец, нахлобучивает шапку и выбегает из дому.
Он опять потерпел поражение, а мать и на этот раз победила. Она всегда побеждает, и не потому, что она у нас вообще верховодит в доме, но потому, что дело касается дяди Герца. Потому что дядя Герц — богач, а мы — его бедные родственники.
Что, собственно, нам до дяди Герца? Кормит он нас, поит, облагодетельствовал нас? Не знаю, не могу сказать. Вижу только, что у нас в доме все, от мала до велика, боятся его, как
смерти. Подходит праздник пурим, и уже за две недели у нас начинают готовиться. Мой старший брат, Мойше-Авроом, юноша с бледными, впалыми щеками и задумчивыми чёрными глазами, приглаживает себе пейсы всякий раз, как только при нём упоминают: «У дяди Герца за столом » Что уж говорить о моих двух сёстрах — Мирьям-Рейзл и Ханэ-Рохл (одна из них уже невеста)! Эти ради вечера у дяди Герца принялись шить себе платья «по последнему фасону» и накупили красивых гребешков и лент в косы. Они надеялись, что и ботинки им починят, но мама отложила это до пасхи, хотя ей очень больно, что девушки ходят, бедняжки, почти разутые. Особенно страдает она из-за Мирьям-Рейзл: её беспокоит, как бы жених не заметил, что невеста носит рваные башмаки. Сестра и без того немало терпит от своего жениха. Мало того, что он неуч, попросту приказчик в лабазе, выдающий себя за бухгалтера, он к тому ещё и задаётся. Ему, видите ли, нужно, чтобы его невеста, то есть моя сестра, наряжалась по последней моде, как какая-нибудь принцесса.
Каждую субботу, после обеда, приказчик приходит к нам в гости, усаживается с моими сёстрами у окна и заводит разговоры — и ночти всегда о нарядах, о новых костюмах, о лакированных ботинках с калошами, о модных шляпках с перьями, о зонтиках с кружевами; говорят они также о наволочках с прошвой, о перинах в красных наперниках, которые следует покрывать белой простынкой и сверху застилать хорошим, настоящим тёплым байковым одеялом. Лечь в такую постель зимой одно наслаждение! И я вижу, как моя сестра Мирьям-Рейзл становится красной, как мак. Такой уж у неё характер. Когда жених нечаянно посмотрит ей на ноги, она быстро прячет их под стул, боясь, как бы он не заметил её стоптанных каблуков и торчащих наружу пальцев.
— Ты готов? — спрашивает мама у отца на другой день после чтения мегилы
— Давно готов, — отвечает отец и надевает праздничное пальто. — Как дети?
— Дети тоже почти готовы, — отвечает мама, хотя прекрасно знает, что дети, то есть мои сёстры, ещё далеко не готовы.
Они ещё только расчёсывают волосы, мажут их миндаль-
М е г и л а — трактат, читаемый в синагоге в праздник пурим (обычно приходится на март).
ным маслом, прихорашиваются, надевают свои новые платья, смазывают ботинки гусиным жиром, чтобы они блестели и казались новыми. Но какой уж тут блеск, когда каблуки — ох уж эти каблуки! — совсем сели, а пальцы чуть ли не вылезают!.. Что бы тут придумать? Как бы, упаси господь, жених не заметил! И, точно назло, чёрт несёт его к нам, приказчика этого, в новёхоньком костюме, с туго накрахмаленным воротничком и зелёным модным галстуком; а из туго накрахмаленных белых манжет торчат две здоровенные красные ручищи с грязными ногтями, и только что подстриженные волосы стоят дыбом. Он вытаскивает из кармана белый накрахмаленный носовой платок, от которого так разит духами (смесь гвоздики и ноготков), что у меня начинает щекотать в носу, и я чихаю; а от чиханья трещит мой сюртучок и две пуговицы отскакивают прочь.
Ну, тут уж мама устраивает мне головомойку:
— Вот балбес! И пуговицы на нём не держатся! Чтоб тебя не разорвало!
Она хватает иголку с ниткой и принимается пришивать отскочившие пуговицы.
Когда наконец все готовы, мы отправляемся к дяде Герцу на праздничный ужин. Впереди всех, высоко подобрав полы пальто, шествует отец; за ним, так как на улице непролазная грязь, в мужских сапогах шагает мама; за нею — обе сестры с зонтиками в руках (не знаете ли вы, к чему в пурим зонтики?); за сёстрами выступает мой старший брат, Мойше-Авроом. Он держит меня за руку, высматривает место, где поменьше грязи, но каждый раз попадает в лужу и вскрикивает, как ошпаренный: «Уф-ф-а!» Сторонкой идёт приказчик, наш жених, в новых глубоких калошах — единственный среди нас в калошах! — и каждую минуту громко кричит, чтобы все слышали: «Ах, не набрать бы мне в калоши!»
И вот так мы приходим к дяде Герцу на ужин
Хотя на дворе ещё день, но у дяди Герца уже зажгли свечи, много свечей; на столе горят лампы, по стенам канделябры. Стол накрыт. На столе праздничный пирог с маком — большой, как вол. А вокруг толчётся вся наша семейка: все дяди и тётки, двоюродные братья и сёстры, — слава тебе господи, как на подбор, один другого беднее. Они тихо переговариваются между собой и напряжённо ждут.
Дяди Герца не видно, а тётя, синегубая женщина со вставными зубами, но в жемчугах, озабоченно суетится вокруг
стола; она расставляет тарелки, пересчитывая нас левой рукой, ничуть не думая о том, что это может принести нам несчастье.
Но вот открывается дверь, и появляется сам дядя Герц, одетый во всё праздничное. На нём шёлковый сюртук с широкими рукавами, меховая шапка, которую он надевает только в пурим и в пасху к торжественному ужину. Вся родня отвешивает ему почтительный поклон; мужчины как-то странно улыбаются, потирают руки, женщины поздравляют его с праздником, а мы, детвора, стоим, как истуканы, и не знаем, куда деть свои «лапы».
Сквозь серебряные очки дядя Герц одним коротким взглядом окидывает нас всех, всю свою родню, и, кашлянув, неопределённо машет рукой:
— Ну, что же вы не сидите? Садитесь, вот стулья!
Вся родня мгновенно рассаживается, но каждый сидит на кончике стула, боясь прикоснуться к столу — как бы чего не испортить. В зале воцаряется глубокое молчание. Слышно, как потрескивают свечи; рябит в глазах, нудно Хотя все голодны, но есть уже никто не хочет, аппетит у всех пропал.
— Что же вы молчите? Говорите! Расскажите что-ни-будь! — говорит дядя Герц и кашляет, подёргивает плечами, откидывает назад голову и фыркает.
Родня молчит. У дяди Герца за столом никто и слова не смеет вымолвить. Глуповато улыбаются мужчины: хотелось бы что-нибудь сказать, да никто не знает, что бы такое придумать; растерянно переглядываются женщины, а мы, детвора, горим, как в лихорадке. Мои сёстры разглядывают друг дружку, точно встретились впервые в жизни. Брат Мойша-Авроом уставился куда-то в пространство, и лицо у него бледное, перепуганное. Нет, никто не решается вымолвить хотя бы слово за столом у дяди Герца. Лишь один человек, как всегда и везде, чувствует себя хорошо — это приказчик, жених нашей Мирьям-Рейзл. Он вытаскивает из заднего кармана свой большой накрахмаленный и сильно надушённый платок, громко сморкается, как дома, и говорит:
— Удивительно, чтобы в пурим была такая грязь! Я всё боялся — вот-вот наберу в калоши
— Кто этот молодой человек? — спрашивает дяДя Герц.
Сняв серебряные очки и кашлянув, он дёргает плечами,
вскидывает головой и фыркает.
— Это мой мой жених жених моей Мирьям-Рейзл, — еле слышно говорит отец, как человек, который кается в совершённом убийстве.
Мы все застываем на месте, а Мирьям-Рейзл — о боже мой! — Мирьям-Рейзл пылает, как соломенная крыша.
Дядя Герц вновь оглядывает родню своими строгими серыми глазами, вновь дарит нас своим «кхе-кхе», дёргает плечами, вскидывает головой, фыркает и говорит: — Ну, что ж вы? Мойте руки. Вот вода!
Омыв руки и пошептав наскоро молитву, вся родня вновь рассаживается вокруг стола и ждёт, когда дядя Герц совершит благословение и надрежет огромный праздничный пирог, тот самый, который не меньше вола. Все сидят как немые. Мы бы уж не прочь что-либо отведать, да, как назло, дядя Герц устраивает всякие церемонии. Тоже ещё праведник!.. Еле-еле дождались. Наконец-то разрезали пирог. Но не успели мы и куска проглотить, как дядя Герц поднимает на нас свои строгие серые глаза, кашляет, дёргает плечами, запрокидывает голову и фыркает:
— Ну, что ж вы не поёте? Спели бы что-нибудь! Ведь сегодня пурим на земле!
Родня переглядывается, шушукается, один другому шёпотом предлагает: «Спой что-нибудь!», «Спой ты!», «Почему я, а не ты?» Торгуются так долго, пока наконец не выскакивает Авремл, сын дяди Ици, — человек без растительности на лице, моргающий глазами, обладатель пискливого голоска, почему-то мнящий себя певцом.
Что хотел спеть Авремл, не знаю. Но нужно было быть ангелом, даже богом, чтобы не прыснуть со смеху, когда Авремл нажал себе двумя пальцами на горло, состроил плаксивое лицо, сразу сбился на фальшивый тон и неестественно высоко, почти визгливо затянул что-то дикое и тягучее. А тут ещё сидят ребята и таращат на него такие глаза! Нет. не покатиться со смеху никак нельзя было!
И первым прыснул я. Зато первую затрещину получил от матери тоже я. Однако эта затрещина меня не охладила, наоборот — она вызвала хохот у всей оравы ребят и новый взрыв смеха у меня. А новый взрыв смеха вызвал новую затрещину; новая затрещина — новый взрыв смеха; новый взрыв смеха — ковую затрещину И так до тех пор, пока меня наконец не выволокли из зала в кухню, из кухни — на улицу, а там, из,битого, истерзанного, обливающегося кровавыми слезами, отвели домой.
В тот вечер я проклинал себя, и праздник, и праздничный ужин, и Авремла, сына дяди Ици, но больше всего проклинал я дядю Герца — да простит он мне: он теперь уже в лучшем из миров. На его могиле стоит надгробный камень, луч-
ший памятник на нашем кладбище; на камне золотыми буквами перечислены все добродетели, которыми отличался дядя Герц при жизни:
«Здесь покоится человек, благочестивый, добрый, сердечный, добродетельный, щедрый, приветливый, отзывчивый, любезный со всеми и т. д. и т. д.
Да обретёт душа его мир и упокоение в раю».
УЧИТЕЛЬ БОЙАЗ
То, что я переживал, когда мать взяла меня за руку и повела в хедер, к меламеду Бойазу, вероятно, переживает цыплёнок, когда его несут к резнику. Бедный цыплёнок весь дрожит и трепещет. Понимать-то он ничего не понимает, но чувствует, что тут дело пахнет не просом, а чем-то совсем другим Недаром меня мать утешала, недаром говорила она, что добрый ангел сбросит мне с потолка грошик, недаром дала она мне целое яблоко и поцеловала в лоб, недаром просила она Бойаза обращаться со мной помягче, бога ради, помягче, потому что «ребёнок лишь недавно болел корью».
Мать сказала это, словно передавала Бойазу дорогой хрустальный сосуд, с которым надо обращаться очень осторожно, не то он разобьётся.
Довольная, счастливая, ушла она домой, а «ребёнок, недавно болевший корью», остался один. Сначала я немного поплакал, но потом вытер глаза и возложил на себя ярмо «прилежания и благочестия» в ожидании доброго ангела, который вот-вот сбросит мне грош с потолка.
Ох, уж этот мне добрый ангел! Ну и добрый ангел! Лучше бы мать не напоминала о нём Когда Бойаз подошёл ко мне.
схватил меня своей жёсткой волосатой рукой и подтолкнул к столу, мне стало тошно до обморока. Когда же я потом поднял голову к потолку, я сразу получил от ребе изрядную нахлобучку. Он дёрнул меня за ухо и крикнул:
— Негодяй, куда смотришь?
Ребёнок, только «недавно болевший корью», конечно, расплакался: «Ма-ма!» — и лишь тогда по-настоящему узнал вкус учительской розги.
— Не смотри, куда не следует!.. Не реви, как телёнок! «Ма-ма»!..
Система обучения была у Бойаза очень простая: розги. Почему именно розги? Он объяснял это методами логики и приводил в пример лошадь:
— Почему лошадь бежит? Потому что боится. Чего боится лошадь? Кнута. Точно так же с детьми. Ребёнок должен бояться: бояться бога, бояться ребе, бояться родителей, бояться греха, бояться дурной мысли А для того чтобы ребёнок всегда боялся, надо ему расстегнуть штанишки, положить его как по»7агается и всыпать десятка два горяченьких: берёзовая каша — пища наша. Да здравствует розга! Да здравствует плётка!
Так говорит Бойаз и берёт в руки плётку, медленно, не спеша, осматривает её со всех сторон, как если бы это была молитвенная принадлежность, потом принимается за работу серьёзно, с толком; при этом он подпевает и покачивает головой:
Берёзовая каша — Пища наша.
Чудеса, да и только! Бойаз никогда не считает розог и никогда не ошибается. Бойаз порет и никогда при этом не сердится. Бойаз вообще человек не злой; он только тогда злится, когда мальчик не даёт себя пороть, рвётся из рук, дрыгает ногами. Тогда, видите ли, дело другое. Тогда глаза у Бойаза наливаются кровью, и он порет без счёта и без припева:
— Мальчик должен лежать спокойно, когда ребе его порет! Мальчик должен вести себя прилично, когда его порют!..
Ещё Бойаз сердится, когда мальчик под розгами смеётся. (Есть такие ребята, которые смеются, когда их порют. Говорят, это такая болезнь.) Самое нестерпимое для Бойаза — смех. Бойаз сам никогда не смеётся и не терпит, чтобы смеялись другие. Можно смело обещать самую крупную награду
человеку, который поклянётся, что видел Бойаза смего?тимся. Не из тех он людей, которые смеются. Его лицо просто не приспособлено для этого. Если бы он и вздумал смеяться, лицо его выглядело бы печальнее, чем у человека, который плачет. (Бывают же такие лица на свете!) Да и в самом деле, что это за занятие — смех? Смеются одни бездельники пустоголовые, какие-нибудь шуты гороховые. Но люди, занятые добыванием хлеба насущного, люди, возложившие на себя ярмо «прилежания и благочестия», — им некогда смеяться! Бойазу всегда некогда. Он либо учит детей, либо порет их — вернее, он их учит, не переставая пороть, и порет, не переставая учить; вообще трудно отделить одно занятие от другого и указать, где у Бойаза кончается ученье и где начинается порка.
А порол нас Бойаз, да будет вам известно, всегда по заслугам. Причина всегда находилась: за то, что учились недостаточно прилежно; за то, что не желали молиться; за то, что не слушались родителей или ребе; за то, что отвлекались от книжки; за то, что молились слишком торопливо или молились слишком медленно, говорили слишком громко или слишком тихо; за оборванный лацкан; за пуговицу; за дыру; за царапину; за грязные руки; за пятно в молитвеннике; за лакомство; за побег; за озорство, и так далее и так далее, без конца.
Это он всё порол за грехи, «содеянные на виду у всех». Но была также порка и за грехи, «содеянные втайне». Бойаз порол нас каждую пятницу, и в канун праздников, и перед каникулами и пояснял: «Если вы этих розог ещё не заслужили, то вы их, с божьей помощью, заслужите после». А то выпорет и скажет: «Ты, верно, знаешь, за какие добрые дела тебя порют». А то выпорет из любопытства: «Ну-ка, посмотрим, как ведёт себя мальчик под розгой» Одним словом, розги, плётка," страх и слёзы — вот что властвовало тогда в нашем маленьком, глупом детском мирке. И не было ни способа, ня средства, ни луча надежды на избавление.
А добрый ангел, о котором говорила мать? Где он, этот добрый ангел?..
Должен признаться: по временам я сомневался в существовании доброго ангела. Искра неверия слишком рано закралась в мою детскую душу. Слишком рано стал я подумывать о том, что, видимо, мать меня обманула. Слишком рано познакомился я с чувством, имя которому «ненависть». Слишком-слишком рано возненавидел я своего ребе Бойаза.
Да и как было его не возненавидеть?! Ребе, который не даёт и голову поднять: «Этого нельзя!», «Там не стой!», «Туда не
ходи!», «С тем не говори!у Как не возненавидеть человека, у которого нет ни капли жалости, который испытывает удовольствие при виде чужих страданий, который купается в чужих слезах, пьянеет от чужой крови?! Что уж, кажется, может быть позорнее порки? Что может быть унизительнее, чем стоять в углу раздетым догола, в чём мать родила? Но Бойазу этого мало. Бойаз требует, чтобы ты сам разделся, сам скинул штанишки, сам, извините за выражение, задрал рубашонку на голову, сам лёг, тысячу раз прошу извинения, лицом вниз, а остальное уж сделает он, Бойаз:
Берёзовая каша — Пища наша.
Не один Бойаз порол, ему помогали помощники — «певчие», как он их называл. Конечно, они делали своё дело под наблюдением Бойаза, который боялся, как бы они, упаси бог, не пропустили какой-нибудь одной розги.
— Поменьше науки, побольше плетей, — говорил Бойаз и объяснял эту теорию методами логики: — От излишних занятий притупляются способности, а лишняя розга вреда не принесёт,- Ибо, — говорил Бойаз, — давайте рассудим: наука, преподаваемая ребёнку, направляется прямо в мозги, посему она вызывает смятение в мыслях и дурманит голову; а плети — наоборот: пока удары передаются от задней части через всё тело в голову, они очищают кровь и проясняют мозги. Теперь вы поняли?..
И Бойаз не переставал очищать нашу кровь и прояснять нам мозги.
Увы! Мы уже больше не верили в доброго ангела, который приходит с неба. Мы уже смекнули, что это выдумка, сказка, что нам её преподнесли, только чтобы затащить нас к Бойазу в хедер. И мы уже начали вздыхать и сокрушаться, негодовать и изыскивать средства, как бы избавиться от этого тяжкого ярма.
В сумерки, между днём и ночью, когда красное огненное солнце на целую ночь прощается с тёмной остывшей землёй; когда весёлый, звонкий день уходит и на его место тихими шагами приближается грустная, тихая ночь со своей печальной, тихой тайной; когда тени карабкаются по гладким стенам и растут вдоль и вширь; когда наш ребе уходит в синагогу, а его жена возится с козой, с кувшинами, полными молока, или занята у котла с борщом, — тогда мы, детвора, собираемся в хедере за печью, усаживаемся на полу, поджав под себя ноги, сби-
ваясь в кучу, как стадо ягнят, и там в темноте толкуем о нашем страшном губителе, нашем ангеле смерти — Бойазе. Мальчики повзрослее, из старшей группы, которые учатся у Бойа-за уже не первый год, рассказывают о нём ужасные вещи, клянутся, что Бойаз уже не одного запорол насмерть, что он трёх жён в гроб вогнал, что он уморил своего единственного сына и тому подобные дикие истории, от которых волосы становятся дыбом.
Старшие мальчики рассказывают, а младшие слушают. Чёрные глазки блестят в темноте, детские сердца трепещут. И мы приходим к решению, что у нашего ребе Бойаза нет души, это человек без души, а такой человек подобен хищному зверю, уничтожить которого велел сам бог Тысячи планов рождаются в наших детских головах, как избавиться от этого изверга. Глупенькие дети! Наши наивные планы лежали глубоко затаённые у каждого в душе. Мы молили бога о чуде: сгорел бы, например, хедер; или унёс бы плётку нечистый; или ребе Но эту последнюю мечту мы боимся высказать. Воображение у ребят работает, фантазия разгорается, и мечтания, чудесные, сладостные мечтания возникают наяву: как бы вырваться на волю, побежать с горы вниз, поболтать босыми ногами в воде, поиграть в лошадки, перескочить через плетень, — добрые, сладостные, глупые мечтания, которым не суждено осуществиться, потому что вот уже слышен знакомый кашель знакомого нам человека, стук знакомых каблуков, шлёпанье знакомых штиблетов и у нас стынет кровь, цепенеет и замирает всё тело. Мы снова садимся за священное писание, за служение всевышнему, за уроки и молитву с такой же точно охотой, с какой осуждённые идут на виселицу. Мы занимаемся, а наши уста шепчут: «Господи, владыка мира, придёт ли желанный конец этому фараону, этому Аману, этому Гогу-Магогу? Придёт ли когда-нибудь время, когда мы будем избавлены от этого тяжкого, мрачного ига? Нет, никогда! Никогда! Никогда!»
Вот к каким мыслям приходим мы — невинные, глупые дети!
— Ребята, хотите выслушать отличный план, как нам избавиться от этого изверга?
Так обратился к нам однажды, в тяжёлую минуту, мальчик из старшей группы, Велвел, сын Лейб-Арьи, известный сорванец. При этом глаза его блеснули в сумраке, как у волка. Вся орава окружила его, чтобы выслушать план. И Велвел приступил к изложению. Он начал с того, что больше невоз-
можно переносить Бойаза, что этот дьявол купается в нашей крови, а нас считает чем-то хуже собак, потому что собака, когда её ударят, поднимает визг, а нам и это не разрешается. И так далее, и так далее-
Затем Велвел обратился к нам:
— Послушайте, ребята, что я вам скажу: я вам задам вопрос.
— Спрашивай! — говорим мы все в один голос.
— Что будет, если один из нас захворает?
— Что ж, нехорошо это, — отвечаем мы.
— Нет, я не про то Я вот о чём: если кто-либо из нас захворает, придёт он в хедер или останется дома?
— Конечно, останется дома! — кричим мы все в один голос.
А Велвел продолжает:
— Ну, а как быть, если захворают двое?
— Тогда двое сидят дома.
— А если трое? — не перестаёт спрашивать Велвел.
А мы не устаём отвечать:
— Тогда трое сидят дома.
— Как же поступить в том случае, если мы все вдруг захвораем?
— Тогда мы все сидим дома.
— Так вот: давайте заболеем все сразу, — заявляет довольный Велвел.
А мы отвечаем ему сердито:
— Сохрани господь! Ты спятил?
— Я-то не спятил, я в своём уме, а вот вы — ослы, это ясно. Разве я предлагаю захворать всерьёз? Ведь я предлагаю только прикинуться больными, чтобы не ходить в школу. Поняли наконец?
Так объясняет Велвел. План приходится нам по душе. И мы начинаем гадать, какую бы нам придумать болезнь. Один предлагает зубную боль, другой — головную, третий — боли в животе, четвёртый — глисты. В конце концов мы решаем, что болеть у нас будут не зубы, и не голова, и не живот, и не нужно глистов. Надо, чтобы у всех у нас сразу заболели ноги. Потому что во всех болезнях доктор тотчас разберётся, а если мы пожалуемся: ноги болят, ногой шевельнуть не могу, — попробуй проверь!
— Помните же, ребята, завтра не встаём с постели. А чтобы никто не подвёл, дадим друг другу руки и поклянёмся, что завтра никто не приходит в хедер!
Так воскликнул наш товарищ Велвел. И мы даём друг другу слово и клянёмся всем, что есть у нас святого.
В тот вечер мы шли домой весёлые, оживлённые, мы пе-
ли песни, как богатыри, которые уверены, что смогут победить врага и выиграть бой.
Ребята! Мы приближаемся к самому интересному месту в нашей истории, и я понимаю — вам хочется знать, чем кончился этот план, эта детская забастовка. Я понимаю, вы хотите знать, сдержали ли мы слово. Как мы все выглядели, когда целым хедером внезапно захворали, и притом одной и той же болезнью? Что сказали родители? Что сделал наш ребе? И добились ли мы того, к чему стремились?
Жаль, дети, что я дальше не могу вам рассказывать и принуждён прервать рассказ на самом интересном месте, отложив конец до другого раза
И так как нам уже пора прощаться, я хочу вам лишь вкратце сообщить, что Бойаз жив и поныне. Но что уж это за жизнь. Он давно уже не меламед. Что же он делает, чем живёт? Он просит милостыню. Если случайно встретите его (его нетрудно узнать: он хромой), подайте ему: жалко его, он конченный человек.
В ГОСТЯХ У ЦАРЯ АРТАКСЕРКСА
Знаете, кому я завидовал в детстве, когда был маленьким мальчиком?
Артаксерксу.
Не тому, царство которого простиралось от Индии до Эфиопии и который держал под своей властью сто двадцать семь провинций. Нет, я завидовал портному Копелю, когда он появлялся в золотой короне и с большим золотым жезлом в руках. (Корону заменял колпак из золотистой бумаги, а «жезл» был выдернут из метлы и обернут в такую же бумагу.)
Завидовал я первому царедворцу Мордэхаю (сапожник Лейви), когда он напяливал на себя старый, вывернутый наизнанку кафтан и подвязывал к подбородку большую всклокоченную бороду из пеньки.
Завидовал я и царице Вашти (столяр Мотеле). На нём поверх длинного кафтана было женское платье, а бородёнка прикрыта платочком, чтобы придать ему больше сходства с женщиной
А как было мне не завидовать царице Эсфири, которая выходила в зелёном переднике (помощник синагогального служки Эйзер), или Аману, которому нахлобучивали на голову колпак в форме черепа (помощник учителя йоська)!..
Но больше всех завидовал я сироте Файвелю: его наряжали в красную рубаху, и он изображал праведного Иосифа. Братья срывали с него красную рубаху, а его самого низвергали в пещеру львиную. Праведный Иосиф, прекло-
нив колени и скрестив руки на груди, произносил заклинание — и свирепые звери были не властны над его телом. При этом он пел грустную песенку, трогательные слова которой проникали глубоко в сердце:
Змеи и гады, Закройте ваш зев! Закройте ваш зев! Иль неведомо вам. Иль неведомо вам. Иль неведомо вам. кто я? Я — праведный Иосиф, Внук Исаака, Сын Иакова, Сын Иакова!..
Праведный Иосиф был круглый сирота, бедняк. Он ютился в подвальном помещении небольшой молельни и жил тем, что был у всех на побегушках. И всё же я, сын богатых родителей, внук самого реб Меира, — я охотно поменялся бы положением с сиротой Файвелем ради этого единственного дня, ради праздника пурим
Вот он наступил — этот долгожданный радостный день! С самого раннего утра я с нетерпением ожидал комедиантов, ходивших из дома в дом по грязным улицам местечка в сопровождении целой ватаги мальчишек, месивших босыми ногами грязный, рыхлый снег.
Ах, почему нельзя и мне пойти с этой весёлой ватагой! Но нет, не для меня эти радости. Мне нельзя, не подобает: я сын богатых родителей, я внук самого реб Меира, — мне полагается целый день томиться дома, как томится пёс в своей будке, а вечером чинно сидеть со взрослыми у дедушки реб Меира за праздничным ужином.
Вот мы идём к дедушке реб Меиру. Я поминутно оборачиваюсь туда, где, провожаемые шумной толпой, шагают комедианты.
— Чего ты вертишься волчком? — кричит на меня отец.
— Ты уже большой мальчик, не сглазить бы! — поучает мама. — Ты должен вести себя прилично. Ещё месяц — и тебе, с божьей помощью, исполнится восемь лет. Дай тебе бог дожить до ста двадцати!
Праздник пурим {обычно приходится на март) — весеннее народное празднество. Пьесы, рызыгрываемые в этот день бродячими комедиантами, — плод устного народного творчества; составлены на библейские сюжеты, но в ннх очень сильна сатирическая линия (осмеяние богачей, заправил общины), а в пьесе «о царе Артаксерксе» ясно ощущается и линия антирелигиозная.
— Не трогайте его! Разве вы не видите — он не может оторваться от комедиантов! — язвит мой старший брат, Мой-шеле, хотя он и сам был бы не прочь остановиться и поглазеть.
— Иди же, пошевеливайся! — подгоняет меня пинком в бок меламед реб Иця, мой жестокий мучитель и палач.
Опустив глаза, я гляжу на грязно-мутный талый снег и стараюсь не отставать от взрослых. А мозг давят гнетуш,ие мысли: «Вечно со взрослыми! Вечно с учителем, под его бдительным оком!.. Утром и вечером, в будни и в праздник — вечно перед твоими глазами красный от нюхательного табаку нос меламеда, чтоб ему сквозь землю провалиться!»
Дедушка реб Меир, первый богач в местечке, живёт маленьким царьком. Просторный зал с огромной висячей люстрой. Ковры на стенах. Массивный серебряный семисвечник, которым бабушка Нехама украшает стол лишь дважды в год, на пасху и на пурим. Весь дом дедушки залит ярким светом.
В большом кресле, обитом зелёной кожей, сидит сам дедушка реб Меир. Щупленький человечек, жидкая бородёнка, нос с горбинкой, волосы тронуты серебром и живые молодые чёрные глаза. Дедушка носит длинный шёлковый сюртук, подпоясанный шёлковым поясом. На голове у него остроконечная меховая шапка. На столе огромный, чудовищных размеров, праздничный пирог с маковой начинкой, позолоченный шафраном и утыканный изюминками. Пирог уже слегка надрезан.
Бабушка Нехама, высокая, моложавая на вид женщина, ещё сохранила следы былой красоты. На ней золотистого цвета шёлковое платье в белый горошек. В волосах, над самым лбом, ободок с бриллиантами, на шее жемчужное ожерелье, в ушах серьги, на пальцах золотые перстни с драгоценными камнями. Перед бабушкой большущее блюдо с горячей, вкусно пахнущей, здорово наперчённой рыбой, приправленной луком, сахаром, изюмом и разными пряностями. Бабушка накладывает рыбу каждому на тарелку. При этом кончики её красивого шёлкового платка забиваются за уши, и на лбу причудливо играют бриллианты. На лице сияет приветливая улыбка.
За столом много народу. Пришли все дяди и все тётушки с многочисленными чадами. Так как, по установленному обычаю, все дяди и все тётки давали имена своим детям в память одних и тех же покойных дедушек и бабушек, дядей и тёток, то в каж-рой семье мальчики и девочки носят одни и те же имена. У дяди Подэка, например, и у его жены Цивьи три сына: Мойшеле, Гершеле, Велвеле, и две дочки — Сореле и Фейгеле. За ними
следуют дядя Нафтоля и тётя Дебора, у которых четыре мальчика: Мойшеле, Гершеле, Велвеле, Нотеле, и три девочки — Сореле, Фейгеле и Рохеле. У дяди Авраама и тёти Соси пять мальчиков: Мойшеле, Гершеле, Велвеле, Нотеле, Янкеле, и четыре девочки — Сореле, Фейгеле, Рохеле, Тайбеле. У дяди Бэ-рэша и тёти Эстер шесть мальчиков и так далее
Надо ли продолжать этот перечень? Пожалуй, не надо, а то как бы не сглазить!.. Дедушка как-то попытался, любопытства ради, сосчитать, сколько народу сидит у него за столом.
«Не один, не два, не три, не четыре, не пять, не шесть, не семь » Но тут бабушка резко оборвала его: «Тьфу ты, прости господи! Что тут считать? Тарелок, слава богу, хватит на всех!»
Обычно, когда вся семья бывала в сборе, никто не садился за стол, пока дедушка не укажет место. Дедушка реб Меир во всём любит порядок. Он рассаживает так, чтобы все дяди и тёти сидели рядом: дядя возле дяди, тётя возле тёти. Нас, малышей, рассаживают так, чтобы брат не сидел рядом с братом и сестра рядом с сестрой: родные братья и сёстры, говорит он, никогда не ладят меж собой. По этой причине Мойшеле должен сидеть рядом с чужим Гершеле, Гершеле — рядом с чужим Велвеле, Велвеле — с чужим Нотеле, Нотеле — с чужим Янкеле и так далее. Так же рассаживают и девочек: Сореле — рядом с чужой Фейгеле, Фейгеле — с Рохеле, Рохеле — с Тайбеле и так далее. Одному мне не хватило пары, и меня посадили рядом с моим палачом — меламедом реб Идей. Реб Иця для меня — не только учитель, но и воспитатель, наставник, нечто вроде гувернёра. Он учит меня правилам приличия: как сидеть за столом, как держать ложку, как есть и как пить.
— Когда сидишь за столом, — поучает он меня, — сиди как человек. Гляди прямо, а руки держи под столом. Не разговаривай во время еды. Когда ешь бульон с лапшой, набирай в ложку столько же лапши, сколько бульона; проглотил — положи ложку на стол и вытри губы; проглотил второй раз — опять ложку на стол и вытри губы. Нельзя хлебать одну ложку за другой без остановки, как какой-нибудь мальчишка из простонародья.
Усевшись рядом со мной и прошептав молитву, реб Иця прежде всего вынул из кармана красный носовой платок и встряхнул его так, что крупинки нюхательного табаку попа-
По старинному поверью, счёт живых людей следует вести с обязательной прибавкой к каждой цифре слова «не»: во избежание «дурного глаза».
ли ко мне в тарелку; затем он высморкался с визгом, перешедшим в оглушительный трубный рёв и закончившимся воем; в то же время он ни на миг не прекращал наблюдения за мной, всё посматривал одним глазом, сижу ли я «как человек».
— «Роза Иакова », — приятным, бархатным голосом, звучно прищёлкивая пальцами, запел дедушка после первой же рюмки вина.
И все хором поддержали:
— « ликует и веселится!»
Всё громче, всё оживлённее поёт разноголосый хор. Мой реб Идя — хоть он и не ахти какой певец, а голос у него, как у телёнка, — поёт с азартом, с воодушевлением: разинув рот, полузакрыв глаза и склонив голову набок; он стучит средним пальцем по столу и всем своим видом старается показать дедушке, что и он участвует в хоре. Одновременно он, как водится, всё время искоса поглядывает на меня, сижу ли я «как человек»
— Пришли комедианты, — докладывает старый слуга Тан-хум, человек в красном кафтане, говорящий всем, кроме дедушки и бабушки, «ты».
При слове «комедианты» все дети — и я в том числе — вскочили из-за стола и мигом обступили царя Артаксеркса, на голове которого сияла золотая корона.
— С праздником вас! — выпалила хором вся компания актёров.
И они тотчас выстроились в два ряда. Царь Артаксеркс воссел на золотой стул. Адъютант царя Мемухон (кучер Хаим), стоя на одной ноге и изображая хромоножку, запел: Я — Мемухои Артаксерксова рода. Совсем молодой господин, безбородый. На одной ноге перед вами стою И сладким голосом песню пою.
Царь Артаксеркс спрашивает:
Зачем ты пришёл, милый раб Мемухон? Что в моей стране уловил ты ухом?
Мемухон отвечает:
Пусть царь Артаксеркс сам убедится. Как не хотят Аману поклониться.
Гневно кричит возмущённый царь Артаксеркс: Кто смеет противиться тем повеленьям. Что я разослал по моим владеньям?!
Мемухон отвечает:
Какой-то еврей субботу не блюдёт. Ни бороды, ни усов не стрижёт. Грамоте учит своих он детей. Как терпишь ты это в стране своей?
Царь Артаксеркс повелевает:
Ежели так, привести его ко мне! Мы его повесим на высокой сосне!
Мемухон возглашает:
Входи, входи же, не стой, Мондриш, братец ты мой.
Входит Мондриш (Мордэхай) со всклокоченной бородой. Он всячески оправдывается перед царём, ссылаясь прежде всего на свой старинный род и знатное происхождение: Авраам, Исаак и Иаков — мои родоначальники, Благочестивые дела — мои печальники.
Заканчивает он нараспев:
Горя, горя нам не снести. Если Аман у тебя в чести!
— Это ты — праведный Иосиф? — спросил я сироту Файве-ле, стоявшего чуть в стороне.
Лицо его было печально, вид усталый, понурый
— Я — праведный Иосиф, — ответил Фейвел.
— Ты будешь представлять сегодня?
— Прикажут — буду — ответил праведный Иосиф и, приникнув губами к моему уху, шепнул: — Дай-ка мне кусочек вашего пирога.
— Увидят, будет мне нагоняй, — ответил я шёпотом.
— А ты стащи так, чтобы никто не видел, — сказал он, сверкнув глазами.
— Это значит украсть? — спросил я.
— Вовсе это не значит украсть.
— Тогда что же это значит? — снова спросил я. — Не украсть, а своровать?
— Я помираю — есть хочу, — сказал он тихо, поедая пирог глазами. — С утра ничего во рту не имел.
Внимание всех присутствующих занято представлением. Я потихоньку подхожу к столу, украдкой хватаю кусок пирога и незаметно передаю праведному Иосифу. Он ловко прячет пирог в карман и пожимает мне руку:
— Ты славный мальчуган! Дай тебе бог здоровья!
— Если вам угодно, мы сыграем ещё и «Продажу Иосифа», — Предлагает царь Артаксеркс, снимая с головы корону и надевая простую шапку.
— Довольно! Хватит! — отвечает дедушка и суёт царю Артаксерксу серебряную монету.
Когда ушли актёры, дедушка велит Танхуму взять веник и вымести грязь, которую они оставили после себя.
Пока раздвигали стулья и потом опять расставляли их вокруг стола, пока дяди и тётки с их многочисленными семьями усаживались на прежние места, я воспользовался суматохой и выскочил на минуту на улицу проводить актёров.
— Пойдём с нами! — сказал праведный Иосиф, взяв меня за руку. — Право, пойдём! Ты славный мальчик, ты чудесный мальчуган! Я тебя люблю.
Сердце у меня забилось.
— Куда? — спросил я.
— К царю Артаксерксу. Сегодня мы уже больше представлять не будем. Сейчас мы отправимся к царю Артаксерксу и будем пировать.
Праведный Иосиф взял меня за руку, и мы вместе зашлёпали по грязи.
Всё чернее и чернее ночь. Всё глубже и глубже уличная грязь. Мне чудится, будто у меня выросли крылья и какая-то сила поднимает меня вверх. Ещё мгновение — я вспорхну и полечу
— Мне страшно, — говорю я праведному Иосифу, остановившись и продолжая держать его за руку.
— Чего бояться, глупенький? — отвечает он, с аппетитом жуя полученный от меня кусок пирога. — Там будет пир на славу, дурачок ты этакий! Услышишь, как мы поём Ах, что за чудесный пирог у вас! Райский вкус! Тает во рту, как масло. Одного я никак не пойму: как это можно спокойно глядеть на этакое чудо из чудес и даже не дотронуться?
— Эка важность! — хвастливо -ответил я. — У нас и в будни едят пирог.
— Каждый день пирог? — изумлённо спрашивает праведный Иосиф, облизываясь. — А мясо?
— Каждый день, — ответил я.
— Каждый день мясо?! — воскликнул он, глотая слюну. — А я вот ем мясо только раз в неделю, по субботам, да и то не каждую субботу. Позовёт меня состоятельный человек — перепадёт кусок мяса. А попадёшь к бедняку — хворобу тебе дадут, а не мясо.
— Как это можно есть хворобу? — изумился я.
— Не знаешь, что значит есть хворобу? — тоже изумился он. — Очень просто: болячку тебе дадут, а не мясо. Понимаешь? Когда есть нечего — питайся болячкой. Я ведь только то и ем, что мне подают другие. Больше всех поддерживает меня синагогальный служка Эйзер, дай ему бог здоровья: иной раз хлебом накормит, другой раз картошкой. Золотой человек этот Эйзер! Редкой души человек! Знаешь его?.. Это он — царица Эсфирь
— Где твой отец? — спросил я.
— Нет у меня отца.
— А мать?
— И матери нет.
— Дедушка? Бабушка?
— Нет ни дедушки, ни бабушки.
— Может, дядя или тётя?
— Ни дяди, ни тёти.
— А брат, сестра?
— Нет ни брата, ни сестры. Никого-никого, ни одной родной души! Круглый я сирота, безродный!
Я взглянул на праведного Иосифа, на луну, и мне показалось, что у Иосифа и у луны одинаковый цвет лица, одинаковая мертвенная бледность Я прильнул к нему, и мы быстро побежали вслед за компанией, меся грязь своими маленькими ногами.
— Здесь вот и живёт царь Артаксеркс, — сказал праведный Иосиф.
Мы спустились в маленькую тёмную землянку.
— Фрейда-Этл, душка, поднимайся с подушки! — крикнул, царь Артаксеркс жене, болезненной женщине, видимо страдающей одышкой: кашляя, она одной рукой хватается за сердце, а другой — за голову.
За день актёры столько раз пели стихи и так к этому при-ВЫ1СЛИ, что без рифмы они и говорить разучились.
— Рыбу и каравай на стол подавай! — начал Мему-хои. — Халу мы принесли сами, поработаем зубами. Треугольный пирожок с маком будем есть со смаком. Клёцки и печенье — моё почтенье! А водки бутылку подарил мне Рахмил-ка А ну-ка, Мондриш, развяжи мешок, не то получишь пинок.
— Чем пинок в бок, лучше развязать мешок, — ответил Мондриш тройной рифмой и собрался уже было приступить к делу, но его остановил Мотель (царица Вашти).
— Раньше надо деньги посчитать, а потом и пожевать! — крикнул он.
— Вашти, право, не пьяница — при дележе в дураках не останется, — согласился Аман.
Энзер (царица Эсфирь) ответил ему в тон и тоже рифмой.
Но едва дело дошло до дележа, поток рифмованных острот сразу прекратился. Люди заговорили простым, слишком даже простым человеческим языком, как и полагается, когда речь идёт о деньгах.
Львиная доля досталась, конечно, царю Артаксерксу. Так уж ведётся из года в год, и против этого никто не возражал. Но когда дошло до других участников представления, возникли серьёзные разногласия. Мемухон спросил, за какие такие заслуги Вашти получает больше, чем он. Он, Мемухон, трудится больше всех, прыгает на одной ноге, так и сыплет рифмами, шутками и прибаутками, сочиняет экспромты, а когда доходит до дележа — на первое место прётся Вашти. За какие такие заслуги? За то, что Вашти состоит в отдалённом родстве с царём Артаксерксом? Известное дело: портной и столяр всегда одна шайка. Как говорится, два сапога — пара.
— Молчать! — взревел царь Артаксеркс. — Ах ты, извозчичье отродье, лошадиное копыто, глиняное дышло, бумажная шлея, кожаная ось, стеклянное седло! Ты смеешь выступать против царя Артаксеркса?! Сейчас как дам тебе по зубам — пойдёшь ты у меня в упряжке, как миленький!..
Мемухон смирился и смолк. Все артисты чтут царя Артаксеркса, беспрекословно его слушают — как-никак, а он хозяин дела, так сказать антрепренёр Мондриш, правда, продолжал ещё ворчать, да и остальные робко поддерживали его, но Эйзер (царица Эсфирь) весьма удачно оборвал эту грызню. Положив в карман полученные им несколько монет, он отпустил весёлую шутку, и напряжённая атмосфера сразу разрядилась. В доме царя Артаксеркса воцарилось прежнее оживление. Полные жизнерадостного задора, актёры стали перебрасываться остротами.
— Богачам бы иметь не больше грошей, чем мы принесём для наших семей, — сказал Мемухон.
Я осмотрел комнату Артаксеркса. Большой стол, накрытый скатертью из сурового полотна. У одной стены — верстак с инструментами, у другой — деревянная кровать со множеством подушек, положенных одна на другую чуть не до потолка. Против печки — топчан. На нём, поджав лапки, дремлет чёрный кот. На печи — дети. Несколько пар глаз — чёрных, карих, серых — глядят оттуда на веселящуюся компанию.
— Слезайте, шельмецы! — крикнул праведный Иосиф, грозя им пальцем.
Обладатели чёрных, карих и серых глаз не заставили себя долго просить. Почти голенькие, в одних рубашках, да и то рваных и закрывавших тело лишь чуть-чуть ниже пупочка, они начали спускаться один за другим с печи Праведный Иосиф, видимо, был в доме свой человек — к нему все малыши разом и бросились, как ягнята к пастуху; все подставляли ему свои курчавые головки в ожидании, что он их погладит.
— Голодны?.. — спросил праведный Иосиф. — Сейчас начнётся у нас пир на весь мир. Ой, сколько же лакомств, сколько вкусных вешей мы принесли!
Когда он перечислял все эти лакомства, маленькие «ягнята» переглядывались, глотали слюну и облизывались. Праведный Иосиф, гладя курчавые головки, и сам облизывался и тоже глотал слюну Все с нетерпением ждали минуты, когда можно будет сесть за стол и начать пиршество
И вот этот желанный миг наступил. Царь Артаксеркс поднял бутылку с водкой, торжественно наполнил свою рюмку и, провозгласив здравицу в честь праздника пурим, выпил первый. Вслед за ним осушили по рюмке и остальные актёры. Лишь после этого все, от мала до велика, за исключением Фрейды-Этл, возившейся у печки, сели за стол. Проснулся даже мирно дремавший кот; вытянув спину и сладко позёвывая, он подошёл к столу и стал возле хозяина в ожидании, что и на его долю перепадёт что-нибудь
Праведный Иосиф, голенькие курчавые «ягнята» и я — все мы уселись рядом на одной скамье; скамья хромала на одну ножку и шаталась при каждом нашем движении, что вызывало у нас бурные взрывы смеха. Мне и другим малышам это казалось забавнее самой весёлой комедии. И тут компания актёров, взглянув в нашу сторону, заметила меня. Все были изумлены: откуда взялся новый, никому не ведомый человечек?
— Кто этот зелёный крыжовник? — спросил царь Артаксеркс.
Праведный Иосиф сказал им, кто я и откуда взялся. По-видимому, актёры были довольны таким гостем: все они поочерёдно подходили ко мне, хлопали меня по плечу, трепали за щёку, и всякий отпускал по моему адресу шутку, конечно, в рифму.
И вот началось пиршество. Фрейда-Этл поставила на стол обильно наперчённую рыбу с картошкой. И хотя рыба не была приправлена разными пряностями и кореньями, как у моего дедушки реб Меира, она показалась мне необычайно вкусной. Одна беда: слишком много косточек. Зато какая благодать! Все едят из одной миски, все тычут вилки в одну тарелку. Как весело! После рыбы - опять по рюмочке и опять пошли здравицы. и тут только началось настоящее весёлое, бурное, неудержимое пиршество. Встав из-за стола, все взялись за руки и, весело приплясывая, затянули хоровую: Те или иные — Мы,
Но бедняки большие Мы.
Лучше ль. хуже ли Живём,
Но нужда нам Нипочём!
— Русскую песню! — громко закричал Мондриш. — Русскую песню подавай!
Компания затянула русскую песню, перемешивая с древнееврейскими словами, и, хлопая в ладоши, все пустились в пляс.
Надо знать, Как гулять. Перед богом Отвечать! Мы и пьём. Мы гуляем. Выпьем, братики, Лехаим i.
— Ну как? Хорошо у нас, не правда ли? — весело спросил меня праведный Иосиф.
Он уже успел подкрепиться. И теперь вид у него был совсем иной — свежий, бодрый. Он тоже выпил рюмочку хмельного, дал и мне отведать немного и втащил меня в круг. Не знаю, с чего это, но на меня напало неудержимое веселье — я неожиданно почувствовал прилив буйной радости, всё во мне пело и плясало. Мне было хорошо, чудесно; безгранично светло было у меня на душе!.. Вдруг
Вдруг открывается дверь, и на пороге появляются мой отец и учитель реб Иця. У меня в глазах потемнело. Что подумал отец, увидев меня пляшущим в компании комедиантов, я сказать не могу. Я заметил только, что он остановился как вкопанный и, не шевелясь, глядел попеременно то на компанию, то на меня, то на учителя реб Ицю. Учитель, со своей стороны, глядел то на меня, то на компанию, то на отца. Я глядел на отца, на компанию, на учителя, а компания глядела на нас троих Все точно онемели, никто не мог и слова вымолвить.
Лехаим — за здоровье.
Первым нашёлся Мемухон, прервавший молчание потоком приветствий:
— Что ж вы приуныли? Ведь это на смех курам! Ведь сегодня весёлый праздник пурим! Выпьем по чарке, чтобы небу было жарко! Да закусим в меру — нашлась ваша потеря!..
С этими словами Мемухон поднёс отцу рюмку водки с закуской. Отец молча оттолкнул его рукой. Нимало не смутившись, Мемухон продолжал:
— Реб Ошеру, сыну Меира, наше почтение! Не по душе вам зтощение?.. Значит, богач не окажет нам чести — выпить с бедняками вместе? Что ж, выпью один и скажу: аминь!..
И, осушив рюмку до дна, Мемухон запел:
Кто бедняк —
Тот и гуляка.
Кто богат —
Тот и собака.
Кто бедней —
Тот песни пой,
А богач —
Свинья свиньёй.
— Мондриш, чего ты молчишь? Спой величальную нашим богатеям, выпей в их честь заздравную чарку!
Наполнив чарку, Мондриш пропел величальную нашим местечковым богачам:
— Благословляющий людей, пошли погибель на богачей! Скрути их в три погибели, кто бы они ни были! Кто бы ни были они, в бараний рог их согни! Согни их в бараний рог, чтоб с постели никто из них встать не мог! Чтоб никто встать не мог с постели и черви живьём бы их съели! Чтоб их черви съели живьём, порази их небесный гром! Небесный гром порази их!..
— Что ж вы молчите, реб Ошер? — обратился к отцу учитель реб Иця, заложив в ноздрю изрядную понюшку и щёлкнув в воздухе пальцами.
— О чем тут говорить? Не видите, что они пьяны! — ответил отец вне себя от гнева.
Схватив меня за руку, он сжал её до боли. И, не попрощавшись, мы все трое покинули дом царя Артаксеркса. На улице отец остановил меня и, смерив грозным взглядом, отпустил мне две гулкие оплеухи.
— Это, — говорит, — тебе задаток. Остальное получишь дома от учителя Прошу вас, реб Иця, будьте безжалостны! Передаю его в ваши руки — секите, порите его, не жалея сил! Всыпьте сколько влезет! Хлещите до крови. Парнишке, слава тебе господи, скоро девятый год пойдёт! Пусть запомнит, как
шляться с компанией комедиантов, шутов, бездельников, нищих!.. Так всех перепугать! Так всем отравить праздник!..
Ни одной слезинки я не проронил. Я только чувствовал, что щёки у меня пылают, а на сердце легла неимоверная тяжесть. Но не мыслью о предстоящей расправе была занята моя голова. Всеми своими помыслами я стремился туда, к царю Артаксерксу, к весёлому обществу праведного Иосифа и голеньких курчавых «ягнят». А в ушах неумолчно звенела приятная, чудесная русская песня:
Надо знать.
Как гулять.
Перед богом
Отвечать!
Мы и пьём,
И гуляем,
И того же
Вам желаем.
|