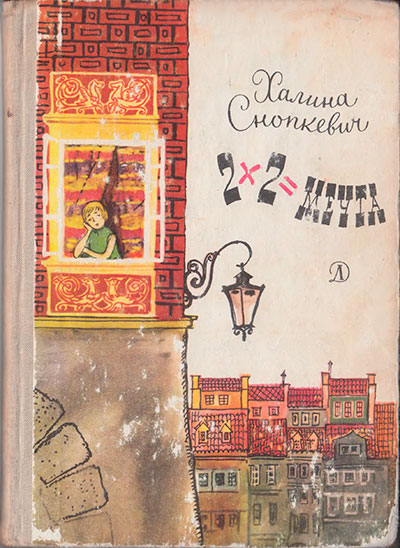Сделал и прислал Кайдалов Анатолий.
_____________________
Галина Снопкевич - польский писатель, переводчик, автор романов для молодых людей, родилась 16 апреля 1934 года в Заверце, в семье офицера Иосифа Снопкевича. Окончила медицинскую академию в Варшаве. Дебютировала в 1962 году в качестве переводчика греческой литературы. Галина Снопкевич известна как автор романов для девочек, в которых поднимаются проблемы личной, школьной и социальной жизни подростков. В своих книгах она описывает наиболее распространённые вопросы, связанные с первой любовью. Её книги часто были основаны на автобиографическом материале, встроенные в жизнь молодых людей 60-х – 80-х годов ХХ века.
1
Людка как раз задумалась о глубине морального падения Марека Корчиковского, который объявил на переменке, что его любимое развлечение — охота на мух с помощью пылесоса, когда пани Мареш вызвала:
— Корчиковский! Знаешь, Марек, по-моему, жалко будет, если эта жемчужина пера останется незамеченной. Пусть не только я одна, но и другие получат удовольствие. Прочти нам своё гениальное произведение.
Марек внимательно изучал крышку парты, упорно избегая взгляда пани Мареш.
— А нельзя ли просто поставить мне двойку?
— Насчёт двойки можешь не беспокоиться, ты её уже получил, — весело сказала пани Мареш и тут же переменила тон: — Вероятно, когда ты это писал, ты казался себе чертовски остроумным. И смелым. Так будь смелым до конца! Тема урока у нас сегодня — неизменяемые части речи, а это вещь довольно скучная. Так что все мы охотно отвлечёмся и послушаем нашего классного сатирика. На, вот твоя тетрадка. Читай.
Марек подошёл к столу пани Мареш, взял тетрадь, открыл её, покраснел и сделал ещё одну попытку:
— Пани учительница, теперь мне это уже не кажется остроумным. И потом, у меня нет литературных способностей. Вы ведь знаете.
— А я и не собираюсь делать из вас Хемингуэев, я хочу одного: научить вас думать. И уверена, что ты способен овладеть этим трудным искусством. Но если, по-твоему, можно валять дурака и не нести за это никакой ответственности, тогда не читай, не надо. Садись.
— «Что я вижу из окна моего дома, — начал Корчиковский. Левую руку он сжал в кулак. — Из окна моего дома с первого взгляда я вижу соседний дом. Со второго взгляда я вижу верёвку для белья. С третьего взгляда я вижу помойку. С четвёртого взгляда я вижу кусочек газона. С пятого взгляда я вижу проезжающий трамвай. С шестого…» Пани учительница, я осёл.
— С этим не могу не согласиться. Но ты продолжай, продолжай, не порти впечатления самокритикой. Двойку я тебе поставила на девятом взгляде, и мне самой интересно, что ещё и с какого взгляда ты увидел. А сколько их у тебя всего?
— Двадцать пять, — пробормотал Корчиковский.
Ребята рассмеялись, уже не сдерживаясь, а Людка почувствовала глубокое удовлетворение. Вот и Мареку утёрли нос. Наконец-то! Пани Мареш умела любой поступок своих учеников представить так, чтобы класс мог оценить его по достоинству. Сейчас, глядя на Марека, учительница, наверно, думала, хватит с него или стоит ещё немножко помучить. И, видимо заметив, что сконфуженная физиономия Корчиковского постепенно принимает своё обычное выражение, велела продолжать.
— «С пятнадцатого и шестнадцатого…» — прочитал Марек.
— А что было с десятого и с одиннадцатого? Неужели я прослушала? Или ты пропустил страничку?
— Детский сад или ясли, — прошептал Марек.
Своё он получил, это было ясно. Класс притих, зная, что теперь пани Мареш передаст слово ученикам.
— Ну, что скажете? Будем слушать дальше или не будем? Может быть, пора кончать это позорное представление?
— Пусть читает, — тихо сказала Людка.
— Пора кончать, — сказал Казик, верный подпевала Корчиковского.
— Объясни нам, пожалуйста, Марек, чем ты руководствовался, сочиняя этот шедевр? Хотел посмеяться над учительницей? А ведь у тебя в этой четверти две тройки и одна тройка с минусом. Мы с вами условились, что такое минус?
— Ноль целых пять десятых балла.
— И что же у тебя получается в среднем?
— Всё зависит от того, в какую сторону вы округлите.
— В меньшую, как обычно.
— Значит, десять и пять десятых делим на четыре, ну, и если в меньшую…
— Вот видишь. Претензии есть?
— Нет, претензий нет. Извините. Как-то по-дурацки у меня это получилось.
— Надо полагать, теперь, когда ты получишь двойку в четверти по польскому, ты тоже будешь себя чувствовать по-дурацки. Садись.
Девятый «А» был удивлён. Обычно каждая такая выходка долго и подробно обсуждалась в классе. Однако на этот раз то ли пани Мареш устала, то ли не сочла случай достойным особого внимания, но она как ни в чём не бывало перешла к теме урока.
А Людка так надеялась, что на этот раз Мареку не отвертеться. Уж он-то никого не щадил, и Людку меньше всех. А попробуй его задень — тут же отразит любую насмешку. Этой его способности Людка завидовала всей душой. Сама она в ответ на обиду только молча глотала слёзы. Хоть бы раз хлёсткое словцо пришло ей в голову в нужную минуту! Задним числом — сколько угодно. Да что в том толку!
И хотя после истории со Стефаном — ей даже и поговорить об этом не с кем было — Людка стала гораздо сдержанное, Марек всё-таки ухитрялся доводить её до бешенства. В классе всегда найдётся несколько человек, готовых слушать его развесив уши. Но Людка могла поклясться, что вот, например, сегодня он вовсе не для них старался, когда распространялся насчёт мух и пылесоса. Нет, он явно хотел досадить Людке, которая позавчера призналась на классном собрании, что мечтает стать биологом и принять участие в какой-нибудь грандиозной научной экспедиции, ну, скажем, по Амазонке или вокруг света.
Пани Мареш одобрила её планы, половина класса захихикала, половина раскрыла рот от изумления, а Корчиковского понесло:
«Любопытно, товарищ биолог, вы, наверно, каждого паршивого котёнка на улице гладите? А если оса залетит в комнату, чем вы скрашиваете её последние минуты? Мёдом? Или грушами? А потом — рраз! — на булавочку и под стёклышко? А крылышки у бабочек вы отрываете? В научных целях? Вот вы говорите, хамелеон — образец целесообразности в природе. А не будете ли вы любезны нам объяснить, в чём цель и смысл существования мух и клопов?»
Людка не поддалась на провокацию. Она знала, что из дискуссии с Мареком победителем ой не выйти. Да и придирки очень уж дурацкие. С Мареком вообще трудно разговаривать. Но неприятный осадок остался. На следующий день был урок труда, девочки шили себе полотняные харцерские юбки, и у Людки в портфеле лежал сантиметр. Улучив момент, когда Корчиковский повернулся спиной, она подскочила и — он и спохватиться не успел! — обмерила ему голову. Обмерила демонстративно, чтобы все видели, а потом, помахивая сантиметром, глубокомысленно и громко объявила: «Окружность черепа, как у обезьяны-резус, следовательно, и объём мозга никак не может быть больше». Людка, конечно, прекрасно знала, что умственные способности не зависят от объёма мозга, кроме того, голова у Корчиковского была самая обыкновенная, величиной со средний арбуз, темноволосая, коротко остриженная, — ей просто хотелось его унизить. Потом Людка так же громко объяснила Ядзе, что сечение головного мозга поразительно напоминает сечение кочана капусты и что со временем у одних это сходство исчезает, а у других, напротив, увеличивается. Может быть, это был запрещённый удар, но впечатление он произвёл. Корчиковский не нашёлся что ответить. Это видели все. Между тем в классе Марека уважали, хотя считали чистюлей и пижоном, за что и прозвали Маркизом. Когда же Людка, высказавшись насчёт резуса, вышла из класса, чувствуя себя почти счастливой — ведь ей удалось поставить Корчиковского на место! — он, говорят, покраснел от злости и обозвал её зелёным клопом. Хорошо хоть, не придумал ничего похлеще — такого, что пристало бы надолго! Все (кроме Людки) об этом прозвище сразу забыли: тоже ещё прозвище — зелёный клоп! Просто Марек расписался в своём бессилии. Оказывается, и он от злости может потерять дар речи.
Людка вдруг заметила, что почти не слышит объяснений пани Мареш — так её захватили мысли о Корчиковском. А тот после своей дурацкой выходки весь обратился в слух, словно искупить вину надеется. Спина прямая, глаза серьёзные, вдумчивые — ни дать ни взять первый ученик… «Вот болван, — подумала Людка. — Ох, была б я мальчишкой, врезала бы ему, чтоб не приставал!»
2
Когда пани Мареш несколько дней назад задавала им домашнее сочинение на тему «Что я вижу из окна моего дома» и так хорошо говорила о том, что хотя витать в облаках и очень приятно, но всё же важно уметь вовремя спуститься на землю — а вдруг кому-нибудь рядом нужна помощь или поддержка и ещё много чего в таком роде? — Людка просто испугалась: а вдруг пани Мареш каким-то чудом угадала, что она — только она одна — видит из окна своей квартиры. Пани Мареш знала про своих учеников самые разные вещи, они и понять не могли откуда. Ябед она не терпела, так что никаких доносчиков в классе не было.
Да и кто мог проникнуть в тайну Людкиного сердца? Она никогда ни с кем не делилась, даже с Ядзей.
Нет, видно, тема для сочинения была выбрана чисто случайно. Но Людка в тот день достала свою красивую тетрадь в кожаном переплёте, запирающуюся на ключик, и вместо домашнего сочинения начала писать:
«Я никогда не напишу Вам письма, просто смелости не хватит. Но Вы должны знать…»
Людка не могла точно определить, что именно должен знать Тот Человек. Ей хотелось, чтобы Он знал всё. Мысль о том, что на самом деле Он никогда ничего не узнает, в сущности, не очень ей мешала. Она и так рассказывала Ему всё, а говорить с Ним по-настоящему она бы, наверно, и не смогла. Например, когда Он однажды уронил в магазине десять злотых, Людка подняла и протянула Ему деньги без единого слова. Он сказал: «О, спасибо тебе большое» — и купил банку зелёного горошка, растворимый кофе и майонез. Всё это Он сунул в кожаную папку и вышел из магазина. Людке поручили купить килограмм мороженого шпината, но она купила горошек. А дома сказала, что перепутала. Давно ей не приходилось есть такого вкусного обеда: Он и она ели в тот день одно и то же. Но, вспоминая о встрече в магазине, она страшно себя ругала. Упустить такой случай! Можно ведь было сказать, например: «Извините, у вас монета с Нике, я их собираю, а я вам взамен дам Костюшко». Монет она не собирала, но сказать так можно было. Он, конечно, согласился бы — какая ему разница! А она промолчала. Отдала монету и даже такой простой фразы, как: «Вы уронили деньги, и вообще у вас кошелёк распоролся», не сказала. А как приятно было думать, что некому Ему зашить дырку в кошельке! Ему самому, конечно, не до того: разве Он может думать о таких мелочах! Ведь Он, Он…
Он был великим биологом, и смелым мореплавателем, и гениальным писателем, и мудрым философом Абеляром, и знаменитым гонщиком, и известным певцом Фрэнком Синатрой, и отважным лётчиком, но прежде всего Он был Туром Хейердалом. И дело тут не во внешнем сходстве — хоть оно и бросалось в глаза, — была в Нём, кроме того, какая-то одержимость, какая-то необычная энергия, так и струившаяся из Него, когда Он, расправив плечи, шёл по улице с гордо поднятой головой или когда наклонялся, чтобы заглянуть под капот своей «шкоды». Даже когда Он выносил мусор в жёлтом пластмассовом ведёрке, это тоже было полно глубокого смысла. Видимо, в квартире Он поддерживал идеальный порядок, хотя делал это, скорее всего, бессознательно, думая совсем о другом. В этом Людка была твёрдо уверена. Их дома стояли друг против друга, между ними был маленький скверик, где росли анютины глазки и чахлый тополь. На окне у Него висела жёлтая занавеска (ведёрко для мусора тоже жёлтое — значит, Он питает склонность к жёлтому цвету), которая иногда не отдёргивалась по целым дням. Людка в таких случаях представляла себе, что Он сидит в кресле, может быть покуривая трубку, и в полумраке обдумывает какие-то грандиозные идеи, в которые никто всерьёз не верит, а вот она бы, Людка, поверила с первого слова. Прошлогоднюю историю с лютиками она Ему уже давно простила, да и в конце концов не Его это была вина, просто сама идея была отчаянно нелепой. Зря она тогда так мучилась и даже схватила из-за этого (в конце года!) двойку по физике. Уже вечером, когда она вытащила эти лютики из вазочки, вид у них был довольно потрёпанный, потому что у неё они простояли полдня, да и купила она их не первой свежести, — чего же можно было ждать наутро, когда они целую ночь пролежали без воды на капоте автомобиля! Хотя нет, не совсем без воды. Стебли Людка переложила мокрой ватой и обернула сверху полиэтиленом, оторвав полоску от мешочка для хранения хлеба. Так что вроде бы они должны были продержаться, могли продержаться. Но они не продержались. Утром, когда Людка с трепетом заняла свой пост у окна, она поняла, что дело плохо. Очень печально выглядел этот букет, но сделать уже ничего было нельзя, не могла же она пойти и забрать его, вдруг бы кто-нибудь её увидел и всё открылось. Если б ещё Он перед тем, как выбросить лютики, хоть на секунду задумался — это бы означало, что Он их заметил и что-то понял. Но увы! Он рассеянно смахнул цветы с машины, как пылинку с рукава. Именно это небрежное движение так её потрясло, что она потеряла аппетит, а в школе на уроке не смогла ответить, что такое вектор. Она, конечно, и не мечтала, чтоб Он их взял, засушил или ещё что-нибудь в этом роде, — нет. Но хотя бы заметить, улыбнуться, догадаться о существовании кого-то, кто Его… кто… Ну да ладно, всё это ерунда, пусть бы только Он улыбнулся, подумал о чём-нибудь приятном, и пусть бы этот день был для Него днём сплошных удач.
Людка дорого бы дала, чтобы узнать, кто Он такой, чем занимается. Жил Он один, в этом сомневаться не приходилось. Никакой визитной карточки на дверях у Него не было, если только она не ошиблась дверью, когда, после долгих вычислений — «третье окно слева на третьем этаже, значит, дверь или слева, или посередине», — она решилась туда сходить. Итак, какая же — слева или посередине? В конце концов Людка выбрала среднюю, потому что перед ней лежал красивый мохнатый коврик, а перед той, что налево, — обыкновенная грязная тряпка. Выбрала — и тут же удрала, а пойти второй раз оказалось свыше её сил. Напрасно она доказывала себе, что на той же самой площадке у неё могут жить знакомые, что она может идти, например, в гости, да мало ли ещё зачем. Так ни в чём себя и не убедив, Людка вихрем слетела вниз в полной уверенности, что женщина с тяжёлой авоськой, которая подымалась по лестнице, волоча за собой ревущего во всю глотку мальчугана, обо всём догадалась. Наводить справки тоже было рискованно — всякий бы поинтересовался: «А зачем тебе?» Да и как спрашивать — у кого? Впрочем, разве это так уж важно? Валено, что Тот Человек жил на свете, дышал, ходил и что Людка могла на него смотреть.
Однажды ей пришла в голову блестящая идея, почти гениальная, — она и сама от себя такого не ждала. Кто сказал, что она должна выбивать дорожки около их дома? Ведь это отлично можно делать в двух шагах от Его «шкоды». Итак, как только Он подойдёт к машине, она немедленно хватает дорожку и выбивалку, и… и так раз, другой, третий…
План был настолько прост, а успех настолько очевиден, что Людка откладывала исполнение его со дня на день. Приятнее всего было об этом думать. Например, представлять себе, как Он скажет: «Что это вы там всё время чистите?» А она ответит: «Да так, ничего особенного». Или всё получится как-нибудь ещё, по-другому. Только бы успеть домчаться со своей дорожкой до Его дома, прежде чем Он отъедет на машине! И Людка решила с точностью до секунды рассчитать время.
3
У Людки было одно преимущество перед тем же Мареком Корчиковским — она побывала за границей. Не очень, правда, далеко, но всё-таки. Она была вписана в мамин паспорт, имела право обменять деньги, и таможенник осматривал её чемодан. Было о чём поговорить с Ядзькой по возвращении. Но о самом главном, о чём стоило бы рассказать, говорить было нельзя. Ядзька тут же пришла бы к выводу (ох, очередная дурацкая острота Корчиковского: «Шёл я, шёл и пришёл к выводу, что E равняется mc2, а потом оказалось, что кто-то пришёл туда же раньше меня»), что у Людки «не все дома». Вообще-то история эта, все эти мысли, мечты и планы корнями уходили в далёкое прошлое, к тем временам — лет семь или шесть назад, — когда Стефан подарил Людке на день рождения глобус. Даже к Тому Человеку этот глобус имел некоторое отношение. Да-да, с глобуса всё и началось. А точнее, то, что было связано с Ним, началось с «Кон-Тики». Очень это была сложная история. Впрочем, а что в жизни не сложно? Разве что сесть за стол и пообедать… Да нет, пообедать в школьной столовой тоже непросто: ножей не дают — попробуй съешь отбивную; под ногами вертится всякая мелкота, того и гляди, кто-нибудь заедет локтем в бок. Однажды Людка, отчасти по рассеянности, пролила Корчиковскому на брюки томатный суп с лапшой. В отместку за зелёного клопа, а вовсе не потому, что она такая вредная. Потом ей вроде даже жаль его стало — известное дело, пижон, бросился тут же в умывалку, выпросил у нянечки щётку и целый час чистил, оттирал… А Людке ни словечка не сказал, только смерил уничтожающим взглядом. И потом целых два дня её не задирал, воротил с презрением нос. Нет, всё-таки ей решительно не удавалось выработать последовательную тактику по отношению к Корчиковскому. Иной раз ей даже приходили в голову неплохие идеи, но стоило посмотреть Корчиковскому в глаза, увидеть его нахальную усмешку — и она тут же забывала о своих намерениях и делала какую-нибудь глупость. Например, обозвала его однажды «медным лбом», хотя весь класс, и Людка, и Корчиковский прекрасно знали, что это самое неподходящее для него ругательство. А всё нервы…
Людке было лет восемь, когда Стефан подарил ей этот глобус. С изумлением посмотрела она тогда на раскрашенный шар.
— Это земля, оно вертится, — сказал брат.
— Скажешь тоже, земля вертится! — усомнилась Людка.
— И всё-таки она вертится, — ответил Стефан.
Немало прошло времени, пока Людка узнала, чьи слова брат повторял, и поняла, почему он тогда так весело смеялся. А Стефан ткнул в глобус пальцем, и земля в самом деле несколько раз обернулась вокруг оси. Ну ладно, пусть: вертится так вертится, но что же это за земля в кухне на столе — жалкое подобие, которое ничего не стоит обхватить одной рукой!
С тех пор Людка выросла и получила некоторое представление о том, что такое земля. И она полюбила глобус. Она заботливо покрыла его поверхность лаком, чтобы не слезала краска, потому что в старом доме у них было сыро и глобус начал лысеть, от него отвалился кусочек Канады и вспучилась Южная Америка. Людка обратила внимание, что слово «земля» часто пишут с маленькой буквы. Даже если речь идёт не о той земле, что в цветочных горшках, а о земле — планете, частице космоса, где по велению судьбы живут, думают, набираются опыта люди. А какой-нибудь Марс или Венера, Юпитер или Сатурн, о которых мы и знаем-то мало — кое-что про атмосферу и про количество спутников, вот, пожалуй, и всё, — пишутся с большой. И Людка решила в знак протеста всегда писать слово «Земля» с большой буквы, дабы выразить ей своё уважение.
Было их у родителей четверо, а осталась одна Людка. Стефан — «довоенный», самый любимый, самый старший, самый умный, самый лучший… О боже, почему он так поступил!..
Тереса — год рождения сорок второй, оккупация… «Родиться в такое время — подумать страшно». Говорят, в тот самый момент, когда Тереса появилась на свет, рядом с домом разорвалась бомба. Мама испугалась, что дочка вырастет глухой, но, к счастью, всё обошлось, и Тереса окончило музыкальную школу.
Барбара «едва родилась, сразу было видно — не жилец, такая красоточка, и правда, пожила бедняжка два часа и умерла». Но тем не менее о ней вспоминали несколько раз в году — на рождество и в другие праздники. В таких случаях все, из уважения к маме и её заплаканным глазам, старались говорить шёпотом и представляли себе Барбару чудом ума и красоты, а мама прикидывала, сколько бы сейчас Басе было лет и чем бы она занималась.
И Людка. Нежданная, нежеланная. «И зачем людям ребёнок под старость — да, видно, уж так суждено». Тысяча девятьсот пятьдесят третьего года рождения. Мама рассказывала своей приятельнице, что и думать не думала о ребёнке и что для неё самой это была неожиданность. Причём это говорилось, когда Людку уже нельзя было обмануть сказками про капусту и аистов. Ну, а в результате — Людка, поначалу вроде бы и ненужная, вроде неведомо откуда взявшаяся, а теперь горячо всеми любимая, «единственная отрада на старости лет», преспокойно жила на свете и училась в девятом классе.
Тереса, закончив музыкальную школу, сразу же после прощального концерта (Людка сидела в первом ряду и сияла) укатила в Советский Союз в молодёжный лагерь. Всё семейство по этому случаю пришло в неслыханное волнение, потому что до сих пор они никаких дел с заграницей не имели, если не считать служебных командировок Стефана. Мама очень боялась отпускать такую молоденькую девушку на каникулы так далеко. И не зря боялась! Осматривая Ленинград, Тереса познакомилась с молодым латышом Алексом и через год, после бесконечных бурных переговоров с мамой, вышла за него замуж. «Ну, теперь начнутся концерты на кастрюлях и стиральной машине», — сокрушался отец, мечтавший видеть дочь великой пианисткой. Однако его мрачные предсказания не оправдались. Тереса поселилась с мужем в Риге и поступила в консерваторию. Вот у них-то и гостила Людка. Тереса и Непоседа (так в их семье прозвали её мужа, который был специалистом по электронным машинам и вечно куда-то ездил) пригласили всех на месяц к себе. Каждый день они ездили в Дзинтари — это такая курортная местность на берегу моря, полчаса электричкой от Тересиной рижской квартиры. Это был незабываемый месяц. Людка осматривала старую Ригу и рижский порт, побывала в Филармонии, опере, оперетте и в театре (не поняла ни слова, но от этого пришла в ещё большее восхищение). Непоседа подарил ей толстый альбом марок с флорой. Он явно к ней подлизывался — хотя тесть и тёща давно уже сменили гнев на милость, Непоседа по-прежнему делал всё, чтобы завоевать расположение заграничных родственников. Он доставал билеты в театр, пытался говорить по-польски, готовил на ужин национальные латышские блюда. Людка не могла понять, как он только выдерживает — да ещё с неизменной улыбкой — семейные выезды на пляж, увесистые сумки с одеялами и вечный мамин страх перед дождём. Непоседа был сиротой; вырос в детском доме, отец его погиб на воине, в мать умерла. Говорил он о своём детстве редко, но стоило ему коснуться этой темы, как у Людки тут же навёртывались на глаза слёзы, да и мама с подозрительной торопливостью отправлялась на кухню заваривать чай. В конце концов все отлично поняли то, о чём Тересе было известно с самого начала и что она терпеливо втолковывала маме: Алекс счастлив, что у него появилась семья и что теперь он может о ком-то заботиться и кто-то заботится о нём. Всё это Людка рассказывала Ядзе по меньшей мере раз десять, и ещё она рассказывала, как они с Непоседой танцевали чарльстон в шикарном ресторане у самого моря (жаль только, что море было то же самое, что и у нас. Балтийское, а не какое-нибудь другое) и как она была в пионерлагере, и пионеры, узнав о приезде иностранного гостя, просто засыпали её сувенирами, а она для них ничего не приготовила и ужасно неловко себя чувствовала… Правда, Непоседа на следующий день дал ей свой альбом с видами Варшавы и двух куколок в польских национальных костюмах и отвёз в лагерь на машине… Когда она отдала альбом, пионеры попросили её сделать надпись, и она впервые в жизни пожалела, что не слишком усердно занималась русским, но, к счастью, оказалось, что им хочется получить автограф на иностранном языке, так что можно было писать по-польски, и она, войдя в роль, написала: «От представителя 9 класса «А» Варшавской общеобразовательной школы Людмилы Бальвик», что, в общем-то, было мелким жульничеством — она тогда только перешла в девятый класс… Но, во всяком случае, благодаря ей их класс попал в альбом и в Книгу почётных гостей лагеря.
Самое же главное произошло на кладбище. Было это накануне отъезда, когда наконец-то сбылся мамин прогноз — шёл дождь. Родители с Непоседой пошли на техническую выставку, чтобы полюбоваться машиной, сконструированной по проекту их зятя. Отец пошёл, потому что ему было интересно, а мама — из вежливости. Людка там уже побывала на днях, когда они с Тересой возвращались из похода по магазинам, — она тогда долго стояла перед машиной и приличия ради одобрительно качала головой над этим чудовищем.
— Людик, — сказала Тереса, — а хочу съездить с тобой на кладбище. Родителей я уже туда водила, когда вы с Алексом были в кино.
— На кладбище? Ты что, спятила? Кто у меня там, на этом кладбище?
— Не в том дело, Людик! Мы не будем зажигать свечки, у них это не принято, ты только посмотришь, какое это удивительное кладбище, только посмотришь. Кто не был там, не был в Риге.
— А далеко оно? Если из-за какого-то кладбища будет считаться, что я не была в Риге, я согласна, — без особого восторга ответила Людка, потому что по телевизору как раз показывали польский фильм.
— Довольно далеко, но поехать стоит, — сказала Тереса.
— Неужели это так уж необходимо?.. — сделала Людка последнюю попытку уклониться от экскурсии.
— Совершенно необходимо. Это необыкновенное кладбище. Одевайся, копуша.
Пришлось подчиниться. Характер у Тересы был железный, никогда ещё никому не удалось её переспорить. Когда Людка вспоминала, как Тереса в самую жару часами просиживала за пианино в комнате с закрытыми окнами — чтобы не посходили с ума соседи, — она не знала, чего сестра заслуживает в большей степени: восхищения или сочувствия.
— И кто ж похоронен на этом кладбище? — спросила Людка в автобусе.
Ей вообще нравилось громко говорить по-польски на людях, тогда она чувствовала себя иностранкой, заграничной туристкой, все ей улыбались, а и автобусах и трамваях уступали место возле окна, чтобы она могла получше увидеть город.
— Их национальные герои и Райнис.
Фамилия Райнис привлекла внимание сразу нескольких человек, и они стали что-то говорить Тересе по-русски и по-латышски, вперемежку. Тереса отвечала, кивала головой, видимо благодарила.
— Видишь, — сказала она Людке, — здесь это кладбище все знают. Мне объясняли, как туда добраться.
— А кто такой Райнис?
— Великий латышский поэт. Вылезай, приехали.
— На польский его переводили?
— Представь себе, я не знаю; кажется, не переводили. Я читала по-латышски.
— Очень тебе было трудно?
— Как на всяком чужом языке поначалу. Ну, вот и кладбище.
— Это кладбище?!
— Вот именно. Видала ты когда-нибудь что-нибудь подобное?
Людка с Тересой вошли в ворота. За воротами начинался великолепный парк.
Вдоль длинной, обсаженной деревьями аллеи пестрели яркие клумбы. Если бы не надписи на мраморе, их ни за что нельзя было бы отличить от обычных цветочных клумб. Людка и в самом деле никогда не видела такого кладбища-парка.
Они остановились в конце аллеи, где росли две берёзы. У одной из них ветки были опущены книзу, а у другой — к большому Людкиному удивлению — все листья были обращены вверх.
— Вот это и есть надгробный памятник Райнису, — сказала Тереса.
Подошли поближе. «Не Мицкевич же, с какой стати мне раскисать?» — подумала Людка, чувствуя, что у неё дрогнула какая-то струнка в груди. И всё из-за этих живых символов скорби и торжества жизни.
— Тереса, а что здесь, внизу, написано?
— Как бы тебе поточнее перевести… Это строка из стихотворения Райниса: «Освобождённый, поднимусь к солнцу и увижу утро завтрашнего дня».
Освобождённый, поднимусь к солнцу… Да он же великий поэт! Всего несколько слов, а сразу чувствуется. В этих словах было всё то, что Людка знала, но не умела выразить. Была человеческая дерзость, и мудрость, и слабость, и легкомыслие, и брошенный миру отчаянный вызов, и фантастические замыслы алхимиков, и эликсиры, и лекарство от рака, и смерть Лумумбы, и экспедиция на «Кон-Тики» и лаборатории великих биологов, и проекты Леонардо да Винчи, и каналы в пустыне, и пирамиды фараонов, и государство инков, и мир, каким он будет через несколько сот лет, и космические полёты, и путешествия в глубину джунглей, и собственные Людкины колебания, чему посвятить жизнь — биологии или археологии, и то, от чего хотелось плакать без причины, и Людкино чувство к Тому Человеку, и она сама, со своими смешными мечтами, — с тех пор, как она полюбила глобус, ей хотелось обнять весь мир.
4
Быть может, муха и не относится к числу наиболее удачных творений природы, но чтобы вот так, живую, в пылесос! Впрочем, почему не относится? Об этом ещё надо подумать. Пользы от мух, честно говоря, никакой, и, конечно, эти мерзкие, назойливые создания заслуживают разумного, планомерного уничтожения. Однако поскольку мухи — переносчики микробов, а микробы вызывают в живых организмах образование антител, то выходит, что мухи в какой-то мере способствуют созданию иммунитета к болезням. Так что же, есть от них толк или нет? Говорят, у мухи не то совсем отсутствует, не то чрезвычайно слабо развита нервная система (точно Людка не знала), — в таком случае она умирает в пылесосе без особых мучений. Может быть, она даже и не погибает, а как-нибудь там… выкарабкивается, в общем. Нет, всё-таки у этого Корчиковского не хватает винтиков. Ну, пустил бы в ход отраву, порошок ДДТ (в классе говорили: «Этот, считай, ДДТ» — «дошёл до точки», когда кто-нибудь начинал нести совсем уж дикую ахинею), это хоть гуманные способы. Но придумать такое, да ещё этим хвастаться!
И надо же было им попасть в одну школу! Людка мучается с ним так… Сколько же? Четвёртый класс, пятый, шестой, седьмой, восьмой… уже шестой год. Одна пани Мареш сразу его раскусила и никогда не поддаётся на провокации.
А вот, например, пан Касперский, физик, однажды попался. В восьмом классе, в конце года, он спросил у Корчиковского про закон Архимеда. По физике Корчиковский всегда шёл хорошо, даже, можно сказать, блестяще. И, конечно, много себе позволял. Так вот, когда у Корчиковского спросили про закон Архимеда, он вышел к доске и сказал:
— Я забыл. Напомните мне, пожалуйста, хотя бы первую фразу.
— Помилуй, Корчиковский, что ты несёшь, весь закон формулируется в одной фразе!
— Это печально, — ответил Корчиковский. — Но ничего, двойки у меня всё равно не будет, годовая, к счастью, получается выше.
— Ты думаешь? — поинтересовался пан Касперский. — А по моим расчётам, у тебя вполне может получиться двоечка.
— Давайте посчитаем, пан учитель. За первую четверть пять, за полугодие четыре, за третью пять, а если теперь пара, то шестнадцать разделить на четыре — получается четыре.
— Два получается, — твёрдо сказал пан Касперский. — Я просто разделю на восемь.
— А почему?
— А потому, что я не люблю таких остряков, — сказал пан Касперский, хотя все учителя, к сожалению, любили Корчиковского. — И ещё потому, что хочу увидеть, какую ты, Корчиковский, скорчишь физиономию, когда получишь переэкзаменовку по физике.
— Не думаю, чтоб это было возможно.
— А я тебе докажу.
— А я даю вам слово, что на каникулах не притронусь к учебнику.
— А это уж твоё дело.
Они обменялись ещё несколькими фразами, каждая из которых начиналась с «а», и в конце концов пан Касперский доказал-таки Корчиковскому — не выставил ему годовой. Марек, конечно, переэкзаменовку выдержал, и если Людка, болтая с ним, вспоминала эту историю, то только для того, чтобы выяснить, в самом ли деле он на каникулах совсем не занимался физикой. Какой бы уж он там ни был, этот Корчиковский, но слово, похоже, держать умеет… Вот бы узнать. Но только точно. Ей до смерти хотелось увидеть, как он, нарушив честное слово, зубрит физику. Как бы она его презирала! Как высокомерно поворачивалась бы к нему спиной! А так что? Спиной поворачивался он, когда ребята спрашивали, много ли он летом вкалывал.
Стоя на передней площадке трамвая, Людка ехала во Дворец культуры на занятия биологического кружка. На улице Сверчевского в трамвай влез Корчиковский, пристроился возле автомата и стал всем отрывать билеты. Интересно, себе он оторвал? Куда он может ехать? Ни в какие кружки во Дворце культуры он не ходит, а сошёл, как и Людка, на Свентокшыской. И пошёл за ней следом, отстав на несколько шагов и делая вид, будто с нею не знаком. Людка решила думать только об озимом ячмене. Ей сегодня делать доклад. Не хватало ещё, чтобы этот тип помешал её научной карьере. И вдруг Людка увидела в нескольких шагах от себя… Того Человека. В одну секунду и Корчиковский и озимый ячмень были забыты. Людка окинула себя мысленным взором. На ней были синие в зелёную клетку колготки, начищенные до блеска сапожки, светлое пальто, белый вязаный шлем и красный шарфик; школьная эмблема предусмотрительно приколота к воротнику и не видна. Так что Он может обернуться — вид вполне приличный. А прошляпить такой случай никак нельзя. На кружок она и так ходит чересчур аккуратно, один раз можно и заболеть. И Людка пошла за Ним. Они обогнули Дворец культуры, и Он вошёл туда, где были кассы кинотеатров «Дружба» и «Молодая гвардия». Людка заняла очередь прямо за Ним и принялась лихорадочно шарить по карманам. Четыре пятьдесят. Мало. О боже, а в школьной сберегательной кассе у неё лежит сто двадцать злотых! И тут Людка вспомнила про Корчиковского. Она сказала стоявшей позади женщине, что сейчас вернётся. Куда же он шёл, этот Корчиковский? Наверно, тоже в кино. Выбежав на улицу и оглядевшись, Людка увидела, как он приближается к кассам.
— Марек! — радостно воскликнула Людка. — Одолжи до завтра пять злотых.
— Пять злотых? — задумался Корчиковский. — Такой суммой я, пожалуй, могу рискнуть. Если только я захватил с собой бумажник.
— Мелочь в бумажник не кладут, — осадила его Людка, — пошарь-ка лучше в кошельке. Завтра отдам.
Марек начал страшно медленно рыться в карманах.
— Ты что, на биологию уже не ходишь?
— Давай быстрей, а то у меня очередь пройдёт. Ты тоже в кино?
— Нет, я только хотел узнать, что идёт в этом кинематографе. А вообще-то я иду записываться в судостроительный кружок.
— В судостроительный?! — переспросила Людка, но ответа дожидаться не стала, потому что Корчиковский нашёл наконец эти несчастные пять злотых. — Приветик! — крикнула она и бросилось обратно к кассам.
На ходу она ещё успела подумать, что Корчиковский никогда не узнает, как он её выручил. Может быть, от этих пяти злотых зависит вся её жизнь. Странно, почему она разговаривала с ним таким противным писклявым голосом. Стоявшая за Людкой женщина улыбнулась и подвинулась, пропуская её в очередь. Но это вдруг потеряло всякий смысл. Земля закружилась с бешеной скоростью, а когда остановилась, всё было уже совсем не так, как представляла себе Людка. Он стоял не один. Рядом с Ним появилась девушка — живая, реальная (не то, что жена Тура Хейердала, которую Людка никогда не видала, да и вообще всё это было в Норвегии и Людку совершенно не волновало), в высоких красных сапожках, в светлой шубке и с сильно подведёнными глазами. Она показалась Людке очень красивой. Людка прислонилась к стене, и женщина из очереди, с виду такая симпатичная, задала предательский вопрос:
— Что с тобой, девочка? Тебе дурно?
И тут только Он проявил интерес, обернулся и посмотрел на Людку. Вспомнил ли Он девочку, которая подняла в магазине десять злотых, Людка не знала и знать не хотела. Она пулей вылетела на улицу, и всё ей стало безразлично.
Сама не зная как, по инерции передвигая ноги, Людка подошла к Дворцу культуры, хотя вовсе не собиралась ни идти туда, ни тем более делать доклад. А тут, как назло, из дворца вышел Корчиковский и объявил, что записался в судостроительный.
— На тебе твою пятёрку. Пока, — сказала Людка, удивляясь, что в состоянии ещё ворочать языком.
— Ты разве не идёшь в кино?
— Нет.
— ДДТ. Билетов, что ли, нет?
— Есть билеты. Отстань от меня, Маркиз, ради бога!
— Как пятёрка понадобилась, так Марек, а теперь сразу Маркиз. Ну ладно, завтра контрольная по математике, а я что-то не слыхал, чтобы маркизы раздавали шпаргалки.
— Мне твои шпаргалки не нужны.
— Зато Ядзьке нужны. А если Ядзька сдувает у меня, а ты у Ядзьки, то у кого в результате сдуваешь ты?
— Подумаешь, один раз списала, когда пришла в школу после болезни. Сам хорош: «С первого взгляда, с десятого взгляда…» Или: «Кислоты — это химические соединения без всяких оснований».
— А по-твоему, в средние века дороги были такие узкие, что на них с трудом могли разъехаться два автомобиля.
— А ты забыл, как сказал, что самые распространённые в Австралии животные — карманники?
— А ты сказала, что в городе убирали старые развалины и на их месте возводили новые…
— А ты сказал, что «Пан Тадеуш» — классный детектив…
— А по-твоему, у Яна Кохановского в детстве были длинные загнутые ресницы… А откуда ты можешь знать, какие у него ресницы, — фотографий тогда не было, а художники рисовали как бог на душу положит…
— А ты дал Касперскому честное слово, что не будешь заниматься физикой, а сам целых два месяца вкалывал… — выпалила Людка и тут же поняла, что перехватила.
Корчиковский вздрогнул, побледнел, покраснел и с трудом выдавил:
— Больше никогда в жизни ко мне даже не подходи. Это подлая, гнусная ложь!
— Ну и пожалуйста, — неуверенно пробормотала Людка.
Но Корчиковский ничего не ответил, он шагал по Маршалковской, подбрасывая ногой комья талого снега. Куртка у него была расстёгнута, концы шарфа развевались за спиной. Людка пожала плечами. Ну и пусть, с ним всегда так. Она бы, может, воздержалась от последней, самой ядовитой фразы, если б не то, что случилось возле касс… Во время перепалки с Корчиковским она почти забыла о своём горе, а тут оно разом на неё навалилось. Людка медленно побрела домой. Ехать в трамвае она просто не могла. Её обгоняли прохожие, а она думала, до чего же страшно и подло устроен мир: все вокруг веселы и счастливы, все куда-то спешат, каждого ждёт что-то приятное, а у неё впереди ничего уже нет, одна беспросветная пустота, и незачем ложиться спать и вставать, незачем ходить в школу, незачем дежурить у окна. Кто теперь поймёт и оценит планы, которые она так долго вынашивала? Кому об этом расскажешь? Ах, если б можно было прямо сейчас, с автобусной остановки, отправиться куда-нибудь далеко-далеко, хотя бы в Африку. На съедение крокодилам. Будревич в своих репортажах писал, что, если на тебя нападёт крокодил, надо ткнуть его пальцем в глаз. Нет, смерть в крокодильей пасти слишком ужасна. И вообще крокодил — мерзкая гадина. Череп плоский… Эх, жаль, она не догадалась сравнить Корчиковского с крокодилом! Это было бы похлеще, чем с резусом. Обезьяна-резус в систематике занимает гораздо более высокое положение. Крокодила, единственного из всех животных, по правилам охоты разрешается ослеплять — это она тоже вычитала у Будревича. Ещё в те времена, когда была влюблена в знаменитого путешественника Станислава Хемпеля. Но Станислав Хемпель погиб, и всё кончилось. В День поминовения, когда Людка ходила с родителями на кладбище, где похоронены дедушка и Барбара, она и Хемпелю поставила свечку на чьей-то заброшенной могиле.
А потом Стефан подарил ей книгу «Путешествие на «Кон-Тики», а потом она увидела Того Человека…
Она шла тогда домой из магазина, купив картошки и две баночки сметаны (мама собиралась готовить рассольник и картофельные оладьи), и вдруг увидела Его. Он стоял под тополем, в светлых брюках и коричневой рубашке и держал под мышкой теннисные ракетки. К нему подошёл другой человек, какой-то тусклый и незначительный, потому что всё вокруг сразу стало тусклым и незначительным. Они сели и «шкоду». А как лихо Он срывался с места! Людка часто ездила со Стефаном и Элизой и кое-что в этом смыслила. Всё в тот день шло в одном чётком ритме: Хей-ер-дал, Хей-ер-дал — решительно всё, и уроки, и возня с картошкой для оладьев, которую нужно было натереть на тёрке, и сон. А потом, потом…
Людка подходила к дому, зажав в посиневшем от холода кулаке — перчатки надеть она забыла — пять злотых Корчиковского. Из-за этой перепалки он их не взял, вот и придумывай теперь, как их вернуть. Новая забота. Впрочем, можно через Ядзю. Они вроде не ссорились.
Дома сидела заплаканная Элиза. Этого ещё не хватало. Как раз сегодня. Отец, присев на краешек старого кресла, сосредоточенно рассматривал занавеску и время от времени постукивал стеклянным мундштуком по горшку с пеларгонией. Потом брал сигарету, аккуратно разламывал её ровно пополам и вставлял в побуревший от никотина мундштук. И все молчали. Когда Людка поздоровалась. Элиза в ответ едва кивнула. Кошмар какой-то! Нет, ей не выдержать этого молчания, от которого в доме сразу стало холодно и неуютно. Как ни была Людка занята своими мрачными мыслями, она всю дорогу представляла себе, что придёт домой и мама спросит, почему так рано, разве сегодня не было кружка, а потом скажет, что в воскресенье, наверно, будет сильное похолодание и что ходить зимой в бассейн легкомысленно, но если она всё-таки собирается идти, пусть, по крайней мере, хорошенько просушит волосы. И даст ей на ужин творог с клюквенным вареньем, а может, оставшуюся от обеда котлету. А потом можно будет сунуть ноги в шлёпанцы, сесть за столик перед своим дорогим глобусом и спокойно обо всём подумать. Угораздило же Элизу прийти именно сегодня!
На Людку никто далее не взглянул. «Что Людка — у Людки всё в порядке, — думали они, — до неё ли, когда в семье такая беда». А ей не лучше, чем Стефану и Элизе, даже, наверно, хуже, потому что Стефан с Элизой взрослые, умные, все уже понимают и любым своим огорчением могут поделиться с другими. Людка ещё немножко подождала, демонстративно ступив сапогами прямо на ковёр, но мама и на это не обратила внимания. Впрочем, Элиза тоже сидела в сапожках, и две грязные лужицы лениво впитывались в ковёр. Людке всё-таки ужасно хотелось, чтобы мама вспомнила свой обычный репертуар и сказала: «Ты мне своим пеплом все цветы погубишь!», или: «Ну как можно, не переставая, курить эту махорку», или ещё что-нибудь в этом роде, и сразу бы всё стало на свои места. Но она понимала: ничего подобного не будет и быть не может.
Людка заглянула на кухню. Сегодня её всё раздражало. В раковине стояли грязные кастрюли, из холодильника текла вода. Наверно, днём, когда было ещё светло, выключили электричество. На клеёнке лежала опрокинутая банка с клюквенным вареньем, и оттуда, словно противные маленькие тараканы, выползали клюковки. Из глиняного горшочка уныло свисала веточка сушёной петрушки. Нет, в кухне тоже было тоскливо. Людка пошла к себе в комнату, достала тетрадь с ключиком, которую ей подарила Тереса, открыла её и написала:
«Знайте, что Вы, хоть и нечаянно, причинили мне огромное горе».
«А чем же, собственно?» — задумалась Людка. Грош цена чувству, которое может угаснуть из-за пары красных сапожек! Почему к Туру Хейердалу и Станиславу Хемпелю у неё никаких претензий не было — ведь не из-за того же, что она их никогда в глаза не видела? Почему и она и они могли спокойно ждать, пока она станет совсем взрослой? Людка пошла в ванную. На стеклянной полочке под зеркалом тонким слоем лежала пыль. Людка написала пальцем: «Ну так что же?» — и, подумал, добавила ещё три вопросительных знака. Потом перебрала перед зеркалом волосы, ища седину. Говорят, от горя люди мгновенно седеют. А она нет. Ни одного седого волоса. Как будто она страдала не по-настоящему.
Людка открыла дверь в комнату. Мать машинально спросила:
— Уроки сделала?
— Нет, — сказала Людка.
— Вот и хорошо, деточка, вот и хорошо! — ответила мать.
Ну конечно, мать сейчас ни о ком, кроме Элизы, думать не может. Примостились рядышком на диване и шепчутся. Отец перебрался в кухню и там теперь стучит мундштуком по блюдцу с окурками. Он поднял на Людку усталые глаза.
— Ты ужинала?
— Нет, — сказала Людка.
— Возьми что-нибудь сама, ты же видишь, маме не до тебя.
— Я не буду ужинать.
— Тогда ложись спать.
— Я уроки не сделала.
— Тогда делай уроки, доченька, — и пристукнул мундштуком.
Людке стало жаль родителей. Конечно, ей сегодня нужно внимание, вот хотя бы как в тот раз, когда она заболела гриппом и все суетились, поили её чаем с малиновым вареньем, заставляли глотать аспирин, ну и всё в таком роде. Но нельзя забывать, что родителям тоже тяжело, у них своё горе. И всё из-за любимого сыночка, образцово-показательного Стефана. Людке захотелось взять и разбить парочку тарелок из сервиза, маминого свадебного подарка, который «всю войну с нами пережил». Ну, а с Людкой он ничего не переживал. По ней, эти семейные реликвии с голубыми розами и золотой каёмкой только зря место в шкафу занимают, да ещё три раза в год приходится — осторожно! — перемывать их в мыльной пене. А на стол этот сервиз ставят только под рождество, причём мима так гипнотизирует всех взглядом, что от страха кусок застревает в горле. Как можно придавать значение подобной ерунде, Людка не понимала. Но сейчас ей хотелось расколотить салатницу (этой салатницей не пользовались решительно никогда) не со зла и не из хулиганство, а из жалости к маме. Потому что мама стучать мундштуком по блюдцу не станет, а будет, бедная, после Элизиного ухода плакать чуть ли не всю ночь. Мама очень любила Элизу, совсем как родную дочь, — она, кажется, напоминала ей Барбару. Так вот, если грохнуть салатницу об линолеум, мама отругает Людку, бросится собирать драгоценные осколки и хоть ненадолго отвлечётся. А ещё можно сделать вид, будто ей что-то понадобилось в буфете, и как бы нечаянно рассыпать пакет муки. Или выпустить пух из подушек. И у мамы сразу появилась бы новая забота. Не кто иной, как именно Стефан всегда поучал Людку: «Людик, если у тебя будут серьёзные неприятности, первым делом постарайся найти себе какое-нибудь занятие. Прибери в комнате. Перешей платье. Заставь себя сесть за уроки. Главное — пусть пройдёт немного времени, и все твои беды покажутся не такими страшными». Ну, сам-то Стефан нашёл чем заняться, вернее, не чем, а кем.
— Холодильник оттаял, — сказала Людка отцу. — Света, что ли, не было?
— Мы хотели его разморозить и выключили, но тут пришла Элиза, и всё так и осталось.
— Папа, неужели они разойдутся? — тихо спросила Людка.
— Боюсь, что так, доченька, боюсь, что так. А чем мы с мамой можем помочь? Мать говорила ему, просила… да что поделаешь? Ложись спать.
Значит, ничем нельзя помочь, когда один человек перестаёт любить другого? Неужели нет такого слова, такого заклинания, чтобы всё пошло по-старому? И от чего это зависит? Наверно, не от красоты, потому что Элиза в пятнадцать раз лучше, чем та. Людка видело её со Стефаном на улице, но тогда ещё не понимала, что это означает.
Людка вернулась в комнату. Элиза ушла, две лужицы от её сапожек начинали подсыхать. Мама в той же позе сидела на диване.
— Ты сделало уроки? — спросила она.
— Сделала, — ответила Людка. Рассчитывать приходилось только на себя.
— Тогда ложись спать.
— Спокойной ночи, — сказала Людка в пустоту.
Далось им это спаньё! Как в доме неприятности, только и слышишь: ложись спать да ложись спать. Если бы переговоры насчёт замужества Тересы ещё немного затянулись, Людка успела бы выспаться не хуже медведя в долгую северную зиму. Но тогда она была гораздо меньше, и, ясное дело, на время серьёзных разговоров взрослым хотелось куда-нибудь сплавить ребёнка. Но теперь?! Людка пошла к себе и написала в дневнике:
«Моя дочь Людмила Бальвик не приготовила уроков по уважительной причине, так как у неё вчера сильно болела голова.
С уважением…»
Дневник она понесла отцу на кухню.
— Подпиши, папа.
— Что это?
— Ничего страшного, не двойка.
— Давай ручку. У тебя болит голова?
— Да.
— Ложись спать.
— Как раз и собираюсь, — сказала Людка, захлопывая дневник.
У себя в компоте она с размаху бросилась на железную кровать. Жалобно заскрипели пружины. Людка решила применить старое доброе средство от всех бед и честно старалась заснуть. Чего только она ни делала — и душ приняла, и зарывалась головой в подушку. До сих пор бессонница была знакома ей только по рассказам взрослых, а тут пришлось на собственной шкуре испытать, каково это. Странное, непостижимое ощущение. Глаза закрывались, но в груди скапливалось и давило, отгоняя сон, что-то холодное и тяжёлое. И веки подымались, как будто кто-то внутри дёргал за шнурочек. Людке казалось, что там у неё сидит какое-то скользкое живое существо, и ей хотелось задушить его, смять, раздавить. Она ворочалась с боку на бок, устраивалась то так, то этак, прижимала к животу кулаки — всё без толку. Проходил час за часом, и Людке в конце концов надоела эта комедия. Она попыталась восстановить в памяти содержание всех ковбойских фильмов, которые смотрела. Теоретически эта напряжённая умственная работа должна была быстро её утомить, потому что фильмов таких она видела очень много, а лучшие — даже по два раза. Но вспомнить, о чём там шла речь, оказалось просто невозможно. Ничего, кроме раздражения, это не вызывало. На фоне одинаковых пейзажей судьбы героев были тоже какие-то одинаковые. Людка перешла на другие фильмы — в надежде, что они помогут ей понять, почему Стефан разлюбил Элизу. И вдруг она почувствовала, что плывёт на льдине по тёмной холодной реке, а на залитом солнцем берегу стоит Тот Человек и протягивает к ней руки. Льдину сносило на середину реки, но Людка сделала нечеловеческое усилие и всё-таки дотянулась до Его руки.
И потом они стояли рядом и смущённо улыбались друг другу, а вдали, на другом берегу, исчезали во мраке высокие красные сапожки.
5
— Людик, — начал Стефан.
— Нет, — строго сказала Людка. — Нет. Никакой я больше не Людик. Я человек. Мне в июле будет пятнадцать. Я пойду, Стефан. Меня теперь трубочками с кремом не купишь.
— А зоопарком?
Людка невольно улыбнулась.
— Это было давно, Стефан. Сто лет назад.
— Год назад, Людик. Всего только год. Родители говорят, что ты очень переживаешь. Ну, я и хотел тебе объяснить…
— Что ты хотел мне объяснить? Разве ты можешь объяснить, почему больше не любишь Элизу?
— Нет. Этого я объяснить не сумею.
— Может быть, Элиза сделала что-нибудь такое… ужасное?
— Нет, ничего такого она не сделала.
— Но тогда почему же, Стефан, почему? Я не понимаю.
— Этого никто не понимает. Так получается.
— Я не понимаю, неужели это может пройти!
— Ты всё ещё влюблена в Хемпеля?
— Нет. Но это не в счёт, понимаешь? Тогда это было не по-настоящему.
— А теперь?
— Стефан… — Людка решительно отодвинула мороженую землянику со взбитыми сливками. — Ты этого не сделаешь, это было бы… подло. Элиза любит тебя, она плачет. Ты её обманывал, ты лгал ей, я знаю.
— В том-то и дело. Я больше не хочу её обманывать, не хочу, чтоб она плакала. Пожалуйста, Людик, перестань об этом думать. Всё утрясётся, увидишь. Мне ещё трудней, чем тебе. Я на тебя рассчитываю.
— И зря, — ответила Людка.
Она уже несколько минут присматривалась к женщине, одиноко сидевшей в углу кафе. Это узкое лицо и тёмная чёлки до бровей почему-то казались ей знакомыми.
— Стефан, ты, случайно, не знаешь, кто эта женщина? Там, у окна?
— Знаю, Людик. Это именно она. Я думал, ты захочешь с ней познакомиться.
Людка почувствовала, как всё в ней сжимается, леденеет, кричит от возмущения.
И прежде чем Стефан да и сама она успела опомниться, Людка схватила вазочку со взбитыми сливками, подбежала к женщине с чёлкой и вывалило всё содержимое ей на голову. И крикнула:
— Очень рада с вами познакомиться!
Кажется, сразу поднялась страшная суматоха. Стефан крепко схватил её за руку и вытолкал из кафе. Позже Людка едва могла вспомнить, как всё это произошло. Рукой она, что ли, эти сливки выгребала? Во всяком случае, когда её вышвырнули за дверь и она, захлёбываясь слезами, бежала по улице, обманутая, несчастная, рука у неё была вся перемазана. Людка помнила, как она шла к столику в углу кафе и как с надеждой вспыхнули рыбьи глазищи этой противной бабы. И ещё Людка помнила, как кто-то крикнул: «Подумайте только, такая молоденькая, и уже…», а кто-то хотел её задержать, но Стефан проложил ей дорогу к двери. А когда она влетела домой, на ковре посреди комнаты сидел Яцек и шепелявил:
— Тётя Людка, а Яцек взял малки, ты не будесь на него кличать?
— Буду кричать? — ответила Людка. Больше всего на свете ей сейчас хотелось кричать, визжать, орать, вопить во всю глотку. — Положи марки на место, сопляк!
— Оставь ребёнка в покое, — мягко сказала мама. — Возьми свои марки, но дай ему что-нибудь другое поиграть. Элиза завтра уезжает. Игрушки Стефан принесёт только утром.
— Ну да, он занят — ему надо вымыть голову одной даме, — пробормотала Людка.
— Что ты плетёшь?
— Поймёшь завтра, когда твой любимый сыночек прибежит жаловаться. А куда Элиза усажает?
— Не знаю, деточка, ничего я теперь не знаю. Яцек некоторое время побудет у нас. Может, они ещё помирятся? Они же никогда раньше не ссорились.
— Папа купил мне тлактол, — сообщил Яцек из-под стола.
Разбитый дом, разбитая семья. И всё потому, что у любви бывает конец. Как же жить на этом свете? Чего искать? Видно, чтобы чувствовать себя счастливым, надо ходить, зажмурив глаза. Видно, лучше всего не думать, не глядеть, ни к чему не присматриваться, не читать газет, не смотреть телевизор или взять громадную лопату и перекопать весь этот мир вдоль и поперёк. Может быть, кто-нибудь считает, что Людка готова, не требуя объяснений, проглотить любую обиду и с тупой покорностью по-прежнему носить чистый воротничок и получать хорошие отметки? И выносить мусор, и мыть поело обеда кастрюли, и примерно вести себя, чтобы родители разрешили посмотреть вечером по телевизору детективный фильм? А вот и нет — не надо ей чистого воротничка, не будет она выносить мусор и мыть кастрюли, не будет получать хорошие отметки, примерно нести себя и смотреть по вечерам телевизор! Эх, жаль, у неё тогда, в кафе, не оказалось под рукой ещё бутылки лимонаду. И нечего ей внушать, что вся её жизнь — это сплошной биг-бит! Разве она одна виновата?! Очень ей надо! Да у них в классе всего, может, человека три сходят с ума по биг-биту, хотя похоже, что и они только делают вид. А остальные просто танцуют, потому что это модно, вроде как когда-то моден был рок-н-ролл, и только. Нет, пока что-нибудь не выдумаешь, взрослые к тебе серьёзно относиться не будут. Когда человек ходит как заведённый в школу, из школы, на кружок, с кружка, в бассейн, из бассейна, на волейбол, с волейбола, бегает с авоськой за картошкой, стоит, как ишак, в очереди за карпом, а на родительском собрании о нём говорят: «В общем, не плохо, но по химии не мешало бы подтянуться, да и с физикой слабовато», — то такой человек всё равно что не живёт на свете. А вот как схватишь подряд пять пар или, ещё получше, останешься на второй год — ого! Тут они сразу засуетятся! «Может быть, тебе трудно? Может, ты чего-то не понимаешь? Может, помочь тебе, детка? Может быть, купить тебе часики? Да, мало мы тебе уделяли внимания, сами кругом виноваты, не огорчайся, лапушка, получишь магнитофон…»
Людку так и трясло от злости. Разве она просила что-нибудь у родителей? Или требовала чего-то невозможного? Только одного: чтобы у неё на столе ничего не трогали. Может, ей вдруг магнитофон захотелось, хотя ей, конечно, хотелось. У половины класса есть магнитофоны или транзисторы (у Корчиковского нет). А ведь её родители живут очень прилично: отец — прораб, хорошо зарабатывает, а мама получает пенсию. Людку одевают, раз в неделю выдают мелочь на карманные расходы и время от времени делают подарки. И ой, наивной дурочке, этого хватало! Слишком много у неё было других забот. В этом-то, наверно, и заключилась ошибка. Потому-то она такая серенькая и незаметная. И в классе ничем не выделяется. Вот все и считают, что никаких огорчений в её жизни не существует. Никаких проблем, никаких сложностей! Ну ладно, теперь она им покажет!
Людка крутанула глобус. «Ох, Земля. Земля, куда это мы так летим и зачем? Корчиковский хоть расстояния между планетами вычислять умеет, а я что? Ничего».
6
Людка любила спою школу. Школа у них замечательная. Вначале, пока не надоело, они называли её «министерством», а классы «департаментами». В этом что-то было — кинешь так небрежно: «Он не из нашего департамента…» — и вроде в собственных глазах вырастаешь, хотя именуешься, соответственно, «просителем». Полностью название звучало так: «Министерство общественных рыданий и страданий». Им скоро всё это приелось, про министерство в классе забыли, и школа осталась школой. Из Союза художников пришли красивые девушки и молодые люди в кожаных куртках и увесили все коридоры пёстрыми картинками. Нельзя сказать, чтобы Людка особенно в этом разбиралась (хотя пани Мареш раз в месяц водила их на какую-нибудь выставку — хорошо ещё, но заставляла выстраиваться парами), но картинки были весёлые. А классы украсили чёрно-белыми репродукциями. Может, это и были настоящие произведения искусства, но выглядели они, признаться, довольно уныло. Родительский комитет расщедрился и купил белые занавески в народном стиле, а кто-то, кажется и в самом деле какое-то министерство, к сожалению, превосходно оборудовал учебные кабинеты — не то что в семилетке, где кабинетов вообще не было и для безделья существовали прекрасные оправдания, вроде: «Вот если б я своими глазами увидел, я бы поверил, а может, даже и понял» (Корчиковский).
Но лучше всех в школе была пани Мареш. («Вам с нами будет нелегко. Нас, молодых, часто не понимают, вот и приходится защищаться».) Пани Мареш ужо могла выйти на пенсию, она только хотела довести их класс до аттестата зрелости. Впрочем, что значит довести? Пони Мареш никого никуда не вела, пани Мареш шествовала во главе. Была пани Мареш полная, светловолосая, энергичная, и хотя никогда не носила ни шерстяных гольфов, ни кедов, ни спортивной сумки на плече, что-то и её облике неуловимо напоминало руководителя туристской группы в Высоких Татрах. Не спеша, ритмично, размеренно, спокойно, твёрже шаг, вдох, выдох…
Когда ребята впервые увидали её васильковую шапочку с помпоном, они едва удержались от смеха, но постепенно шапочка стала неотъемлемой частью школьного и классного быта, и, когда однажды наш: Мареш явилась в меховой шубе и шляпе, все только рты разинули и даже слегка смутились. Модная дама в манто не имела ничего общего с их пани Мареш — их пани Мареш носила подбитое мехом бежевое пальтецо с рыжим лисьим воротником и вязаную шапочку василькового цвета. Похоже было, что и сама пани Мареш в этом наряде чувствовала себя неважно — она чуть ли даже не начала оправдываться: задавая им немного больше обычного, она сказала, что сразу же после уроков уезжает и что «если вы тут без меня вздумаете выкинуть какой-нибудь номер, пеняйте на себя». Но и пенсионеркой пани Мареш представить было трудно, разве что во главе колонны демонстрантов Союза пенсионеров. Транспарант в её руке выглядел бы весьма уместно. Прозвищ ей придумывали много: и «Помпончик» и всякие другие, но прозвища получались неподходящие, смешные или глупые и как-то к ней не приставали; так она и осталась пани Мареш, и этот неожиданный вариант оказался самым оригинальным.
И пани Мареш никогда не говорила: «Кого это ты из себя корчить, Корчиковский?»
Хотя пани Мареш относилась к ним очень хорошо, у Людки всё-таки ёкнуло сердце, когда ей велели остаться после уроков. После получасовой задушевной беседы с пани Мареш правонарушитель чувствовал себя так, будто его полчаса било и крутило в стиральной машине. Правда, этой пытке пани Мареш подвергала их не часто, но уж если брала кого в оборот…
— Людка, ты ужасно выглядишь, — сказала пани Мареш, а у Людки камень с души свалился. — Как последняя замарашка, прости меня. Волосы сальные, воротничок грязный, ногти грязные, тапки порвались, в школу ты являешься в нечищеных сапожках, на пальто не хватает двух пуговиц. И это называется хорошенькая, милая пятнадцатилетняя девушка! Дырку в синих колготках ты заштопала красными нитками. Эмблему ты всегда носила под воротником, ну ладно, бог с вами, — мода есть мода, хоть это и глупо: эмблемы стыдиться нечего. Но теперь ты ещё лучше придумала — вообще перестала её носить. Что всё это значит? У тебя неприятности? И по химии ты схватила двойку. Ну так в чём же дело? Дома что-нибудь стряслось?
— Нет-нет, пани учительница, дома у меня всё в порядке. Я только… я только за… — Людка замолчала и опустила голову.
— Садись, Людка, разговор у нас, к сожалению, будет долгий. Что означает это твоё «за», когда ты совершенно явно «против»?
— Да, против, — Людка селя за парту, а пани Мареш на стул напротив неё. — Я за… заявляю протест.
— Против чего же? — По круглому лицу пани Мареш скользнула тень слабой улыбки.
Людка собралась с духом и посмотрела ей прямо в глаза.
— Против порядков на земле.
— Отлично! Это и нужно! Побольше бы нам таких! Насколько знаю, в каждой школе протестует процентов восемьдесят учащихся, но не такими странными методами. Как ты выражаешь свой протест? С помощью грязного воротничка? Или забрызганных сапожек?
— А как мне ещё выражать, я не знаю.
— Когда ты поймёшь, как нужно выражать протест, я скажу, что ты стала взрослой. Но ты, по крайней мере, точно знаешь, против чего ты протестуешь?
— Точно. Это я знаю точно.
— Ну что ж. Это уже очень много, — вздохнула пани Мареш. — Так вот, Людка, мне бы хотелось с тобой кое о чём поговорить. Я просто своим ушам поверить не могла! Второй год я у вас классный руководитель, и всегда ты была спокойной и дисциплинированной девочкой. Значит, ты в кафе протестовала с помощью взбитых сливок?
— Да-а-а. А откуда вы знаете? Неужели Стефан рассказал? Не может быть!
— А кто это Стефан?
— Мой старший брат.
— Нет, он, конечно, ничего не рассказывал. Значит, это был твой брат… — пани Мареш достала из сумки пачку сигарет и долго мяла одну, как будто услышала что-то неожиданное и не могла найти нужных слов. — А кто же пострадал от твоего протеста?
— Этого я не могу сказать.
«Там сидела одна тётка из родительского комитета, на тарелке у неё было одно пирожное с шоколадным кремом и три с заварным. И надо же, не утерпела — немедленно полетела в школу с доносом», — подумала Людка. Руки у неё дрожали.
— Эту сцену видела одна женщина из родительского комитета. К сожалению, она была больна и только вчера сообщила в школу.
«Объелась», — подумала Людка.
— А ты целую неделю носишь это в себе… Неужели со мной не могла поделиться? Я просто обомлела, когда услыхала! И не сердись, пожалуйста, на эту женщину, это была её обязанность. Каждый из нас поступил бы так же. Она не жаловаться пришла, поверь мне, она подумала прежде всего о тебе. Мы решили, ты запуталась в каких-то сердечных делах. Чему вполне соответствует твой рассеянно-поэтический вид… Послушай меня внимательно. Это называется хулиганской выходкой, верно?
— Верно, пани учительница.
— Но прежде чем вызывать в школу твою маму, я хотела поговорить с тобой. Чтобы ты сама мне всё объяснила.
— Нет! Только не маму. Пожалуйста. Очень вас прошу. Мама ничего не знает. Я думала, Стефан ей скажет, но он не сказал. Он только сделал вид, что не замечает меня, когда принёс Яцеку игрушки. У мамы теперь столько горя, а тут ещё я… Я не хочу…
— Погоди, не всё сразу. Неужели маму не тревожит твой вид?
— Мама теперь таких вещей не замечает. Она целыми днями возится с Яцеком и плачет.
— Кто такой Яцек? Твой младший брат?
— Нет, это сын Стефана и Элизы. Мой племянник.
— Значит, ты с Элизой так обошлась?
— Да нет, что вы! Элизу мы все очень любим. В кафе была та, другая.
— Ага. Ну, собственно, теперь всё ясно. Давай вместе подумаем, как быть.
— Я вам всё расскажу, только маму сейчас не вызывайте. Лучше потом. Пусть хоть немного всё утрясётся. Пусть мама привыкнет.
— Ладно, сделаем так. Я постараюсь как-нибудь объяснить это директору, он ведь слышал всю эту историю. Маму оставим на потом, но тебя я в покое не оставлю. Почему ты так поступила? Я и не знала, что ты такая ещё глупенькая! Взрослые люди не улаживают свои разногласия с помощью взбитых сливок.
— И не знаю, почему я это сделала. То есть знаю. Теперь уже знаю. Тогда, в кафе, у меня потемнело в глазах, и я не знала, а теперь знаю. Потому что он меня обманул. Стефан меня обманул. Если бы он сказал, что она будет в кафе, я бы не пошла. А если б даже и пошла, то на неё бы и не взглянула, и обошлось бы без скандала. Но раз он её туда привёл, а потом привёл меня и велел ей ждать, значит, он был заранее уверен, что я клюну на красивые слова, что меня можно купить за двойную порцию взбитых сливок. И потом меня с ней познакомят, и — готово дело! — она меня очарует, и я бегу к родителям защищать их обоих. Он думает, я младенец, и вообще он меня называет «Людик».
— Очень славно называет, по-моему.
— Я к этому «Людику» привыкла, дома меня с детства все так называют: мне было года четыре, когда Стефан сказал: «И откуда только такой людик-человечек к нам пожаловала?» С тех пор и пошло. Но там, в кафе, всё это было унизительно — и «Людик», и то, что она сидела у окна и поджидала, пока Стефан быстренько меня обработает, и эта двойная порция сливок… Понимаете? Ох, извините, что я так сказала…
— Я понимаю. Ничего. Но видишь ли, девочка, в жизни так бывает — люди расходятся. Это история самая обычная, хоть и печальная.
— Я знаю, что бывает, я не с луны свалилась. У Ядзи родители разошлись, да вы же знаете, вы с ней говорили. Но у них всё было по-другому, они вечно ссорились, скандалили, так что, когда они разошлись, всем только легче стало, и Ядзька сразу подтянулась по всем предметам. А Стефан — у них совсем другое дело. Стефан ужасно любил Элизу, он её буквально на руках носил; схватит нас с ней в охапку и подымается по лестнице. Стефан у нас очень сильный. И Элиза никого, кроме него, не замечала. А когда родился Яцек, Стефан на радостях разобрал ограду около дома, а на другой день заново её поставил. Потому что он мечтал о сыне. А теперь сын у него есть, и сидит этот сын у нас под столом — квартира у нас тесная, знаете, такая современная. А у них отдельный домик с красивой обстановкой, потому что Стефан архитектор. Даже камин у них есть, мы часто перед ним сидели — вот было здорово! И не подумайте, что Элиза какая-то клуша, домашняя хозяйка — нет, она стильная, великолепно одевается, со вкусом. И ноги у неё красивые, и сама она очень красивая, и готовит прекрасно, и всегда у неё хорошее настроение, и никогда она Стефану никаких сцен не устраивала, и машину водит, и остроумная. Стефан сам говорил, я своими ушами слышала, что он самый счастливый человек на земле. А теперь он сказал Элизе, что так дальше жить нельзя. Собрал чемодан, оставил на столе ключи от машины и вообще все ключи, и уехал, мы даже не знаем куда, наверно, к этому чучелу с рыбьими глазами. Ну скажите, как это так получается? Чего он хочет? Чего ему ещё надо? Стефан, правда, тоже красивый, но когда они шли вместе, прохожие оглядывались не на него, а на Элизу, и Элизе стоит только захотеть — она не то что одного, троих мужей найдёт, но она его любит. И тогда это будет уже не наша Элиза. Никто даже и не подозревал ничего, а теперь Стефан сказал маме, что он давно уже боролся с собой… Вы подумайте только — боролся. Что он давно хотел с этим покончить. Вот и покончил. Положил ключи на стол, а это называется «покончил»! Если уж Элизу нельзя полюбить раз и навсегда, тогда кого же…
— Не плачь, девочка, — сказала пани Мареш. — Ты даже сама не понимаешь, что произнесла речь в защиту брата.
— Я?! В защиту Стефана?! Никогда! Я его ненавижу! За Элизу. Я теперь совсем по-другому к нему отношусь. Папа сказал, что отлупил бы его, если б надеялся, что это поможет. Но Стефан такой же упрямый, как Тереса, моя сестра. Он бы даже позволил отцу себя ударить, а потом всё равно поступил по-своему. Я его не понимаю, а ведь когда-то он всему меня учил. Вы знаете, я ему очень многим обязана, когда он ездил в командировку в Норвегию, я ему дала письмо для Тура Хейердала.
— Для кого?!
— Для Тура Хейердала, автора» путешествия на «Кон-Тики» и «Аку-Аку».
— Читала, — улыбнулась пани Мареш. — Тебе что, очень нравятся эти книги?
— Только благодаря этим книгам я ещё живу, пани Мареш. Тур Хейердал тоже пошёл против всех, он решил опровергнуть теории, которые казались безупречными. Он построил плот из бальзового дерева и переплыл океан.
— Интересно, куда поплывёт наш Корчиковский — он ведь тоже строит лодку.
— Да, я знаю, он записался в судостроительный кружок. Стефан разыскивал Тура Хейердала, хотя у него было мало времени, а ему хотелось посмотреть город. Ради меня. Чтобы доставить мне удовольствие. К сожалению, Тура Хейердала не было в Норвегии, но его секретарша сказала Стефану, что ей очень приятно, что дама из Польши — она не знала, сколько мне лет, — интересуется работами господина Хейердала, и господину Хейердалу тоже будет очень приятно. И хотя господин Хейердал польского языка не знает, но по возвращении на родину он обязательно напишет этой даме несколько слов по-английски. Стефан так уж подробно моё письмо переводить не стал, да ничего особенно интересного там и не было, просто, что я его поздравляю и что он молодец, — Стефан сказал только, что мне бы хотелось получить автограф на «Кон-Тики». И оставил секретарше мою книжку, а мне купил другую. Вот какой у меня был брат.
— Вот какой у тебя есть брат, Людмила! Я, конечно, не знаю подробностей, да и не хочу знать, и ты их не знаешь, их знают только они, Элиза и Стефан. Но судя по тому, что ты рассказываешь, не похоже, чтобы его решение было необдуманным. Ты не обязана одобрять его поведение, но и судить не имеешь права. Иной раз со стороны кажется, что человек всего уже достиг, а он там вдруг задаёт себе вопрос: «Как, неужели это всё?» — и понимает, что ничего его в жизни не радует. В таком состоянии человек готов поставить на карту многое, лишь бы зелень снова стала зеленью, а солнце — солнцем. И он начинает искать то, чего у него нет… Понимаешь? Видимо, это и случилось с твоим братом… Конечно, он зря привёл ту женщину. Для тебя всё это было слишком неожиданно. Он сделал ошибку. Но ведь он хотел получить твоё одобрение, согласие, значит, он с тобой считается, а ты говоришь: «Унизительно». Послушай меня, Людка, предоставь это времени. Со временем всё выяснится. Ну, желаю тебе получить автограф от Хейердала… Кстати, вот ты сказала, что он пошёл против всех. Неужели, по-твоему, он из-за этого ходил нечёсаный и немытый? Нет, он старался убедить людей в своей правоте. А поскольку ему не верили — взял и доказал, что был прав. Построил плот, переплыл океан. Он знал, что хочет доказать и почему. И проявил волю, энергию, энтузиазм, настойчивость, использовал все свои знания. Помнишь: «Всё представлялось нам неопределённым, но одно нам было ясно. Наше путешествие имело серьёзную цель, и мы не желали, чтобы нас ставили на одну доску с акробатами, которые спускаются по Ниагаре в пустых бочках…»
— «…или высиживают семнадцать дней на верхушке флагштока», — докончила Людка.
— «Только не быть в зависимости от фирм, торгующих жевательной резинкой или кока-кола». Смотри, Людка, не вздумай просидеть семнадцать дней на верхушке флагштока! Ни при каких обстоятельствах! И в бочке ниоткуда не прыгай!
— Нам тоже так нравится, что вы даже можете наизусть?
— Да, нравится. У меня хорошая память. Все ваши грехи знаю наперечёт. Но предпочитаю я всё-таки «Аку-Аку». Нет, кто бы мог подумать?.. Итак, Людмила, чтоб завтра эмблема была на рукаве, сапожки начищены до блеска, голова вымыта и причёсана, воротничок сверкал, пуговицы были на месте, тапка починена, а колготки заштопаны синими нитками. И кроме того, сегодня же ты садишься за книги. Ясно?
— Ясно, пани учительница.
— Тогда всего хорошего!
Пани Мареш выбросила в корзинку помятую сигарету, которую она так и забыла закурить. На пороге она на минуту задержалась.
— Перед уходом закрой поплотнее окно, а то уборщица может не заметить, и стекло вылетит.
7
Людке пришлось выдержать ещё две беседы с пани Мареш, хотя в школу она теперь приходила такая чистенькая, что вполне могла служить ходячей рекламой стирального порошка. Причём в таком виде, как будто и жить стало полегче — что ни говори, даже если человек не причёсывается и не умывается не просто из лени, а демонстративно, из принципа, чувствует он себя довольно скверно.
Но на душе всё-таки скребли кошки. После первого разговора с пани Мареш Людка поняла, что вела себя не так-то уж умно. Очень ей надо, чтобы Корчиковский выкрикивал в пространство: «Эй вы, люди! Видели когда-нибудь живое огородное пугало? Э-э-э-эх!» Вроде бы эти возгласы совсем к ней и не относились (они по-прежнему делали вид, что не замечают друг друга), но Людка-то прекрасно понимала, о чём речь.
Злополучные пять злотых Марек сначала предложил Ядзе отослать в Фонд Помощи Чокнутым Барышням из Хороших Домов, но, поскольку Ядзя не отступала, купил на всю пятёрку мятных леденцов, и они с Казиком грызли их ни биологии, пока биологичка не услыхала хруст и не застукала их на этом деле. Корчиковский, как всегда, сумел выкрутиться. Он сказал, что увлёкся темой урока и нечаянно разгрыз линзу от цейсовского микроскопа.
Учительница крикнула:
— О господи! Немедленно в медкабинет, врач, кажется, ещё там!
Корчиковский поспешил заверить её, что не проглотил линзу, а только разгрыз, и вышел из класса, чтобы «выплюнуть осколки и тщательно прополоскать полость рта». Корчиковский отсутствовал довольно долго, биологичка успела немного успокоиться и, может быть, даже кое-что заподозрила, потому что ехидно спросила, не валяет ли он, как всегда, дурака.
— Да, пожалуй, отчасти, — согласился Корчиковский, и Медуза, конечно, снова разволновалась.
Она то и дело прерывала урок и спрашивала:
— А ты уверен, что в горло ничего не попало? Совершенно уверен?
— Нет, пани учительница, в этом я не уверен.
— Корчиковский, очень тебя прошу, сходи к врачу.
В конце концов он всё-таки пошёл, и там, кажется, ему в самом деле пришлось прополоскать рот, чтобы обман не раскрылся. Впрочем, это у них надолго отбило охоту грызть леденцы, слишком уж большая поднялась суматоха. И самое обидное — даже смеяться нельзя было, чтобы не засыпать этого шута перед Медузой, а линзу Казику пришлось спрятать. Конечно, сам бы он никогда не сообразил — особой находчивостью Казик не отличался, это Людка велела Ядзе написать ему записку, чтобы он спрятал линзу. Но это неважно. Корчиковский там или кто другой — всё же одноклассник, товарищ по несчастью. Правда, из-за того, что это был именно Корчиковский, Людка преисполнилась сознания собственного благородства и начисто забыла о своём вероломстве — о том, что не так уж давно, когда разбирали знаменитое сочинение Марека насчёт «взглядов», она выкрикнула «Пусть читает». А Медуза, проверяя после урока микроскопы, обнаружила, что одной линзы недостаёт, и долго качая головой, приговаривая:
— Ну как это ему взбрело в голову, ведь можно было в самом деле тяжело заболеть! Иногда просто руки опускаются. Нет, в самом деле! И школа у вас такая прекрасная, и условия прекрасные — в самом деле, только учитесь. Да разве вы умеете это ценить, какое там! У вас в самом деле ветер в голове, но умудриться разгрызть линзу — это уж, в самом деле….
Корчиковский после этой истории не только не заболел, но то ли за последнее время вырос, то ли, как говорится, возмужал, во всяком случае, что-то такое с ним произошло. Вырасти-то он может, он и не вырос, куда уж больше, всегда был верзилой, как будто три года сидел в одном классе. Просто он стал ходить в школу в вязаной серой с синим куртке, причём «молнию» на куртке застёгивал не доверху, чтобы видны были симпатичные — то синяя, то серая — рубашки. Мальчишки понашивали себе кожаных заплат — на локти, на джинсы — куда попало, и вовсе не потому, что том были дыры, а просто так, для фасону, но у Корчиковского заплат не было. Зато руки у него стали какие-то совсем мужские, хотя, конечно, не такие красивые, как у Маурицио Поллини (Людка была на его концерте с Тересой, и Тереса в перерыве шепнула ей: «У него руки как у Шопена»). Его красная авторучка на уроках так и бегала по тетрадке — правда, Людка сильно сомневалась, чтобы Марек добросовестно записывал. Скорее, рисовал карикатуры или ещё что-нибудь в этом роде. Уточнить она не могла, потому что Марек сидел в первом ряду от окна, а она у противоположной стены — она на шестой парте, а он на третьей. Впрочем, всё это её ничуть бы не интересовало — плевать ей на Корчиковского, только раздражает, — если бы не разговор с Ядзькой.
В один прекрасный день Ядзька сказала Людке, что должна с ней поговорить. И сразу после уроков, отстегнув эмблемы, приколотые к рукавам булавками (насчёт булавок Людка никаких обещаний не давала — о том, что существует такой способ, пани Мареш и не подозревала), они пошли в парк Красиньских. Но там было грязно. Людка пожалела сапожки, и они, не торопясь, повернули к Саксонскому саду, где часть дорожек была заасфальтирована. Ядзька всё тянула, и настоящий разговор никак не начинался. Людка её не торопила, она прекрасно понимала Ядзю. Не говорит ничего, значит, ещё не наступил подходящий момент.
По выражению её лица Людка догадывалась, что услышит какую-то потрясающую новость. Так они дошли до памятника Конопницкой.
— Надо же было умудриться — превратить Конопницкую в такую наседку! — сказала Людка.
— Не говори. Снежная баба.
— Пойдём лучше поглядим на Нике. Мне вообще нравится эта площадь, хотя Стефан говорит… — Тут Людка прикусила язык, ей не хотелось вспоминать, что говорит Стефан.
— По-твоему, Нике должна быть именно такой? — спросила Ядзя.
Они всё ещё топтались перед Конопницкой. Грустно было в Саксонском саду в марте — на скамейках ни души, только рабочие в высоких сапогах выгружают из грузовиков гравий и громко ругаются. От голых деревьев тянуло холодом.
— Пошли быстрее. Придём сюда лучше в воскресенье, посмотрим смену караула перед памятником Неизвестному солдату. Если будет дождь или снег, или сильный мороз. В хорошую погоду не проберёшься. Я так ещё ни разу и не видела всё от начала до конца. Обязательно или малышу надо место уступить, или старику, и толкаться нельзя. Сразу же все начинают…
— Известное дело, — кивнула Ядзя. — В булочной непременно кто-нибудь станет впереди тебя, а попробуй только пикни.
— Вообще-то люди всякие бывают.
— Ладно, нашли о чём говорить. Идём к Нике?
— Идём, — сказала Людка. — Знаешь, я когда-то написала Конечному письмо и положила внизу, возле памятника. Разумеется, скульптору Конечному, а не композитору Конечному, который пишет песни для Эвы Демарчик. А эти Конечные — титаны, что один, что другой, правда?
— Титаны, — согласилась Ядзя. — Когда Демарчик поёт на слова Павликовской, прямо мурашки по спине бегают. Особенно когда это, знаешь: «Я для тебя и земля, и воздух, ты сам говорил мне», — погрустнела Ядзька. — А что ты Конечному написала? Он нашёл твою записку?
— Не знаю, на другой день её там уже не было. Может быть, он взял, а может быть, её просто вымели, и всё. Вряд ли он каждый день туда приходит. А написала я, что памятник мне очень нравится и что это протест — я бы такого никогда не придумала.
— Какой же это протест, это Победа.
— В том-то и дело, что протест, — упорствовала Людка, — эта Ника кричит: «Нет!» Неужели ты не видишь?
Девушки подошли к памятнику.
— Людка, я влюбилась, — скала Ядзя.
— Врёшь! С ума сойти! В кого?
— А ты никому не скажешь? Дай слово.
— Честное слово.
— В Марека Корчиковского. Две недели назад.
И тут, вместо того чтобы обрадоваться, или удивиться, или хоть немного поддержать Ядзю морально, Людка возмутилась.
— Нет! — крикнула оно, схватив Ядзю за пуговицу. — Ты не можешь влюбиться а такого кретина! Ты для него чересчур хороша, чересчур умна, красива, изящна, добра! Он мизинца твоего не стоит, он вообще ничего не стоит! Разлюби его.
— Любовь не выбирает, — вздохнула Ядзя и, помолчав, добавила: — Не могу я его разлюбить. — У неё даже слёзы выступили на глазах. — Тебе легко говорить — разлюби, когда ты сама ни в кого не влюблена. А я не могу. Я пыталась. Я даже хотела выбить клин клином и пошла в кино с Кондзельским, но Кондзельский топал, когда обрывалась плёнка, и свистел в два пальца, и корчил глупые рожи, когда на экране целовались… Какой уж это клин!
— Да, Кондзельский — это не тот случай, — подтвердила Людка. — Малявка он ещё, вот он кто.
— Малявка, это точно.
— Дотянуть бы до одиннадцатого. В одиннадцатом малявок гораздо меньше. Они постепенно развиваются. Помнишь, пани Мареш говорила, когда собирала девочек, что мы их перерастаем.
— Да-да, физически и умственно.
— В том смысле, что мы гораздо взрослее.
— Вот именно. Они все сопляки.
— И ещё она говорила, что мы должны им диктовать, как себя вести. Попробуй-ка подиктуй что-нибудь Корчиковскому… А он тоже? — спросила Людка. И проглотила слюну: у неё почему-то пересохло в горле. Наверно, от ветра. — Есть у тебя шансы?
— В том-то и трагедия, что я не знаю. И как узнать — не представляю. Если так подумать, вроде Корчиковскому никто не нравится. Ну скажи, что мне делать?
— Запишись в судостроительный кружок, — посоветовала Людка.
Ей было стыдно за своё возмущение. И за пуговицу. Сколько лет они с Ядзькой дружат, а она не сумела сдержаться в такую минуту, когда подруга открыла ей свою великую тайну. И всё потому, что Марек её раздражал.
— Туда девчонок тоже принимают. Будем с тобой встречаться в бассейне, судостроители плавают перед биологами.
— Я плавать не умею.
— А как же тебя перевели? В шестой?
— А мне дядя раздобыл справку. Потому что мама боялась, как бы я не простудилась. Они строят лодку, летом поплывут по Висле. Лодка будет называться «Л». Марек всем говорит, что «Л» значит «Люси», как в одной книжке. Он хотел ещё записаться в авиамодельный, да ничего не вышло. Для этого нужно, чтобы в дневнике были одни четвёрки и пятёрки, а у него тройка по истории, по русскому, по биологии, да ещё та пара по польскому. С такой успеваемостью в два кружка не записывают. Но он всё равно всех обошёл — в авиамодельный не приняли, тогда он взял да и записался в фотокружок. Там милости просим, отметками никто не интересуется, только нужно внести сто злотых. Сначала он самолёт хотел назвать «Л». А теперь лодку. Как ты думаешь, они настоящие лодки строят или модели?
— Понятия не имею. Если хочешь, могу узнать во дворце. А чего ради Корчиковский записался в фото?
— Он собирается снимать какие-то узкоплёночные фильмы. И фотографировать с самолёта раскопки. Так лучше видно. Он говорит, надо ведь с чего-то начинать.
— Откуда ты всё это знаешь?
— Слышу. Думаешь, мальчишки не любят трепаться? Ты, по-моему, вообще в последнее время витаешь в облаках. Но у меня есть ещё другие источники. На нашей площадке живёт один парень из десятого. Он ходит вместе с Корчиковским в судостроительный. Мы с ним иногда болтаем на лестнице. Он мне и сказал, как называется лодка и насчёт раскопок тоже. От Марека, если даже что и услышишь, никогда не разберёшь, где правда, а где нет. Я, например, понять не могу. Скоро вечер в школе, может, он тогда…
— Не замечала, чтобы Корчиковский увлекался танцами.
— Но хали-гали он танцует.
— И чарльстон. Двойной. Только одной правой ногой, левой он никак не поспевает.
— Он твист танцевал. Слабо, но тянул.
— Зато шейк ни в зуб ногой.
— Ну, твист — древность.
— Средневековье.
— Кондзельский принесёт плёнки.
— Небось сплошной биг-бит. Оркестр фиолетово-коричневых.
— Нет, у него есть Луи Прима. И Нат Книг Кол.
— Покойник.
— Да. Жаль человека.
— А ты пойдёшь на вечер?
— Нет.
— Почему?
— Не хочется.
Людка сказала и сама удивилась, с чего это она вдруг решила не ходить на вечер. Впрочем, она же не говорила раньше, что пойдёт. Значит, всё в порядке. Всё равно ведь рано или поздно этот вопрос решить надо. Вот она и решила — в эту минуту. Хотя очень любит танцевать. Всё, что угодно, — на худой конец, даже краковяк. Превосходно себя чувствуешь, когда потанцуешь эдак часика четыре. А вот на этот вечер она не пойдёт. Просто-напросто не хочется. Хорошо бы, Ядзька разочаровалась в Корчиковском. Такая стоящая девчонки. И вдруг совершенно неожиданно, и одну секунду Людка пришла к мысли, что, собственно говоря, нет никакого смысла скрывать от Ядзьки про Того Человека и про то, что она тоже вроде бы и даже наверняка…
— Знаешь, и я тоже. Я тоже влюблена.
Наконец-то она произнесла это вслух, и сразу же Тот Человек и вся эта история обрели совершенно реальные черты.
Ядзька с удивлением уставилась на Людку.
— И ты-ы? В кого?
— Да там в одного.
— Ясно, что в одного. В двоих сразу нельзя влюбиться.
— Можно.
— Но ври. Нельзя.
— Ну да, если человек обыкновенный — такой, который рядом, тогда, понятное дело, нельзя.
— Сказала тоже! А этот твой «один», что ли, не обыкновенный?
— Конечно, нет.
— А шансы у тебя есть? Кто он такой? Как его зовут?
— Не знаю. Послушай, Ядзя… А не могла бы ты зайти к нему за макулатурой? Я тебе покажу, где он живёт. Понимаешь, я его знаю только так, с виду.
— Чудачка ты. Людка. Я бы не смогла влюбиться в незнакомого.
— Я его достаточно хорошо знаю. Ну как, пойдёшь за макулатурой?
— Пойду. А что я там должна говорить?
— Ничего. «Здравствуйте, нет ли у нас старых газет, мы собираем для школы… или ещё какой бумаги». Прорвись в квартиру и погляди, как он живёт. Красиво ли там у него, и вообще, что там есть. Может, какие-нибудь карты, старые книги, осмотрись хорошенько.
— Когда же мне идти? Прямо сейчас?
— Нет, я ещё окончательно не решила. Я тебе тогда просигналю. Только обдумаю всё хорошенько. Ну, мне пора домой, дел полно. Ты на трамвае?
— Нет, пешком. В часы «пик» я всегда пешком. Начнёшь проталкиваться, обязательно кто-нибудь подымет крик, почему толкаешься, и повиснешь на подножке — кричат, зачем висишь. Ну ничего, на старости лет я отыграюсь.
Людка уже почти не слушала Ядзю. Она позволила ей уйти, так ничего и не сказав в утешение, ничего не посоветовав — даже слов ободряющих найти не сумела! А она ведь прекрасно понимала, что за излияниями Ядзи, обычно немногословной, скрывалось глубокое смятение. Да, влюбиться в Марека Корчиковского — радости мало, это уж точно. А пока что Людка всё стояла перед памятником Нике, и было у неё, непонятно почему, такое ощущение в горле, как будто там застряла абрикосовая косточка.
8
Когда у Людки что-нибудь не ладилось, не клеилось, когда ей было плохо, она бралась за «Кон-Тики». Открыв наугад книжку, она перечитывала историю знаменитой экспедиции, восхищаясь смелостью учёных, отважившихся посягнуть на давным-давно признанные (и где? В знаменитых университетах!) теории, и все её беды начинали казаться ей просто смехотворными. Так, временное помрачение ума, ДДТ, не более того.
Было воскресенье, робкое апрельское солнце заглянуло на минутку в комнату, где лежала на тахте Людка, и скрылось. Дома никого не было, родители уехали к тётке.
«Даже и воскресенье не удаётся поваляться всласть, — с раздражением отметила Людка. — Каждое утро встаёшь в семь часов и утешаешь себя мыслью: «Ничего, скоро воскресенье», а приходит это долгожданное воскресенье, и ноги сами выносят тебя из постели ровно в семь, словно ты — это не ты, а пожарник в отставке, услыхавший сигнал тревоги».
Лидия перебралась ни тахту в большую комнату и включила радио. До концерта по заявкам оставалось ещё много времени. Людка посмотрела на фотографию Тура Хейердала и захлопнула книгу. Пожалуй, стоит заглянуть на кухню. На плите, разумеется, красовалась кастрюлька с молочной овсяной кашей, а на холодильнике стояла тарелка с ветчиной и масло. Людка разрезала пополам две булочки, помазала маслом, положила сверху ветчину. Потом, не торопясь, вылила овсянку в уборную, а в кастрюлю налила воды. Пусть отмокает. Десять месяцев в году ей приходилось есть на завтрак либо овсяную, либо манную кашу. И только после каши, когда ни на какую еду уже и смотреть не хочется, бутерброд. Овсянка! Что ж, она бы охотно ела овсянку, но только не на кухне, не за столом. «Однажды утром, когда мы сидели за завтраком, шальная волна угодила в кашу и совершенно бесплатно научила нас тому, что овсянка в значительной степени перебивает неприятный вкус морской воды». Ничего, будет и на её улице праздник, и ей доведётся попробовать овсянку с морской водой! Конечно, если б она сейчас пришла куда-нибудь (куда?) и сказала: «Извините, мне бы хотелось принять участие в кругосветном путешествии», её непременно спросили бы: «А что вы умеете делать? В какой области?» Ну и что бы она могла ответить? Ничего. А вот когда она будет великим биологом и работы её получат широкое признание, те же люди сами к ней прибегут. Войдут в Людкину лабораторию и, робея в присутствии знаменитости, обратятся к ней с просьбой: «Не согласитесь ли вы, пани магистр…» Или нет, они скажут: «Не согласитесь ли вы, пани доцент, принять участие в научной экспедиции в Бразилию? У нас уже есть журналист, орнитолог, метеоролог, а также предложили свои услуги два биолога, но нам бы очень хотелось, чтобы вы… ваши труды… можем ли мы надеяться…» А Людка отодвинет в сторону свои препараты, неторопливо снимет очки (из-за непрерывной работы с микроскопом зрение у неё, безусловно, испортится), сунет руки в карманы халата… Или нет, не так: она возьмёт сигарету, они все подскочат с зажигалками — неизвестно, у кого прикуривать, — выпустит изо рта длинную струйку дыма и скажет: «Согласна, но при одном условии: чтобы среди нас не было слюнтяев и нытиков, которые станут хныкать, что каждый день приходиться есть овсянку!» Неплохо также съездить в Новую Гвинею… Отец говорит, что всё это фантазии. Вот так фантазии! Столько великих дел совершается на земле — почему же это фантазии? Уж если кому очень-очень чего-нибудь захочется, он этого добьётся, можно не сомневаться. А яхта «Смелый»? А Телига? А польские экспедиции на Гиндукуш? Так что никакие это не фантазии. Конечно, для того, кто только и мечтает поскорей выскочить замуж или побольше заработать, это пустые фантазии. А Людка подаст в университет, на биофак. И поступит туда, это ясно, как дважды два — четыре. И вовсе не потому, что единственная пятёрка, украшающая её скромный дневник, — по биологии, просто не может быть, чтобы её срезали на экзамене… Людка вздохнула и доела вторую булочку. Будущее её ждёт блестящее, тут двух мнений быть не может. Только в настоящем пока сплошные неприятности. Людка налила себе чаю, отрезала кусочек лимона и подошла к окну. Уже вторую неделю «шкоды» не было на месте. Тот Человек куда-то уехал. Интересно куда? Был конец марта, и Людка предполагала, что он отправился в горы. Там в это время полно снегу. Людка представила себе такую картину: Он с лыжами в руках садится в кабинку фуникулёра; на Нём спортивная куртка и серые наушники; поднявшись на базу, Он осматривает перед спуском лыжи, снимает на минуту куртку, пьёт чай; девушки с подрисованными глазами посматривают в Его сторону, а Он — ноль внимания. Он выше этого. По правде скапать, Людка теперь думала о Нём не так много, как раньше. Наверно, просто времени не хватало. Но этот блестящий воображаемый спуск с вершины производил ошеломляющее впечатление — прямо дух захватывало. Его не было в Варшаве, потому Людка и не послала Ядзю за макулатурой. А когда Он вернётся… Надо будет ещё подумать. Но может быть, Он археолог, ассистент профессора Михаловского, и уехал в Египет на раскопки? Не все же ассистенты профессора снимаются в фильме по его книге «Архангелы и шакалы». А может быть, Он вовсе не археолог, а выдающийся хирург и в эту минуту спасает кому-нибудь жизнь, а Людка уписывает третью булочку и шарит в холодильнике?..
Людка отодвинула недопитый чай. Концерт по заявкам начался, и, конечно, первым делом по просьбе какого-то «несносного класса» передали любимую песню их учительницы. Несносный класс! Не могли уж придумать что-нибудь поостроумнее! Людка тоже хотела бы, чтобы по её заявке по радио передали что-нибудь для пани Мареш, но в классе могут подумать, что она подлизывается. Голос по радио сообщил:
Но и выключать радио нельзя — а вдруг передадут что-нибудь стоящее! Ох, до чего обидно, что она не видела ни одного фильма с Монтгомери Клифтом! Вот бы с кем потанцевать. Но он умер. Вообще страшная это штука, когда умирают молодыми. А вдруг она, в своей лаборатории, в своём кабинете… Ну да, а пока что у неё пара по физике. Подгоняла химию и отстала по физике. По химии вытянула на троечку, а по физике пан Касперский недрогнувшей рукой поставил двойку. Корчиковский в это время играл с Казиком в «морской бой». Теперь надо взяться за физику и постараться не завалить снова химию. Ну и жизнь! Вообще в школе приходится всё время быть начеку, потому что директор, которого до поры до времени удерживала властной рукой пани Мареш, в конце концов встал на дыбы и велел вызвать пани Бальвик. Пани Мареш как могла подготовила пани Бальвик и во время разговора с директором принимала главные удары на себя, но директор разошёлся вовсю. Правда, он признал наличие смягчающих обстоятельств и учёл все детали, но тем не менее, в угоду своей ненасытной педагогической совести, предложил поставить Людке четвёрку по поведению. Пани Мареш долго и терпеливо пыталась ему втолковать, что, если ученице снижают отметку по поведению, класс должен знать, по какой причине, а поскольку вся история носит характер деликатный, объяснять ничего никому нельзя. Тогда директор пошёл на уступку и разрешил принять официальную версию, будто четвёрку по поведению Людка получила за пренебрежительное отношение к школьной эмблеме. («Пусть только эта Бальвик попробует ещё что-нибудь выкинуть!»)
Класс моментально изменил прежней моде, гордую эмблему школы все дружно прицепили, по правилам, на левый рукав, а Людке, как невинной жертве, пострадавшей за коллектив, выражали сочувствие. В дело вмешались даже органы классного самоуправления — староста признался пани Мареш, что не одна Людка… Однако пани Мареш, старательно избегая устремлённых на неё взглядов (обычно она умудрялась глядеть во все сорок пар глаз сразу), сухо пресекла дискуссию, сказав, что просто на этот раз попалась Бальвик, и начала спрашивать поэтов XVI века, которых никто не читал, — так что в классе сразу стало тихо. Один Корчиковский что-то учуял и объявил, что ему всё это кажется подозрительным: «До сих пор подобных случаев не бывало. А может, директор встретил нашу коллегу Людмилу Бальвик в ночном кабаре? И дело просто прикрыли, чтобы не ввергать в искушение малолетних, а Людмиле Бальвик дать возможность вернуться в ряды полноценных членов общества?»
Так или иначе, Людка немного выделилась из общей беспокойной массы — в результате всякий раз, когда ей хотелось совершить какой-либо не предусмотренный школьными правилами поступок, она вынуждена была спрашивать себя: «А никто, случайно, не решит, что я опять что-нибудь выкинула?» И приходилось сдерживаться, другого выхода не было. Мама, вернувшись из школы после «приятного» разговорчика, долго не могла успокоиться и всё повторяла: «Ах, Юзек, если б ты слышал, я, конечно, всё понимаю, но чтобы девочка, школьница, нет, Юзек, если б ты только слышал…» А пап Юзеф Бальвик высказался коротко и ясно: в его время отец снял бы ремень и… Но теперь это не и моде».
И они тут же послали Людку вынести ведро с мусором — пусть знает своё место. На этом обсуждение, в сущности, и закончилось. Нельзя сказать, чтоб родители у Людки были очень современными, но мотивы Людкиного поступка они понимали, а кроме того, маму вызывали в школу впервые.
Концерт по заявкам кончился, ничего поящего не выдали, а день таял, как кусок мыла на разогретой сковородке. Скоро пора идти в бассейн, а у неё ничего не сделано. Людка помыла кастрюлю и стакан и обнаружила дыру в купальной шапочке. Эх, вот бы ей белый эластичный купальник! Но мама в ответ на робкий Людкин намёк заявила, что она ещё не совсем сошла с ума. Людка долго ломала голову, как бы заработать на такой костюм. Если б она училась в университете, ничего не было бы проще — поступила бы в какую-нибудь студенческую артель. А сейчас что придумаешь? Кто и на какую работу возьмёт ученицу девятого класса? Хотя Людка умела и полы натирать, и ковры выбивать, и за ребёнком могла присмотреть, и за покупками сходить и, коли уж на то пошло, автомобиль могла вымыть как игрушку. Когда-то она с радостью помогала Стефану наводить блеск на его «фиат». Можно, конечно, начать откладывать на купальник из карманных денег. Но тогда — даже если «железно» решить не есть вафель и не терять авторучек, никогда не покупать жевательной резинки и книжек и всегда ходить пешком — она накопит на такой костюм как раз к защите диссертации или в лучшем случае к окончанию университета. От винных бутылок доход невелик — гости к ним приходят редко, бутылки от уксуса будут только осенью, когда маринуют грибы, в суп мама вместо уксуса добавляет лимонную кислоту. А пока отмоешь бутылку от растительного масла, пропадёт всякая охота получать этот несчастный злотый. Банки от варенья, которых в доме полно, в магазине не принимают. Даже баночки от мёда, чистёхонькие, с завинчивающимися крышками, и то не берут. Только однажды Людке, удалось заработать: зимой в кондитерской стали покупать сушёные апельсиновые и лимонные корки, но вскоре в газете появилось сообщение, что цитрусовые опрыскивают ядовитыми химикалиями, и корки принимать перестали. Потом в магазине самообслуживания напротив начали скупать чёрствый хлеб, но тут, как нарочно, врачи запретили отцу есть свежий, и это дело тоже не выгорело. Да где уж там копить, если даже в кино редко бывают льготные билеты, а на ковбойский фильм и вовсе билета не достанешь.
И Людка со вздохом сунула в сумку белый трикотажный купальник. Зато вот сумка у неё что надо. Не какая-нибудь там «Сабена» с фотографией красавчика-киногероя в слюдяном окошечке, а роскошная, комбинированная: с одной стороны чёрный кожзаменитель, с другой — яркая клетка. В общем, сумочка имеет вид. Да и пальтишко ничего. Из толстого синего вельвета на белом искусственном меху, сверху донизу на «молнии». И куртка у неё хоть куда, и джинсы, и шерстяные кофточки, и блузки — можно жить, если только добавить ко всему этому эластичный купальник. На пляже ещё туда-сюда, а вот в воде…
Совсем другой вид в эластичном костюме. У двоих из Людкиной группы есть такие. И, как нарочно, в стих замечательных купальниках щеголяют девчонки, которые и плавают-то хуже всех. А попробуй-ка показать приличное время, добиться каких-то результатов в трикотажном костюме за сорок восемь злотых! Да и шапочка у неё скорее похожа на камеру футбольного мяча, а у других рельефные, со всякими там листиками, цветочками. Конечно, если б она занималась в плавательной секции, а потом перешла в какой-нибудь клуб, там бы уж наверняка выдали костюмчик для соревнований. Но записаться в плавательную секцию Людка не может по тем же причинам, по каким Корчиковский не может одновременно заниматься в судостроительном и авиамодельном кружке, — тогда пришлось бы бросить биологию. «Ладно, — утешили себя Людка, — всё равно, рано или поздно, хлор в бассейне доконал бы эластичный костюм. А трикотажный не жалко. Впрочем, похоже, что трикотаж с хлором не вступает в реакцию — второй год никак не разлезется. Вот если бы разлезся, тогда бы, может, мама и…»
В бассейне ещё плескались судостроители, хотя их время истекло, а задерживаться не полагалось — можно представить, какая получилась бы неразбериха, если б каждый кружок сидел в воде сколько влезет. Корчиковский с остервенением нырял, как будто надеялся во Дворце культуры, в центре Варшавы, изловить живого дельфина. Наконец инструктор свистнул ему и вежливо попросил убираться из бассейна, пока его не исключили на три недоли. У Марека был свой стиль, ничего не окажешь, баттерфляй у него получался вполне прилично. Людка о баттерфляе и представления не имела, сама она плавила брассом. И под водой Марек мог продержаться дольше, чем она. Это ей скрепя сердце всё-таки пришлось признать. Но до чего ж он тощ! Когда на нём серо-синяя куртка, это незаметно. Инструктор засвистел, и биологи попрыгали в бассейн. Корчиковский оглянулся — надеялся, видно, полюбоваться, как Людка наглотается воды. Не тут-то было! В бассейне Людка занималась уже пятый год, правда, всего по сорок пять минут раз в неделю, но воду глотать уже давным-давно перестала. Корчиковский, видимо, быстро оценил положение, потому что повернулся и зашагал прочь. Ножки у него были тоненькие, как спички, и к тому же ещё, кажется, кривоватые. Людка упорно плавала брассом, но в конце концов не удержалась и попробовала баттерфляем.
— Людка, неверно! — закричал сверху инструктор. — Ты что, баттерфляй освоить решила?
— Да нет, что вы! — крикнула Людка и нырнула — ей почему-то стало стыдно.
Зачем ей баттерфляй, она не собирается участвовать в соревнованиях. Под водой Людка открыла глаза, но ничего интересного, если не считать чьей-то розовой пятки, не увидела. Дыхания надолго не хватило, и она вынырнула. Да, с нырянием у неё слабовато. Надо потренироваться дома, в ванне — какая, собственно, разница, где совать голову под воду, лишь бы не было доступа воздуха. Потом они немного поплавали на время, и тут уж Людка отличилась. Она быстрее всех проплыла дистанцию вольным стилем. Как-никак за пять лет она пропустила занятия всего три раза, когда болела ангиной. Иногда, в сильные морозы, народу приходило мало, и тогда плавали по часу, а то и дольше. Но обычно сорок пять минут пролетали совершенно незаметно.
И вот уже пора вылезать из воды, потому что над головой нетерпеливо топчется следующая группа в белых купальниках. Людка взяла подушечку яичного шампуня и вымыла под душем голову. Плохо плавать в дырявой шапочке. Хлор ужасно сушит волосы. Не мешало бы натирать голову оливковым маслом, но когда? И так ей куда лучше, чем горемыкам с безнадёжно устаревшими начесами, — после сушки достаточно рукой пригладить волосы, и готово. Интересно, что делают бедные спортсменки, которым приходится ходить на тренировки каждый день? Легко ли выигрывать секунды, когда у тебя на голове копна сена? Тут нужна большая сила воли. Людка оделась и вышла на улицу. Ей очень хотелось есть, но она стеснялась зайти одна в кафе и заказать пирожное. Прошли те времена, когда она покупала два пончика «на вынос» и расправлялась с ними на улице. Теперь так не сделаешь, но войти в кафе и сесть за столик — неловко, а купить пирожное и есть на улице — тоже глупо. К счастью, в холодильнике остался гороховый суп с колбасой. Можно будет его разогреть, а потом — ничего не поделаешь — придётся сесть за уроки. Суббота, как всегда, пролетела — она и оглянуться не успела: пришила воротничок, посмотрела телевизор, прибрала в ванной, а там надо бежать за хлебом, и уже пора ложиться: «для молодого организма самое важное — сон», вот и субботе конец. Но после субботы приходит воскресенье, а после воскресенья — понедельник. Вот в чём беда. У человека должно быть два свободных дня в неделю. Тогда ещё можно успеть что-нибудь сделать. Почитать, сходить в кино, вызубрить хотя бы два десятка французских слов, ну и прогуляться по улицам, на людей поглядеть…
Людка ехала в трамвае и вдруг ни с того ни с сего громко рассмеялась. Окружающие, все, как один, на неё уставились, и сидевшая рядом дама вытащила из сумки зеркально и внимательно осмотрела своё лицо. Людка, смутившись, прилипла к окошку. И надо же было ей именно сейчас вспомнить, как Корчиковский на уроке труда готовил вареники с картошкой! Конечно, учительница очень старалась «научить их жить» — и гладить, и шить на руках и на машинке, и чистить обувь, и делать брошки и подсвечники, и чинить пробки, но научить Корчиковского готовить вареники они так и не смогла. Поначалу Марек даже как будто загорелся: примостился возле готовых вареников и стал мизинцем делать в них дырочки — для красоты, потом бросил первую партию в кастрюлю, подождал, пока закипит вода… Но очень скоро интерес к этому занятию у него пропал. А работяги всё тёрли да тёрли картошку, и гора теста всё росли и росли… Тогда он предложил слепить из теста снежную бабу. Учительница встретила это предложение зловещим молчанием, и он быстро перестроился и сказал:
— А можно сделать один громадный вареник и бросить его в кастрюлю? И потом каждому отрезать по кусочку?
Учительница и на этот раз не проявила чуткости и послала Корчиковского чистить лук для подливки. Он чистил и приговаривал:
— Ну, луковичка, берегись, сейчас я с тобой разделаюсь по всем правилам политехнизации.
Вареников налепили столько, что не смогли с ними справиться, и пригласили на пиршество в кухню девятый «Б», который на прошлой неделе угощал их менее изысканными и менее трудоёмкими блюдами: картофельным супом и разваливающимися блинчиками с творогом. Корчиковский — ничего не скажешь — вареники уплетал за обе щёки, подавился, еле откашлялся и тут же сочинил трогательный стишок:
«Марочка»! Людка с презрением пожала плечами и вышла из трамвая.
Солнце решительно объявило забастовку в это апрельское воскресенье, стало темно и холодно. Апрель, май, июнь… ну, ещё можно вытерпеть с грехом пополам.
Дома Людка с тарелкой горячего горохового супа уселась перед телевизором. Передавали репортаж из Монголии, живописные стада баранов бродили по пастбищам, и Людка уже начала было прикидывать, что в Монголии заслуживает исследования, но тут операторы, видимо, устали и начали показывать многоэтажные дома, точно такие же, какие строят по всей Варшаве и каких полно в Людкином районе. Потом были последние известия (а время неслось вперёд, как дикий жеребец), и объявили, что будут передавать пьесу Фредро. Для сочинения Фредро мог бы и пригодиться, но для домашнего задания по физике вряд ли… За целое воскресенье никто им не позвонил; Людка проверила по телефону часы, а потом набрала номер железнодорожной справочной-автомата. Пока она никуда не собиралась, но приятно было послушать, в каком направлении когда можно поехать. Потом она позвонила в справочную авиационного агентства и спросила, летит ли завтра самолёт в Варну и как оттуда добраться до Стамбула. Самолёт, сказали ей, скорее всего, полетит, потому что прогноз хороший, а сообщение со Стамбулом просто великолепное, и даже остаётся немного времени, чтобы отдохнуть на аэродроме в Варне и купить свежие газеты. Людка поблагодарила дежурную и сказала, что это очень удачно. Пообедать, правда, придётся в самолёте по дороге в Варну — в Варне у неё очень много дел, и она боится, что зайти там в ресторан не успеет.
Ну, а больше тянуть было нельзя. Пришлось выключить телевизор и взяться за физику.
9
Конец учебного года мчался навстречу Людке, словно кошка к горшку со сметаной. Уроки, как всегда весной, казались длиннее обычного. Пани Мареш перехватывала тоскливые взгляды учеников, устремлённые в сторону окна, и объявляла:
— И рад бы в рай, да грехи не пускают! Каминская, ты сделала две ошибки, причём обе орфографические. Даже уважающий себя пятиклассник не станет делать ошибок на глухие и звонкие согласные. Пойдёшь гулять в парк — присядь, дитя моё, на скамеечку и почитай основные правила правописания.
А пан Касперский пугал:
— Пятнадцать процентов оставлю на второй год. Пятнадцать процентов. Пятнадцать, — повторял он, словно опасался, что выговаривает недостаточно чётко и слушатели его не поймут. Получите табеля, тогда подсчитаете, сколько это, пятнадцать процентов от тридцати девяти. Если, конечно, вы способны произвести столь сложный расчёт.
— Выходит, вы оставите на второй год пять целых восемь десятых ученика, — высчитал Яцек Рахвальский.
— Берегись, Корчиковский, как бы я не добавил ещё процент-другой.
— Да я что, опять я, я ничего не говорил! — проснулся Марек.
— Это не Корчиковский, а Рахвальский, — благородно, хотя и не без дрожи в голосе, признался Рахвальский и гордо выпятил грудь.
— Рахвальский? Ну что ж, раз ты такой умный, иди к доске. Людмила Бальвик, ты отлично знаешь, чего не знаешь, смотри, как бы не округлить собою дробь.
— Да я всё выучила, пан учитель.
— Иди к доске.
— А мне не идти? — обрадовался Рахвальский.
— В самом деле, — спохватился пан Касперский. — Двое дерутся, третий в выигрыше. Бальвик, садись. Рахвальский, садись. Спросим-ка мы Абановича, он у нас так и рвётся отвечать. Абанович, к доске.
— На бедного Абановича все шишки валятся, а всё почему? Потому что я по списку первый и сижу на первой парте, — пожаловался Абанович на ущемление своих гражданских прав.
— Все шишки валятся? Ну что ж, значит, одной шишкой больше станет, — сказал пан Касперский. — Валяй, братец. Задача номер сто семьдесят четыре. Бери задачник. Я, кажется, помешал тебе решать кроссворд — интересно, в какой газете?
— В воскресной «Жизни Варшавы». Ну просто наказанье в первом ряду — ни за что взяться нельзя? В десятом классе пересяду на «камчатку».
— Боюсь, что ты так и останешься в девятом.
— Да ведь вы ничего важного не говорили! А у меня и всего-то не хватало двух слов — номер восьмой по горизонтали, из пяти букв, и номер шестой по вертикали, из шести. Простите, пожалуйста.
— Ничего, дружок, ничего. Вот тебе номер сто семьдесят четвёртый по горизонтали, а что у нас в итоге получится — сейчас увидим. Скорее всего, некая отметка из трёх букв. В зависимости от того, как мы назовём искомый балл. Однако не стоит торопить события, посмотрим, как мы решим задачу. Ну, о чём ты мечтаешь. Абанович? Мы проходили это на практических занятиях. Долго думать тут нечего. Корчиковский, что я сказал? Повтори мои последние слова. Кажется, ты слушал не слишком внимательно.
— Да я просто ушам своим не верю. Если слух меня не обманывает, вы сказали, что думать нечего. А мне вы всегда твердите: «Вдумайся, Корчиковский!» Где же равноправие, пан учитель? У меня развивается комплекс неполноценности. Абановичу, выходит, можно не думать?
— Ты у меня, Корчиковский, в конце концов доиграешься! Моё терпение тоже может лопнуть. А пока будь любезен, взгляни, как обстоят дела твоего учёного коллеги у доски.
— Вполне прилично, пан учитель, Абанович ведь у нас шахматист.
— Второе место по школе, — вставил Абанович. — А вообще-то я запасной.
— Ты участвовал в городском школьном турнире? — заинтересовался пан Касперский. — Что-то я тебя там не видел.
— За нас играли Корчиковский и Томала из одиннадцатого. Но когда Томала кончит школу, я войду в сборную. Ну, так вроде бы нормально. — Абанович отступил от доски, оглядел её издали, как живописец только что законченную картину. Затем склонил голову набок и удовлетворённо кивнул.
— Ошибки кто-нибудь находит? — спросил пан Касперский. — Не вижу рук, не слышу возражений. Решено без голосования: Абанович с честью выполнил тяжёлую задачу, возложенную на его молодые плечи. Правда, задача была не сказать чтобы непосильная, но за это уж он не отвечает. Сделал, что мог и должен был сделать. Корчиковский, на последнем турнире ты играл, как сонная муха.
— У меня дебют слабый, а потом я разыгрываюсь.
— Наша сила в понимании наших ошибок. Надо тебе подзубрить дебюты.
— Пан учитель, правда, это свинство, американцы нарочно поддались норвежцам, чтобы Польша не попала в финал! — сказал Абанович. — А наши играли со страшной силой, просто исключительно!
— Ты норвежцев не трогай, они-то тут при чём! — крикнула Людка.
— А вот при том: американцы поддались им нарочно! — разозлился Корчиковский и тут же разозлился ещё больше, потому что получилось, будто он заговорил с Людкой.
— Вы эти партии разбирали? — спросил пан Касперский, не вступая в спор по национальному вопросу.
— Все до одной, пан учитель! Мы их вырезали. Можем вам показать.
— После уроков. Кто у нас сегодня ассистент?
— Я, — вскочила Янка Крук.
— Итак, сейчас уважаемая ассистентка Крук отведёт жаждующие знаний массы в физический кабинет. Проделаем кое-какие опыты. Прошу только идти не со страшной силой, а исключительно тихо, ибо вокруг наши собратья, героически преодолевая трудности, припадают пересохшими устами к чистым родникам науки. И с нашей стороны было бы жестоко и негуманно мешать им. Крук, ты зачем тащишь в кабинет стул?
— Чтоб вам было на чём сидеть, пан учитель.
— А ты, Ковальский? За что ты стукнул Фрончака?
— Так просто.
— Фрончак не боксёрская груша. Впрочем, когда он стоит у доски, я начинаю в этом сомневаться. Ну, живо, живо! Внутренним взором я уже вижу вас в лаборатории. А может, вследствие долгой педагогической работы у меня начались галлюцинации и вскоре мне будут мерещиться белые мыши и зелёные верблюды?
«Зелёные верблюды» были явно не лучшей находкой пана Касперского — они могли напомнить классу про зелёного клопа. Людка внимательно огляделась, но с тех пор стольким разным людям давалось столько разных прозвищ, что никто и внимания не обратил. Наверно, даже Корчиковский давно забыл, только она одна и помнит, потому что это касалось её.
С тех пор как Ядзя ушла из их школы, Людке было очень одиноко в классе. Они столько лет дружили! А Ядзина мама взяла да и переехала в новую кооперативную квартиру в другом районе и заявила, что Ядзе нельзя ездить в школу так далеко. И это за три месяца до конца учебного года! Ядзя плакала, но всё было напрасно — у неё, видите ли, в детстве шла носом кровь, хотя сама она ничего такого не помнит. С учёбой она, в общем-то, справлялась, во всех школах эн плюс один раз проходит одно и то же. Но привыкнуть не могла ни к своему району, ни к школе, ни к учителям, хотя прошло уже два месяца. Один раз Ядзя прогуляла уроки и приехала повидаться с друзьями, но ведь не пойдёшь же в класс — моментально сообщат в новую школу, и она пять часов просидела в уборной, а час со сторожем в раздевалке. В классе ей удалось побыть только на переменках.
Людка три дня сидела на парте одна, а потом несколько дней с Фрончаком, но однажды, видно, у него в башке расхулиганились оловянные солдатики, и он на уроке геометрии уколол Людку в ногу циркулем. Людка заорала благим матом, а математичка, невзирая на объяснения, что это получилось «совершенно случайно», закатила каждому по замечанию в дневник и немедленно рассадила.
— Это было отравленное копьё, — прошептал Людке на прощание Фрончак.
Пани Мареш слегка перетасовала учеников и на место Ядзи посадила Кристинку Каминскую, которая Людке даже нравилась, а всё-таки это была не Ядзя. Каминская была влюблена в Томалу из одиннадцатого класса и носила с собой пудреницу.
Людка рассказала ей про Того Человека и про четыре большущих свёртка, которые Он вытащил однажды из своей «шкоды». Они с Кристинкой решили, что Он, должно быть, коллекционирует произведения искусства — Он так осторожно нёс эти свёртки, словно в каждом была драгоценная этрусская ваза.
Правда, Кристинка, которая любила детективные романы и не пропускала по телевизору ни одной серии «Кобры», выдвинула предположение, что в свёртках лежал разрезанный на части труп, но Людка возразила, что трупы обычно уносят, а не приносят, и этот вариант был отброшен.
Но вот посвятить Кристинку в свой план с макулатурой Людка не решилась. С Ядзей они не успели его осуществить. Правда, Ядзя иногда после школы приезжала к Людке, но Людка постепенно пришла к выводу, что не стоит совать нос в чужие дела. Может, потом когда-нибудь. В общем, там видно будет.
Для Ядзи переход в другую школу только в одном отношении был полезен. Ей не приходилось теперь быть в том же классе, что и Корчиковский, и ничто не напоминало ей, как низко она некогда пала. Хоть и недолго была Ядзя влюблена в Корчиковского, а всё-таки, должно быть, чувствуешь себя идиоткой, когда видишь столь неудачный объект своего прежнего чувства. И к тому же чувства безответного. Конечно, взаимность — дело второстепенное. Главное, чтоб было в кого влюбиться, с кем мысленно делиться всеми переживаниями и представлять себе, что будет, если вообще что-нибудь будет… Людка отлично это понимала, но сохнуть по Корчиковскому, которого — весьма сомнительное удовольствие! — видишь по пять, шесть, семь часов в день шесть раз в неделю, ей-богу, совсем не так уж весело. И ведь Корчиковский знал, что Ядзя по нем сохнет. Она не умела сохнуть тайно. С того момента, как Корчиковский сделался для неё центром вселенной, Ядзя смотрела на него неотрывно все уроки подряд и даже во время контрольных работ ухитрялась посвятить этому занятию с четверть часика. На переменках у неё всегда была масса дел к Корчиковскому, и вообще она всячески норовила пристроиться к нему поближе.
Она больше не гуляла под руку с Людкой по коридору, бросила волейбольную команду и перестала ходить в школьный клуб — ну ясное дело, ведь Корчиковский не играет в волейбол (иногда немного в баскет) и не ходит в клуб — времени, говорит, не хватает. Он, видите ли, занят, — подумаешь, министр!
Когда всему классу — а также кое-кому вне класса — всё стало совершенно ясно, Корчиковский, по Людкиным расчётам, должен был так обхамить Ядзю, что той навсегда расхотелось бы влюбляться. Ничего подобного. Если Корчиковский встречался с Ядзей глазами — а это было неизбежно, — он улыбался ей, просто улыбался, как нормальный человек, и не гримасничал, как шут гороховый. И Людка вначале подумала было, что дела у Ядзи обстоят не так уж плохо. Когда на переменках Ядзя лезла к нему со своими дурацкими, высосанными из пальца вопросами, Корчиковский был вежлив. Трудно поверить, но факт. И вот эта-то вежливость и показалась Людке подозрительной. Над этим стоило призадуматься. Корчиковский чинил Ядзе карандаши, одалживал ластик, менял стержни в шариковой ручке, объяснял физику, наклеивал заметки в стенгазету, а главное — говорил «пожалуйста». Корчиковский говорил «пожалуйста»! Если бы пан Касперский пригнал в класс откормленного быка и, вооружившись своим чёрным зонтиком, устроил бы на уроке физики корриду или если бы на землю высадились марсиане — этого Людка, впрочем, ожидала с минуты на минуту, к этому она давно уже была готова, — все, наверно, и то меньше удивлялись бы. Корчиковский, который говорит «пожалуйста», — нет, это невероятно! И единственным человеком, которому это «пожалуйста» адресовалось, была Ядзя. Иногда Корчиковский заходил так далеко, что говорил даже: «Пожалуйста, Ядзя. Мне это совсем не трудно». Нет, это надо было слышать, и Людка слышала, хотя всё время опасалась, что слышит «голоса» вроде Жанны д’Арк и что скоро ей придётся возглавить какое-нибудь войско.
Однажды Яцек Рахвальский начал было: «Слу-у-ушай, и Ядзька-то-о…» — но докончить не успел. Корчиковский закатил ему такую оплеуху, что Яцек свалился прямо под батарею. Тут раздалось: «Математичка идёт!» Яцек с трудом поднялся и, героически превозмогая боль, дотерпел до конца урока. К счастью, это был последний урок. После звонка ребята потребовали, чтобы девочки «немедленно покинули класс», а когда те воспротивились, ушли сами. Они долго стояли на спортплощадке, окружив Рахвольского и Корчиковского, и что-то с жаром обсуждали, но девчонок к себе не подпустили. Людка, правда, уловила: «Завтра в пять у Вислы», — и догадалась, что будут драться, но не знала, утром или днём и где именно. Не станет же она гоняться за ними по всему варшавскому берегу Вислы, тем более что берегов целых два. Видимо, дрались в пять утра, так как Корчиковский и Рахвальский не явились в школу, а Ковальский принёс в класс две пары боксёрских перчаток и напустил на себя ужасно загадочный вид. Наконец, после четвёртого урока он раскололся: было, мол, всё как положено, и теперь всё о’кей — толку от такого объяснения, конечно, мало. А потрепали они друг друга здорово. Назавтра Яцек пришёл в школу с толстой свёклой вместо носа, а у Корчиковского перекосилась вся физиономия, правая щека заметно пополнела, а глаза были прикрыты тёмными очками — «глазник прописал».
Людка смотрела на Ядзю с уважением и даже с оттенком зависти. Из-за неё дрались… Корчиковский дрался из-за неё… Корчиковский! Ну, положим, из-за чего дрался Корчиковский, — сам чёрт не разберёт, уж, наверно, но из-за Ядзьки, это всем было ясно. Относился он к ней по-прежнему всё так же удивительно вежливо, по-прежнему говорил «пожалуйста», а то и «пожалуйста, Ядзя», но только теперь уже никто не осмеливался лезть с намёками ни к Ядзе, ни к Мареку. Кому охота в пять утра выходить на ринг в кустиках у Вислы! Следы жестокой схватки целых две недели держались на лицах обоих бойцов, и желающих что-то больше не было, разве что Артур Ковальский охотно посудил бы ещё одну встречу. Он всё время суетился, приставал к ребятам, подначивал их. Но к Ядзе и Корчиковскому всё это не имело никакого отношения. Вообще оказалось, что темы «Ядзя — Корчиковский» попросту не существует. Все эти приветливые «пожалуйста» — Людка в конце концов заметила, что они говорились всегда и только в ответ. Никогда у Корчиковского не было никаких дел к Ядзе, никогда он не обращался к ней первый. Говорили, что он здоровается с ней не только в школе, но и на улице, но никогда не подходит к ней, даже если она идёт одна. И на школьные вечера он перестал ходить, а раньше посещаемость у него была чуть ли не стопроцентная. И если после знаменитой драки Людке ещё казалось, что у Ядзи ость кое-какие шансы, то вскоре она убедилась, что дело её гиблое. Корчиковский Ядзю избегал. Не демонстративно, но чрезвычайно последовательно. В конце концов и до Ядзьки дошло. А ведь она что угодно предполагала и подозревала, но только не это. Это её совершенно обескуражило. Оно потом уверяла Людку, что, когда ребята пошли драться, ей стало ужасно не по себе, ну просто предчувствие какое-то у неё было. А на самом деле никакого предчувствия у неё не было. Людка всё время за ней наблюдала. Но теперь-то Ядзя знала точно. Выход тут был один — разлюбить Корчиковского. Ядзя повздыхала ещё немного, жалостно и печально, тем дело благополучно и кончилось. Кондзельский, конечно, в качестве утешителя не годился, но вот тот парень из десятого класса, яхтсмен, с которым Ядзя иногда болтала на лестнице, пришёлся очень кстати. Они смотрели имеете отличный ковбойский фильм, причём Ядзя к тому времени уже перешла в другую школу, а это что-нибудь да значит.
И кроме того, Ядзя вообще вряд ли влюбилась бы в такого Корчиковского, который говорит «здравствуй» и «пожалуйста».
Впрочем, едва только Ядзя ушла из их школы, Корчиковский моментально забыл эти слова; можно было подумать, что он на время извлёк их из словаря, а потом нечаянно уронил в какую-нибудь урну для мусора. И в тот раз, когда Ядзя, прогуляв уроки, пять часов отсидели у них в уборной, он заговорил с нею уже нормально:
— Ну, как жизнь молодая, в порядке?
В общем, обыкновенно, как все говорят. Да и Ядзя уже запросто смогла ему ответить:
— На уровне. Аппаратура работает нормально.
А раньше? Какое там «на уровне»! Да она и двух слов связать не могла, разве только пролепечет:
«Марек, не мо-мо-жешь ли ты очинить мне карандаш?»
А всё-таки из-за чего же Корчиковский дрался? В конце концов, Людка и здесь кое-что поняла.
Дело было к вечеру. Людка написала последнее в этом году домашнее сочинение по польскому, и мама велела ей почистить ковёр в большой комнате. Людка вытащила из кухонного шкафа пылесос, но тут явился Кондзельский из девятого «Б» за книжкой. Мама, завидев космы Кондзельского, всегда выходила на кухню и там, кажется, крестилась. Обычно, когда к Людке забегал кто-нибудь из приятелей, мама всегда разговаривала приветливо, угощала, а когда приходил Кондзельский, через силу отвечала на его «драсс…» и сразу исчезала. Кондзельский списал у Людки сочинение — им, правда, этого не задавали, но на всякий случай, — взял книжку и ушёл, бросив в сторону кухни «…ссдания», оставшееся без ответа.
Людка включила пылесос. На стене, над самым плинтусом, сидели две мухи. Людка осторожно подпели к ним наконечник шланга. Она не хотела их ловить, хотела только проверить. Мухи улетели. Хотя окна были открыты, больше мух в комнате не было, и Людки внимательно следила за этими двумя. Одна уселась на потолке, слишком высоко для проведения опыта, а другая кружила над столом. Людка села на диван и стала ждать. Наконец оба снова устроились рядышком на стене, в пределах досягаемости. И снова улетели. Людка подкрадывалась к ним ещё три раза, все три раза они были у самого наконечника и каждый раз улетали. Вывод был прост: засосать живую муху в пылесос невозможно. Но, конечно, дело было не в мухах. Просто Людка одновременно думала о другом, гораздо более важном вопросе. И тут перед ней с полной очевидностью открылась одна ужасная истина, которую она подозревала уже давно. Потрясённая своим открытием, Людка наскоро проехалась пылесосом по ковру и, сказав маме, что у неё болит голова, вышла на улицу пройтись. Нужно было собраться с силами, чтобы заставить себя идти в школу завтра, и послезавтра, и спокойно взглянуть ему в глаза, и вообще не смотреть на него. Потому что Людка ни за что на свете не хотела, чтобы Марек подрался с кем-нибудь из-за неё. Так, как он дрался из-за Ядзи, — ни за что!
10
— Ну, как дела, Людик?
— Всё в порядке, Стефан. А у тебя?
Они сидели в том же само» кафе. Стефан постарел, у него поседели виски, хотя с тех пор прошли не годы, а всего лишь месяцы. Людка возмущалась и негодовала по-прежнему, но ледяная брони, в которую она облачилась, уже дала трещину, и поэтому теперь они в состоянии была сидеть с ним в кафе. За столиком подле батареи двое старичков читали газеты, время от времени выглядывая из-за газетных листов. Людкин вопрос Стефан пропустил мимо ушей.
— С какими отметками кончила?
— Три пятёрки. По поведению, по биологии и по физкультуре.
— Н-да, пятёрок не густо. А троек?
— Троек ничего, прилично. Физика, химия, а ещё по труду — у меня все вареники с капустой разлепились. Понимаешь, по субботам у нас занятия по кулинарии, три часа парим-варим. Учительница молодая и немножко того, «с приветом», хочет нас на этих идиотских занятиях всему на свете обучить. В первой четверти я плохо пришила бейку, край не обметала, и поэтому, мол, она обтреплется. А потом я туфли без воды почистила.
— Что?!
— Тряпочку не намочила, когда пастой мазала. Вот тебе уже два минуса. Потом она задала мне отыскать перегоревшую пробку — она их сперва нарочно портит. Я нашла, но только вместо тоненькой проволочки, такой, знаешь, красненькой, взяла из ящика с инструментами другую, толстую, которой на рынке зелень в пучки связывают. Ящик делали наши мальчишки, ну и бросили её туда, ослы. На всём нашем этаже пробки перегорели. Учительница сказала, что ладно, ни второй год она меня не оставит, но в десятом классе я у неё буду чинить пробки вслепую. Потом мы стали проходить «Польскую кухню» и как накрывать на стол. Ну, и я положила вилку не слева, а справа, хотя она «десять раз объясняла». А потом я сняла накипь с бульона, как мама делает, а это вовсе никакая не накипь.
— А что же это, бог ты мой?!
— Это коагулированный белок. Если мясо чисто вымыто, то что там ещё может быть? Надо бульон вместе с накипью прокипятить хорошенько, а потом процедить, чтобы он был чистый и прозрачный.
— Что ты говоришь! А все снимают.
— Феодализм. А ещё я коренья ниткой не связала, и они по всей кастрюле плавали.
— А вареники?
— Мука была слабая. Они не залеплялись.
— А откуда у вас деньги на эти гастрономические упражнения?
— Да они как-то там договаривается с завхозом, на нашу погибель. По субботам мы сами себе готовим обед, понимаешь, на те деньги, которые пришлось бы истратить в столовой, и кроме того, каждую четверть мы приносим по двадцать злотых.
— И мальчишки тоже готовят?
— Мальчишек она особенно гоняет. Поглядел бы ты, как они пончики жарили, — обхохочешься! Абанович начинил пончик ластиком «мышка», и представляешь, ему же этот пончик и достался! Потом, когда стали садиться за стол, она велела ребятам, чтоб они придвигали нам стулья, ну и половина девчонок очутилась под столом, потому что они не придвигали, а отодвигали. В других школах такого нет, ей-богу. У Ядзи, например, нету. А ещё она обучала мальчишек, как приглашать нас танцевать и как потом провожать на место. Они сперва говорили, что на вечерах будут танцевать друг с дружкой, на черта им все эти церемонии. Но теперь научились, приглашают, только некоторые знаешь как? Поклонится тебе, а сам глаза закатывает. Ну подумай, где уж тут получить пятёрку по труду? Она нам сказала, что плести корзинки можно и в другом месте, а наше дело — научиться готовить из того, что в корзинке лежит. Легко, по-твоему?
— Трудно. Нас таким вещам не учили.
— То-то вам здорово жилось!
— О да.
— Знаю. Стефан. Война, восстание…
— Да, мы проходили другую практику.
— Зато вы делали великое дело. А мы скоблим петрушку. Сначала щёточкой её вычистим, а потом режем — тоненько, в ней ведь витамины. Можно, по-твоему, серьёзно относиться к петрушке? Нет, ты не увиливай, ты ответь. Видишь? Ну и не удивляйся, что мы протестуем.
— Я не увиливаю, но ты смешиваешь совершенно разные вещи.
— Знаю, Стефан. Понимаю. Но всё-таки… вон у Тересы хоть были трудности с мировоззрением…
— О господи! Я человек привычный, но за ходом твоих мыслей просто не угнаться. А у тебя, значит, нет трудностей?
— Ни малейших. И никогда не было. Да какие же тут могут быть трудности? Всё ясно. Кто не обладает материалистическим мировоззрением, с тем и считаться нечего, такой человек сразу исключается из игры. Трудности могут быть только внутри мировоззрения, понимаешь? Просто в голове должен быть порядок, чувствуешь?
— Не понимаю и не чувствую. Всё это совсем не так просто. Человек, не обладающий материалистическим мировоззрением, вовсе не исключается из игры. Вот ты как-нибудь потолкуй с таким, он тебе может немало интересного рассказать.
— Ну, а вот если бы при каком-нибудь средневековом папе Иннокентии запустить космический корабль, что бы сделали с таким космонавтом? Наверняка бы прокляли его и сожгли! Вот!
— Так мы ни до чего не договоримся. Видишь ли, во времена папы Иннокентия не было технических условий для того, чтобы запустить корабль. И психологически тоже папа Иннокентий был к этому явно не подготовлен. Это вещи взаимосвязанные, понимаешь? Одно обусловливает другое, и наоборот. А мама знакома с твоим материалистическим мировоззрением?
— Мама знакома, а папа нет. Отец меня излупил бы, он уже несколько лет обещает. А мама что может сказать, когда она сама ради отца перешла из евангелистской религии в католическую? Мама ничего не говорит. Ну, а ты обладаешь материалистическим мировоззрением?
— Ишь как шпарит! И не запнётся. Сразу чувствуется, что в портфеле лежит свеженький табель. Да, обладаю. Но только я заплатил за него многими, многими бессонными ночами и даже тяжёлой болезнью с высокой температурой. Послушайся моего совета. Ты едешь на каникулы, у тебя будет много свободного времени. Так вот, для начала подвергни сомнению своё материалистическое мировоззрение. Ведь это просто страх слушать, что ты тут проповедуешь.
— Серьёзно? Почему?
— А потом подвергни сомнению вообще все. А поскольку во всём сомневаться невозможно, то лет через пяток ты сделаешь для себя кое-какие выводы. Своевременно или несколько позже.
— Я хочу сейчас, а не своевременно или несколько позже.
— Вот ты хочешь быть биологом. А можешь ли ты им быть прямо сейчас? Если хочешь честно разобраться, что к чему, то для начала сделай так: восьми все свои привычные представления и переверни их вверх ногами. Путаница и неразбериха у тебя в голове начнётся ужасная, но потом определится какая-то область, в которой тебе захочется разобраться до конца. А уж как нападёшь на своё самое главное, тут уж ты не отступай, не давай себя сбить, держись обеими руками… Я хотел бы, чтоб тебе это удалось лучше, чем мне. Да так оно, верно, и будет, у тебя для этого более благоприятные условия. Тебе не приходится думать, как купить хлеба для матери, где достать лекарство для Тересы, как… — Он не договорил, и некоторое время оба молчали.
— Стефан… — Людка хотела что-то спросить, но струсила. — Стефан, Тереса в этом году не приедет. Алексу некогда, а отпускать Тересу в её положении одну он не хочет.
— Да, она мне писала.
— А ты написал ей… сам знаешь про что? Стефан, я так по тебе соскучилась!
— Я тоже, Людик. Нет, я ей не написал именно потому, что она ждёт ребёнка.
— Стефан… я думаю так же, как и раньше.
— Знаю.
— Но тогда я вела себя как последняя идиотка. Как противная маленькая шавка, которая бежит за машиной и гавкает.
— Да.
— Мне очень неприятно.
— Понимаю.
— Я не имею права судить…
— Да.
— Ты простил меня?
— Не будем больше об этом. Ну, что ещё слышно в школе?
— Да ничего. Кошку секретаршину выкупали.
— А откуда у вас там кошка?
— Понимаешь, секретарша обожает эту свою Мирель и, чтоб кошка дома одна не скучала, берёт её иногда с собой на работу. Ну, теперь-то Мирели не скоро опять захочется в школу — здорово её воспитнули! И как можно так мучить животное! Сиамская кошка.
— Скандал был?
— Ого! Жуткий. Но тут каникулы, решили поиски зачинщиков отложить на осень, а за два месяца кошка, сам понимаешь, подсохнет. Моя четвёрка по поведению тоже подсохла.
— Могла ведь, Людик, и из школы загреметь. Очень трудно было объяснить всё это директору.
— Ты с ним говорил? А я и не знала.
— А зачем тебе знать? Прекрасная у вас учительница, эта пани Мареш.
— Ну! Известное дело. Она раз говорит Рахвальскому: «Яцек, ты, кажется, чинарики покуриваешь в уборной?» А Рахвальский так обиделся, что сдуру взял да и бухнул: «Я? Чинари? Что вы! Никогда! Это ж надо, чинари! Вот пожалуйста, у меня полный портсигар!» — и вытащил из кармана полнёхонький портсигар «Спортов». Мы чуть не лопнули со смеху, ржали, наверно, минут пятнадцать. Ну, ему-то потом было не до смеха, когда она стала его песочить. Что она ему сказала, не знаю, ни за что не хотел говорить, только курить он перестал — и окурки и не окурки. Факт. А другой раз ребята подрались. Они часто дерутся, это у них называется решить вопрос по-мужски — надают друг другу по морде, и порядок. Ну вот, они подрались, и у Рахвальского было право на первый удар, он, говорят, как развернётся, противник так с ходу и лёг…
— Ты что, влюбилась в этого Рахвальского? Только и слышу — «Рахвальский, Рахвальский…»!
— В Рахвальского? — Людка расхохоталась, как всегда, громко и безудержно. — Нет! Но противник встал, знаешь, они всегда спокойно ждут, пока он подымется, а как встанет на ноги, тут его р-раз…
— Знаю.
— Ты тоже так дрался?
— Конечно. Меня однажды противник загнал в крапиву, и я был в трусах. И крапива меня доконала. Говорят, я скакал, как паяц на верёвочке…
— Ну вот, тот встал и как врежет Рахвальскому, пришлось считать до двенадцати, они всегда до двенадцати считают, два счёта лишних — это поправка на нетренированность, и потом, говорят, школа снижает спортивную форму.
— У противника?
— Стефан! Ну вот, после этого оба ходили две недели с распухшими носами, и фонари под глазами у них были сперва фиолетовые, а потом жёлтые. И все учителя спрашивали, что случилось, ну, пан Касперский не спрашивал, он знал, вернее, сразу догадался и даже песенку во время лабораторной работы напевал:
Только одна пани Мареш словно ничего не замечает. Молодец она, правда?
Стефан одобрительно кивнул. У Людки с самого начала было такое ощущение, что он хочет сказать ей что-то важное и всё оттягивает. Она допила свой фруктовый коктейль и съела шарлотку. Кофе у Стефана совсем остыл, он отодвинул его и заказал новую порцию.
— Заказать тебе землянику со сливками? — спросил он и улыбнулся.
Людка почувствовала, что за эту улыбку она готова спуститься по Ниагарскому водопаду в бочке, рекламируя кока-колу.
— Закажи. Я думала, у меня будет пара по французскому, — сказала она, просто чтобы что-то сказать. Двойка по французскому ей никогда не грозила, но Стефан всегда очень интересовался её отметками.
— Может, я в июле заеду к тебе на денёк-другой, подтяну тебя по французскому, — сказал он, и по его тону Людка поняла, что эти слова ничего не значат. Так, простой трёп.
Они снова замолчали. Людка лихорадочно придумывала, что бы такое ещё сказать.
— А я тут влюбилась в одного человека. Целый год с ума сходила.
— Что ты говоришь! Невероятно! Прямо сенсация. Ну, и что?
— Да ничего. Перестала. Оказывается, он в своей «шкоде» синтетику всякую возит.
— Что-о-о? Ну и что же? — Стефан поспешно отставил чашку и вынул из кармана платок. — Разве нельзя возить в своей машине синтетику? Да и потом, помилуй, что за синтетика?
— Он должен был собирать произведения искусства и быть ассистентом профессора Михаловского.
— И не вышло? Он что, совсем уже взрослый мужчина? Не влюбляйся ты во взрослых мужчин. Не стоит. Так почему же он не стал этим самым ассистентом?
— Он был писателем, понимаешь, Стефан… поэтом…
— И не знал, о чём писать? Или муза ему изменили?
— А ещё он должен был быть биологом.
— Обширные у него были планы!
— Да он и понятия не имел об этих планах. Вообще-то я про его планы ничего не знаю.
— А-а-а! Так вот в чём дело! Ты меня этой синтетикой прямо убила. Ты, значит, вообразила себе, что он самый-самый-самый… а бедняга попросту торгует какими-то синтетическими материалами, так, что ли?
— Понимаешь, к тому времени, как я открыла, что он там возит, я уже не так с ума сходила, но всё-таки переживала ужасно. Когда я его в первый раз увидела, он держал под мышкой две теннисные ракетки. Но это были вовсе не ракетки.
— А что же? Неужели тебя так ослепила его красота, что ты и разобраться не смогла?
— Может, он и играет в теннис, но только не этими ракетками. А это были образцы. Потому что он делает нейлоновые струны. И другие вещи. Может, прямо у себя в комнате, за жёлтыми занавесками.
— Ну и бог с ним, пусть себе делает.
— Понимаешь, один раз он стоял во дворе и говорил с каким-то другим человеком, а я рядом кружила вокруг тополя, как оса вокруг банки с мёдом. Говорю тебе, я уже тогда была не такая влюблённая, уже почти всё прошло, но как я услышала, о чём они говорят, чуть в обморок не упала. «Давай, старик, слетаем в Легионов… ещё одна партия… пятнадцать кусков… в Ченстохов и обратно… Обделаем дельце со струнами»… Знаешь, мы тоже по-всякому говорим, суть не в этом. Тут совсем другое. В общем, больше я там крутиться не стала, пошла домой и вырвала из тетрадки ту страницу, где начинала когда-то ему писать. И всё, замётано, как наши мальчишки говорят после мордобоя. С этим покончено. Раньше я чуть из окна не выскакивала, когда он поднимал капот своей «шкоды», а тут они с приятелем, пока разговаривали, тоже что-то в машине делали, а мне хоть бы что — пусть себе копаются.
— Бедняга! Он никогда и не узнает, в какие пышные одежды ты его вырядила, сколько венков напялила ему на голову. Даже один лавровый.
— А что было бы, если бы я не вытерпела и как-нибудь ему намекнула?
— Нет, я думаю, внутренний голос подсказал бы тебе что-нибудь вроде: «Извините, я ошиблась, я приняла вас за другого…»
— Но ведь это не всегда так бывает?
— Нет. Не всегда. Пойдём, Людик, пора.
— Ты ничего не хочешь мне сказать?
— Хочу. Но сейчас пойдём.
И в тот день Людка так ничего и не узнала. Стефан даже не поднялся с нею наверх.
— Замётано, — сказал он на прощание и ушёл, слегка ссутулившись, хотя обычно держался прямо, как палка.
На следующий день он явился утром — Людке пришло в голову, что Стефан, видимо, не хочет встречаться с отцом, — коротко поздоровался с мамой, вошёл к Людке и, даже не потрепав её по плечу, захлопнул дверь и объявил:
— Я возвращаюсь к Элизе.
— Стефан! — Людка, как была в пижаме, выскочила из постели и повисла у него на шее. — Стефан! Вот здорово!
Стефан ваял её на руки и посадил на стул.
— Я не сказал тебе этого вчера, в кафе, потому что боялся — вдруг ты на сей раз запустишь земляникой со сливками в меня!
— Сбрендил? — ошарашенно спросила Людка, но тут же опомнилась: — Прошу вас, сударь, присядьте. — Она указала ему на стул. — Помрачение мозгов, как говорит мама?
— Ты не возмутишься? Не станешь ничем в меня швырять?
— Нет. Слово.
— Ну, значит, я тебя переоценил. Иногда мне кажется, что ты почти взрослая. А ты только вытянулась, как телеграфный столб, и красиво одеваешься.
— Извините, сударь, но я вас не понимаю, вы что-то темните.
— О, какал красивая юбка!
— Ну! Правда? Сама сшила. Мою взрослость переоценить невозможно. Её следует лишь ценить по достоинству, этого мне вполне хватит.
— Ладно, тогда не будем больше об этом. Завтра я отвезу тебя на машине на Ливец, к нашей милой тётушке.
— Ой, я там сдохну, тётка заставит меня вязать! Зато в августе, старик!.. В августе я оду в молодёжный лагерь!
— Извини, но воспитанная барышня говорит не «я там сдохну», а «боюсь, мне там будет несколько скучно».
— Я собиралась на поезде, а ты, значит, меня отвезёшь! Законно! Ну ладно, Стефан, хватит дурака валять! Куда это мама пошла? — спросила Людка, услышав, как хлопнула входная дверь. — А мама знает?
— Нет ещё. Я вчера затем и хотел повидать тебя, чтобы потом вместе ей сказать. Мама, наверно, пошла в магазин; когда вернётся, мы ей скажем.
— Да уж, стоит ношей маме увидеть своего сыночка, и она немедленно отправляется в магазин за свежими яйцами, чтобы поджарить ему омлетик с грибочками.
— Вот именно. Сейчас мама придёт и поджарит своему сыночку омлетик с грибочками, которые она всегда прячет в холодильнике на случай его прихода.
— Знаешь, какая разница между тобой и мной? Грибочки она прячет для тебя, а некоторые вещи, например бруснику, она прячет от меня. Ох, я чувствую, что у меня уже развивается комплекс неполноценности, как говорит…
— Как говорит кто?
— Да никто.
— Ага.
— А Элиза уже знает?
— Знает.
— Рада?
— Нет. То есть да.
— Она простила тебе эту выд… ну…
— Нет, простить она мне никогда не простит, и об этом я как раз хочу с тобой поговорить, но с условием — не задавать глупых вопросов. Запомни: никогда никаких разговоров на эту тему при Элизе. Никаких. Прикуси язык и держи его за зубами. Тем более, что они у тебя торчат. Не хотела, дрянная девчонка, надевать шину, вот и хороша теперь, впору кору на деревьях глодать.
— Что? Ты недоволен моей внешностью? Ах, Стефан, как я рада! Теперь опять всё будет по-старому.
— По-старому уже больше никогда не будет. Я думал, что ты это поймёшь и снова вознегодуешь.
— Но почему, Стефан? Почему тогда… а теперь…
— Что было, того больше нет. А теперь… Видишь ли, нельзя взять двенадцать лет жизни и спрятать за ненадобностью в шкаф или вынуть из кармана и положить на стол. И потом — Яцек.
— А что же вы, сударь, раньше так разумно не рассуждали?
— Рассуждал. Но только я думал, что у меня хватит сил. Оказывается, нет. И я считал, что ты поняла, как я слаб, и теперь осудишь меня ещё строже. И скажешь, что лучше бы уж я был последователен до конца. Я оправдываюсь перед тобой, соплячкой, потому что чувствую моральную ответственность за тебя. Я хочу, чтобы ты всё поняла, потому что вас, недорослей, к сожалению, не держат в особых клетках, и маленькие дурочки вроде тебя вынуждены жить вместе с нами в большом и сложном мире, где они сталкиваются с разными непонятными вещами и судят о них, как бог на душу положит. Так вот, я чувствую моральную ответственность за тебя, точно такую же, как за Яцека Бальвика. А знаешь почему?
— Хотелось бы узнать.
— Как следует ты этого не поймёшь никогда, потому что тебе выпало счастье родиться в году тысяча девятьсот пятьдесят третьем.
— Ну да, и я ничего такого не понимаю, можешь не продолжать, я эти нотации выслушиваю в очередях каждый день. Я, что ли, в этом виновата? И ботинки у меня целые, а вы ходили босиком, и школа бесплатно, и ходить в школу далеко не надо, и голода я не знаю, и вечно я чего-то требую, и не ценю тех условий, которые вы создали ценой собственной крови! Отвяжись ты от меня, сама знаю, что живу в хороших условиях, а в драных ботинках разгуливать не собираюсь, даже для твоего удовольствия.
— Ну-ну, продолжай! Теперь скажи ещё, что не просила тебя рожать, и я так тебя тресну, что своих не узнаешь! Каша у тебя в голове несусветная, но ты хоть старайся думать, вместо того чтобы отвечать мне пошлыми готовыми фразами. Слушать тошно, ещё омлет есть не смогу. Что касается ботинок, то про них я ещё не упоминал. Но упомяну.
— Догадываюсь.
— Но не про твои.
— И это знаю, мой бедный Стефанчик в деревянных башмачках! И про тетрадочку знаю, где с одного конца задания по польскому, а с другого по математике. А посерёдке? Что ты делал с серёдкой?
— Из серёдки я вырывал страницы, делал кораблики и пускал в водосточных канавах, — ответил Стефан так спокойно, что у Людки мурашки по спине побежали — вдруг и впрямь треснет?
Чтобы скрыть смущение, она стала надевать халат. Ей было ужасно неловко. Ведь на самом деле она вовсе так не думала, и огрызнулась просто потому, что всё это она уже сто раз слышала от других. Но она не права, надо исправить дело и признать ошибку.
— Прости, пожалуйста, Стефан.
— Ничего, — брат взял её за локоть, — я тебя понимаю. Но подумай вот о чём: чтобы понять тебя, я должен войти в твой мир, для меня совсем непривычный, а это требует от меня известных усилий. Так почему бы и тебе не сделать усилия, чтобы понять меня? Я не говорил с тобой об этом раньше, всё ждал, когда ты немного повзрослеешь. Отвечай, повзрослела ты или нет, чёрт тебя дери!
— Повзрослела, о мой галантный кавалер!
— Я начал с того, что по-настоящему ты этого никогда не поймёшь, — да ведь никто от тебя этого и не требует, никто тебя ни в чём не винит. Но кое-что знать тебе всё-таки надо, чтобы хоть отчасти понять других людей.
— Ну ладно уж, ладно.
— Наши родители немолоды и очень устали.
— Да, отец последнее время действительно… но я делаю по дому что только могу, хоть иной раз и неохота. Зато уж ты последнее время доставил им массу острых ощущений! «Внучек»! Ох, если б ты слышал!
— Верно, но это тот случай, когда иначе нельзя. Единственный случай, когда не считаются даже с родителями. Здесь каждый должен решать за себя. Ну ладно, чёрт возьми, продолжим. Итак, твоё бренное существование началось в мире уже сравнительно благоустроенном.
— Я бы этого не сказала.
— Сейчас стукну! Между прочим, профессия учителя — последняя героическая профессия наших дней. Иметь дело с сорока вот такими балбесами — осатанеть можно! Космический полёт в сравнение с этим — детские игрушки!
— Знаешь, вообще я человек тихий и покладистый. Это ты меня заводишь. Я про себя часто не соглашаюсь с другими, но не спорю, чтоб зря нервы не трепать.
— Замолчи, прыщавая, а то мы так и не сдвинемся с мёртвой точки. Каждая твоя реплика требует или банального рукоприкладства, или развёрнутой отповеди. Сейчас, например, надо было бы сказать тебе, что не следует избегать спора, нечего беречь свои нервы, но я этого не скажу, потому что хочу поговорить с тобой о другом.
— И всего-то у меня два прыщика на лбу и один на щеке, так что попрошу без оскорблений. Сейчас я их прижгу салицилкой, и завтра даже следа не останется. Я так уже штук пятнадцать свела.
— Людик…
— Ладно. Больше не буду.
— Когда ты должна была родиться, мама очень радовалась.
— Пани Зюте она говорила как раз наоборот.
— Это вначале, дурочка. А потом она ужасно радовалась. Когда же этот достойный всяческого сожаления факт свершился и ты появилась на свет, мама расплакалась и сказала: «Ну вот, хоть один из моих детей не узнает, что такое голод и холод».
— То есть даже в сей радостный миг она подумала о своём любимом Стефанчике.
— Несчастная, нелюбимая крошка, бедная девочка со спичками! Да, она думала о своём любимом Стефанчике и о своей любимой Тересочке, потому что им она никогда не могла дать того, что дала тебе. Но в каком-то смысле мать дала Стефанчику и Тересочке нечто большее, хотя ей это и в голову не приходило. Она дала им картошку, много мешков картошки, а таскала она эту картошку на собственном горбу, обутая в башмаки, к которым подошва была привязана верёвочкой, и однажды, когда бумажная верёвочка размокла, мать потеряла подошву. А потом она долгие часы тёрла эту картошку обмороженными руками и продавала картофельную муку, чтобы купить Стефанчику и Тересочке сахарину и молока к оставшейся картошке.
— Когда это было и что такое сахарин?
— Когда Тереса только родились, и отца забрали в концлагерь. Что такое сахарин, ты можешь и не знать. Это такие таблетки, слаще, чем сахар, но потом от них во рту становится горько, как будто выпил полынной настойки. Если бы ты знала, какой раньше был наш отец! Помню, зимой — мы тогда жили у нашей дорогой тётушки — он выбегал на улицу голый до пояса, растирался снегом, шутил, острил, смеялся…
— Острил? Смеялся? Отец?
— А когда он вернулся из лагеря, весь распухший, убеждённый, что уцелел единственно по воле господней, потому что в людей он уже не верил… Ну ладно… Сели мы обедать. Тереса забилась в угол и не хотела подойти к отцу, она его не помнила и боялась. Да и я не знал, что сказать. Сели мы обедать, а отец никак не может подцепить морковку вилкой, всё наклоняется над тарелкой, и стал есть ложкой. Но потом он увидел, как я на него уставился, опять взял вилку, и тут морковь стала падать прямо на подбородок, на пиджак, на брюки. Отец встал из-за стола и заперся на целую неделю в комнате, впускал к себе только мать, она раз в день носила ему еду. А сам ходил. Целыми днями ходил по комнате, а я за стеной готов был голову себе расшибить о спинку железной кровати… Потом он начал работать, постепенно всё налаживалось, мама тоже пошла на работу, а там и Стефанчик поступил в институт. Родители хотели вознаградить Стефанчика за военную картошку и делали для него больше, чем могли. Но Стефанчик всего этого уже не видел. Стефанчик рассудил так: я молод и имею право вкусить от радостей жизни. А что родители его тоже ещё молоды и тоже имеют право на радости жизни, этого он не видел и не задумывался над этим. И вот наш Стефанчик, наш домашний идол, целый учебный год пробездельничал — что ему учёба, когда на свете столько других приятных занятий! А был он к тому времени уже здоровый, откормленный бычок, и одеваться он любил прилично, а Тереска талантливо пела «Жили-были свинки три», и надо было купить ей пианино. И вот мать носила, не снимая, своё единственное, ещё довоенное, пальто и рассказывала, какой он замечательно ноский, этот довоенный бельгийский материал. Впрочем, на локтях он был не такой уж ноский, на локтях его вообще не было. Когда Стефанчик наконец всё это заметил, он поклялся, что теперь он ими займётся, теперь его черёд. Однако родители постепенно выкарабкивались из нужды, и Стефанчик пришёл к заключению, что, в общем-то, не горит. И вот уже пан архитектор шагает своим путём, он гордость семьи, он так блестяще защитил диплом, такой сын, на зависть соседкам, а там и невестка появилась, тоже архитектор… Словом, когда ты родилась, это было для отца с матерью великим счастьем, но я видел, как они устали, и решил заняться тобой. Ну чего ревёшь, дурища? Теперь уже всё хорошо. Родители счастливы, они вывели своих детей «в люди». Они даже не задумываются о том, что многое в жизни ушло для них безвозвратно и что лучшие свои годы они убили на своих чудо-деток. Им и в голову не приходит, что могло бы быть по-другому. Ты слышала когда-нибудь, чтоб отцу или матери что-то понадобилось? Если им приходится что-нибудь себе купить, они всегда сами перед собой оправдываются: «Ну, надо купить новое, а то старое совсем развалилось…» Это стало уже привычкой. Перестань реветь, я вовсе не хотел доводить тебя до слёз. Просто тебе надо осознать некоторые вещи.
— Стефан… Если бы ты мне не сказал… я уже собиралась давить на них, чтоб купили эластичный купальник…
— Купальник тут ни при чём. Я просто хотел, чтобы ты присмотрелась к отцу и матери и хоть немного о них подумала. Например, когда они ругают тебя, когда они раздражены, когда они тебя не понимают. Вот и всё. Мама пришла.
— Стефан, я понимаю. Но сегодня… мама так обрадуется, вот я и подумала, может, ты… У меня к тебе просьба.
— Да?
— Не попробуешь ли ты изменить мамино отношение к черепахам?
— К черепахам?!
— Мама обещала купить мне ко дню рождения двух черепах, но когда мы с ней пошли в зоомагазин на Новом Свете, я чуть со стыда не сгорела. Она как закричит: «Ни за что в жизни! Чтоб у меня по дому ходила такая пакость — да я в обморок упаду!» Хвать меня за руку, и из магазина. У меня есть сто злотых, я бы приплатила сколько надо, всё дело в маминых чувствах. Я буду сама тереть им морковку и салат буду покупать на свои карманные деньги, только бы мама согласилась. Она мне кошку хочет купить, но я не люблю кошек. Знаешь, черепаха — это реликтовое…
— Попытаюсь, — простонал Стефан. — Укладывай вещи, завтра мы едем. В пять утра, учти! Я должен тебя так устроить и вернуться в Варшаву.
— В пять утра? Я лучше поездом поеду.
— В пять тридцать. Моё последнее слово. Эх, старушка, вот и ещё год пройдёт, а ты так и не увидишь восхода солнца.
— Людка! Ты ещё не завтракала? Тогда идите на кухню. Я поджарила вам омлет с грибами. Скорей, а то остынет, — сказала мама, заглядывая в приоткрытую дверь.
11
Были на свете два места, куда Людка не хотела бы поехать. Гавайские острова и Монте-Карло — дешёвка, всё равно что реклама жевательной резинки. Ну, разве когда она объедет уже весь-весь свет или придётся сделать на Гаваях или в Монте-Карло пересадку. А третьим таким местом был дом дорогой тётушки Баси. Тем не менее Людка проводила теперь целые дни на берегу Ливец-ривер, рассматривая мальков-плотичек, которых держала в стеклянной банке, а вечером, после захода солнца, выливала обратно в реку. «Дорогая тётушка» занимала половину деревянного домика, который был выкрашен… В том-то и дело, что выкрашен он был очень странно. Тётушкина половина была похожа на похоронный катафалк, а другая половина — на негатив катафалка. Этот единственный в своём роде экстерьер был последним результатом многолетних — впрочем, отнюдь не эстетических — споров между тётушкой и её соседкой, совладелицей этой виллы. Самый смелый декоратор-профессионал не сумел бы достигнуть столь сногсшибательного эффекта, какого достигли две почтенные дамы, враждовавшие не на жизнь, а на смерть. Любой прохожий, обладай он хоть железными нервами, останавливался перед домом как вкопанный. Правда, заманить в этот дом жильца было довольно трудно. Тётушка сдавала две комнаты — одну постоянно, а другую, без печки, — только на лето. Волею какого случая две почтенные дамы были обречены на бессрочное совместное проживание в этой куче трухлявого дерева, Людка не знала. Ясно одно, это был не слепой случай. Случай знал, что делал. Жизнь обеих старушек без этих полусгнивших досок была бы пуста и бессмысленна, лишена вкуса и запаха.
Когда Стефан подвёз Людку к «вилле», Людка подумала, что его «фиат» не захочет тут стоять ни минуты, машина сама включит третью скорость и умчится прочь. А Людке предстоит прожить здесь целый месяц! Стефан чуть не налетел на сосну и буквально лишился дара речи. Кое-как вылез он из машины и подошёл к дорогой тётушке, которая с гордым видом, в новой вязаной шали на плечах ждала их на крылечке.
— Наконец-то вы приехали, очень рада! Подойди ко мне поближе, деточка. Как ты выросла с прошлого года! Молочную овсянку будете кушать?
— О господи, тётя, что вы сделали? — наконец выдавил из себя Стефан.
— А-а! Ты, верно, имеешь в виду мой фасад? А что! Она стала красить, ну и я, не сидеть же мне сложа руки!
Стефан тоже не стал сидеть сложа руки. Он внёс а дом Людкин чемодан и сумку, отказался от овсянки, чмокнул тётушку в руку — и до предела выжал газ, чем вызвал краткий истерический припадок у двух тётушкиных кур. Людка вошла в темноватую комнату и, покорившись судьбе, уселась за стол.
— Спасибо, тётя, я завтракала дома. А вот пирог, мама вам прислала. Тётя, а вы не могли бы продать этот дом, чтобы не воевать с соседкой?
— Ты с ума сошла! Продать дом? Мои пот и кровь?
— Какие там пот и кровь, тётя. Я слышала, дядя купил эти полдома, когда выиграл в лотерею?
— Верно, была у него четверть билета, он и выиграл. Крупную сумму. А ты не умничай, это неприлично. Вот вам, пожалуйста, ваше кино да телевидение — я бы детям моложе двадцати шести лет запретила смотреть такие фильмы! Вот вам летние лагеря вместе с мальчиками! Вот вам совместное обучение в школах! Даже на пляжах голышом загорают! Что я, слепая, не вижу?
— Тётя, на пляже никто голышом не ходит.
— Ты хочешь сказать, что две полоски материи — это костюм, в котором прилично загорать? И зачем нужен загар? Только цвет кожи портит.
— Тётя, при этом тело поглощает больше йода, который содержится в морском воздухе, и вообще ультрафиолетовых лучей.
— Если телу нужен йод, порядочный человек глотает таблетки или пьёт воды, как в Швейцарии. Что я, по-твоему, дурочка? Отсталый элемент?
— Ну что вы, тётя!
— Ты уже не ребёнок, а взрослая барышня, и в этом году я не позволю тебе ходить на реку в таком виде. Сама сошью тебе костюм. Вот из этого. — Тётя кивнула на кровать, прикрытую тканевым одеялом.
— У меня купальник закрытый, не бикини.
— А вот я погляжу.
— А почему фильмы только с двадцати шести лет? Почему не с двадцати пяти? — спросила Людка, чтобы отвлечь внимание тётки от купальника.
— Потому что существуют вещи, которых далее замужняя женщина с двумя детьми не должна знать. А ты вон небось уже всё знаешь. Вас, говорят, в школе просвещают.
— Ага. Да у нас ещё поздно. В Швейцарии, говорят, с девяти лет.
— Ну, нет. Ни за что не поверю.
— В целях профилактики, чтобы дети не узнали со стороны и не испытали психологического шока.
— А тебя, вероятно, просветили уже после шока? Что-то ты очень умная!
— Никакого у меня шока не было, потому что я буду биологом. Про это должны в букварях писать, тогда никто ничему не будет удивляться.
— Потому-то вы такие и получились, от большого ума. А чувства в вас ни на грош. Никакой романтики. Погоди, дай воды выпью.
— Тётя, кто это вам таких глупостей наговорил? Одно дело природа, биология, естествознание, а чувства, а романтика… ох, тётя, это… это совсем другое дело.
— Скажи мне правду. Только честно, положа руку на сердце. Ты, наверно, уже целовалась с мальчиками?
— Тётя! Да вы что… это ведь надо в кого-нибудь… не целовалась я, выдумаете тоже!
— Ей-богу, такие времена настали, не знаешь, что и думать. Постой, принесу тебе позавтракать. Хорошо, что ты приехала, и мне веселей будет. Жаль, что ты не знала дядю своего, моего покойного мужа. Его и Тереса не знала, он умер ещё до войны. Вон его портрет, взгляни.
— Да я каждый год смотрю.
— Вот и хорошо. На такого человека только смотреть и смотреть.
— Красивые усы были у дяди.
— Ах, чудесные! Теперь длинные усы не в моде, а ведь мужчина без усов не имеет никакого вида, никакого обаяния.
— Тётя, можно я на реку пойду?
— В восемь утра?
— Я не загорать, просто проведаю свои старые места.
— Ну, иди. Проголодаешься, сразу возвращайся. Блинчики сделать на обед?
— Ага. Я вам помогу готовить. В час буду дома.
Это было самое трудное — выйти из дому. Каждый день приходилось как-то маневрировать, чтобы уйти, не обидев тётку, не прервав её на полуслове. Потом тётка забывала. Погружалась в свои дела, и когда бы Людка ни вернулась домой — через час или через восемь часов, — тётка встречала её одинаково:
— Ты уже пришла, деточка? Вот и хорошо.
Людка предпочла бы провести этот месяц перед лагерем дома, ходить спокойно в бассейн или на Вислу, но поездки к тёте стали своего рода семейной традицией. Потом родители вручали тётке некоторую сумму денег, говоря: «Ах, оставь, Людка проторчала у тебя все каникулы, занимала комнату», — как будто кто-то верил, что в комнату бея печки и в самом деле можно было бы заполучить жильца. Тётка была чрезвычайно щепетильна; между тем ей приходилось жить и содержать свои полдома на маленькую пенсию. А пресловутый «постоянный» жилец чаще всего оказывался перелётной пташкой. И всё же, несмотря на вечную воркотню и сетования, тётка была вполне довольна жизнью. Она обладала невозмутимым душевным спокойствием и жила в полном согласии с миром — исключение составляла, пожалуй, только «современная молодёжь». Даже сама старость её была какая-то красивая. Почему — этого Людка не знала.
Но и вредная же она была старуха — иногда прямо по-детски. Взять хоть эту покраску дома. Вот уже два года, как между совладелицами произошла страшная ссора, и они не разговаривали друг с другом (причём каждая явно не могла простить этого другой), однако стоило соседке покрасить свою половину — наружные стены в чёрный цвет, чтоб не грязнились, а двери и наличники в белый, чтоб было понарядней, — как тётка немедленно («немедленно» длилось три недели) покрасила свою — стены в белый, а двери и наличники в чёрный. Но гвоздём тётиной программы была деревянная трещотка — ну, это просто привело Людку в восторг. Где уж тётка раздобыла эту трещотку, неизвестно; во всяком случае, она не поленилась в тёмную ветреную ночь вылезти из постели, взять лестницу и подвесить трещотку на сосну прямо под окном у соседки. Предполагалось, что та подумает, будто это её покойник муж стращает. И соседка действительно испугалась, начала свечки в костёле ставить, а тётка у себя за занавеской покатывалась со смеху. Тёткина болтовня иногда злила Людку, иногда забавляла, а иногда, сказать по правде, у Людки от её вопросов прямо дух перехватывало. Вот как в тот раз, насчёт поцелуев. Людка от стыда головы поднять не могла, кисточки у скатерти считала. Каждый год, впервые поднимаясь на крылечко (посередине крыльца красной масляной краской была проведена широкая полоса — нейтральная зона), Людка говорила себе: «Нет, я тут и двух дней не выдержу». А потом жила целый месяц, и даже как-то жаль было уезжать. Здесь только куры дружно кудахтали и рылись в песке, пренебрегая территориальными запретами. Сначала у тётки была одна курица. Соседка купила двух. Тогда тётка прикупила вторую и третью. Соседка ещё одну. И так они дошли до шестнадцати или семнадцати штук у каждой. Кормить им всю эту живность было нечем, держать негде, пришлось обеим прирезать своих курочек и продать на рынке. Последние три года результат куриного матча был устойчивый — 2:2, однако, по утверждению тётки, её куры были жирнее и в яйцах, которые они несли, «желтки были желтее».
По вечерам тётка иной раз грозила Людке:
— Вот будешь послушной девочкой, я тебе эти полдома в завещании откажу. Хотела я отказать Стефанчику, он ведь здесь родился, но теперь ему это уже не нужно.
В такие моменты Людка приходила к выводу, что быть послушной девочкой весьма рискованно.
В полукилометре от этой бесшумной (а порой и очень даже шумной) линии фронта вилась… как бы это получше сказать — струилась? текла? — нет, лежала ленивая и беззаботная речка Ливец. Вот именно: лежала, а не лилась и не струилась. Вообще-то питься она, может, и вились, то есть русло у неё было извилистое, но сама она не двигалась с места. Нежилась на солнышке, грела свои старые кости. Брошенную в бурные воды Ливца щепку за четверть часа относило неукротимым течением на какие-нибудь пять сантиметров. И Людка окрестила речку Ленивцем. Глубина Ленивца равнялась длине карандаша. С банкой в руках Людка проводила на речке долгие часы. Бродила по дну, полоскала ноги (плавать тут могла бы самое большее плотичка, для карпа было слишком мелко) и время от времени обливалась водой.
Всё труднее становилось найти у речки спокойное место, где можно было бы, закрыв глаза и подложив руки под голову, растянуться на спине. Дело в том, что взрослые сочли все недостатки Ленивца за достоинства, и его заросшие ивняком берега пестрели летними дачами для малышей. Утонуть тут и впрямь было невозможно, даже самому предприимчивому карапузу. В худшем случае он мог нахлебаться речной воды, приняв её за подогретый компот из чернослива. Счастливое детство сопровождалось таким визгом и писком, что Людка брала свою подстилку, сумку и отправлялась по воде вверх по течению. К счастью, это «вверх» было чистой условностью и физических усилий не требовало. Зато можно было спокойно подумать. А подумать ей было о чём. Ох, было! И в такие минуты лучше, чтоб другие люди на тебя не глядели.
Возможно, Людка в этом году так и не увидит восхода солнца, но зато тогда, в половине шестого утра, она увидела нечто другое, поразившее её гораздо сильней. Вообще-то восход солнца она уже видела, было красиво, яркие краски, но потом, когда вспоминала, когда думала об этом, она как-то не испытывала особого волнения, сердце у неё не сжималось и ком к горлу не подступал.
А вот если вспомнить, что она увидела тогда, в день отъезда…
Она встала в половине пятого, ей хотелось блеснуть перед Стефаном. Тихо, чтобы не разбудить родителей, прошла в ванную, оделась, потом приготовила себе завтрак. И когда Стефан, точный, как трубач на колокольне Мариацкого костёла в Кракове, появился на пороге, Людка сидела на своём чемодане с самым равнодушным и надменным видом, на какой была способна. На столе она оставила записку родителям: «Ну, я поехала. Приезжайте в воскресенье в гости. Пирог для тёти взяла, постараюсь, чтоб не раскрошился по дороге. Целую.
Людка».
Они захлопнули дверь и быстро спустились вниз, потому что Стефан в самом деле очень торопился. Сели в машину. Стефан выжал сцепление и включил зажигание.
— Погоди минутку! Заглуши мотор! — крикнула Людка.
— Что случилось?
— Ничего. Уже можно ехать.
— Ты ещё не совсем проснулась?
Машина тронулась.
Людка не ответила. Пока длился этот короткий диалог, она убедилась, что Марек Корчиковский действительно необыкновенная личность. Увидела собственными глазами.
Из-за угла на перекрёсток выехала тележка с молоком. А сзади, небрежно подталкивая тележку, шёл Марек Корчиковский. Он толкал её тихонько, медленно, осторожно, как бы нехотя, а может, просто старался не шуметь. Перед одним из подъездов он остановился, снял с тележки проволочную корзину с бутылками, приподнял её, помогая себе коленом, и внёс молоко в подъезд. На нём были джинсы и чёрная шерстяная рубашка с расстёгнутым воротом, хотя утро было прохладное.
Всю дорогу Людка молчала; Стефан даже съехидничал — мол, такой пожилой особе, как она, ранний подъём не на пользу. А для неё только теперь начало кое-что проясняться. Она вспомнила некоторые высказывания Марека, в которых прежде видела одно зазнайство, кривляние и позёрство, и связывала их воедино. Вот, например, вечеринка у близнецов Куреков. Их родители — благородные люди! — разрешили им убрать ковры, а сами ушли на двухсерийный фильм. Было приготовлено множество бутербродов, неограниченное количество газированной воды и двадцать пять порций мороженого в холодильнике, а на закуску литр бензина и банка мастики для полов — девочки дали слово после танцев привести в порядок паркет. Это был день рождения близнецов, им исполнилось пятнадцать лет, и они остроумно украсили комнаты: развесили повсюду на ниточках яблоки и апельсины. Получилось очень красиво, Людка им позавидовала. Сама она на свой день рождения приготовила только овощной салат и купила кило конфет, а гостям прикалывала банты из папиросной бумаги. И смеху же было тогда у близнецов — попробуй-ка, не помогая себе руками, укусить яблоко, которое качается на ниточке!
Марек Корчиковский явился нарядный, как настоящий маркиз, в тёмном костюме и белой рубашке, с чёрным шерстяным галстуком, манжеты выглядывали из рукавов пиджака и были застёгнуты запонками. Он принёс изменникам подарки: Ясе — цветы (остальные ребята просто посинели от зависти, они-то не додумались, а как шикарно!), Генеку — перочинный нож, да не какой-нибудь там ерундовый ножичек с двумя лезвиями, а настоящий — десять предметов. И ещё два билета в «Комедию», второй ряд партера и, как выяснилось на спектакле, — середина.
Яська, которой впервые в жизни подарили цветы, покраснела и стала нюхать букет не с той стороны, а потом сунула в вазу и пролепетала:
— С ума сошёл, столько денег ухнуть!
— Я человек трудящийся, могу себе позволить.
Людка сама две недели копила деньги, чтобы купить близнецам книжки — пятнадцать лет, всё-таки дата! — но оригинальностью её подарки, конечно, не отличались.
— А где же это вы пристроились, дорогой коллега? — расспрашивали ребята.
— Многоуважаемый юбиляр, — отвечал Марек, — если б ты не дрых по утрам, как суслик, сам бы мог увидеть. Но нет, надежды мало. Мы с дедом фирму основали.
— Фирму по очистке воздуха от миазмов науки? Наконец-то кто-то этим занялся! Честь и хвала! А какую роль в этом заведении играет ваш почтенный дедушка?
— Дедушка держит фирму. Вывеска. Полководец, который никогда не был на фронте. Отдаёт приказы, не вставая с кресла: «Не урони честь фамилии! У меня чтоб порядок был!» Руководства мне, по молодости лет, не доверили. Однако меня ценят за высокую квалификацию…
— Так вы у дедушки на жаловании?
— Распределение материальных благ между мной и моим Великим Дедом происходит по-разному. В общем и целом, весь доход делится на три части.
— Так у вас есть и третий компаньон?
— Один месяц в году, когда я уезжаю в лагерь, интересы фирмы блюдёт моя почтенная матушка.
— Ты, кончай заливать, уши вянут. Заводи музыку, братцы! Начинаем танцы и пляски!
Так, значит, Марек говорил тогда правду, и ни одна душа ему не поверила. А он, значит, скрывать не скрывал, но и убеждать никого не собирался. Сказал, не поверили — ну и ладно. А убедиться лично никто не мог — кому охота вставать в пять утра? Марек, видно, и драться тогда предлагал в пять утра у Вислы потому, что для него ранний подъём — дело привычное! Интересно, неужели в тот день под дверьми так и остались стоять пустые бутылки? А может, Великий Дед вылез из кресла и лично произвёл смотр своих боевых батарей?
Людка улеглась на живот и начала писать в своей тетрадке, которая теперь, когда Людка вырвала страничку про Того Человека, снова стала чистой.
«Марек, это замечательно, ты настоящий мужчина. Я сидела в машине моего брата Стефана и пряталась, как могла, чтобы ты меня не заметил. Мне бы очень хотелось с тобой помириться. Я живу на берегу реки под названием Ленивец и каждый день ставлю будильник на пять утра. Ты об этом никогда не узнаешь, потому что я тебе никогда не скажу, даже если мы помиримся, но знай, что… Будильник звонит, я просыпаюсь, но делать мне нечего, и я читаю до восьми книжку или думаю, как ты там, в Варшаве, ходишь по улицам, а иногда представляю, что хожу с тобой. Знаешь, говорить я вообще-то умею, только в письменном виде не могу, так что не сердись, что я так глупо пишу, но ты ведь и сам насчёт писанья не слишком. Мне теперь кажется, что я с самого начала знала то, что знаю теперь, а с Тем Человеком это была ерунда и выдумки, и всё, что я говорила ему, это я говорила тебе. Но ты всегда со мной такой грубый, резкий. Теперь-то мне всё равно, будь какой хочешь, я-то знаю, какой ты на самом деле. А взаимность — вещь второстепенная, я с детства так считаю; главное, что ты есть и что ты настоящий человек. Хотя мне очень грустно и вообще для таких несчастных случаев должна существовать какая-нибудь «скорая помощь». Я жду не дождусь, когда мы наконец поедем в лагерь, хоть в озере вместе поплаваем. В лагере будут ласты и маски, мы сможем вместе нырять, даже если по-прежнему не будем разговаривать. Иногда мне кажется, что я тебе нравлюсь, а то почему же ты меня одну преследуешь и изводишь, а других девчонок нет. Но только ты гордый и боишься, как бы не отшили, а я бы тебя отшивать ни за что не стала. У меня потому такие мысли, что я два раза видела, как ты в классе на меня смотрел, когда думал, что я не вижу, а ещё потому, что ты всегда мне хамишь. Как подумаю про это, у меня сердце превращается в мокрую губку. Но если ты смотрел вовсе не на меня, а на таблицу элементов, которая висит над моей головой, то тоже ничего. Хотя вообще-то не совсем ничего…»
А солнце пекло и пекло, и Людкина спина, политая водой цвета черносливового компота, изжарилась до волдырей.
12
В поезде, который вёз их в лагерь, Людкиным соседом оказался Генек Курек. Людка раньше почти никогда с ним не разговаривала, потому что Генек не обладал материалистическим мировоззрением. Впрочем, он не обладал никаким мировоззрением вообще. Стефан, видимо, ошибался — ничего интересного Генек Людке не рассказал. Все остальные в купе спали, держались только они двое. Людка — потому, что не умела спать сидя, а Генек — потому, что мама дала ему с собой слишком много жратвы.
— Да выкинь ты это в окошко, сколько можно чавкать! — разозлилась в конце концов Людка.
— Мне мама велела не выбрасывать.
— Эх ты, маменькин сынок. Ну давай я выкину, и твоя совесть будет чиста. Идёт?
— Давай! — обрадовался Генек, и Людка отправила в ночную темноту четыре крутых яйца.
— А может, у Яськи мало? — задумался Генек.
— Ты что, серьёзно?
— Да нет. Мама даёт нам всего поровну.
— Ты сообрази, голова, мы ведь приедем прямо к завтраку. Давай колбасу, — сказала Людка, которой чавканье Генека мешало смотреть в окошко, хотя ничего не было видно.
— А может, кто съест?
— Да кто станет есть, когда у каждого полный мешок еды. Может, собака какая найдёт и съест.
— Это грех.
— Грех не грех, но нехорошо. Только это не наша вина, зачем нам столько напихали? Лучше бы выдали наличными.
— Ага! — загорелся Генек. — Нам пока что дали по сотне. А тебе?
— Сто двадцать, да своих была сотня. Двести двадцать.
— Порядочно.
— Мало. На месяц!
— Точно, мало, — согласился Генек. — Может, ещё пришлют. Напишем, что кормят слабо.
— Ну, и приедут с чемоданом пирогов. Сраму не оберёшься! Лучше написать, что обувка развалилась.
— Купят корочки на микропорочке и пришлют по почте, — возразил Генек. — Чёрт возьми, у Корчиковского небось сотни три, не меньше. Девчонок в кино водит.
— Кого это он в кино водит?
— Встретил Яську с Зоськой в кино «Муранов» и…
— …«и» — чего икаешь, заика?
— И ничего. Они себе купили билеты, он себе, и пошли.
— Вот дурак! Ты же говоришь, он их повёл.
— Это я просто так.
— А зеленью верблюды тебе не мерещатся?
— Нет. Но после кино он повёл их в «Улыбку» и один заплатил по счёту. Двадцать восемь пятьдесят. Видно, родители богатые. Ну, колбасу мне, факт, не съесть. На, выкинь, возьми грех на себя.
— Да подавись ты своей колбасой! Что я, нанялась всяким тут колбасу выкидывать? Сам выкинь.
— Чокнутая! — обиделся Генек.
— Дай откусить кусочек, я свой пакет со жратвой сунула в кастрюлю на кухне.
— Ешь всю. Бутерброд хочешь?
— А с чем?
— С сыром.
— Давай. А чего там было, в этой «Улыбке»?
— Да ничего. Танцы. И лекция какая-то.
— Корчиковский, значит, с Яськой?
— Нет. Они просто так пошли, после уроков. Шли себе по улице и зашли.
— Тогда давай ещё бутерброд.
— А котлету хочешь?
— Какую?
— Ну, какую — мясную.
— Можно. Компот есть?
— Ещё бы, три банки. Тьфу, чёрт! Одна лопнула. Льётся.
— Ты-то как бы не лопнул!
— Сама ест, а сама смеётся!
— Эй ты, тёпа-недотёпа! Но спи, обворуют.
— Ну и пусть обворуют! — решил Генек Курек и, едва договорив, погрузился в глубокий сон.
А Людка только успела порадоваться, что они едут не на электричке и паровоз выбрасывает длинные снопы искр, как вдруг с изумлением обнаружила, что уже утро и что спать сидя она всё-таки умеет.
Едва вылезли из вагона, поднялся крик. У Маховской из бывшего десятого пропала толстая тетрадка с мудрыми мыслями. Причём там были не только собственные мысли Маховской, но и цитаты, которые она целых два года выписывала из книжек, не входящих в школьную программу. Кто конкретно спёр мысли, выяснить так и не удалось, но по дороге все мальчишки сбились в кучу вокруг Патовского (из бывшего десятого) и выкрикивали:
— Ой, подохнуть, ей-богу! Ой, держите меня!
Наконец Маховская прорвалась с разбегу сквозь толпу ребят, трахнула Патовского по голове и вырвала тетрадку. Но мальчишки всё равно веселились всю дорогу, а Маховская тащилась в хвосте колонны и всхлипывала.
Наученная её печальным опытом. Людка дала себе слово: как только приедет в лагерь, вырвать из дневника и сжечь или закопать ту страничку, где говорилось про Марека. А что, если её дневник попадёт кому-нибудь в руки! Мальчишки всё-таки ужасные свиньи. Вроде бы и взрослые, и всякое такое, а ведут себя хуже первоклашек. Напихали Генеку Куреку неизвестно когда камней в рюкзак, лямки так в плечи и врезались, целых пол километра надрывался, бедняга, пока не сообразил, что дело нечисто. Марек Корчиковский шёл в голове колонны и приплясывал, будто радовался чему-то или разучивал хали-гали. Но потом он бросил дурачиться и подхватил чемодан Люцины Кшеминской из бывшего девятого «Б».
Люцина Кшеминская. Люцина! Это имя вспыхнуло перед Людкой ослепительным, беспощадно ярким светом. Людка вся сжалась, как от удара в солнечное сплетение. Так вот чьим именем он назвал лодку! Люцина! Нет, нет, нет, что угодно, только не думать об этом! У Люцины Кшеминской прыщи, штук пятнадцать: верно, она не знает фокуса с салицилкой. И вообще Софи Лорен её не назовёшь. Но, может, у неё богатая внутренняя жизнь? Чем она могла так очаровать Марека, что он понёс её чемодан в добавление к собственной тяжёлой сумке? Правда, пани Мареш на одном из уроков внушала, что юноша должен помогать девушке носить тяжести, но с тех пор прошло три месяца, теперь каникулы, а в каникулы и не то забудешь.
Людка задумалась — а у самой-то у неё какая внешность? Нет, особенно хвастать нечем. Зубы хоть и не очень, а всё-таки торчат. А она всё время забывала про это и смеялась во весь рот. Теперь она больше смеяться не будет. И зубов не видно, и наводит на мысль, что она живёт богатой внутренней жизнью. А волосы? Кшеминская распускает волосы «под утопленницу». Может, Людке стоит завести причёску «я у мамы дурочка»? Сейчас у неё стрижка точь-в-точь как у Марека. А на подбородке шрам, памятка глупого детства, когда она, желая блеснуть перед жильцами своего дома, ездила на велосипеде «без рук». Глаза — что ж, глаза красивые, грех жаловаться, тёмные и блестящие, с длинными ресницами, но только ресницы, увы, растут не кверху, как у всех девчонок, а торчат совершенно прямо, как тараканьи усики. Ну ладно, ресницы можно подвить ножом или щипчиками. Морщин на лице нет ни одной, зато ноги и руки слишком длинные. Да и вся она такая — тощая и длинная. Наверное, это временно, потом она раздастся в ширину, но только вряд ли это произойдёт за ближайший месяц! Ну, а в длину расти, пожалуй, уже и незачем. А какая у неё ступня огромная! Тётка говорит: «Ножища как у извозчика». У женщин, говорит, должна быть маленькая ножка. А Людка носит обувь тридцать седьмого размера. Просто лопата, а не женская ножка. Спасибо, хоть узкая. Но какой мальчишка это заметит? Нос обыкновенный, не большой, не маленький, так, вроде половинки морковки. Рот… Ну, если бы верхняя губа не выдавалась вперёд… А что касается душевной жизни, тут у Людки не было ясности. Кое-какая душевная жизнь есть, но богатая ли, вот вопрос! Разумеется, когда смотришь по телевизору на Александру Шлёнскую, или на Густава Голубека, или на профессора Котарбинского, или на профессора Михаловского — сразу скажешь, что у них богатая внутренняя жизнь. Или вот взять экипаж яхты «Смелый», или Гагарина, Валю Терешкову, а раньше премьер-министра Неру и госпожу Бандаранаике… Тут сразу видно, с кем имеешь дело; видно, что это личность. У них в самом выражении лица что-то такое есть… и Стефан с Элизой тоже личности, и Пабло Пикассо, и Людмила Белоусова… и та девушка, которая переплывала Ла-Манш и последние два часа плакала, плыла и плакала в воде… Людка забыла, как её звали. Ей кричали со спасательного катера: «Полезай сюда!» — а она ни в какую. И потом плакала уже от счастья, потому что увидела белые скалы Дувра…
Или Лумумба. Людка видела его в кинохронике. С каким превосходством, с каким презрением смотрел он на этих солдафонов, которые его вели! Сколько гордости, сколько достоинства было в его лице!.. А у неё, у Людки, есть ли в лице хоть что-нибудь от Лумумбы? Сомнительно. Но и у Люцины Кшеминской тоже нету. Вот только имя, имя тревожило Людку, хотя могло быть и случайным совпадением…
Все эти рассуждения разом вылетели у Людки из головы, когда Марек Корчиковский, преспокойно поставив наземь чемодан Люцины, взял рюкзак у Гани Карвинской. Ганя Карвинская вместе с Кристинкой Каминской были влюблены в Томалу из бывшего одиннадцатого класса, причём, пожалуй, у Гани шансов было больше, и Корчиковский знал об этом, а он перебегать другому дорогу не станет. Томала кончил школу и поступил в институт коммунального хозяйства. Теперь, должно быть, Абанович войдёт в районную шахматную команду, а уж в общешкольную-то наверняка. В июне они с Мареком на всех переменках разыгрывали партию какого-то Орангутана, так его звали, совсем как обезьяну, только без «г» на конце, и Абанович, когда их дразнили, не уставал об этом напоминать: «Только без «г», сынок». Отличный малый этот Абанович. Однажды ребятам пришлось устроить взбучку Генеку Куреку, иначе просто нельзя было — он наябедничал пану Касперскому, что ребята нарочно испортили электричество в физкабинете (а они это сделали так ловко, что без Генека пан Касперский не скоро нашёл бы повреждённое место). Ну, разложили Генека посреди класса, и все подходили и шлёпали его пониже спины. Каждый по одному разу, чтоб справедливо. Пан Касперский всех допросил, и оказалось, что только один Абанович, первый по списку, не участвовал в экзекуции. Пан Касперский, торжествуя, велел ему встать.
— Милый Абанович, объясни этому стаду баранов, какими благородными побуждениями ты руководствовался, но принимая участия в коллективной расправе. А ты, Курек, объясни, почему так покорно лежал.
— А это мне за то, что я вам проболтался, пан учитель. Вечно у меня так — ляпну чего не надо… так что мне всё равно полагалось, не сегодня, так завтра, я сам знаю, — объяснил Курек.
— У вас тут один Абанович разумный человек. Ну, расскажи нам, Абанович, почему ты его не бил.
— Да не протолкаться было, пан учитель. Вокруг Курека была такая давка!
Тут пан Касперский заявил, что отказывается с ними разговаривать, что высокие человеческие чувства всем им абсолютно чужды, и дулся на них целую неделю. Но потом не выдержал, очень уж его разбирало любопытство: а как у них в классе наказывают девчонок? Ему объяснили, что девчонку не лупят, а пришпиливают ей на спину бумажку с надписью, например: «Простите, подруги, простите, друзья, ужасная дура и ябеда я», и тому подобные поэтические упражнения и приставляют к ней «ангел а-хранителя», который следит, чтоб она эту бумажку не срывала.
Лагерь был уже близко, в просветах между соснами заблестело озеро. И озеро, и лагерь в густом лесу — отличная маскировка! Будем надеяться, что никакие родители не найдут сюда дороги.
На третий день Людка сдала экзамен по плаванию и получила права. В Варшаве она как-то не успела этого сделать. К счастью, их инструктор был уполномочен принимать экзамен и захватил с собой печать Польской Федерации по плаванию.
Марек совершенно не общался ни с Люциной, ни с Карвинской. Да Людка, по правде сказать, мало его и видела эти три дня — очень была занята разными делами. Какие-то вандалы из первой смены поломали столы во дворе, шёл набор в коллектив художественной самодеятельности, надо было наметить маршруты будущих походов, договориться с директором кинотеатра в соседнем городке относительно общелагерных походов в кино, упросить руководителя местного спортивного общества, чтобы он дал им напрокат велосипеды; кроме того, волейбольная площадка была в ужасном состоянии, столбики для прыжков в высоту еле держались, беговая дорожка не утрамбована — а ведь некоторые девчонки всерьёз готовились к спортивной карьере Ирены Киршенстейн и Эвы Клобуковской. Про себя Людка знала — её путь в Японию, Мексику или Рио-де-Жанейро лежит не через лёгкую атлетику. В беге, например, результаты были просто смехотворны. Впрочем, что ей города? Это ведь просто транспортные узлы, не более, хотя посмотреть, конечно, неплохо бы!
Два с половиной дня Людка трудилась в поте лица, на третий день после обеда сдала на права и сразу же взяла байдарку. Она плыла вдоль тенистого берега, и, хотя день был жаркий, ей стало прохладно — такое ощущение бывает, когда летом по улице проедет поливальная машина и обдаст ноги мельчайшей водяной пылью. Тогда Людка выгребла на середину. Она вспомнила, что перед её уходом в лагере разыгрался небольшой скандал — кто-то кого-то откуда-то столкнул, а тот свалился в бочку с дождевой водой, — и порадовалась, что её сейчас там нет. Людка решила заплыть далеко-далеко и понаблюдать, «как солнце всё ниже и ниже спускается к краям небосвода, как слабеет, сменяясь мягким, тёплым светом, палящий жар, как багровеет ясный солнечный лик, уподобляясь здоровому лицу селянина, что, завершив дневные труды свои в поле, удаляется на отдых. Уже сверкающий диск…», нет, он ещё не коснулся верхушек бора, и пока ещё ничто не предвещало туманных сумерек. По-прежнему было жарко.
С берега или когда плаваешь около мостков, озеро кажется небольшим. Но стоит отплыть подальше, оно начинает расширяться, и противоположный берег отдаляется. Людка гребла неважно. Отплыв на километр, она уже устала, разболелись руки. Вот оно, отсутствие тренировки и губительное действие школы на спортивную форму… Людка решила добраться до камышей и там отдохнуть.
Она перестала грести, положила весло на нос байдарки, а сама растянулась на дне. Солнце припекало, но после месяца, проведённого на берегу Ленивца, Людка могла не опасаться за свою кожу, даже на носу… В июле она извела на обожжённые места вполне достаточное количество простокваши. Высоко в небе, раскинув неподвижные крылья, бесшумно пролетели три птицы, похожие на маленькие самолётики. Людке было так хорошо, что захотелось сочинить стихи. Она попробовала что-нибудь придумать. Стихотворение было где-то в ней, внутри, она чувствовала его, в нём была и эта тишина, и камыши, и пролетевшие мимо птицы с вытянутыми шеями, и лёгкая озёрная волна, мягко колеблющая байдарку, и далёкие голоса, которые доносились из лагеря, и запах солнца — последнее показалось ей неплохим поэтическим образом. Но кроме «запаха солнца», никакие слова больше не придумывались. Ну и ладно! Она ведь не Фрончак, который в восьмом классе признался пани Мареш, что вечером не может заснуть, пока не напишет минимум трёх стихотворений. И даже принёс ей кое-что почитать. Пани Мареш ему посоветовала: «Фрончак, попробуй писать каждый вечер минимум шесть. Глядишь, лет через пять — десять вдруг напишешь и седьмое — хорошее». Из этого Фрончак сделал вывод, что у него талант, и готовился стать знаменитым поэтом. Впрочем, в девятом классе он готовился стать чемпионом по фехтованию.
Байдарку качнуло набежавшей волной, Людка подняла голову и увидела уплывающее весло. Вода понесла его к камышам, и оно зацепилось за водоросли. Людка попыталась подгрести туда руками, но что-то ничего не получалось. Не хотелось лезть в воду, так как она не взяла с собой запасного купальника, однако пришлось. Людка встала на край байдарки и плюхнулась в озеро. Нырять среди камышей было невозможно, даже плыть было трудно, приходилось всё время оглядываться, выискивать узкие протоки между клубками водорослей, чтобы не запутаться. Это стало даже увлекательно. Людка представила себе, что форсирует некую реку в девственных джунглях, и вскоре забыла про весло — приходилось остерегаться крокодилов. «Если что, пальцем в глаз…» Кроме того, нельзя было забывать про хищных пираний… И надо раздобыть что-нибудь на обед — в здешних водах нет летающих рыб, и не приходится рассчитывать, что пища свалится с неба прямо на палубу…
— Людка-а! Людка-а! — послышался чей-то громкий, встревоженный голос.
Она не откликнулась, но сердце заколотилось так, словно ей не хватало воздуха. Людка подплыла к месту, откуда просматривалось всё озеро. Марек Корчиковский тряс байдарку и орал во всё горло:
— Людка-а! Людка-а!
Он нырнул под байдарку, только ноги мелькнули в воздухе. Потом вынырнул и опять начал:
— Людка! Людка-а!
Лицо у него было испуганное. Людка тихонько нырнула, подплыла под водой и вынырнула, словно утка, как раз около Марека.
— Чего кричишь? В чём дело?
Ей хотелось сказать совсем другое. Тысячу разных вещей. Что она ужасно рада, что они вместе плавают в озере. И что вода пахнет илом. И на зубах у неё скрипит песок. И что он за неё боится, и если бы она тонула, он спас бы её, и… и что он замечательно плавает. Но вместо этого она сказала:
— Ну?
— Ну? Остроумнее ничего не придумала? Байдарка пустая, весло чёрт те где! Как это понимать?
— Да никак. Ты же видел меня в бассейне, плавать я, кажется, умею.
— Именно те, кто умеет плавать, и тонут — это не фраза, а чистая правда. (Они плавали друг за дружкой вокруг байдарки.) Но рассчитаешь силы — и всё. А водоросли? Вдруг зацепишься или судорога… — сказал Марек и быстро поплыл к берегу. Обернувшись, он бросил: — Идиотские шуточки!
— Марек, погоди! — крикнула Людка.
Он плыл кролем, и догнать его она не могла. И больше не оборачивался. Людка изо всей силы рванула байдарку. С громким всплеском байдарки перевернулась кверху брюхом, как снулая рыба.
— У меня байдарка перевернулась! — громко крикнула Людка вслед удаляющемуся Мареку. — Плыви сюда, помоги мне?
Она легла на спину и ждала. Марек подплыл, прихватив по пути весло.
— Ну?
— Перевернулась, — сказала она тихо.
— Готово. — Он перевернул байдарку. — Воды много набралось.
— Давай вытащим её на берег.
— О’кей. Выльем воду.
— Я вовсе не хотела сделать вид, что тону. Просто заплыла в камыши.
— А потом съездим на тот берег.
— Ага! Поглядим, что там.
— Через камыши нам её не протащить.
— Тогда давай так покатаемся, я воду руками вычерпаю.
— Ну, садись.
— Я из воды не умею. Опять переверну.
— Постой, я влезу первый и буду держать равновесие. Вот, теперь влезай. Давай руку. Порядок. Садись на носу. Эх, простудишься!
— А ты?
— Ну, с меня как с гуся вода.
— Я сейчас обсохну. Тепло. А ты как сюда попал?
— Шёл по берегу, вижу, на воде пустая байдарка.
— А почему ты кричал «Людка»?
— А я видел, как ты брала байдарку.
— У тебя права есть?
— Конечно. Я в клубе получил.
— Марек…
Он энергично взмахнул веслом. Людка сидела к нему спиной и не видела, какое у него выражение лица. Да она и не знала, что сказать, и ждала, может, он спросит «что?» или «ну?» — тогда бы они ответила «да ничего». Но он не спросил.
— Марек… знаешь, давай перестанем с тобой цапаться.
— Ну конечно. Давно пора.
— Ты лодку строишь?
— Ага. Большой парусник.
— А я знаю, как она называется. «Люси».
— А вот и нет.
— А вот и да.
— А вот и нет. Там написано просто «Л». Все пристают, что это значит, вот я и отвечаю: «Л» — это «Люси». Для отвода глаз. А на самом деле это значит другое.
— Что же?
— «Л» — это Людка, — ответил Марек, бросил весло в байдарку и прыгнул в воду, оставив Людку одну посреди озера.
День с утра обещал быть жарким. Вода в озере была серебристо-стального цвета. Людка стояла на мостках, закинув за спину купальное полотенце. Вокруг была такая красота, что хотелось то ли заплакать, то ли раскинуть руки и полететь, крича во всё горло. Между палатками появился Марек, он шёл к ней. Людка стала поспешно растирать спину.
— Привет.
— Привет. Что, холодно купаться?
— Я просто мылась. Вечером вода такая гладкая, зелёная. А сейчас рябит.
— Вечером ветер затихает. На! — Он протянул ей большое красное яблоко.
— Спасибо.
— Адам Корчиковский начинает новую эру в истории человечества. Обольщает Еву Бальвик с помощью краденого яблока! — констатировал Абанович, с разгона влетая на мостки, так что все доски заходили ходуном и загрохотали.
— В зубы хочешь? — кратко осведомился Марек.
— Отчего же, — ответил Абанович. — Я готов. Вот только Ковальского нету.
— Фрончак посудит, — сказал Марек.
— Фрончак с Куреком взяли палки и отрабатывают в лесу фехтовальные приёмы.
— Да бросьте вы, — вмешалась Людка. — Подумайте, какой у вас будет вид: мы ведь сегодня идём в кино, а вы фонарей друг другу насажаете.
— Что же делать? — задумался Абанович.
— Отбой. — Марек протянул Абановичу руку. — Если хочешь знать, то да, мне действительно нравится Людка. Есть возражения?
— Напротив, приношу свои самые… — Абанович тряхнул руку Марека. — Пардон. Только ноги ополосну и очищу поле действия. Я было сам кинул глаз на Людку, но раз так, не стану мешать вашему счастью.
— Премного тебе благодарна, — сказала Людка.
— Не за что! — крикнул Абанович и прыгнул в воду. Но тут же выскочил обратно, встряхнулся, как пёс, и помчался в лагерь.
— Почему ты так сказал, Марек? — спросила Людка.
— Как?
— Ну, что ты… что я…
— Что ты мне нравишься? Это правда. Теперь выведу на лодке настоящее название. Пусть все узнают.
— Смеяться будут.
— Пусть смеются. Они всегда над чем-нибудь смеются.
Людка села на край помоста и свесила ноги вниз. Ноги не доставали до воды, и она болтала ими в воздухе. Марек сел рядом.
— А может, нельзя было говорить Абановичу? Может, тебе неприятно?
— Можно было. Марек. Мне очень даже приятно. Слушай, ты меня в воду не столкнёшь? Тогда я тебе что-то скажу. Вода холодная, видал, как Абанович трясся, синий весь!
— Что ты, конечно, не столкну!
— Это хорошо, что ты не стал драться с Абановичем.
— Ты думаешь? Честно говоря, мне сейчас не до драк. Так только, по привычке. Ты это хотела мне сказать?
— Нет.
— А скажешь?
— Скажу. Но ты и так знаешь.
— Не знаю.
— Знаешь, Марек. Да.
— Людка! Это правда? Правда?
— Правда.
— Людка! Я ведь с седьмого класса!..
— А я с девятого. С начала девятого.
— Людка… Ты не будешь смеяться?
— Никогда. Над тобой — никогда.
— Помнишь, ты мне как-то измерила голову сантиметром? Я тогда ревел всю ночь. Думал, ты меня считаешь полным кретином.
— Теперь я понимаю, что никогда так не думала.
— Я ведь раньше ходил в бассейн на Конвикторской.
— Здорово там было?
— А во дворец перешёл, чтобы тебя почаще видеть. Но заниматься в биологическом кружке и был просто неспособен. И потом, я боялся, что ты догадаешься, смеяться будешь.
— Я рада, что теперь ты больше не боишься.
— Потому что видел вчера, как ты нарочно перевернула байдарку. Еле-еле справилась.
— Да. Нарочно. Я хотела, чтоб ты вернулся. И не знала, что ты оглядываешься.
— Людка, я теперь на лодке напишу по-настоящему… Ладно? Я раньше думал знаешь как назвать? «Прелюдия». Не просто «Прелюдия», а «Пре-Людия».
— Он, нет! Дома меня зовут «Людик», а тут вдруг какая-то «Людия».
— Тогда «Кон-Тики».
— Откуда ты знаешь?
— Так ведь ты два года носишь эту книжку в портфеле. Весь восьмой и девятый класс.
— Нет, «Кон-Тики» не надо. Мы должны придумать своё название. Своё какое-нибудь слово.
— Отлично. Подумаем вместо. А куда мы поплывём?
— Куда захочется. По всем морям.
— Давай запишемся к водникам!
— Давай. А куда ты пойдёшь после школы?
— В археологический или на факультет электроники; или далёкое прошлое, или будущее.
— Если ты будешь заниматься электроникой, то не сможешь поехать в экспедицию по Амазонке.
— Ну, почему? А можно ещё вот так: инженер-связист по образованию и археолог-любитель.
— Верно! Но мы всё это ещё обдумаем, время есть — целых два года.
— Людка… биологию я изучать никак не могу. Ну, скучно мне, я пробовал. На тройку вытяну, а больше никак. И знаешь, это, наверно, так и должно быть — работать вместе, но каждый в своей области.
— Ты прав. Так и должно быть.
— Людка… но я боюсь. Я ведь серьёзно. И всё, что сейчас говорю, это серьёзно.
— Я тоже серьёзно. По-моему, такие вещи нельзя говорить несерьёзно. Марек, я уже столько лет живу на свете и только со вчерашнего дня… только со вчерашнего…
13
Абанович сболтнул мимоходом, не думая, а попал в точку. Для Людки действительно началась новая эра. Когда начальник лагеря (в школе он преподавал военное дело) уводил ребят на занятия по строевой подготовке или стрельбе, Людка усаживалась на мостки и глядела на озеро, туда, где всё началось. Сенсационная новость: «Людка дружит с Мареком» — недолго волновала умы; дня через два все привыкли, и некоторые девчонки уже пророчили этой дружбе скорый конец.
Но Людке некогда было об этом думать. Долгие разговоры с Мареком, в которых было так много нового, значительного, лагерные дела — всё это поглощало её без остатка.
По вечерам, после линейки, когда горнист протрубит отбой, они с Мареком тихонько выскальзывали из палаток, садились, свесив ноги, на мостки и смотрели на блестящую поверхность озера.
Иногда они совсем не разговаривали от волнения, слова застревали в горле, замирали, были просто не нужны, не имели смысла; даже шёпотом, тихонько — всё равно это было бы не то, не то и могло разрушить, разбить что-то хрупкое и прекрасное.
А когда Людка возвращалась в свою палатку и ныряла в постель, какая-нибудь из девчонок обязательно просыпалась и сонно, но с жадным любопытством спрашивала:
— Ну как, целовались сегодня?
— Нет, — отвечала Людка.
— Тогда что же вы там делаете? Ну и шляпа этот Корчиковский, а ведь по виду не скажешь!
Ну, что ей, такой, объяснишь? Оставалось только пожать в темноте плечами. И не обижаться. Людка хотела быть справедливой и считала, что в данном случае осуждать и презирать было бы неумно. Ей хотелось быть лучше всех на свете — и она в самом деле становилась как бы лучше, терпимее к другим. Ни одна из девчонок не может этого понять и не поймёт, пока сама не переживёт такого же. Ведь и Людка, если бы две недели назад какая-нибудь подружка сказала ей: «Месяц гляделся в озеро, ночная птица кричала «пить, пить», изредка всплёскивала в воде рыба, мы вслушивались в звуки далёкого города, и моя рука была в его руке…» — постучала бы пальцем по лбу. Просто тем любопытным девчонкам, которые просыпаются и задают вопросы, ещё не довелось пережить этого, но когда-нибудь и они будут сидеть на мостках и перестанут спрашивать. А может, у каждого это по-другому? Тогда Людка начинала всех жалеть и чувствовала себя единственной, избранной, её переполняло ощущение такой лёгкости и силы, что хотелось сейчас же, немедленно, совершить что-нибудь прекрасное и необыкновенное.
Но почему всё-таки Марек не хотел её поцеловать? Ведь она ему нравится по-настоящему, в этом нет никакого сомнения. Он угадал, почему Людка перестала смеяться, и сказал, что впервые обратил на неё внимание именно из-за её немножко торчащих зубов. И они долго смеялись над этим вместе. А когда Людка сказала, что Стефан советовал ей глодать древесную кору, они прямо чуть не лопнули со смеху. Все представляли себе, как Людка, стоя — или сидя, или на коленях, или лёжа — под деревом, грызёт кору. А один раз они купались, и ресницы у Людки намокли, и Марек сказал, что у неё удивительные и красивые ресницы. Значит, она ему нравилась, а между тем он даже до её руки ни разу не дотронулся; они и не здоровались за руку, просто подходили друг к другу и говорили: «Привет».
И вот однажды вечером, когда они сидели рядом на мостках и молчали, Людка выдавила из себя:
— Марек, если ты хочешь меня поцеловать, я тебе позволяю.
Эту фразу она перед тем повторяла про себя сто раз, чтобы в решающий момент не заикнуться и не поперхнуться.
— Хочу, — сказал Марек, и стало так тихо, будто вот-вот должно было случиться что-то страшное.
Он наклонился к ней и коснулся её щеки. Потрясённая этой тишиной и ожиданием, Людка закрыла глаза — и вдруг судорожно разрыдалась. Марек руками вытирал её заплаканное лицо и тихо повторял:
— Не плачь, Людка, пожалуйста, не плачь.
А когда Людка посмотрела на него, она увидела, что и его глаза полны слёз. Теперь она коснулась пальцами его щеки, и больше они не разговаривали. Он только снял с себя свитер и накинул ей на плечи.
Вопрос о названии лодки обсуждался целый месяц, и в конце концов решили, что не надо ничего личного, а лучше что-нибудь патриотическое. Про себя они и так знают, а тут всему миру станет известно, что двое молодых (читай: и смелых) поляков отправляются… Ну, там будет видно, куда отправляются и с какой целью.
Но как же всё-таки назвать лодку? «Тодеуш Костюшко» приелся. Фредерик Шопен и без них достаточно известен. Про романтического генерала Сверчевского даже Хемингуэй писал. Великие и мудрые польские короли один за другим сходят со стапелей Гданьской верфи, а теми, что помельче, и хвастаться не стоит. Коперник тоже в рекламе не нуждается. Вот заковыка!
Ладно, когда организуется экспедиция, за названием дело не станет.
Марек был выше Людки сантиметров на десять — пятнадцать, а главное, старше почти на год. Оказывается, он в детстве долго болел и восемь месяцев не ходил в школу. Тяжёлое осложнение после ангины, он даже в больнице лежал, но потом поправился, и с возрастом всё прошло. Когда они разговаривали, по всему было сразу видно, что он старше и умнее её. Людка даже пришла к выводу, что он не просто умный, а очень умный и ему действительно лучше заниматься электроникой — больше шансов получить Нобелевскую премию. Археологам её дают редко, а может, и вовсе не дают. Вот здорово было бы: поэт Реймонт, писатель Сенкевич, Кюри-Склодовская дважды и Марек Корчиковский. А Людмила Бальвик? Ну, тут ещё бабушка надвое сказала! Людмила Бальвик перешла уже в десятый класс, а до сих пор не знает, что именно будет исследовать. Конечно, когда она накопит побольше знаний по биологии, то в конце концов непременно наткнётся на что-нибудь неизученное, недосказанное, туманное — вот это и будет её путь. Может, она увидит чудовище озера Лох-Несс, изучит его и опишет. Или вот — промелькнуло где-то упоминание о внеземном хлорофилле… Или вдруг она обнаружит уголок затерянного мира, как у Конан-Дойля. Удивительные растения, вымершие животные. Или году этак в тысяча девятьсот восьмидесятом она в качество, скажем, одного из двух биологов полетит с международной научной экспедицией на Луну, и весь экипаж получит коллективную Нобелевскую премию… Все эти планы ничуть не казались ей смешными. Каждый когда-то начинал с нуля. У Ван-Гога, например, вначале было одно лишь пустое полотно, а у Эйнштейна тетрадь в клеточку — а потом вон что получилось!
Они гуляли с Мареком по лесу, иногда садились под деревом, и Людка опиралась головой о его плечо, так что рубчики его вельветовой куртки отпечатывались у неё на щеке, а Марек клал руку ей на плечи, и в такие минуты ей казалось, нет, она была уверена, что они думают об одном и том же. О том огромном, неизвестном, что ждёт их впереди — и о себе, какими они в нём будут, в этом будущем.
Того опыта с поцелуем они не возобновляли. Людка думала, что Марек боится, как бы она снова не разревелась. Оказывается, нет. Однажды вечером, когда моросил дождик и они сидели, накрывшись плащ-палаткой, он сказал:
— Ты хорошо сделала, что мне тогда сказала. Мы, ребята, всегда оказываемся в дурацком положении.
— Почему?
— Когда парень ходит с девчонкой и хочет её поцеловать, то девчонка может подумать, что он только ради этого с нон и ходит. А если он ходит и не пытается её поцеловать, девчонка может подумать — вот размазня, олух царя небесного. Сама видишь.
— Вообще-то это верно. Хотя для некоторых это не проблема.
— Это ведь не футбол — взял любую консервную банку и отрабатывай удары. С этим так нельзя.
— Да.
— Других не уваляешь, так уважай хоть самого себя, — рассуждал Марек, а Людка чуть не лопалась от гордости, что он у неё такой высоконравственный.
И ей казалось, что без Марека она была чем-то вроде ветряка без крыльев, который торчит посреди поля неизвестно зачем, нелепый и никому не нужный. Так, украшение, да и то сомнительное. А когда Марек наконец поцеловал её, она прижалась лбом к его плечу, и оба долго молчали. То, что с ними сейчас происходило, было прекрасно. Людка хотела рассказать Мареку, о чём думала когда-то в Риге. Но пока ещё не находила нужных слов.
Её мало волновали всякие пари, которые заключали насчёт них в лагере. «А я вам говорю, что они могут протянуть вот так до конца школы». — «Да нет, где там! У них все одни разговоры, долго не протянут». — «А может, и протянут. Корчиковский ведь у нас стайер». — «Давай спорить!» — «Давай. На сколько?» — «На сотню». — «Идёт!» Людка пропускала всё это мимо ушей, да и Марек не вызывал никого на дуэль. Жизнь в лагере сливалась для них в один сплошной солнечный день, принося всё новые темы для разговоров, для смеха и размышлений вдвоём.
Однажды под вечер, когда все таскали хворост для большого костра, из кустиков мелкими, но бодрыми шажками вышел пан Касперский. Свой отпуск он проводил в пеших странствиях по полям и лесам, изредка подсаживаясь на попутные машины. Пан Касперский тащил здоровенный рюкзак, поверх которого был лихо приторочен зонтик. На пане Касперском были короткие штанишки и зелёная штормовка. Итак, он вынырнул из кустиков и задумчиво произнёс:
— Мне кажется, я уже где-то видел эти физиономии. Или, может быть, я видел их во сне?
А когда ребята столпились вокруг него и стали рассматривать карту, обсуждая проделанный им маршрут, пан Касперский признался:
— Я попросту заблудился. Заблудился на старости лет. Разве может человек сознательно искать общества самых крикливых созданий на свете? Одно из двух — или он заблудился, или же не в своём уме. Я, разумеется, склоняюсь к первому варианту. Удивительная вещь: я вижу, что все вы тут живы и здоровы — физически, разумеется, так как судить о вашем нравственном здоровье я пока не решаюсь. Итак, сегодня мы будем все вместе печь картошку. А через несколько дней у нас, в нашей любимой школе, состоится акт одностороннего распекания: я буду поворачивать вертел, на котором каждый из вас постепенно превратится в кроткого ягнёночка. Таким образом будет нарушен естественный порядок вещей, ибо обычно ягнята превращаются в баранов, а не наоборот. Благодарю за любезный приём.
А вечером, когда огненный столб взметнулся к верхушкам самых высоких сосен, пан Касперский выступил в качестве запевалы:
— Йе-йе-йе, хали-гали! — затянул он.
Распевали хором до полуночи.
В прежние годы — в пионерском лагере, куда Людка ездила, пока училась в младших классах, и в молодёжном, после восьмого класса, — она участвовала почти во всех мероприятиях. В этом году Людка и сама чувствовала, что немного отошло от жизни лагеря. Но, конечно, не совсем. Ей нравилось делать что-нибудь новое, такое, чего она не умела, в этом был элемент риска. Раньше она всегда непременно записывалась в самодеятельный ансамбль, который давал концерты у костра, а в этом году, хоть и записалась, но часто пропускала репетиции. И нагрузка у неё была не такая уж ответственная — заместитель палатного старосты. Зато тут она действовала вполне толково, а если иной раз и ошибалась или не сразу могла принять решение, то этого никто не замечал. Марек тоже был заместителем — вторым заместителем начальника лагеря, военрука. Ну, он-то бестрепетно брал на себя любую ответственность и если был в чём-то не уверен, не боялся выказывать это перед другими. А Людка боялась. Но всё равно работы у Людки хватало, причём самой разной. Лагерная докторша, узнав, что Людка интересуется биологией и вообще подкована по этому предмету, поручила ей проводить беседы о гигиене с младшими девочками. Кроме того, Людке приходилось ежедневно разбирать до десятка конфликтов типа «а я ей сказала, а она мне сказала…», то есть таких, которые не входили в компетенцию коменданта или совета старейшин.
Окрестные деревни и городок были расположены довольно далеко от лагеря, и это мешало осуществлению многих весьма похвальных намерений. Однажды они пошли в совхоз помогать при сборе яблок, но директор, молодой агроном, отделался от них в два счёта.
— Любезные братья, — сказал он. — Я жертвую вам десять ящиков яблок, а вы взамен даёте обязательство избавить нас от вашей помощи. Подпишитесь кто-нибудь вот тут. Ещё возьмите себе два бидона простокваши. И не трудитесь сами тащить эти яблоки и простоквашу, наш шофёр захватит, когда повезёт вам овощи.
Итак, тут дело не выгорело — разумеется, из-за мальчишек. Они ведь считают, что яблоками можно только брюхо набивать да играть в Вильгельма Телля.
Потом трудолюбивые варшавяне хотели помочь милиции городка регулировать уличное движение. Но начальник милиции объяснил им, что в будни даже единственному сержанту, который загорает на главной площади, не хватает работы, а в базарные дни приезжает столько телег, что им лучше держаться подальше.
Потом они придумали водить туристов к развалинам древней башни и читать им вслух путеводитель. Карвинской, которая выучила одну страницу чуть не наизусть, посчастливилось изловить где-то целых семь штук слушателей, но тут явился конкурент, который затмил её совершенно: из башни вышел призрак, вурдалак в красных одеждах и в маске, при ближайшем рассмотрении оказавшийся Яцеком Рахвальским. Сначала было много смеху, призрак позировал фотолюбителям, а потом пришла какая-то тётка и вежливо, но решительно отстранила их. После этого Рахвальский разгуливал в качестве вурдалака только по лагерю да один раз выступал на костре.
Вот так и увядала их инициатива, хирела на глазах. Ещё они хотели ремонтировать байдарки в городском спортклубе, но их товарищеская помощь была отвергнута каким-то тяжелоатлетом в чёрном дамском купальнике, который сказал им: «Испаритесь, детки». Они обиделись на спортклуб, и в особенности на тяжелоатлетическую секцию, и не стали брать у них напрокат велосипеды, и не ходили туда на танцы, хотя у тяжелоатлетов был магнитофон, и плёнки с битлсами.
Ну что ж, насильно мил не будешь. Они решили заняться своими внутренними делами и не пытались больше облагодетельствовать человечество. Легко пани Мареш говорить в классе: «Приносите пользу». А тут тебе ни наводнения, ни градобития, ни лесного пожара. Вот уже и уезжать скоро, а они так ни в чём себя и не проявили. Позор.
Но была одна вещь, которой они могли гордиться. Костры. На первом костре были главным образом свои, из лагеря, но потом слава о них разошлась по всей округе, и гости повалили толпами. Число артистов тоже росло, без конца репетировались танцы, хоровые песни, в лесу чуть не под каждой сосной с самого утра надрывались солисты, а гитарные струны, готовые лопнуть, держались лишь на железной воле исполнителей. Людка пела в хоре и дважды выступала в качестве конферансье на пару с Карвинской. Репертуар битлсов не пользовался особым успехом, зато все баллады варшавских окраин производили фурор — после таких песен, как «Фелек Зданкевич» или «У старого Иоськи», зрители хлопали без конца. Даже тяжелоатлеты не выдержали, пришли, и приходили потом много раз. Ставились также скетчи, «живые картины» собственного сочинения. Самой удачной была сцена, в которой выступали популярные телегерои. Эта сцена имела такой успех, что её приходилось повторять на бис. Публика отлично знала всех героев, но привыкла видеть их порознь, а тут они выступали все вместе, и их сразу узнавали по замечательным костюмам. Труднее всего было сделать нимб для Маковского из бывшего десятого, который играл святого, но и тут нашли выход — Маковский выступил в веночке из полевых ромашек.
И все жалели, что в будущем году поедут в лагерь в другое место, а верные и благодарные зрители останутся здесь.
14
— Послезавтра в школу, — сказала Людка.
— Послезавтра, — кивнул Марек.
— Как быстро всё кончилось!
— Людка, ничего не кончилось!
— Да. На будущий год поедем в лагерь?
— А может, путешествовать отправимся, автостопом.
— Чудесно! Только вот выдадут ли мне автостоповскую книжечку?
— Подождём, пока выдадут. А пока разработаем маршрут. Обдумаем всё как следует.
— Автостоп!.. — мечтательно сказала Людка. — Нет. Марек, у тебя бывают просто гениальные идеи.
— Только новизной не блещут. Что ни придумываю, всё, оказывается, уже придумано до меня.
Они шли от трамвайной остановки по направлению к Людкиному дому. Людка подумала, что они с Мареком здорово похожи на оперных героев, которые поют: «Скорей! Скорей! Бежим! Бежим!» — а сами всё топчутся на месте.
Трудно расставаться, когда знаешь, что встретишься, может быть, только завтра. Людке очень хотелось увидеть всех — и маму, и отца, и Стефана, и Элизу, и Яцека, но она просила в письме, чтобы никто не встречал её на вокзале. Написала, что это очень важно. Стефан, видимо, понял, почему это так важно, и запугал всё семейство. Во всяком случае, на вокзал никто не пришёл. Марека встречала его мама, но Марек быстро усадил её в такси под предлогом, что в трамвае много народу. Мама улыбнулась и взяла с собой его рюкзак. Когда машина тронулась и Марек уже стоял рядом с Людкой, его мама помахала Людке рукой. Людка почувствовала, что ужасно краснеет, и притворилась, будто завязывает шнурок на кедах. Потом она сообразила, что вела себя как ребёнок, но было уже поздно.
Дорога от остановки до дому была явно слишком короткой.
— Значит, сперва мы объедем Польшу.
— Всю-всю.
— Вдоль и поперёк.
— А потом?
— Потом всё остальное.
— Маршрут установим по глобусу.
— У меня есть атлас.
— Тот, большой?
— Да. Интересно, как они издадут Африку.
— Ага, интересно.
— То-то небось попотеют.
— Ты будешь ко мне приходить?
— Спрашиваешь. А родители?
— Они ничего. Одного только Кондзельского не переваривают.
— От него и в обморок упасть можно, кто непривычный. Он одной девчонке из палатки «Зелёные кузнечик»!» перстень купил.
— Брось!
— Ей-богу. Камень величиной с пуговицу от пальто.
— И она взяла?
— Взяла. И подарила ему ножницы.
— Классно!
— Ну! С подтекстом!
— Как же мы теперь будем? — спросила Людка. — В школе….
— Слушай, Людка, это всё было по-настоящему? Ну, в лагере? И у тебя? И вообще?
— По-настоящему…
— Это главное.
— Мама стоит у окошка. — Людка помахала рукой. — Надо идти. Давай сумку.
— Мама у тебя что надо. Отошла от окна. На, возьми. Это тотем нашей палатки. — Он протянул ей вырезанного из дерева ястреба.
— А ты возьми мой на память. Сова. Символ мудрости. Я её завоевала в соревновании. А зимой мы будем копить на автостоп.
— Насчёт этого не волнуйся. Я же говорил, у нас с дедом фирма. На каникулы, во всяком случае, хватит.
— Я тоже хочу. Буду копить, чтоб не пришлось с голоду кур воровать.
— Ты об этом не беспокойся. Выбери только маршрут. А дома тебя отпустят?
— Мама, конечно, поохает немножко, но брат отпустит. Он мне доверяет. Ты первый уходи. Ну — раз, два, три…
— Нет, уходи ты первая. Может, сходим завтра в кино?
— Давай.
— Тогда я в четыре приду сюда. Я тебя ещё до дерева провожу.
— Ну пошли, а то ведь мама караулит за занавеской.
— Ладно, делать нечего… До свиданья, Людка. Завтра в шестнадцать ноль-ноль.
— Всего.
— Всего.
Осень в этом году началась рано, листья тополя уже изъедены ржавой желтизной, но когда Людка подняла голову, она увидела, что даже листья сегодня особенные — совсем розовые.
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Форматирование и ёфикация — творческая студия БК-МТГК.
|