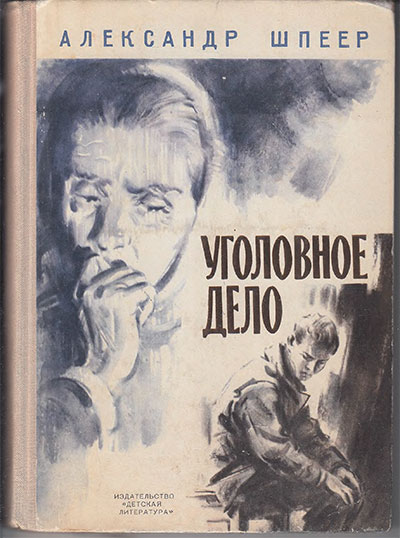Сделал и прислал Кайдалов Анатолий.
_____________________
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ КНИГИ
Александр Львович Шпеер» старший следователь Московской городской прокуратуры, рассказывает о трудной и ответственной работе следователя. Серьёзно анализируя причины детской преступности, автор заставляет подростка задуматься над своей жнзнью и старается предостеречь его от возможных ошибок.
ОГЛАВЛЕНИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ 3
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 4
ЧАСТЬ ВТОРАЯ 48
ВМЕСТО ТРЕТЬЕЙ ЧАСТИ 162
Эта книга не вымысел, но и не документальное изложение событий и фактов. Имена и фамилии героев придуманы, но судьбы подлинные.
В книге рассказывается о преступлении. Однако это ие детектив, хотя здесь и присутствуют многие элементы, свойственные жанру детектива — само преступление, его раскрытие, расследование уголовного дела.
Автор, профессиональный следователь, озабочев другими проблемами: каким образом, почему как будто нормальные, обыкновенные люди — с такими мы встречаемся каждый день — пришли к преступлению? В книге делается попытка вскрыть причины, обнажить истоки или хотя бы приоткрыть завесу над ними. Автор размышляет над судьбами тех, кто преступил закон, размышляет о трагедии их близких, о том ущербе, какой любое преступление причиняет обществу.
Главный герой книги — следователь, рядовой, обыкновенный, из тех многих, что стоят на страже закона и служат нелёгкому делу борьбы с уголовной преступностью. Но в центре внимания не столько техника следственной работы, сколько её психология. Не одно противоборство следователя и преступника, но гораздо большее — борьба за человека.
Герой не просто удачливый сыщик. Он государственный человек, озабоченный сложнейшими проблемами нашей жизни, ибо раскрыть преступление и разоблачить преступника — не самое главное и не самое трудное. Вскрыть истоки, предупредить, оградить общество хотя бы от одного нарушителя закона — задача неизмеримо более актуальная и сложная.
Порой можно ещё услышать, что борьба с преступностью — дело милиции, суда и прокуратуры. Ошибочная позиция. Борьба с преступностью — это нравственный долг каждого. Только тогда она будет эффективной и может привести к резкому сокращению, и в конечном итоге — к искоренению преступности.
Всем этим проблемам и посвящена эта книга.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
(Рисунки документов: найден труп, возбуждено уголовное дело.)
Нак начинается уголовное дело.
Только я о нём ещё ничего не знаю. (Я — это старший следователь районной прокуратуры.) Не знаю, а выходит, остлось совсем немного до того момента, когда, выражая языком юристов, очередное дело поступит в моё произвоство — совсем ещё тоненькая папочка. Такое происходит часто — по нескольку раз в месяц — и всякий раз будоражит и подстёгивает, хотя мы скрываем это, хмуримся, ворчим и жалуемся на пропасть работы и катастрофически бегущие сроки. И ещё, делаем крупные открытия, вроде того, что у человека всего одна голова и две руки, а в сутках двадцать четыре часа.
Но сейчас у меня действительно полно работы, и дела как-то не ладятся в последнее время. Вот и сегодня утром — приехал в тюрьму и битый час ждал у входа свидетеля: собирался провести очную ставку. А свидетель возьми и не явись! Я зашёл в канцелярию: надеялся хоть акт судебно-психиатрической экспертизы получить — не готов акт, только через неделю будет, а у меня срок по делу истекает И так чуть ли не каждый день. Откуда, спрашивается, быть хорошему настроению! Вот и тащусь с тяжеленным портфелем не солоно хлебавши. Тащусь, изнывая от ранней апрельской жары, проклиная себя, свидетелей, преступников и экспертов. Рубашка взмокла, плащ пудовой тяжестью давит на плечи. И хотя бы немного тени! Нет, деревья на нашей улице голые и какие-то неестественные в лучах совсем уже летнего солнца. Древние купеческие особняки, крохотные дворики, стиснутые со всех сторон домами и заборами, и липы, бесконечной чередой вытянувшиеся вдоль тротуаров.
А вот и моя прокуратура. Она тоже в старом особняке, только в дальнем крыле его, где раньше жила прислуга. И комнаты у нас тесные, и окна подслеповатые, и крутые, выбитые тысячами ног ступени.
Это уже не в первый раз: стою перед дверью своего кабинета, держу в руке ключи, а другой рукой нервно хлопаю по карманам пиджака в поисках этих проклятых ключей. Я регулярно теряю их и всё время ищу. В прокуратуре мои взаимоотношения с ключами — повод для постоянных развлечений. Потом выясняется, что ключи лежат всё-таки в кармане, только не в том, куда я их вроде бы положил. Или, на худой конец, приносит кто-нибудь из товарищей, или секретарша Верочка — заговорился, оставил на столе. Так до конца я их ни разу не потерял, но всё время ищу.
Я заглянул в канцелярию.
— Вы!.. Слава богу! — Верочка привстала. — Вас ищут срочно. На Заозёрной мальчика убили. Уже все собрались — из милиции, из МУРа. Георгий Павлович сильно ругался по телефону. Только что опять звонил. Куда вы пропали?
Ну вот, очередное дело!..
— Убили? Серьёзно? А машина где?
В свой кабинет я так и не попал. Уже шагая по коридору, услышал за дверью просящий телефонный звонок. Некогда, теперь меня долго не найдёте. У меня ЧП.
Вот порядки: как происшествие, так нет машины! То кто-нибудь из следователей укатил, то канцелярские принадлежности перевозят. А сегодня, видно, сам прокурор отправился на происшествие и держит при себе.
Это только непосвящённому кажется, что следователь разъезжает на всякие там кошмарные преступления с комфортом. Впрочем, автобус — тоже машина. Вот я и трясусь в автобусе, зажатый в угол, и привычно проклинаю транспортные беспорядки.
А ехать далеко.
Что там случилось?
Неужели действительно убийство?
Когда же кончится эта проклятая дорога? Я уже взмок весь. Духота — сил нет!
Следователь едет раскрывать убийство.
Вот ведь приеду и сразу окажусь в центре событий. Стану командовать, и меня будут слушаться, и спорить никто не посмеет, даже начальство. Моя епархия, я принимаю дело. Из обыкновенного несчастного пассажира я моментально превращусь в персону. Но пока чья-то корзина прижимает меня к беспощадному ребру автобусной кассы, а со спины откровенно дышат винным перегаром. Душно
Следователь едет раскрывать убийство.
А здесь и не знает никто об этом. Так ведь и я не знаю, что за люди едут в автобусе. Вот владелица корзины — может, она врач и придёт завтра лечить, ну, положим, дочку того вон щеголеватого мужчины, что сидит у прохода, уткнувшись в «Советский спорт». Завтра он вскочит, услужливо примет её пальто, стул подаст. А сейчас отводит глаза. Ему, наверное, всё-таки стыдно не уступить место женщине.
Всё спокойно в автобусе, ровное, на редкость хорошее настроение. И не хочется думать о том, что где-то несчастье и как порой мала дистанция от безмятежности до беды, а эти несовместимые, казалось бы, понятия переплетаются и смешиваются.
Совсем недавно это был обыкновенный московский двор — горбатые клумбы, бабушки на лавочках, муравейник детворы. А сейчас взрослые столпились у подъезда, в тревожно гудящей толпе шныряют мальчишки.
Но всё это краем глаза. Мне не до этого. Я, так сказать, при исполнении. Преобразился человек. Только что был рядовым пассажиром: «Извините», «Передайте, пожалуйста»,
«Будьте любезны», а сейчас сухо: «Позвольте», «Посторонитесь», «Детей уведите». И никто не спрашивает, по какому такому праву я тут распоряжаюсь, хотя у меня на лбу не написано, что не просто зевака, никаких пистолетов на мне не навешано, никаких знаков различия. А всё равно, выходит, видно — человек при исполнении. «Позвольте», «Посторонитесь» И позволяют, сторонятся. И незнакомый милиционер у подъезда руку под козырёк и засеменил рядом.
В подъезде пахнет гарью. На площадке второго этажа — обуглившийся диван. Настежь распахнута дверь квартиры слева. Я не спрашиваю, куда идти, — вижу.
— Ну вот, кажется, все в сборе. — Это говорит мой начальник, прокурор района. — Давай начинай. Ждём.
И я начинаю.
Докладывает начальник райотдела милиции, полковник. В другое время без стука и в кабинет к нему не войдёшь, а тут он мне докладывает. Я хозяин места происшествия. Все остальные работают на меня.
Вот что я услышал. Около 13 часов в окне 17-й квартиры показался дым. Сначала немного — соседи подумали, сгорело что-нибудь на кухне, потом больше. Забеспокоились, звонили, стучали — никто не открыл. Пожар! Вызвали пожарных. Не дожидаясь, взломали дверь. От притока свежего воздуха пламя вспыхнуло ярче, повалил дым. Взялись тушить и, только когда немного прибили пламя, заметили на диване мальчика. Думали, задохнулся, вынесли на лестничную площадку. Мёртв. На голове большая рана. Убийство!
Только что уехали пожарные. Больше ничего пока не известно.
Бегло осматриваем квартиру, ориентировочно. Идём из комнаты в коридор, оттуда на кухню. Полковник впереди, за ним я, за мной все остальные. Квартира трёхкомнатная. Две комнаты занимает семья Рытовых, третья заперта. Там живут соседи. Сейчас приступим к детальному осмотру. Всё до мельчайших подробностей опишем, сфотографируем, перенесём на схему. Неотступно будут следовать за нами молчаливые понятые, а суету и разноголосицу первых минут сменит тревожная неторопливость и мой монотонный голос, диктующий оперативнику, который уже примостился в неудобной позе с потрёпанной папкой на коленях.
ПРОТОКОЛ ОСМОТРА г. Москва 12 апреля 1969 г.
Ст. следователь прокуратуры М-ского района г. Москвы юрист 1-го класса Базаров с соблюдением ст. ст. 102, 178 — 180 УПК РСФСР в присутствии понятых: Гравина Ивана Григорьевича, проживающего по адресу Заозёрная ул., 64, кв. 3, и Полякова Мстислава Александровича, проживающего по адресу Пресный тупик, 7, кв. 31, и с участием судебно-медицинского эксперта Фогуса произвёл осмотр места происшествия-места обнаружения трупа Рытова — Заозёрная ул., 64, кв. 17.
При осмотре установлено
Место совершения преступления Это уже не просто квартира по такому-то адресу, где просто жили люди и происходили обыкновенные житейские события. Нет, всё здесь магически изменилось, и вовсе не потому, что безобразно повисли обуглившиеся обои, по полу растеклись мутные лужи и обгоревшая мебель сдвинута с привычных мест. Какое-то новое ощущение охватывает любого, вошедшего сюда, ощущение тревоги, ощущение беды. И я чувствую то же, и работники милиции. Приглушённые голоса, осторожные шаги, хотя говорить можно громко, шагать уверенно.
Постепенно приходит тот порядок, что именуется рабочей обстановкой. Вспыхивают блицы, эксперты-криминалисты с лупами в руках обшаривают каждый сантиметр полированной поверхности мебели, дверные ручки, зеркала — могут быть отпечатки пальцев. Привели собаку, но ей здесь делать нечего — всё затоптано и залито водой. Короче, идёт работа, и мне не нужно командовать, показывать, напоминать. Только время от времени кто-то из оперативников спросит полушёпотом, нужно ли, к примеру, отвинтить товарный знак с дверцы холодильника — вроде на нём буроватый отпечаток пальца, на кровь похоже — или попробовать снять на ватный тампон. Пожалуй, надо отвинтить, в лаборатории легче будет исследовать. Полковник спросит, к которому часу соседей вызывать в милицию, после осмотра или без меня начинать допросы. А что меня ждать? Время уходит.
И забывается за привычным ритмом работы то страшное и непоправимое, что привело нас сюда. И даже надрывный женский крик не заставляет поднять голову. Я знаю: это мать мальчика. Не хотел бы в ту минуту стоять рядом, и я стараюсь уйти от этих леденящих душу звуков. Я не могу, не имею права хранить их в себе хоть минуту, иначе не в состоянии буду работать.
Ведь это моя работа и мой крест — быть рядом с бедой.
Итак, версии, сразу по ходу осмотра. Никаких сомнений в том, что это убийство — рана в затылочной области. Посреди комнаты на полу лежит спортивная гантель. Только что эксперты сообщили, что на ней следы крови (в протоколе будет значиться — следы, похожие на кровь) и несколько прилипших волосков. Значит, почти наверняка известно, чем нанесён удар. Все замки в порядке — когда соседи взламывали дверь, сорвали петли. Сомнительно, чтобы в квартиру, где заведомо кто-то есть, преступник проник путём подбора ключей, да ещё днём. Выходит, сам мальчик впустил убийцу или убийц?
Ну, положим, сам. А пришли зачем? Не просто ведь расправиться — цель какая-то была? Например, завладение имуществом, как у нас говорят. Но видимых признаков кражи нет — вещи в полном порядке, дверцы шкафов закрыты, ящики задвинуты.
Как уцепиться за ниточку, как уловить хоть приблизительно направление поиска, чтобы не разбрасываться и не делать ненужной работы? А если с первых шагов допущу ошибку — потеряю наиважнейшее или то единственное, что ведёт к цели. Вот и фиксирую по институтским рецептам — так расположена мебель, в таком порядке висит одежда, окна — там, двери — там. Такие-то обнаружены следы, то есть всё, что указывает на присутствие преступника и образ его действий. Сейчас как раз эксперты снимают отпечатки с дверцы шкафа. Кропотливая работа — снимать отпечатки пальцев с вертикальной полированной поверхности. А чьи они? Может, преступников, а может, хозяев квартиры, а может Я научен горьким опытом — попадал впросак. Однажды в такой же примерно ситуации обнаружили мы хорошо выраженный отпечаток пальца па никелированной ручке двери. Обрадовались. Сопоставили с отпечатками подозреваемого — ие подходит. Сравнили с отпе-
чатками хозяев квартиры — не то. И стали искать второго преступника, соучастника. Старались как могли — нету второго. А чей же отпечаток? Оказалось — мой собственный. Схватился неосторожно за ручку двери. Стыдно было.
Очень возможно, что и сейчас снимают отпечаток пальца одного из моих помощников. Но не мой, это точно. Возможно, что и впустую работа, а надо*, всё, что увидел, — записывай, всё, что нашёл, — фиксируй Сразу в горячке первых часов разве определишь, что имеет отношение к делу, а что-не имеет. Упусти попробуй — не восстановишь потом: квартира будет прибрана, полы вымыты, вытерта пыль.
Вот чем я сейчас занимаюсь.
А потом прочитаю протокол — боже мой! — экий он холодный, бесстрастный. И всё-то вроде в нём есть — где, что, как, но вот О чём думал, когда составлял его, что видел перед собой, кроме безгласной мебели и молчащих стен? Уйду отсюда и унесу с собой бумажки — протокол, схемы, — вроде ничего больше и не требуется. А живые впечатления, чтобы вызвать потом в памяти звуки, запахи жилья, голоса вещей? Они так много могут рассказать о хозяевах. Они могут передать ощущения незваных пришельцев, тех, кого мы ищем, тех, кто так же, как и я, впервые вошёл в квартиру — чужую, незнакомую.
Вот и мы сейчас одинаково увидели её или нет — она одинаково предстала перед нами, только один из нас просто в и-д и т, а потом спроси его, не расскажет ничего толком; а другой умеет увидеть и так передать или вызвать в себе ощущение увиденного, как не сможет тот, кто живёт в этой квартире, для кого привычно всё вокруг.
У нас никогда не говорят, что следователь должен обладать живым воображением, или там обострённой эмоциональностью, или ещё какие-нибудь возвышенные слова. Несерьёзными кажутся они в хмуроватых кабинетах прокуратуры и совсем уж неуместными — в длинных тюремных коридорах.
О следователе могут сказать: вдумчивый, изобретательный, могут сказать: дотошный, но никому не придёт в голову говорить: эмоциональный следователь, с живым воображением. Так про актёра можно, про поэта или, положим, музыканта. А мне хочется про следователя. Представьте себе эмоционального, темпераментного следователя с холодной головой и живым воображением.
Ну вот, попробуем. Добрались мы до письменного стола. В верхнем ящике довольно беспорядочно лежат старые письма, квитанции, книжка квартплаты, ключи от чемоданов и четыре маленькие коробочки красного сафьяна. Пустые. А было в них что-нибудь? Положим, было. Положим, взяли оттуда ценности. А почему пришли именно к этому столу, забрались именно в этот ящик? Сегодня меня интересуют не хозяева квартиры, а те, кто пришёл иезваиио. Перед ними предстало то же, что и передо мной сейчас, конечно, с поправкой на пожар. Ну вот, куда бы я направился в поисках ценностей? Куда? Наверно, к тому трельяжу, что стоит в соседней комнате. Давай посмотрим. Пудреница, вазочка для цветов, коробка палехской работы, на крышке Иваи-царевич с девичьим лицом мчит сквозь чащу на добродушном волке свою возлюбленную. Внутри аккуратно уложены женские безделушки: перламутровая заколка для волос, испещрённая арабским орнаментом; бусы из деревянных дисков, скреплённых простенькой цепочкой и покрытых прозрачным лаком, так, что полностью сохранился рисунок дерева; ожерелье, скорее всего подделка под янтарь: сквозь мутноватую загадочную желтизну отчётливо просвечивают трубочки, через которые продёрнута нитка. Подделка. Настоящий янтарь вроде не такой. Две броши лежат. Одна — металлическая, чеканной работы, тоже, наверное, подделка под старину, а вот вторая, насколько я разбираюсь, довольно дорогая — камея в золотой оправе: на белом фоне горделивая женская головка из розового камня. Длинная точёная шея, тяжёлый пучок вьющихся волос, мягкий овал подбородка. Красиво!
На правой тумбе трельяжа стоит пудреница в виде морской раковины, стеклянная ваза для цветов, коробка с картинкой на крышке. В ней находятся: перламутровая заколка с обломанным замком, бусы из деревянных деталей, скреплённых цепочкой белого металла, бусы из светло-жёлтого полупрозрачного материала, металлическая брошь в виде кленового листа, брошь с изображением женской голсвки розового цвета на белом фоне в оправе жёлтого металла
Вот такой это будет скучный документ. Где уж тут живое воображение!
Ну да ладно, важно другое — сюда бы я пошёл в первую очередь. И, по-моему, любой на моём месте. И ничего не взял? Камея-то явно ценная вещь. Жёлтого металла! Нормальное
золото! Значит, не подходили сюда? А вот коробочки в письменном столе пусты. Что же там было?
Я прерываю осмотр. И оперативник устал писать. Сидит, помахивая занемевшей рукой.
— Кто-нибудь из членов семьи здесь?
— Родители у соседей. Мать никак в себя пе придёт — без памяти.
А ведь надо говорить с ними. О каких-то побрякушках-безделушках, о каких-то коробочках расспрашивать — где что лежало! Но надо.
Отца Ильи я раньше никогда не видел, поэтому и не знаю, каким был он ещё два часа назад, за мгновение до страшного известия. Сейчас передо мной стоит молодой старик — почти нет морщин, густые волосы гладко зачёсаны, хорошо повязан галстук. Но всё это как бы искусственно, на всём необъяснимая печать дряхлости — голос, поза, движения. Молодой старик!
На меня никогда не производило впечатления описание плачущего мужчины. Это надо видеть! Надо было видеть его глаза, чтобы ощутить беду, именно ощутить, а не просто услышать о ней или прочитать в самом достоверном изложении. И ещё — это невероятно! — увидеть надежду в глазах, будто я что-то могу вернуть, исправить что-то или сказать: дурной сои это, встряхнись, и всё пройдёт. Я понимаю, когда, даже выслушав от врача приговор, всё-таки с надеждой смотрят на него, с надеждой, что в итоге он скажет: «Но всё может быть, не падайте духом » — и всякие такие слова. И даже если не говорит, если твёрд в своём диагнозе, даже тогда где-то глубоко и безотчётно теплится надежда: ошибаешься, может, ну скажи, что ошибка не исключена, бывают же случаи, ну скажи
Но от меия-то ждать нечего, я ничего не могу исправить и ничем помочь не могу. Зачем же он так смотрит? Вы знаете, как плохо человеку, когда на него надеются, а он бессилен? Пройдут дни, и, посетив меня в очередной раз, Александр Петрович Рытов уже не будет смотреть с надеждой — тупое, непомерной тяжести горе охватит его, проникнет в каждую клеточку, не оставит иных эмоций, кроме ощущения безысходности и безнадёжности. Тогда у меня появится что-то вроде чувства вины перед этим человеком, потому что хотя и оказался я сопричастным к случившемуся, но не так, как он, потому что не могу и не обязан так страдать. «Вам-то что!» Он не скажет этого и не подумает даже, а мне всё будет казаться, что подумал.
Я несколько раз просил его сесть, но Александр Петрович благодарил, говорил: «Ничего, ничего » — и, потоптавшись на месте, продолжал стоять. Так и разговаривали мы, стоя рядом, и он всё время вопросительно и растерянно смотрел на меня, будто вместо вопросов хотел услышать: как это случилось, почему именно с ним, за что такое несчастье? А я торопился спросить самое необходимое, чтобы он скорее ушёл.
— В коробочках лежали какие-нибудь ценные вещи? Уж простите, Александр Петрович, но это крайне важно сейчас.
— Это важно? Ну да, да Ценные веши? Серьги две пары, кольца с камнями, по-моему, три, часы, знаете, такие крышечкой циферблат закрыт, а на ней тоже камешки мелкие Ещё что?.. Да, кулои с головкой Нефертити ещё браслет вроде да, браслет. Я привёз его в прошлом году из Асуана. Я там работал Пропади они пропадом, вещи
— Ящик запирался?
— Ящик?.. Запирался. А ключ наверное, и сейчас там лежит, под газетой в буфете, вы посмотрите. — Он отвечал быстро, как бы желая поскорее избавиться от моих вопросов и услышать наконец главное. — Не может быть, чтобы из-за этого мальчика
Я вытащил из ящика пустые коробочки. Александр Петрович долго смотрел на них.
— Они пустые. Боже мой! Из-за такой ерунды!
— Дети ваши знали, где хранится ключ?
— Нет, про буфет не знали. Там ещё что же там было? Ах да, облигации трехпроцеитиые, сберкнижка рублей на четыреста Так вот же она, и облигации здесь. Боже мой! — Александр Петрович остановился возле буфета, комкая в руках хрустящие бумажки.
— Спасибо, Александр Петрович, извините. Вам лучше уйти. Спасибо.
И ещё какие-то слова бормотал я, провожая его до двери. А в душе рождалось ощущение нелепости происшедшего
Но вроде появляется какая-то ниточка. Значит, всё-таки кража! Отпадают другие версии — случайная драка, месть, да мало ли что.
— Теперь так Положим, преступление совершили люди посторонние — Я размышляю вслух. — Пришли, чтобы украсть, заведомо зная, что в квартире кто-то есть. Значит, намеревались расправиться и, следовательно, имели бы при себе оружие, ну хоть какое-нибудь. Но ведь хозяин гантели сам мальчик! Это уже известно. Дальше. Если незнакомые, то наверняка перерыли бы всю квартиру и унесли не только побрякушки. А исчезли одни ценности, которые, кстати, лежали не в характерном для хранения таких вещей месте — в письменном столе. Значит, преступники знали, что ищут и где искать.
На столе два бутерброда с колбасой. Оба надкусаны. А станет ли человек, не покончив с одним, приниматься за вхорбй? Выходит, ели двое. Так кого может пустить четырнадцатилетний школьник, да ещё угощать бутербродами?
Итак, первая версия: преступление совершено его товарищем по дому или по школе.
Просто и ясно, и вовсе не надо быть следователем, чтобы дойти до всего этого.
Ну хорошо, а если бутерброды не имеют никакого отношения к преступлению? Если сам Илья заготовил себе впрок сразу два, а потом случайно надкусил оба? Или бутербродов было больше — съели их просто? Выходит, никакого вывода о количестве людей, пришедших в квартиру, мы не можем сделать. И не можем решить, знал Илья преступников или нет, прийти могли и незнакомые под каким-нибудь предлогом. И ценности они просто нашли в письменном столе, не зная об ч их существовании. Остальные вещи выносить испугались. И оружие у них могло быть, но воспользовались гантелью. Значит, незнакомые?
Версия вторая
Теперь, кроме работы, для нас ничего не существует.
Третья версия
Вот и кончилась передышка. Недели две я работал, что называется, спокойно. Никаких ЧП, никаких вечерних бдений, никакой спешки. Всё, как в нормальном учреждении. На работу — вовремя, с работы — вовремя. Обедал каждый день. И знал, что со мной будет завтра. График текущей работы, план — всё в порядке. А теперь какой график! Какой план! Не знаю, долго ли провожусь с этим делом, но совершенно точно: из «прорыва» по другим делам выберусь не скоро.
Как всегда после тяжёлого и не раскрытого ещё преступления, наша штаб-квартира в отделении милиции. И хозяева этого отделения уже не хозяева, а наполовину гости. Хозяева
мы. Во-первых, потому, что высокое милицейское начальство здесь — сам начальник уголовного розыска города прибыл, а во-вторых, на нас, пришлых, смотрят работники отделения, как на избавителей ещё от одной «висячки» — нераскрытого преступления, которое тяжким бременем повиснет именно на них, грешных.
И вот мы пробуем. Во всех кабинетах идёт работа, самая начальная, черновая, вроде разведки, но именно та, на которой потом вырастет всё здание уголовного дела. Оно может рассыпаться, конечно, или простоять без пользы, а точнее, пролежать в сейфе или на архивной полке. Большинство помещений его так и останется незаселённым. А удача — так по одному из коридоров ляжет тот единственный путь, что ведёт к цели. Сейчас мы начинаем заселять это здание, но пока пустота. Только беспокойство и внутреннее напряжение. Версии самые невероятные, порой фантастические. Мы даже устали придумывать возможные варианты. Но никто не осмеливается так сразу сказать: «Чепуха», «Быть не может».
Может!
Я где-то слышал или читал — уж и не помню — о методе так называемой «мозговой атаки». Приступая к решению какой-то сложной научной проблемы, в качестве основы берут эту самую мозговую атаку. Суть её заключается в том, что всем, причастным к решению, позволено выдвигать любые предложения и соображения, любые, на первый взгляд, может, и нелепые. Иначе говоря — атаковать идеями, вариантами, предположениями. Не смущаясь и не опасаясь прослыть невеждой. Никто тебя не прервёт, никто не скажет брезгливо: «Ересь!» Таково условие. Потом при проверке и отборе подавляющее большинство этих идей и вариантов отпадёт. Но какая-то часть останется, и предположение, самое невероятное поначалу, станет ключом к решению проблемы.
Сколько раз участвовал я в подобных мероприятиях, но не предполагал до поры, что так красиво они называются — мозговая атака.
Мы сидим в одной из комнат уголовного розыска. Тесная, уставленная монотонными канцелярскими столами, она больше напоминает бухгалтерию какой-нибудь маленькой конторы.
В углу у окна двое. Одного зиаю хорошо — Алексей Афанасьевич Перковский, начальник одного из отделов МУРа,
патриарх уголовного розыска. Помнит ещё Петровку двадцатых годов. Помнит медвежатников, нэпманов и хлебных спекулянтов, бандитов, гулявших по московским окраинам. В него стреляли, однажды угодил в воровской притон — еле ноги унёс. Целых два стенда в Музее криминалистики посвящены раскрытым им преступлениям. Высокий, худощавый, с впалыми щеками и морщинами старого актёра, он напоминает известные иллюстрации к рассказам о Шерлоке Холмсе. И не только мне, видно, напоминает — молодые оперативники так и зовут его за глаза и молятся на этого стареющего сыщика и рассказывают всякие чудеса о нём. Рядом с Перковским начальник местного уголовного розыска. Я только сегодня познакомился с ним и единственно что приметил — всё время мелькающую в его руках цепочку.
— Пацаны это. — Перковский говорит, не поднимая глаз, как человек, который знает, что его слушают. — Пацаны, ручаюсь. Серёжки, побрякушки — пацаны!
— А Женька Мордатый, помнишь, твой же, ничего ведь, кроме ценностей, не брал. — Местный начальник обвёл взглядом присутствующих. — Когда он вернулся из колонии, Паша?
— Проверили, весь день с фабрики не выходил, до семнадцати часов. В прошлом месяце вернулся.
— Я не про него лично, — цепочка быстрее замелькала в руках начальника, — я вообще Могли и не пацаны.
— Пацаны! — Алексей Афанасьевич будто не расслышал про Женьку. — Видел ты, чтобы жгли потом?
— Может, случайно?
— «Случайно»! Так никуда не придём.
А действительно, я совсем упустил из виду пожар. Начался он, судя по всему, с дивана, потом огонь перекинулся на шкаф. С занавесок соседи успели сбить пламя, а горят они быстро, значит, занялись в последнюю очередь. Это понятно. Так ведь диван случайно обронённой спичкой не подожжёшь? Выходит, специально подожгли. Для чего? Чем? Скрыть следы? Убийство, как его скроешь?
Тогда в чём дело?
Я снова прислушался.
— Что-то вы всё проторёнными путями идёте, ребята, — категорически изрёк тучный полковник. — Я вот думаю, что-то новенькое здесь, что-то в общем А? — И взглянул на меня, вроде желая выяснить, разделяю я его неопределённые подозрения или нет.
В разговор вмешался молодой оперативник. Я ещё раньше приметил его: распахнутый пиджак и назойливо бьющая в глаза ослепительно белая кобура пистолета, сдвинутая на самый живот.
— А по-моему, всё чётко. Дверь открыл сам мальчик по звонку. Пришли посторонние — страхование жизни, к примеру, пожарная инспекция. Увидели, что мальчишка один, шлёпнули — и будь здоров.
Ну да, молодец: пришли неизвестно почему именно в эту квартиру, так просто совершили убийство, каким-то неведомым путём забрались в тот ящик, где были ценности, кроме них, кажется, не взяли ничего, устроили пожар и благополучно скрылись. Чётко! Надо бы послать его с каким-нибудь заданием, чтобы не мелькал перед глазами.
— А если приезжие? Знаете, бывает: картошку продают по квартирагл, носки деревенские. Может ведь?
Я даже не разглядел, кто это сказал. Только пометил на бумажке: «Приезжие».
— По Максимовской в прошлом году ходил один, — продолжал тот же голос за моей спиной, — ещё с женой и с ребёночком маленьким Ах да, их же взяли тогда
— Кто у нас освободившимися из колонии занимается? — снова заговорил Перковский. — Твоя, что ли, группа, Карасёв?
— Моя. Полным ходом работаем.
— Я вот что думаю: надо бы по области ориентировку дать. Как? — Перковский взглянул на меня
Вот тебе и «старик»! Не устал каждодневно ломать голову над этими ребусами. Не каждому по плечу такая верность профессии. Или легко среди ночи подниматься и катить через весь город навстречу новой загадке? У тебя же целый отдел, командуй! Так нет, каждый раз именно тебя вижу: и когда особенно трудно, и когда может стать трудно. Спокойнее, когда ты рядом. И молодому следователю с таким помощником, да н мне — что греха таить — спокойнее.
И вот первые сведения. В квартире этажом выше ремонт. Рабочие из районной конторы. Маляры. Двое. Может, видели что-нибудь или слышали? Около двенадцати часов, то есть в то время, когда, по нашим предположениям, в квартире Рыто-вых появился посторонний, почтальон разносил письма. Проверить надо, поговорить с ним.
Кому поручено? Брухтию? И он здесь? Ну да, он же из его восемьдесят седьмого.
Снова докладывают; собрали школьников — мальчишек и девчонок из одной с Ильёй школы, из соседних, из дома Рытовых, из соседних домов. Начались допросы. Хожу по кабинетам — там послушаю, здесь посижу. Илью почти все знают. Из школы ушёл вовремя. Домой бежал с ребятами. Договорились играть в футбол. Ему кричали — выглянул из окна, отмахнулся. Было это примерно за час до пожара. Нам уже известно от пожарных, что начался он в 12.30 — 12.40Г Вот ещё один штришок. Впрочем, пустяк, и вряд ли прольёт свет на случившееся. А всё-таки? Илья пошёл домой, всего лишь чтобы переодеться, и тут же собирался выйти — так договорились. А он задержался. Позвали — отмахнулся. Выходит, был занят чем-то более интересным или более важным. И совершенно для себя неожиданным. Да в скором времени он и не собирался выходить, иначе не отмахнулся бы так решительно. И точно, не выходил больше часа — только через час начался пожар. И ещё — в течение этого времени был не один. Значит значит человек или люди, которые были у него, не посторонние. Ну, положим, пришёл к нему преступник под видом водопроводчика или почтальона, трагедия разразилась бы сразу. А может, это и случилось сразу? Может, Илья махнул ребятам; мол, сейчас выйду, и был в это время один, а потом замешкался, переодеваться стал, решил перекусить — бутерброды на столе. И преступник пришёл много позже, и всё случилось очень быстро. Тогда вполне уместно предположить, что преступник — посторонний.
Знать наверняка хотя бы это! Но я не знаю и буквально на ощупь пробираюсь в лабиринте бесчисленного множества более или менее вероятных вариантов. Более вероятных? Это смотря с чьей точки зрения. Не запутаться бы. Речь ведь идёт об уголовном преступлении, и наиболее вероятные с позиции обычной логики варианты не имеют той цены. Те, кто был здесь утром, знали, что следом приду я, и тогда ещё вступили Со мной в схватку. Ещё тогда, когда Я был бессилен. Теперь бессильны они. И всё будет зависеть от того, как я буду действовать. Но исходить, к сожалению, нужно не из моей логики, а из их, из логики тех, о ком я ничего не знаю. И мешкать нельзя, и торопиться опасно. Нет, только не торопиться, не позволить себе увлечься одной версией, как этот, с пистолетом на животе: «Чётко!» Только не торопиться!
И я не тороплюсь. Даже со стороны видно — не тороплюсь. Это уже в привычку вошло или с годами выработалась реакция такая на напряжённость ситуации. Чем острее положение, тем медленнее я действую — и говорю, и хожу, и пишу медленнее. А иначе подхватит вихрь событий — не остановишься. Вот и родилось у меня противоядие — неторопливость. Ребята смеются: Базаров в ступоре — дело серьёзное.
А работа набирает тем временем привычный темп. Вереницей проходят передо мной мужчины и женщины, молодые и пожилые, девчушки с косичками и вихрастые, стреляющие глазами мальчишки — интересно им: настоящая милиция. Тут же педагоги и родители.
Допросы, допросы, допросы
Но пока всё впустую. Такая огромная работа — и впустую. Ну о чём говорить с этими детьми? Что они видели? Что знают? Но прекратить тоже не могу.
А вдруг?..
Иное поважнее, посерьёзнее, проверка, так сказать, подозрительных — судимых в прошлом за хулиганство, кражи, грабежи и даже тех, кто приводы имел в милицию за всякие уличные художества, кого за мелкое хулиганство привлекали. Где были в то время? Что делали? Кто может подтвердить? Огромная работа. И ещё надо организовать правильную информацию по всему городу и по области. Поднять на ноги всех оперативных работников, всех участковых, актив всех отделений. Перекрыть рынки, скупочные магазины, прощупать скупщиков вещей сомнительного происхождения.
И кажется, всё уже на ходу. Я чувствую это по тону, которым докладывают об очередных мероприятиях, по ворчанию подъезжающих и отъезжающих автомашин, по неторопливой чёткости работы моих помощников — работников милиции, но тому, как коротко отдают здесь распоряжения и как понимают с полуслова. Посторонний глаз не увидит этого, непосвящённое ухо не услышит, но мы знаем — всё идёт нормально. И Перковский исчез куда-то — видно, поехал колдовать к себе в МУР.
А эти мальчишки Боже мой, сколько же их ещё! И что с них возьмёшь? Вот даже из милиции устроили игру — шныряют по коридорам, как в школе, носы суют куда не следует. Бедные учителя — каково им достаётся!
Допросы, допросы, допросы
Уже по второму разу обхожу кабинеты. Уже пригляделся к насторожённым, или испуганным, или растерянным лицам школьников. Тут храбрость их иссякала. Мам рядом нет, пап тоже. Возле следователей сидят строгие учителя. Так полагается: допрашивать подростков в присутствии учителей. И в тетрадку не заглянешь, и подсказки не услышишь. Отвечать надо самому.
Допросы, допросы, допросы
Захожу в кабинет, где работает Брухтий. Он сидит, навалившись грудью на стол, — замучился, видно, мешки набухли под глазами, резко обозначились морщины: который уже час не отрывается от стула. Против него глазастый паренёк лёг 13 — 14. Пионерский галстук повязан прямо поверх школьной формы, складно прилажен свежий накрахмаленный воротничок.
Брухтий — сама официальность. Разговаривает с парнишкой, как с взрослым свидетелем: «Что вам известно по делу?», «Где вы были в момент убийства?» Все на «вы».
А малый занятный — бойкий, говорливый, не боится.
— Как тебя зовут? — спрашиваю.
— Гена. Я уже говорил. А вас?
— Меня? Меня Сергей Александрович. Так что же ты делал сегодня, Гена, после школы? Илью видел?
— Из школы с ним вместе шли. Я домой, и он домой. Сергей Александрович, а найдут их? Как у вас бывает — найдут?
Я не успел ответить.
— А вы самый главный? Да?
— Я? Самый.
Ну и парень! Через минуту хватился я — оказывается, это он меня допрашивает. И какие у нас машины, и почему собаку не привезли, и есть ли у меня пистолет. Забавный. Вертится на стуле, дёргает меня за полу пиджака, тараторит без умолку.
— Ладно, дружок, некогда мне. Как-нибудь в следующий раз.
И опять мелькание лиц и фамилий, нагромождение событий и фактов, букет дворовых разговоров и таких правдоподобных слухов, что кажется — вот оно! А потом уже и не кажется. Растёт и растёт на столе стопа протоколов допроса, справок, документов. Растёт и растёт.
Начинаем уставать. Допросы, короткие совещания на ходу, доклады оперативных групп, а воз, как говорится, и ныне там. Это плохо, если сразу нет просвета, если с первых шагов не появилась перспективная версия — дело может повиснуть. Начнутся мучительные поиски, отработка никому не нужных деталей, изобретение совсем уже невероятных вариантов, И всё это на фоне постоянного ощущения чего-то невыполненного. А уголовное дело в сейфе — немой укор. И только? Я почему-то не говорю: преступник на свободе, зло не наказано, он может повторить преступление. Да, у нас — разве что начальство на совещаниях — об этом никогда не говорят. Это подразумевается, для этого существуем, это наша профессия. Повторить ещё раз — значит не прибавить ничего путного, полезного. И нераскрытое преступление для меня — не торжество зла и всякие прочие пышные и бесполезные фразы. Для меня это нераскрытое преступление. Брак. У меня никто не спросит: «Раскрылось?», у меня спросят: «Раскрыл?» И даже если все понимают, что преступление практически невозможно раскрыть — бывает такое, — не раскрыл его я.
Как быстро летит время! Уже двенадцатый час, а коридоры забиты школьниками, и взволнованные родители проводят по углам операцию кормления «важных» свидетелей. Если так дальше пойдёт, и завтра с ними не управимся. Сорву занятия в школе — достанется мне. Надо распорядиться, чтобы одновременно всех не вызывали. А сегодня кончать пора. Пусть домой идут. И самому подумать надо не спеша, хоть пробежать глазами всё, что скопилось. Свести как-то воедино. Уйма народу работает по делу, а сходится всё у меня. Другие занимаются отдельными эпизодами, конкретными лицами, локальными версиями, а всё вместе обязан знать я. И помнить всё обязан
Мои невесёлые размышления прервал полковник. Какая-то женщина ждёт, только со следователем хочет разговаривать. Может, знает что? Давайте её сюда. Я пристроился прямо в приёмной начальника отделения за секретарским столом.
В дверях появилась сухонькая старушка в чёрном, повязанном по-деревенски платке.
Вот те на, разыскала! Оиа-то зачем здесь?
— Живу я в том доме. Сам же писал адрес. Или не помнишь?
— Да нет, как же, помню. Похоронили сестру?
— А я подумала, забыл ты всё с позавчерашнего дня. Где уж похоронила! Отпевать не хочет батюшка наш, говорит: руки твоя сестра на себя наложила, дело это, говорит, богу противное, хорони как знаешь. А какие похороны без отпевания? Слышь? И что ему взбрело? Откуда взял — руки наложила? Кто знать может? Преставилась, и всё тут. Годов-то ей!.. Я — туда, я — сюда, всё без толку. А гроб заказан, и всё честь по чести
— Ладно, передайте вашему батюшке, следователь, мол, сказал — можно отпевать.
— И бумажку дашь? — Старушка встрепенулась.
— Нет, мамаша, бумажки не полагается. Он и так поверит.
— Не знаю уж как и благодарить тебя!
— Скажите лучше, что знаете про этот случай? В вашем доме.
— Знаю, а как же! Утром, значит, нынче не емши, не пимши на базар пошла я, поехала, правду сказать, на Даниловский. Находилась там, устала — сумка тяжёлая, дай, думаю, к Серафиме Семёновне зайду. Живёт она рядышком, знаешь, напротив базара завод сырный, так соседний дом. Зашла, значит, посидели, чайком побаловались, погоревали. Уж больно покойницу она любила. И впрямь золотой человек сестра-то, безответная такая, тихая. Ну так вот, погоревали, значит, оставила я сумку и снова на базар. Там часов в одиннадцать мясо свежее должны привезти. Иду, значит
Пропал, я пропал теперь. Попробуй перебей — ещё хуже будет, по опыту знаю. А у меня ни терпения, ни времени сегодня. Надо же с этим базаром!
— Вы бы мне про случай, а?
— Сейчас и про случай. Погоди. В общем, еду домой. Там как мясо покупала и к Серафиме Семёновне за сумкой ходила — про это не буду. Еду в троллейбусе, значит, устала, конечно, годы-то вон какие — с тысяча восемьсот девяносто четвёртого вроде я, семьдесят пять, значит Да погоди ты, сейчас к концу уж! Вылезаю это я на остановке против дома Это если в ту сторону ехать — далеко, а в эту — прямо против дома Вылезаю, а народищу — туча чёрная. Шумят, волнуются. И пожарные тут, и милиция. Батюшки мои, беда! Я к тому, я к другому. Как узнала, аж ноги подкосились!
— Так, выходит, вы приехали, когда уже и пожарные были и милиция?
— Ну да, и милиция, и народу тьма
— А сюда пришли зачем?
— Увидела я тебя там — шёл с портфельчиком. Думаю, случай, может, что насчёт сестры поможешь. Ждала, ждала, а ты в машину — и нету. Вот пришла. Так как насчёт бумажки? Что тебе стоит!.. Ну-ну, нет так нет. И так оченно вами благодарны. Спасибочки.
«Оченно вами благодарны»! Лучше бы время не отнимала.
Домой я приехал, как мне показалось, когда уже начало светать. Все спали. На кухонном столе остывший ужин и грозная записка жены. Вот опять забыл предупредить её и завтра получу заслуженный выговор. Я пожевал что-то без разбора и запил холодной водой, тупо глядя в окно и ни о чём не думая — устал. Устал просто потому, что работал часов шестнадцать. А ведь оперативники остались. Я приеду завтра, поспав хоть немного, а они встретят меня небритые, с покрасневшими глазами и будут докладывать, что успели сделать за ночь, какие новости. И снова останутся работать. И так, урывая по очереди минимум времени для отдыха — кто под утро, кто среди дня, кто вечером, — будут они мотаться по городу или просиживать в прокуренных комнатах до тех пор, пока не раскроем мы коротким решительным штурмом это дело или, убедившись в безрезультатности атаки, перейдём к длительной осаде. Тогда жизнь войдёт в относительно нормальные рамки, тогда они будут каждый день обедать и воскресенья проводить дома, пока ещё что-нибудь не стрясётся.
Никаких новостей утро не принесло. Я забился в самый дальний кабинет, чтобы наконец прочитать целую кипу скопившихся протоколов. Порядочная кипа. Что там в моём плане значится? Так Допросить соседей, школьников, родственников Посмотрим.
Вот показания соседки. Шашкика Екатерина Филипповна. Мастер ОТК завода «Динамо». Муж — инженер проектного института «Главгаза». Оба ушли из дома в восемь утра, вернулись около семнадцати. С работы никуда не отлучались. По дороге домой заходили в магазины. Так Ничего интересного. Хвалит детей Рытовых. Отметим: проверить, действительно ли не отлучались с работы. Неприятно, конечно, всё это: придут
к тебе к а работу из милиции и будут расспрашивать Поделикатнее бы всё устроили, а то людей пи за что обидеть можно.
Дальше пошли. Протоколы допроса проживающих в соседних квартирах Никто ничего не слышал, ничего подозрительного не замечал. Всполошились, когда начался пожар Так В отдельную кучу протоколы. Эти не понадобятся.
Кажется, сегодня хорошо заладился день — дают поработать спокойно. Никто не отвлекает, не дёргает, телефон молчит. Спасибо ребятам — не говорят, где я укрылся. Видно, ничего серьёзного. Ещё бы часок.
Рапорты участковых Рапорты Ну и память! Всех наперечёт знают, так сказать, сомнительных — где, кто, когда согрешил. Не забыть бы ещё раз собрать участковых поближе к вечеру.
Хорошо, с рапортами покончено. И не так уж велик список этих самых грешников. А всё равно не поспеют мои ребята быстро управиться. Надо попросить Перковского подкинуть людей.
Что ещё? Допрос старшего брата Ильи. Анатолий Рытов семнадцати лет.
Я ухожу из дома в шесть часов тридцать минут. Родители уходят позже и возвращаются около восемнадцати. Днём дома бывают только брат Илья и младшая сестра Оля. Ключи от входной двери были у всех членов семьи, кроме Оли Ко мне товарищи почти не ходят — мы живём далеко от училища и собираемся у других ребят. К Илье приходят ребята из школы и соседи по дому. Особенно часто Саша Грошев, Витя Корнев, Дима Дробот, Алик Фельдман, Гена Пименов и его старший брат, по имени не помню. Ребята все хорошие. Илья учился в первую смену и приходил домой в тринадцать-четырнадцать часов. По четвергам он приходил в двенадцать, так как у них бывает четыре урока В комнате у нас стоит письменный стол. Я знаю, что в верхнем ящике его лежат коробочки с мамиными кольцами, серёжками, часами. И Илья знал об этом. Ящик запирается на внутренний замок, а ключ лежал в буфете под газетой. Родители не говорили нам про ключ, но я случайно увидел, как мама брала его, и подумал: что это она там скрывает? Стало любопытно, полез, посмотрел, а там только
мамины украшения. Но Илье всё равно не сказал про ключ — на всякий случай Илья в то время, когда бывал один, вёл себя осторожно. Мама его много раз предупреждала. Я думаю, что незнакомого человека он в квартиру не мог впустить Дня три назад к нам приехала двоюродная сестра из Минска, просто погостить Сегодня я ушёл из дома, как всегда. О случившемся узнал, только когда вернулся.
Вроде толково допросили, а всё равно жаль, что не сам поговорил с Анатолием. Так что же следует из его показаний? Илья не знал, где хранится ключ от ящика с ценностями, но где находятся сами ценности — знал. Выходит, преступники нашли их помимо него и ключ нашли сами — он ведь торчит в скважине. Это первое. Второе — надо поговорить с близкими приятелями Ильи. Выпишем их фамилии — Грошев, Дробот, Корнев, братья Пименовы, Фельдман. Что ещё? Ах, да, где была в это время Оля. И ещё, родственница какая-то из Минска. Проверить. На что я ещё обратил внимание? Четверг четверг Ага, Илья пришёл из школы раньше. Кто мог знать об этом? Продумать. .
Корнева и Дробота вроде уже допрашивали. Да, допрашивали, помню. Из школы шли вместе с Ильёй, договорились играть в футбол. Он долго не выходил, позвали — выглянул в окно, отмахнулся. С этим ясно. Пименовы Пименовы Кажется, один из них и есть тот большеглазый, которого Брухтий допрашивал. Так до чего они договорились?
Я учусь в первую смену в шестом классе, а Илья Рытое, мой товарищ, — в седьмом классе. Вчера Илья вышел из школы пораньше меня. Я догнал его во дворе. По лестнице мы шли вместе. На втором этаже встретили какую-то девушку. Илья сказал, что это их родственница и что он зайдёт Ко мне позже. Вскоре он пришёл и побыл совсем немного. Потом заторопился домой. Я поел и пошёл гулять. По дороге я решил позвать Илью. Он открыл дверь, но в квартиру не впустил — стал в дверях и сказал, чтобы я шёл один, а он скоро выйдет. Тут я услышал какой-то звук в его квартире и спросил: «Кто там — родственница?» Илья ответил, что она ушла, а шум не у них в квартире, но мне показалось, что у них. Я пошёл во двор и вскоре увидел, как из нашего подъезда
вышли трое и почти бегом завернцли за угол дома. Их я видел впервые, но успел разглядеть. Впереди шёл парень 22 — 25 лет. Чёрные волосы, высокого роста, широкоплечий, в чёрной куртке с погончиками и поясом. Второй был меньше ростом, того же возраста, в пальто выше колен, серого цвета, без головного убора, волосы короткие, светлые, блестящие. Он нёс свёрток из газеты. Сзади шёл низкого роста парень в коричневой стёганой куртке, в серой кепке. У него на правой щеке, на уровне середины уха, большой шрам. Я зашёл за угол дома вслед за ними и увидел, что все трое садятся в машину «Волга» коричневого цвета со светлой крышей. За руль сел тот, который в коричневой куртке. Они очень торопились. Машина обогнула клумбу и выехала на улицу в сторону парка. Прошло совсем немного времени, и я услышал крик: «Пожар, пожар!» Из форточки Илюшиной квартиры шёл дым. Я побежал в подъезд и видел, как ломали дверь.
Ну вот, и этого надо было самому допросить. Брухтий, Брухтий, что ж ты мне одну беллетристику выдал! Любопытнейшие же показания! Может, этот парнишка последним видел Илью? Что за звуки слышал он в квартире? Когда это было, хоть приблизительно? Сколько времени просидел Илья у Пименовых? Ведь зная это, мы сможем почти точно подойти к моменту убийства. Куда девалась родственница? И потом, эта троица и «Волга». Очень занятно. Сегодня же самому ещё раз допросить Пименова. Какая это по счёту версия? Видно, где-то в третьем десятке. Значит, так: Пименова, Фельдмана, Грошева, родственницу
Мне так и не удалось покончить с протоколами — разыскали всё-таки. Высокое начальство звонит. Доложил, как идут дела. Трубка долго молчала, потом с другого конца провода донеслось: «Жаль, жаль Может, в помощь кого? Не надо? Ну, ну Завтра к вечеру сами позвоните, доложите о ходе » Ну что ж, был бы «ход» — доложу.
Данные из лаборатории пришли. Оказывается, бурый след пальца — никакая не кровь, а варенье. И оставлен самим Ильёй.
Вчера к вечеру в комиссионный магазин, что в Столешниковом переулке, сдали серьги и кольцо с александритом. Похожи на наши. Сомнительно, конечно, но всё равно надо предъявить отцу Ильи. Распорядился.
И ещё, и ещё, и ещё Мелкие и немелкие дела, и те, которые могут что-то дать, и те, что наверняка не приведут ни к чему. Но всё равно приходится делать. А вдруг?.. И если даже никакого «вдруг» не случится — знаю наверняка, — всё-таки надо сделать. Необъяснимо это — завершённости, что ли, не будет, законченности, шика профессионального, который не излишество и не украшение, а самый что ни на есть необходимый компонент, когда любой понимающий человек, взяв в руки такое дело, скажет: «Чистая работа».
И потом — а вдруг всё-таки?..
Я не думаю об этом, мне некогда предаваться размышлениям общего порядка, мне надо делать вполне конкретные дела: я допрашиваю, выслушиваю, советуюсь и распоряжаюсь, спорю, сержусь. Я недоволен собой, помощниками и если даже говорю «хорошо», то непременно добавляю: «Ну и что? А толку-то » Потому что нет результата, того единственного, для достижения которого существуем, — раскрытия нет. Это теперь можно поразмышлять на досуге и поудивляться: чем был недоволен? Отрицательный результат — тоже результат. Как в науке: опровергнута такая-то гипотеза — победа, хотя положительного, так сказать, результата нет. Из такой серии опровержений потом родится открытие. Но чествуют, как правило, открывателей, а не опровергателей. Где услышишь: «Он так блестяще опроверг, доказал несостоятельность», если за этим не следует: «И открыл то-то». Ну, может, и не прав я — наука не моя область. А вот у нас наверняка нелепо прозвучало бы: «Истинного преступника он не нашёл, но так прекрасно доказал, что ни один из подозреваемых преступления этого не совершил». И нельзя утешиться, как в науке, тем, что труд мой поможет грядущим поколениям достигнуть цели. Какие там грядущие поколения! Я сейчас должен найти убийцу, немедленно!
Как же определить то, что происходит у нас, чем мы занимаемся? Сказать, что по мере нашей работы сужается круг поиска? Не сужается он — расширяется. Отпадает одна версия, на её место приходят три новые. И не работаем мы, с другой стороны, вслепую, нет, конечно, ничего общего с бессмысленным «авось». И всё-таки в деле, которым я сейчас занимаюсь, совершенно невозможно очертить этот самый круг. Что же тогда? Может, так: мы раскидываем, чго ли, щупальца поиска в наиболее вероятных направлениях? Но вот определить их, эти направления Как? Профессиональной уголовной преступности у нас нет, давно нет. Моё поколение следователей просто не сталкивается с ней на практике. Тем более, нет стойкой организованной преступности в том виде, например, как американские гангстерские группы или банды типа итальянской мафии. У нас действительно нет этого как явления.
Кажется, хорошо? С профессионалом куда как трудно бороться! Профессионал — это опыт, предварительная тщательная подготовка, изощрённые способы сокрытия следов. Выходит, надо быть вдвойне подготовленным к встрече с такими, быть осведомлённым о принципах их деятельности и системе организации, успевать за бурным ростом технической оснащённости банд, быть в курсе методики их работы. Иначе говоря, противоборствуют две организации и победит та, которая лучше знает противника и, как выражаются шахматисты, способна считать на много ходов вперёд.
Выходит, нам легко. Ну право же, с самодеятельным одиночкой проще справиться, чем с целым гангстерским синдикатом или даже с отдельным его представителем — опытным профессионалом, да ещё имеющим базу, надёжных укрывателей и могущественных покровителей.
Проще? Окажись убийство Рытова делом рук профессионала или стойкой преступной группы, я бы знал её почерк, её методы, мог бы применить принцип аналогии. Или того больше: может, даже знал бы, кто совершил преступление, и задача свелась бы к поимке преступника и отысканию доказательств. Как это много раз писалось в хороших и плохих детективных романах: приходит этакий мудрый сыщик на место совершения преступления, окидывает его всевидящим оком и безапелляционно изрекает: «Это дело рук Джона, его почерк». И сыщик знает, где этот Джон, и не хватает ему только доказательств вины Джона. А тот смеётся, обнажая голливудский набор зубов: «Вам не удастся доказать, господин инспектор, работа чистая».
Вряд ли стоит очень уж серьёзно относиться к этим Джонам и инспекторам, но, с другой стороны, не такое это преувеличение, как может показаться.
А у меня никакой не Джон — ярко выраженный дилетант, злобный и беспощадный. Убить ребёнка! Или того хуже для следователя — убийство, может, даже случайное. Нет следов орудий взлома — убили, так сказать, подручными средствами. Слишком рискованно для опытного человека — среди бела дня пойти на такое, в многонаселённом доме, когда вот-вот могут войти люди. И потом, взяты недорогие вещи, а облигации в незапертом ящике буфета остались. И я не могу припомнить ничего похожего и сказать не могу подобно этому сыщику: «Знакомая работа».
Хорошо это? Плохо! Это хуже!
Может, я долго простоял бы ещё у зарешечённого окна, выходящего во двор отделения, но снова зазвонил телефон. Кто-то из оперативников — не узнал по голосу — просит спуститься на первый этаж: у него в кабинете родственница Ры-тевых, та, что из Минска. Зайдите, говорит, разберитесь с ней. А почему, собственно, разбираться там? Привели бы ко мне! Но, ещё вышагивая по коридору, понял почему. Из-за обитой дерматином двери услышал я всхлипывание и ещё какие-то малопонятные звуки. В углу огромного дивана с ящичками и полочками над спинкой, уткнув голову в колени, сидела эта самая родственница. Лйца её я так и не разглядел на протяжении всего разговора, если можно назвать разговором то, что произошло потом. Она просто ревела в голос, делая небольшие паузы, чтобы утереть обильную влагу подолом коротенького платьица, и безуспешно пыталась натянуть его на колени. Плечи девушки вздрагивали, а плач временами переходил в жалобное повизгивание.
Перед ней стоял растерявшийся пожилой оперативник. Он было попытался что-то объяснить мне, но безнадёжно махнул рукой и вышел. Уже из-за двери донеслось: «Не по мне это!» Я остался наедине с повизгивающим существом.
Минут десять прошло, прежде чем удалось узнать, как зовут её. Тоня. Ещё столько же времени Тоня пыталась сказать, что живёт в Минске и учится в школе медсестёр. А уж на выяснение вопроса, когда и зачем приехала в Москву, я потратил- столько сил, что сам в изнеможении опустился на диван.
Как мог успокаивал я эту девочку — гладил по голове, бормотал какие-то не очень, видимо, убедительные слова. Тоня затихала на мгновение, но стоило мне задать очередной вопрос, как всхлипывание и повизгивание разражались с новой силой.
Я вскакивал, бежал к окну, потом к столу, и вес начиналось сначала.
Наконец терпение иссякло, и я, грешным делом, накричал на неё, сам понимая, как это глупо, но уже не в силах сдержаться. «Распустила нюни большая уже дома наревешься мне работать надо » И дальше $ том же духе, столь же убедительно и столь же результативно. А стало ещё хуже. Подол вовсе промок от слёз, и уже ни одного сухого места на моём носовом платке. А всхлипывала и повизгивала она тем активнее, чем больше старалась сказать что-нибудь Членораздельное.
Промаялся я бог весть сколько времени, но пришлось всё-таки ретироваться не солоно хлебавши. Слава богу, хоть одно понял, и, кажется, единственное, что могла сообщить она: Илью встретила на лестнице ещё с каким-то мальчиком, вернулась в квартиру, чтобы показать, где стоит суп и второе. Потом ушла и до самого вечера ходила по магазинам со своим товарищем, тоже из Минска. Сейчас он ждёт в коридоре. Не густо.
Я разыскал сбежавшего оперативника и попросил ещё разок поговорить с ней и её приятеля допросить. И записать всё. Он тоскливо посмотрел на меня и понуро направился в комнату, откуда с прежней силой доносилось всхлипывание вперемежку с повизгиванием.
Ну что ж, пусть и здесь никакого просвета, а всё равно машина заработала на полный ход, и мне кажется — наладилось дело. Результатов нет? Так и времени прошло совсем немного — чуть больше суток. Ещё ничего определённого, ничего более определённого, чем в первые часы. Откуда тогда надежда, уверенность откуда? Не знаю. Наверно, это называется таинством профессии. Нет, нет, я не знаю ничего более того, о чём уже рассказал. У меня нет никаких особых личных приёмов или примет, но я почти никогда не ошибаюсь в ощущениях — раскроется преступление или нет. Ни с кем я на эту тему не беседую и не размышляю об интуиции, предчувствиях и прочих неосязаемых вещах. Мистика это, и я сам сказал бы так. А всё равно знаю — раскроется. Потому что ощущение это рождается не просто так, из каких-то неведомых глубин, когда и объяснить нельзя. Хотя могу попытаться. Только это никого ни в чём не убедит. Я не объяснять буду, а придумывать объяснения. И мало-мальски разбирающийся человек tie поверит — хорошо объяснять, когда дело сделано, когда всё позади. Можно осмыслить, выстроить последовательно и логично, прокомментировать. Рассказать, почему это насторожило, а то — ничуть не обнадёжило, почему ты сделал именно так, а вот этого делать не стал, и из каких таких признаков родилась уверенность в конечном успехе следствия. Лучше поговорим об этом в следующий раз, на той стадии, когда ещё ничего не известно и нет даже подозреваемых.
Позвонил из МУРа Перковский — первый результат наших мероприятий по химчисткам. В одну из них два часа назад молодой человек сдал плащ с окровавленной полой. Уже успели проверить — в квитанции указан его подлинный адрес. Это двадцатипятилетний механик по холодильникам, судимый в прошлом за кражу. Интересно. Живёт в четырёх трамвайных остановках от дома Рытовых — тоже примечательно. Ну так как же твоя интуиция? Не он. Это наивно: совершить убийство, перепачкаться кровью, а назавтра преспокойно нести плащ в химчистку. Не он. Тогда скажи Перковскому, что отправлять на экспертизу плащ не нужно, потому что парень не имеет к нам никакого отношения. Ну скажи так. Ничего подобного — срочно на экспертизу, и сделать анализ крови как можно быстрее, и самому проследить
Зашёл эксперт-криминалист, говорит, нужны контрольные отпечатки пальцев всех членов семьи убитого мальчика. Малоприятная перспектива, но надо. Кроме того отпечатка, на холодильнике, обнаружили ещё шесть. Три пригодны для идентификации, как у нас говорят, то есть для сравнения с отпечатками будущих подозреваемых: на дверной ручке, на тарелке с бутербродами, у замочной скважины платяного шкафа. Уже известно- — оставлены они не Ильёй. Так, может, кем-нибудь из домашних? Придётся проверять.
Я распорядился.
Сколько сейчас времени? Два часа. Пообедать бы. Где-то неподалёку есть столовая, насколько помню. Два часа. Кончилась первая смена в школе. Какой обед! Вот-вот опять хлынет поток мальчишек и девчонок, и снова начнётся в отделении содом и гоморра. Ну конечно, вон что в коридоре творится!
Позвонил Брухтию. Он отозвался, как все старые милицейские:
— Брухтий слушает
— Брухтий, где этот парнишка, глазастый такой, ну про машину говорил который, как его? Да, Пименов. Насчёт машины узнали что-нибудь? Я же просил. Пробуете? А парень где?
Отлично, будет в три. А Фельдман Алик уже ждёт. Отлично.
Ничего интересного испуганный парнишка Алик Фельдман мне не поведал. Дружил с Ильёй, играли вместе. Последний раз видел его вчера в школе, договорились играть в футбол Всё то же. Потом Алик заговорил про марки — вместе с Ильёй собирали, — вытащил самодельный альбомчик с картонными карманчиками, увлёкся, показывал мне цейлонские марки, говорил, что собирает сериями и вот двух цейлонских не хватает. И так сокрушался, что впору было посочувствовать. Я ничего не понимаю в марках, но у Алика действительно были красивые — большие и маленькие, с пальмами и пагодами, квадратные и продолговатые. Про какой-то редкий каталог толковал мне Алик, полез за ним в карман. Я сказал, что не надо каталога — в другой раз.
Алик внимательно прочитал протокол допроса и в одном месте поставил необходимую запятую, взглянув на меня, как мне показалось, укоризненно. Я чуть было не пустился в объяснения по поводу спешки и невольной ошибки, но устыдился и промолчал. Нехорошо получилось. А вот учительница его, присутствовавшая при допросе, аж на стуле заёрзала, увидев такое «чинонепочитание», но тоже, слава богу, промолчала. Не хватало, чтобы она сделала ему замечание!
Это, пожалуй, впервые в жизни, нет, не ошибки, а когда так «приложил» меня свидетель, да вдобавок семиклассник. Я даже обрадовался, когда за ним закрылась дверь.
А коридор опять полнешенек.
— Пименов здесь?
И сразу наступила тишина. Десятки глаз обратились в мою сторону. Этакая немая сцена. Мальчишки и девчонки замерли, кто где оказался, взрослые подобрались.
— Здесь Пименов. Я сейчас. — Гена сунул портфель соседу и шагнул ко мне. — Здравствуйте.
Я пропустил его в кабинет, а сам замешкался у двери, прилаживая скрученную жгутом газету, чтобы не открывалась.
Не дожидаясь моего приглашения, Гена устроился на стуле, и, пока я шёл через весь кабинет, доставал протокол допроса и разыскивал авторучку, опять исчезнувшую непостижимым образом, он осмотрел помещение — стены, зарешечённое окно.
преклонного возраста канцелярские столы и улыбнулся мне как старому знакомому.
Вот сейчас начну очередной допрос. Очередной. Даже посчитать невозможно, сколько было их за всю мою. жизнь в прокуратуре. Заполнил анкету. Пименов Геннадий Лаврентьевич. Гена ухмыльнулся — ещё никто, видно, не спрашивал у него отчества. Год рождения. Где родился. Кто родители.
А теперь собственно допрос. И кажется, первый по-настоящему важный. Он не понимает этого — мальчик ещё, и не сможет толком рассказать обо всём, что знает, всё, что мне от него узнать нужно. Я обязан сам дойти до этого, расковать его, заставить забыть, что перед ним следователь и речь идёт о тяжком преступлении. Мне ведь нужно не просто услышать показания, но прочувствовать их, вовремя понять, о чём ещё следует спросить, куда направить ход его мыслей, за несвязанными порой фразами уловить суть.
Вот что такое допрос. А как это делается, откуда рождается контакт между людьми, впервые встретившимися, тот контакт, что даёт возможность не просто выслушать друг друга, но понять? Не знаю, не могу объяснить. Знаю только, что сейчас мне необходим этот контакт, необходим удачный допрос: судя по всему, интересен Гена Пименов информацией, которую несёт. И я должен исчерпать её. Мы просто будем разговаривать. Порассуждаем о том, как поступили бы в том или другом случае и как вроде бы должен был поступить Илья. Пофантазируем и попробуем прикинуть, почему Илья сделал то-то, а вот этого не сделал. Почему, например, не впустил Гену в квартиру и не вышел играть в футбол, хотя обещал. Я буду вслух строить версии и сам опровергать их или наоборот — подтверждать. Короче, делать то, что именуется допросом и что так не похоже на традиционный в представлении непосвящённого человека допрос. Быстро научиться этому нельзя.
Это приходит с годами, если вообще приходит.
Не время сейчас для размышлений, ну, а всё-таки: что может взять молодой следователь за образец профессионального поведения? Взахлёб прочитанные детективные романы, авторы которых в большинстве Своём и допроса-то настоящего не видели? Кино?
«Лицо следователя было непроницаемо. Короткие вопросы сыпались, как удары бича. Растерявшийся свидетель не мог уйти от них. Губы его невольно лепетали именно то, что тре-
бовал этот мрачный человек. «Курите!» Рука с массивным серебряным портсигаром метнулась через стол »
Я вот тоже попробовал однажды резко протянуть портсигар, но он выскользнул из потной руки и грохнулся иа пол. Мы одновременно наклонились и стукнулись лбами. Ох как это было смешно! Потирая ушибленные места, лазали мы по полу и собирали папиросы. В позе моей не было ничего героического, уж можете поверить. Стряхнув пыль с колен и усевшись на свои места, мы долго ещё не могли подавить улыбку. Так исчезли свидетель и следователь — в кабинете сидели два человека. Это был, наверно, мой первый удачный допрос. А портсигар и поныне лежит в ящике стола как талисман.
Было так, было и по-другому. А как сейчас получится?
— Давай, Гена, прямо к делу. Почему Илья раньше тебя ушёл из школы? Спешил? Вы ведь, помнится, вместе ходили домой?
— Не всегда. Вроде не спешил. У меня шнурок лопнул на ботинке. Пока возился — все ушли. Думаю, не спешил он.
— А ты специально догонял его?
— Шёл, как всегда. В подъезде увидел. Только стали подниматься, девушка какая-то навстречу. Говорит: Илюша, мама велела показать, где обед, пошли, говорит, покажу. Илья сказал, что это их родственница, а сверху крикнул, что зайдёт ко мне.
— Как выглядела эта родственница? В чём одета была? Не приметил?
— Нет, разве запомнишь! А вы не нашли её, Сергей Александрович?
— Откуда знаешь, как меня зовут?
Гена удивлённо поднял глаза.
— Вы же сами сказали вчера. Забыли? Когда меня этот ваш пожилой допрашивал?
— А, Брухтий! Ты прав. Сколько времени было, когда встретились в подъезде?
— Давайте посчитаем. Уроки кончились в двенадцать часов. Идти от школы минут пять. Пока собрались, пока что — ну десять минут первого было, может, пятнадцать.
— А через сколько он к тебе пришёл?
— Ещё минут десять прошло, не больше. Что-то он торопился. Говорит, ты иди во двор, а я выйду скоро. Я совсем немного дома побыл, поел и пошёл. Думаю, дай зайду за ним. Позвонил. Он открыл и остановился в дверях, даже рукой
вход загородил. Вот я покажу, хотите? — Гена вскочил и направился к двери, но я остановил его. — В общем, загородил он дверь: иди, говорит, сам, я скоро. Вот тут, понимаете, я и услышал этот самый звук. — Гена взъерошился и привстал.
— А что за звук?
— Ну вроде сдвинули что-то с места, вроде скрипа. Из комнаты. Но громко. Я говорю: что это у тебя там? Родственница? А он говорит — никого нет, ушла она, говорит. Это, наверно, из другой квартиры. И как-то всё торопил меня уйти.
— Выходит, кто-то был у него, так, что ли?
— Был, точно был. Я слышал!
— Кто же это, а? Родители на работе, брата тоже дома не было. Сестрёнка в детском саду.
— В детском саду, ага. Кто был? Вот и я думаю — кто?
— Ну хорошо, куда потом пошёл?
— Я? Во двор пошёл.
— Сразу?
— Нет, не сразу.
— Заходил куда-нибудь?
— Я? Я ходил к товарищу.
— Где живёт?
Мне вовсе не интересно было знать, куда ходил Гена и где живёт его товарищ. Мне просто необходимо подойти к тому моменту, когда он увидел «Волгу» у себя во дворе. Я достаточно хорошо помнил его прошлые показания.
— Так где он живёт, говоришь? Не торопись только, я не успеваю записывать.
— Он живёт в Болотном переулке, дом одиннадцать. Сева Чувахин.
— И долго ты был у него?
— Не застал. Мама его сказала, не приходил ещё.
— Сколько же ты на это времени потратил?
— Ну туда минут десять, обратно
— А «Волгу» когда увидел?
— Почти сразу, как пришёл.
— Значит, так, давай посчитаем. Догнал ты Илью в подъезде примерно в двенадцать пятнадцать. Так? Минут через десять он пришёл к тебе и был у тебя столько же. Значит, двенадцать часов тридцать пять минут. Потом ты заходил к нему — пять минут потратил, не больше. Так. К Чувахину сходил — я не перепутал фамилию? — туда и обратно двадцать минут. И сразу же этих троих увидел, на «Волге» которые, да?
Выходит, было это в тринадцать часов, ну в час дня, иначе говоря. А через сколько после этого дым пошёл из окна?
Пока я говорил, Гена, приоткрыв рот, в уяор глядел на меня. Потом громко глотнул.
— Может, минут пять прошло Значит, что же выходит, Сергеи Александрович, выходит, эти ну эти люди пришли к нему не позже чем без двадцати час?
— Это почему?
— Потому, что я в это время к нему приходил и звук слышал. Поняли?
Ишь ты шустрый какой! Я пишу и в протокол заглядываю, а он на память! Ну давай поиграем в сыщиков!
— а ушли не позже чем в час дня.
— Почему так?
— Я сам видел этих троих в час. Сам видел!
— Думаешь, они?
— Они! Неужели не понимаете?
— Ладно, давай про них.
— Давайте, вот и я говорю — давайте. Значит, так, было их трое. Вышли из подъезда — и за угол. Я тоже туда. Думаю — что за люди незнакомые? А они — в машину. Сейчас я вам расскажу. — Гена поднялся из-за стола, вот-вот начнёт декламировать. — Значит, «Волга» такая: коричневая, весь низ коричневый, а крыша посветлее, светлая в общем. Впереди посредине — фара жёлтая на ножке. Сели они и быстро поехали. Давайте нарисую, куда поехали.
— Не надо рисовать, я так пойму.
— Поехали они мимо клумбы, между нашим и четвёртым корпусом и по дорожке прямо, там, где бойлерная, прямо и поехали в сторону парка. Вот как было!
Силён! Даже фару жёлтую заметил. И время помнит! Силён мальчишка!
— Так что же это за люди были? Расскажи-ка ещё разок.
— Трое, значит. Один чёрный — волосы чёрные и куртка чёрная с погончиками и с поясом. Он самый низкий из них был. Второй в сером пальто коротком и в кепке серой. А третий тоже в куртке, но в коричневой, прошитой такой, клетками. Свёрток он нёс, в газете что-то.
— Запомнил?
— А чего же, запомнил!
Удивительно! Я бы не запомнил. Видел-то он их минуту, не больше и не должен был придать значения, зачем ему. Ну незнакомые, и всё. А запомнил всё-таки! Вот что значит молодой.
Пока хорошо. Только приметы у этих троих какие-то неопределённые. Мало ли в Москве в куртках да в полупальто серых! Поконкретнее бы! Что-то было, по-моему. Ах да, шрам.
— Гена, помнится, ты говорил про шрам?
— Был. На щеке.
— А поточнее?
— На щеке, на левой. Вот тут. — Гена провёл пальцем под своим ухом. — Здесь. — Потом заёрзал на стуле: — Сергей Александрович, можно, я выйду на минутку?
— Иди. Знаешь, куда?
— Знаю,’ знаю. — Гена улыбнулся и шмыгнул из комнаты.
Так, так, так Эти трое действительно интересны. Надо
поточнее расспросить Пименова и действовать немедленно.
Я поленился спускаться на первый этаж и позвонил Перковскому по телефону.
— Алексей Афанасьевич? Базаров беспокоит Нет, пока ничего. А у вас? Плохо. Я вот по какому поводу: вроде есть интересные данные насчёт троицы одной. Потом расскажу. Приметы любопытные — шрам у одного под ухом, возраст приблизительно известен и как выглядят. Надо попробовать? Я через полчасика позвоню, вы не уходите и приготовьтесь, пожалуйста. Что — под каким? А, под каким ухом? Кажется, под левым. Проверю сейчас.
Проверю, проверю Но я же записать ещё не успел! Как проверить? Вроде Гена сказал — под левым. А я ведь могу в прошлом протоколе допроса посмотреть! Вот «Сзади шёл низкого роста парень в коричневой стёганой куртке, в серой кепке. У него на правой щеке, на уровне середины уха, большой шрам». На правой? На левой же. Что такое?
— Алексей Афанасьевич, я позвоню чуть позже, ладно?
Ну-ка, ну-ка, как Пименов первый раз о них говорил Брухтию? «Впереди шёл парень 22 — 25 лет. Чёрные волосы, высокого роста, широкоплечий, в чёрной куртке с погончиками и поясом».
Так вроде Гена сказал, что он самый низкорослый? А тут — высокий!
«Второй был меньше ростом, того же возраста, в пальто выше колен, серого цвета, без головного убора, волосы короткие, светлые, блестящие. Он нёс свёрток из газеты».
Свёрток? Он был у третьего. Именно так говорил Гена.
«Сзади шёл низкого роста парень в коричневой стёганой куртке, в серой кепке. У него на правой щеке, на уровне середины уха, большой шрам».
Но» я точно помню, что на левой! Полная каша.
Появился Гена.
— Так на чём мы остановились, Гена? На шраме?
— Шрам был у одного. Вот здесь. — Он снова провёл рукой под левым ухом.
— Точно?
— Точно.
— Ну тогда давай запишем поподробнее.
И мы стали писать. И получилась неразбериха. Всё кувырком — и не так, как рассказывал он мне, и не так, как рассказывал на первом допросе Брухтию. Тот, что был блондином, оказался брюнетом. Тот, который первым шёл, вдруг стал третьим. И шрам не у того, и не на той щеке, и свёрток нёс, оказывается, не тот. Договорились!
В чём же дело? Детали путает или всё придумал? Зачем? Фантазёр? Похоже, но не до такой степени! Мальчишки любят играть в тайны, но здесь-то должен понимать — дело серьёзное. И не маленький — тринадцать лет. Вот незадача!
Придётся проверять его показания.
Я выставил Гену в коридор и снова набрал номер телефона Перковского — занято. Ничего не поделаешь, надо идти вниз.
Алексей Афанасьевич всё ещё говорил по телефону и, когда я вошёл, сделал предостерегающий жест: мол, подожди. Я остановился у стола и прислушался. Судя по его коротким репликам, диктовали сводку за день — где что стряслось. Это продолжалось довольно долго, я начал терять терпение.
Наконец он положил трубку.
— Пока ничего интересного. А со шрамом как? Под каким ухом?
— Подождите, Алексей Афанасьевич, со шрамом. Здесь вот какое дело. Надо срочно послать кого-нибудь потолковее на Болотный переулок, одиннадцать. Там живёт парнишка, Чувахин Сева, запишите: Болотный, одиннадцать, Чувахин. Выяснить у его матери, когда к ним заходил вчера Пименов Геннадий. Они приятели. Было это где-то между двенадцатью и тринадцатью часами. Уточнить. И когда сам Сева объявился дома. Это первое. Второе: срочно узнать у соседей Рытовых, кто видел вчера Пименова во дворе, до пожара. Фамилии соседей можно взять из протоколов — почти все допрошены.
Особенно с мальчишками поговорить надо — они в футбол играли. Вы помните — Корнев, Дробот и ещё там были. Вот всё. Если можно, побыстрее, прошу.
Золотой старик — даже не подумал расспрашивать, зачем, почему. Пока говорил я, чёркал карандашиком, и всё.
— Часа полтора потребуется, раньше не успеем.
— Подходит.
Я поднялся к себе. Гена ждал у двери.
— Давай писать дальше?
— Давайте. — Он деловито устроился против меня и даже локти положил на стол.
Мы начали писать. Всё подробно: и как шёл из школы, и как Илью встретил, о чём говорили, когда этих троих увидел, яро «Волгу» — короче, всё, что он мне рассказал.
На этот раз шрам оказался всё-таки опять на левой щеке, а вот куртки и пальто снова перепутались, и снова эти трое вышагивали не в том порядке, как было в его рассказе четверть часа назад.
Я не поправлял Гену, только переспросил ещё раз в надежде, что скажет: мол, не помню точно, может, и не так шли, может, и одежду не разглядел. Но он настойчиво твердил своё, а когда я умышленно путал, переспрашивая, поправлял меня. Потом внимательно читал протокол, шевеля губами и с трудом пробираясь сквозь дебри моего, мягко говоря, малоразборчивого почерка, и наконец аккуратно написал внизу протокола, что записано с его слов верно и прочитано им лично.
На том и расстались. Я попросил его никуда не уходить, подождать в коридоре. Он кивнул и вышел, засунув газетный жгут в щель двери, чтобы не открывалась.
Потом были другие — совсем неинтересные. Никого они не видели, ничего не знают. Испуганно смотрели на меня во время допроса и с таким же трудом читали протоколы — куцые и совсем пустые: не видел, не знаю, не был.
Прошло часа два, и я уже совсем забыл про Гену, когда позвоннл Перковский.
— Сергей Александрович? Пиши. Значит, так: мать Чува-хина не видела вчера твоего Пименова, её целый день дома не было. Сам Чувахин после школы сразу прибежал домой и до вечера никуда не выходил. Простудился, кашель. Пименова тоже не видел
— Точно?
— Точно, ручаюсь. Теперь так, соседи из дома, где Пименовы живут, ну и Рытовы тоже. Здесь вот что. С некоторыми успели поговорить. Двое сейчас скажу фамилии Доброва и Брызгалова видели этого самого младшего Пименова во дворе примерно за полчаса до пожара. Он бежал вместе с братом ог подъезда. Сумка у них какая-то была спортивная. Ещё один парень бежал с ними, ровесник старшему, лет восемнадцати. Направлялись к автобусной остановке мимо клумбы и бойлерной. Вот так. Старшего брата зовут Константин,. Костя, значит. Работает на электроламповом заводе. Фрезеровщик.
Всё? Как же так? Про брата ничего не сказал Гена. Ещё какой-то парень был с ними.
К Чувахину не ходил вообще, а говорил, что с матерью его разговаривал
Тут я уже не поленился спуститься вниз. Пока вышагивал по лестнице, всё и решил сразу. Значит, так будем действовать: группу оперативников — на завод. Если старшего Пименова нет на работе, выяснить, в какую смену работал вчера, и сразу же домой к нему. Если и дома нет, искать во что бы то ни стало, хоть из-под земли добыть.
Он нужен мне, и немедленно!
Я не знаю ещё, имеет ли он отношение к случившемуся, но вся эта история вдруг как-то мне не понравилась или нет — понравилась. Конечно, понравилась — есть над чем работать! Это не те унылые допросы — был, не был, видел, не видел, — стоящее дело!
Что, уцепился? Нащупал? Не знаю. Может, да, а может быть, разгадка всё-таки там, в этих унылых и скучных допросах. Или ещё в чём. Потом, оглянувшись назад — если всё кончится благополучно, — я с удивлением отмечу, уто не обратил почему-то внимания на то-то, пропустил мимо ушей это и совсем не придал значения ещё чему-то.
И всё-таки
Я даже не могу найти аналогии состоянию, которое охватило меня, пока спускался по лестнице. С чем его сравнить? На что похоже? На что-то далёкое, из школьных времён? Вот сейчас стоит напрячься, и будто не прошло двадцати лет, и не тогда, а вроде сейчас бьюсь над задачей, обыкновенной задачей по арифметике, а она не получается, хоть умри. И вдруг неожиданно охватывает тебя уверенность: сейчас придёт решение, ещё шаг, ещё строчка, ну вот! И решение действительно приходит. Приходит! Это как в футболе. Есть у болельщиков примета: если мяч побывал в сетке, а гол не засчитан — быть голу всё равно.
Ну вот, привезут этого самого Костю, привезут, никуда не денется. И буду я разговаривать с ним, допрашивать. А каков Костя, что за парень? И виноват ли, знает ли что? Допустим, знает. Но тогда и Гена знает — вместе бежали от подъезда. И молчит! Да что там — просто лжёт! Почему? Чего боится?
Может, с ним самим поговорить? Нет, с ним потом, сначала с Костей, это ясно.
Что же это всё-таки за Костя? Ошибаться мне нельзя. Здесь всё должно решиться сразу — да или нет, чтоб никаких сомнений. А то ведь упустить ниточку ничего не стоит — ищи потом ветра в поле, работай вхолостую. Нет, нельзя ошибаться. Но я не очень-то готов к разговору с Костей, ничего не знаю о нём и времени нет, чтобы узнать. Ориентироваться придётся с ходу. И сразу принять нужный тон, и чтобы не уловил он степень моей осведомлённости, и не попасть впросак каким-нибудь неосторожно обронённым словом.
Вот знать бы, что за человек Костя, как поведёт себя, насколько готов к встрече со мной! Люди-то по-разному относятся к своим показаниям, особенно если виноваты или что-то хотят скрыть. Это я давно знаю.
Одни просто боятся, что следователь не поверит. С ними просто: их достаточно убедить, что не веришь и что недоверие обоснованное. Эти быстро сдаются. Хорошо бы, и Костя из таких. А если нет? Сколько раз встречался я с людьми совсем другого сорта! Как правило, опытные преступники хорошо разбираются в юридической технике. Вот с ними намаешься! И маялся, и не раз, и очень хорошо помню первую встречу с таким. Наверно, и запомнил потому, что она первой была и буквально ошеломила меня.
Это был вор, за плечами которого, как принято говорить, висело, не одно дело. Вор-рецидивист. Он уже отбывал наказание за квартирные кражи, вышел недавно и снова попался. Я тщательно подготовился к допросу — детально изучил дело, продумал все ходы и аргументы, чтобы преодолеть возможное запирательство, и шёл в тюрьму для первого разговора, совершенно уверенный в том, что это будет лёгкая прогулка и короткий успешный допрос.
Я хорошо помшо этого пария. Высокий, холёный, с приятными чертами лица и длинными пальцами музыканта; он ещё от двери посетовал на несвоевременность моего прихода. По радио, видите ли, передают сонату до-диез минор Бетховена (не «Лунную» сказал, как принято называть у неспециалистов, а именно до-диез минор), и я помешал дослушать. Бросилось в глаза, что на этом любителе музыки дорогой добротный костюм со складками на брюках, значительно более выраженными, чем на моих. То ли не успел измять, то ли умудрялся в тюрьме как-то приводить в порядок, но факт остаётся фактом — в брючном смысле преимущество его передо мной было бесспорным.
Я обрушил на этого типа все подготовленные заранее аргументы и, кажется, был красноречив. Только он вежливо прервал меня: «Не надо мучиться. У вас же время на вес золота. Я знаю, что в этой папочке, — он указал на дело, — три, как вы выражаетесь, моих эпизода, и слава богу, что не больше. Так давайте сразу внесём ясность: вы мне скажете, какие есть доказательства, а я посмотрю, что признать. Не полезу же на гладкую стену — доказано, значит, всё. Ну, прошу».
Мы долго сидели и, как два специалиста, горячо обсуждали убедительность доказательств. Я цитировал предполагаемую речь прокурора и приводил возможный ход мыслей судей, а он демонстрировал фрагменты будущей речи защитника, особенно упирая на те, которые должны внести сомнение в убеждённость тех же судей. И будь рядом слушатели, не знаю, на чью сторону встали бы они.
Кончилось тем, что одну кражу он признал, и мы всё подробно внесли в протокол. Когда же речь заходила ещё о двух, тоже не отрицал своего участия и даже рассказывал детали, мне не известные; но только я брался за ручку, он лениво цедил сквозь зубы: «Нет уж, вы докажите и эту, без меня, как первую, тогда запишем, а не докажете — пусть суд решает. Я признавать не буду».
Когда допрос был завершён, он ещё долго похвалялся другими своими художествами, о которых я и понятия не имел — а может, их не было вовсе, — и в заключение сказал, глубокомысленно повертев пальцами над головой, что эти разговоры — всего лишь звуки, пустое сотрясение воздуха, к делу их не пришьёшь.
Приятно побеседовали, и ладно.
Он издевался надо мной, а я, как ни мучился, ничего сделать не мог. Доказательств действительно было маловато, а добавить так и не удалось.
Этот тип долго ещё не выходил у меня из головы с его цинизмом, вежливой дерзостью и аккуратными складочками на брюках.
А каков Костя Пименов?
Вот так перед каждой ответственной встречей я не могу вытравить в себе привычку настраиваться, анализировать, уходить в воспоминания, пытаться представить будущее. Я не могу отучить себя волноваться, хотя такие встречи — мои будни.
Его привезли довольно быстро. Высокий худощавый парень. Волосы коротко пострижены и спущены на лоб, чуть оттопыриваются уши и такие же, как у брата, большие серые глаза. Держится развязно, демонстрирует спокойствие, а может, действительно спокоен. Стоит, чуть отставив ногу, ссутулившись слегка и засунув руки в карманы расклёшенных книзу брюк, — в типичной позе завсегдатая подворотен. Так и почудилось, что зазвучит откуда-то гитара, и рядом с ним в таких же странных позах окажутся ещё несколько фигур. Так же будут стоять, не глядя друг на друга и вроде созерцая что-то в себе, сдержанно-гордые оттого, что вот рядом гитара, такая модная ныне, хотя им это привычно и безразлично поэтому.
Я попросил оперативников выйти и оставить нас вдвоём. Потом стал перебирать бумаги на столе, поглядывая время от времени на Костю. Он тоже косился на меня украдкой и тут же отводил глаза на носок башмака, будто наиболее интересным Ъ комнате был этот самый башмак.
Помолчали.
— Садитесь. Вот сюда.
Костя сел, облокотившись на колени и подперев кулаками подбородок. Смотрел он куда-то мимо меня. Только бисеринки пота выступили на лбу.
— Так, Константин Лаврентьевич. Хорошо. Что вы знаете, Константин Лаврентьевич, о вчерашнем происшествии в вашем дворе?
— Ничего не знаю. Рассказывали только.
— А где был в это время?
— На работе был. Можете проверить.
— Ушёл из дома когда?
— В семь пятнадцать. Смена с восьми.
— А вернулся?
— Около пяти.
— - И домой не приходил днём?
— Нет.
— Значит, видеть тебя во дворе никто не мог? Так?
— Не знаю! — огрызнулся Костя.
— Что значит — не знаю? Если ты там не был, и видеть не могли.
— Выходит.
— Ладно, положим. И Гену тоже не видел днём, брата своего?
— А что он?
— *Он? Ничего. Я у тебя спрашиваю — значит, его не видел?
— Значит, так.
— А так ли, Костя?
— Так! — Он повысил голос.
— Чудеса!
— Ну и пусть чудеса!
— Ты же взрослый человек. Сколько тебе?
— Восемнадцать в феврале было.
— Ну вот, уже совершеннолетний. Надо же соображать, когда можно говорить «нет», а когда бессмысленно. Ты был, Гена
— Не было! Не было! Генки не было! Никого не было! — Он уже кричал. На лбу вздулись жилы, пот проступил крупными каплями. Бил кулаками по коленям и кричал: — Не было никого!..
— Вот это уже ни к чему. Кричать не надо. Этим никого ни в чём не убедишь. Нам надо говорить спокойно. А уходил ты с работы или нет, проверяется очень просто. Я сейчас пошлю людей к вам на завод, и они всё выяснят: когда ты пришёл, когда обед, отлучался ли, когда. И всё станет ясно. Верно ведь? А ещё мы уточним у соседей, может, ошиблись они, может, и впрямь не появлялся ты вчера днём. И вопрос будет исчерпан. Зачем кричать?
— Не был я! Что хотите делайте, хотите — сажайте, не был! Пусть говорят — врут они!
— Кто?
— Соседи. Врут!
— Ну зачем же так — врут? Они не врут — может, ошибаются? Может, действительно не видели ни тебя, ни Гену, ни
— А где ои?
— Гена? У нас. А что?
— Эх, Рыжий! — Костя уронил голову на руки и стал качаться из стороны в сторону. — Паразит! Трепач!
— Ну вот что, дорогой мой, так дело не пойдёт. Что это за истерика! Возьми-ка себя в руки. Мы же договорились — всё это можно проверить. Сейчас и займёмся. Я приглашу кого-нибудь посидеть с тобой. А потом ещё поговорим.
Внизу у Перковского меня ждали. Человек десять собралось.
— - Не смотрите на меня, ребята, как на именинника. Ничего пока не известно. Занятные парни, но не будем торопиться. Ладно? Кто ездил на завод? Так, отлично. Собирайтесь быстренько и снова туда. Обыск на рабочем месте Пименова. В цеху и в шкафчике для одежды. Он ведь в спецовке сейчас. Значит, его одежда где-то на заводе. Изымите, составьте протокол. Постановление на обыск сейчас дам. И ещё: поговорите с мастером, бригадиром, с рабочими поговорите, не отлучался ли вчера днём. Где обедал, не задержался ли после обеда. Понятно, о чём речь? Это первостепенно. Теперь так,’Алексей Афанасьевич, эти две соседки — как их фамилии, -ну, которые видели Пименовых, — здесь ещё? Отлично, может, очные ставки потребуются. Сейчас выясним, в чём были вчера ребята, — и домой к ним. Тоже обыск. Попробуем найти одежду. Кажется, всё. Ничего не забыл? Ну издавайте, да побыстрее!
Машины на завод и домой к Пименовым ушли. А мне — если ничего не упустил — ждать надо, ждать результатов. Просто потому, что наступил такой момент, когда можно только ждать и ничем не хочется заниматься. И тут навалилась усталость, неожиданно И как-то сразу, такая бесконечная усталость, когда можно только сидеть, уставившись в одну точку, нд о чём не думать, не говорить ничего. А что, собственно, делал? Да ничего особенного. Ни за кем не гонялся, никуда не ездил, тяжестей не таскал, но устал. Знаете, как может устать человек от одного только напряжения, от одного ожидания, от неизвестности?
Вот вернутся ребята с завода и скажут, что никуда он не отлучался, и обедать ходил вместе с товарищами, и с ними же вернулся в цех. Это называется алиби, то есть бесспорное подтверждение непричастности. Могли же ошибиться соседки, и во дворе были вовсе не Пименовы: после такого события что не привидится! И выходит, Костя говорит правду?
Я огорчусь. Будет ужасно досадно — сорвалось! Не получилось. Это нелепо, но я даже обижусь па Костю: ах, как ты меня подвёл! Не причастен! А я было обнадёжился! И обрадуюсь я: чёрт возьми, хорошо всё-таки, что не он! И усталость как рукой снимет, потому что рано уставать, нельзя ещё. Всё сначала придётся или нет — дальше, будто и не было Пименовых.
А если с другой вестью вернутся с завода? Тогда Какая усталость! И была ли? Тогда
Вот сижу сейчас с закрытыми глазами и пытаюсь вспомнить себя — тогда. И не могу. Не могу вспомнить и вернуться мысленно в то своё состояние. Потому, что после было столько событий и впечатлений, потому, что сейчас я уже всё знаю, и всё прошлое окрасилось совсем в иные тона.
Потому, что с завода ребята вернулись
Да, да, вы угадали — и Костя Пименов и Генка причастны к преступлению. И совсем не трудно было сообразить. Правда ведь? Как только появился на горизонте Генка и начал путать, сразу стало ясно. И нечего было метаться, искать, сомневаться. Всё ж как на ладони!
А дальше и вовсе просто: преступление раскрыто, преступники будут наказаны. Чего ещё?
Чего?.
эту ночь я спал совершенно спокойно. Я даже не помню, как заснул — просто прикоснулся щекой к подушке, и меня не стало. И проснулся так же быстро, с лёгким и приятным ощущением чего-то сделанного, и долго наслаждался этим ощущением, не так уж часто посещающим меня. Потом вспомнил, что собирался спать сколько влезет и не спешить на работу. Вспомнил и огорчился, так как на часах всё те же полвосьмого, что в любой будний день, те же, что и по воскресеньям и на отдыхе.
Неохота вставать. Даже глаза открывать лень. Ну хотя бы ещё немного! Ведь заслужил. Но разве уснёшь — полвосьмого.
И на работу опять же следует являться вовремя даже героям и победителям. Сегодня мне кажется, что я чуточку герой и совсем немного — победитель. Я предвкушаю, как позвоню по телефону высокому начальству и деловым будничным тоном отчитаюсь: мол, всё в порядке — раскрыто. Начальство скажет: «Молодец!» А я, подавляя довольную улыбку, отвечу: «Дело-то, в сущности, пустяковое, чего уж — молодец!»
Пустяковое Это когда уже прояснилось. А вчера?.. Так то вчера
Но вот зато сегодня
Нет, всё-таки зря мы проклинаем свою работу — и тяжёлая, и неблагодарная, и нервов стоит и здоровья. А если вдуматься, много ли профессий, когда, как говорят хирурги, эффект на столе? Ну, построили дом — приятно, конечно. Сошёлся у бухгалтера баланс — хорошо. Или водитель троллейбуса приехал вовремя на конечную станцию — нормально. Так и быть должно.
Но вот геолог, когда находит вожделенные признаки искомой породы! Или хирург, отходя на подкашивающихся ногах от операционного стола! Или я, грешный, вышагивающий сейчас по умытым и вроде даже чуть праздничным улицам! Ведь бабушка надвое сказала, найдёт ли геолог алмазы, будет ли эффект на хирургическом столе, раскрою ли я преступление
Должна же существовать какая-то гармония в эмоциях человеческих. Я не про количество вложенного труда и, соответственно, результат. Я про эмоции. Если много души вкладываешь, обязательно должна наступить соответствующая компенсация, та, что вознаграждает и всё время восполняет потери.
Иначе лётчики-испытатсли, альпинисты или хирурги не выдержали бы постоянного напряжения. Но кусок души каждый раз всё равно оставляют — в полёте, на горной вершине, в операционной. И если это не простой пассажирский рейс Москва — Липецк, не склон Эльбруса, исхоженный тысячи раз, и не примитивный аппендицит, если это космос, Эверест млн операция на сердце, — непременно, обязательно должна прийти и радость, так сказать, соответствующего масштаба. Вот в чём, наверно, дело. Иначе лётчик очень скоро не сможет сесть в кабину, альпинист — надеть рюкзак, а врач — взять в руки скальпель. Не смогут они умчаться в космос, пройти над бездонной пропастью или прикоснуться к трепещущему сердцу.
И все, образно говоря, начнут оперировать только аппендицит.
Ну вот и я, маленький человек, взобрался сегодня на вершину своего Эвереста. Пусть не Эвереста, но всё-таки горки порядочной. И мне хорошо! Мне даже кажется, что лучше моей профессии нет на свете. Неблагодарная? Неужели ещё вчера так говорил? Устал, значит, было плохое настроение — я был в пути и мог сорваться. В этом, видно, и прелесть — глядеть с вершины на тот склон, с которого очень даже мог сорваться.
Извините меня, пожалуйста. Извините человека, который чуть-чуть превознёс себя и дело своё. Я же не говорил ничего такого, я просто подумал. И ещё: ярко светит солнце, в троллейбусе нет давки, на прилавке газетного киоска лежит целая груда еженедельника «Футбол — хоккей» и никакой очереди.
Да, сегодняшнее утро щедро расплатилось со мной за двое суток почти без сна и за волнения, которых, право же, было бы слишком для каждого рабочего дня.
Однако праздники — вещь редкая, на то они и праздники. А в коридоре перед моим кабинетом снова полно народу.
На моём участке Пименов Константин работает с августа 1967 года. За время совместной работы проявил себя с положительной стороны и в смысле производства, и в смысле поведения.
Сказать, что он очень старался, я не могу, но норму выполнял и вёл себя хорошо. Никогда я не слышал от него грубости или неуважительного отношения к старшим. Пименов начитанный и развитой парень и в этом смысле отличается от некоторых своих сверстников — всякие ведь попадаются ребята. Вчера он работал в первую смену. Я с утра был в военкомате и пришёл на работу около 14 часов. Бригадир сказал, что не видно Пименова, после обеда в цех не вернулся. Мы поискали его и действительно нигде не нашли, но особого внимания не обратили, так как раньше за ним такое не замечалось. Потом он появился. Было это примерно около 16 часов. Бригадир сделал ему внушение за отлучку. Пименов извинился, но не стал объяснять причину. Он суетился и спешил куда-то. Мы не допытывались.
Перечитав протокол, только что подписанный Романом Ивановичем Ерёминым, Костиным мастером, я долго вертел его в руках, вперив остановившийся взгляд в лист бумаги. Вот и начинает заполняться остов ещё вчера не раскрытого дела. Теперь я знаю, к примеру, когда Костя ушёл с завода и когда вернулся. И так каждый очередной свидетель будет нести новую информацию. Теперь дело техники, и следствие из стадии поиска переходит в стадию оформления — добыть доказательства, выяснить детали и подробности, устранить противоречия. Тоже нелёгкое занятие, но в сравнении с тем, что было, — прогулка.
— Мы что-то не так сделали? — Мастер ткнул пальцем в протокол.
— Нет, всё нормально. Спасибо. Больше вас не задерживаю.
— А что с ним, простите? Натворил что? — И, помолчав, сам ответил: — Натворил. Раз забрали, выходит, натворил. А я всё равно скажу — парень он ничего, не хуже других, вот так и запишите хотя, верно, уже записали. Ну да — Он опять помолчал, как-то осев на стуле и расплывшись. — Будут, конечно, всякое рассказывать. Знаете, как другие считают: что про человека хорошие слова говорить, если оскандалился. Оскандалился — значит, плохой. Вот так, плохой — хороший Сколько их, пацанов, плохих, хороших!.. Всякие. Сегодня с утра проходу не дали — что да как? А я и сам не знаю Ну да, понимаю — нельзя говорить, я понимаю. Придёт время — узнаем.
— Узнаете, конечно.
— Ну, ну, пошёл я. Маета с ними. Слава богу, своих в армию отправил. Желаю здравствовать. — Он натянул на самые глаза потёртую кепку с порядочным козырьком и пуговкой на макушке, помедлил — не спрошу ли ещё чего, потом встал и пошёл к двери.
ПРОТОКОЛ
г. Москва 13 апреля 1969 г.
Ст. оперуполномоченный 1-го отдела Московского уголовного розыска майор милиции Шуров с участием начальника цеха N° 9 электролампового завода Чадновского Ф. Л. и мастера того же цеха Ерёмина Р. И. в соответствии со ст. ст. 178, 179 УПК РСФСР произвёл осмотр помещения цеха. При осмотре под траншейкой металлической решёткой у основания дисковой пилы обнаружена пара чёрных кожаных перчаток ка красной байковой подкладке. Обе перчатки имеют значительные следы обгоракия.
Ст. оперуполномоченный Шуров.
Понятые Чадновский
Ерёмин.
ПРОТОКОЛ
г. Москва 13 апреля 1969 г.
Ст. оперуполномоченный 187 о/м г. Москвы капитан милиции Брухтий в присутствии понятых: Гучкова С. Т., проживающего по адресу Заозёрная ул., 62, кв. 34, и Осиповой В. С., проживающей в том же доме, кв. 41, а также в присутствии Пименовой В. П., в соответствии со ст. ст. 168, 170 УПК РСФСР, на основании постановления ст. следователя прокуратуры М-ского р-на г. Москвы Базарова от 13 апреля 1969 г. произвёл обыск в квартире 12, дома 62, по Заозёрной ул. — по месту жительства Пименова К. Л. и Пименова Г. Л.
При обыске обнаружено:
1. В комнате Пименовых, в нижнем ящике письменного стола, — прибор «Тестер» № 33248 в чёрном деревянном футляре.
2. На антресолях в коридоре — микроскоп М-10 № 3097 с разбитым зеркалом и без увеличительных стёкол.
3. Там же — два реле, набор гаечных ключей, 22 сверла, 16 радиоламп.
4. Там же — череп человека с инвентарным номером 42681, выполненным красителем фиолетового цвета на правой височной кости.
5. В письменном столе — коробка со скальпелями — 8 шт.
6. В платяном шкафу:
а) рубашка в бело-красную клетку с белыми пуговицами и штопкой на правом локте;
б) рубашка белая с выработкой рубчиком и жёлтыми пуговицами;
в) брюки чёрные без манжетов, с «молнией» на заднем кармане;
г) брюки коричневые байковые с надорванным правым карманом;
д) пиджак чёрный однобортный. У края левого рукава два пятна темно-бурого цвета, похожие на кровь, размером 0,5 на 1,5 см и 1 на 2 см;
е) куртка коричневая байковая на «молнии». Перечисленные предметы изъяты и опечатаны. Жалоб и заявлений при обыске не поступало.
Ст. оперуполномоченный Понятые
Брухтий Гучков Осипова Пименова.
Копию протокола получила.
ТАК БЫЛО
Новый, 1969 год Костя и Гена, как всегда, встречали дома. Вера Пантелеевна говорила, что Новый год — домашний праздник. Любой другой можно отмечать в компании, а Новый год — только дома. Так повелось, когда ребята были ещё совсем маленькими. Отец скандалил каждый раз, рвался в гости — за мальчишками бабка присмотрит, но всё равно эту ночь они проводили дома.
И сегодня: тускло светится ёлка, тем более привлекательная, чем дольше пришлось стоять за ней в очереди, комната прибрана, на столе, как говорит мать, что бог послал. Мальчишки в белых рубашках, а сама Вера Пантелеевна в цветном фартуке с оборками и карманчиками. Новый фартук, сооружённый тёткой Розой, тоже непременный признак наступления праздника. Как у любой пожилой женщины, всю жизнь проработавшей и вдруг оказавшейся не у дел после выхода на пенсию, у тётки Розы, сестры Веры Пантелеевны, появилась страсть — шить фартуки. И не просто фартуки, а целые сооружения разнообразных и причудливых фасонов. Одни скорее напоминали модные платья, другие смахивали на сарафаны, третьи, маленькие и кокетливые, делали их владелицу похожей на ресторанную официантку. Тётка Роза строго определяла назначение каждого: в этом стряпать, этот для гостей, а этот на всякий случай, про запас. Загодя, перед очередным праздником, приезжала она с новым куском материи, подробно докладывала, где удалось достать этот премнлепькин и совсем дешёвый материальчик, вертела во все стороны уставшую после работы Веру Пантелеевну и, призывая в собеседники хохочущих ребят, обсуждала очередной фасон. Потом, с натугой поднявшись с колен, говорила, что они дурачки и не понимают, как человеку нужны радости, даже маленькие.
Вот и сегодня, чтобы угодить тётке Розе, Вера Пантелеевна надела очередную маленькую радость и суетливо бегала из кухни в комнату и обратно, пристраивая на столе закуски, жаловалась на холодильник и в который уже раз протыкала спичкой пироги — готовы ли.
А в кухне между мойкой и холодильником на низенькой скамеечке пристроился Егор Сомин, муж тётки Р.озы. Все называли его просто Егор, хотя он тоже собирался на пенсию. Невысокий, толстый, с короткими, почти без ногтей пальцами и удивительной густоты совершенно седым ёжиком волос, Егор напоминал городничего с известных иллюстраций к «Ревизору». Он почти никогда не улыбался, скрывая зубы, — самое примечательное во всей его обыкновенной в остальном внешности. Зубы у Егора были н впрямь удивительные: они выдавались вперёд этаким шалашиком, а между передними верхними вонзился ещё один, лишний, в виде гладиаторского меча двусторонней заточки. Егор говорил, что каждый должен иметь какую-нибудь особенность, иначе его не отличишь от других.
Мне нравилось, как во время наших долгих бесед Костя рассказывал о своей семье. Больше всех он хвалил Егора, только жаловался, что тот очень любит всё объяснять и делает это длинно.
Так вот, в тот вечер Егор, как обычно, вещал, натягивая верхнюю губу на свои музейной редкости зубы. Темой его проповеди было: «Ученье — свет, неученье — тьма».
— Вот я, скажем, кончил техникум после войны. Уже сорок было, сорок, а сидел за партой или там за столом с такими, как ты, Константин. Понял? И ничего! Ученье! Теперь — старший техник АТС. Бывало, днём на работе, вечером в техникуме, а домашние задания — на кухне, когда спят все. — Егор говорил задумчиво, глядя поверх Костиной головы, и послушать его — нет более приятного занятия, чем готовить уроки по ночам после утомительного рабочего дня. — Человек я, кажется, обыкновенный, ничего выдающегося, а себе приятный и люди не жалуются, потому что место своё в жизни понимаю. Потому что мало это — две ноги, два уха и ещё сосуд, где мозги должны быть. Это что? Это позвоночное животное. А чтоб
к человеку приблизиться, нужны ещё и мозги. Ученье! Вот, спрашивается, что такое Геннадий? Эмбрион, зародыш то есть. Положим, в его годы это нормально, только ведь и через тридцать лет с таким усердием он эмбрионом этим самым останется. Ухмыляйся, ухмыляйся, зародыш! Так и проживёшь в темноте и серости.
— Не всем же учёным быть, Егор, кто-то и кирпичи таскать должен.
— Хватил! Конечно, не всем. А выученным, то есть образованным в свою меру, каждый быть обязан. «Кирпичи»! Заяц тоже вон умеет на барабане грохать. Так у него мозгов-то! С чайную ложку!
Ребятам не наливали, разве что красного немного. Костя делал вид, что не пьёт водку — не хотел расстраивать мать.
Сначала было весело. Егор шутил, истории всякие рассказывал, а потом как-то сразу сник и замолчал. Перестал жевать, откинулся на спинку дивана и застыл с открытыми глазами. Пил он немного, но моментально пьянел. И уже известно, что будет дальше: тётка Роза разденет его и уложит на диван, утром он проснётся розовый и весёлый и будет балагурить на тему о том, как хорошо повеселились.
Стало тихо и скучно, и, когда в коридоре раздался звонок. Костя и Генка наперегонки бросились открывать. На пороге стоял Димка Дробот, парень из одного с Генкой класса по кличке «Пюссель». Все ребята в доме знали, откуда эта кличка. Сначала его прозвали Хоботом. Дробот-Хобот. Потом на уроке немецкого языка кто-то вычитал, что «хобот» — по-немецки «пюссель». Так и прилипло.
Подвыпивший Димка стоял улыбаясь, в распахнутом пальто и шапке-пирожке, сдвинутой на затылок. За спиной торчала гитара на бельевой верёвке. Ребята подхватили пальто и шапки н тоже вышли на лестницу. Спустились на площадку этажом ниже, закурили. Генка затянулся пару раз, закашлялся. Помолчали. Потом Пюссель передвинул гитару па живот и стал колотить по струнам топкими пальцами, именно колотить, как личного врага. Костя попробовал включиться в ритм: «Ты-ру-ры-ры,
ты-ру-ры», но ничего не получилось. Пюссель придерживался каких-то одному ему известных законов музыки. Про него говорили, что ждёт, когда гитара сама научит его играть. Толковать было не о чем, делать тоже нечего. Не идти же спать в такую ночь!
— Может, сейчас? А, Кость? Все пьют. — Гепка приподнялся сo ступеньки. — Самый раз. Туда, сюда — полчаса, и всё в порядке.
— А куда денем? Ты узнал что-нибудь? — спросит Костя безнадёжно, будто заранее знал, что ничего Генка не сделал.
— Узнал, говорю, узнал. На Даниловском он каждый день торчит. Сказал — несите.
— Врёшь!
— Вы про что, пацаны? — Пюссель вышел из тёмного угла.
— Да ничего, так — Генка снова устроился на ступеньке.
— Пойдёшь с нами? — спросил Костя, взглянув на Пюсселя.
— Пойду. А куда?
— «Куда, куда»! Язык больно длинный.
— Ну молчу же, сказал. — Пюссель не обиделся.
— Ладно. Мы в школу хотим засалиться. В физический кабинет. На прошлой неделе четыре фотоаппарата «Киев» привезли. Генка сам видел. Стоят в шкафу. И набор объективов, и увеличитель. Понял?
— Нет, а что?
— «Что»! Уволокем. Генка вот договорился с одним хмырём на Даниловском рынке — он возьмёт.
— На чёрта мне это надо! Да ещё в школе!
— «В школе»! Говорил я, нечего этому фраеру знать. «Скажи, скажи»! Вон гляди, трясётся.
— Замёрз и трясётся! Холодно. А как туда-то?
— Всё продумано, — оживился Генка. — В уборной на втором этаже окно знаешь? Не заперто, а под ним крыша спортзала, а туда — по трубе. Всё!
— А если Матвеич увидит?
— Дрыхнет твой Матвеич или пьёт. А то — оторвёмся.
— Как-то всё это Не думал я.
— Ну вот подумай, а то сами пойдём.
И пошли. Все пошли. Гитару спрятали под лестницей
на первом этаже, Костя сбегал домой за стамеской — и пошли.
В окне у сторожа Матвеича свет уже не горел — . было около трёх. Вблизи школы ни души. Она и так стоит на отшибе, а со стороны спортзала и вовсе нетронутый снег. И ни души. Только откуда-то издалека, с улицы, несётся одинокая песня, прерываемая взрывами хохота.
Когда наконец добрались через сугробы до водосточной трубы, Пюссель сказал, что дальше не пойдёт — здесь будет стоять и караулить.
Костя засуетился и занервничал:
— Нечего здесь делать! Давай, давай, на крыше у окна постоишь, мы передадим.
Пюссель сник и присел на корточки, вроде хотел быть менее заметным на фоне ослепительного снега и белой стены школы.
Первым полез Генка. Он взобрался на Костины плечи и, как обезьяна, стал карабкаться по трубе. Потом, изловчившись, уцепился за что-то на крыше и закинул одну ногу. Влез. За ним полез Костя. Ему было легче — Генка подтянул за руку. Присели на крыше, стали ждать Пюсселя. Прошла минута, другая. Всё ясно — не полезет.
Как и пообещал Генка, окно открылось легко, и первая и вторая рама. Сначала побежали на первый этаж: там у входа в тумбочке должна быть связка ключей — не оказалось. Поднялись на четвёртый — конечно же, дверь физического кабинета заперта.
Костя хлопнул себя по коленям и окрысился на Генку:
— Спрашивал же про ключи! «Будут, будут, всегда там лежат»! Ну, что теперь?
Попробовали отжать дверь стамеской — где там! Стамеска даже в щель не прошла. Возвращаться? Ну подожди, Генка, змей, дома всё получишь!
И Генка понял, что получит.
— Давай в соседний, там химический.
Дёрнули — тоже заперто, и тоже плотно сомкнуты створки. Тогда начали без разбора дёргать все двери подряд, но только одна, последняя на этаже, поддалась — видно, не были опущены шпингалеты и створки удерживались одним ригелем замка. Уцепились вдвоём за ручку, раскачали. Дверь распахнулась. Генка сразу
даже не помял, какой это кабинет, но первым вбежал туда.
Потом, когда он сам рассказывал мне эту историю, о происшедшем в следующее мгновение умолчал. А в следующее мгновение весь этаж, а может, и всю школу, огласили его прерывистые вопли. У Кости подкосились ноги, он еле устоял. Генка вылетел из кабинета, будто им выстрелили из рогатки, ухватился за отвороты Костиного пальто, дико тараща глаза, не в силах ничего, сказать, только губами шевелил. Костя оттолкнул его и заглянул в кабинет. Да, было от чего орать: в углу, между двумя шкафами, как в средневековой нише, стоял скелет, освещённый мертвенно-серебристым светом луны. Настоящий скелет. Самый настоящий скелет — учебное пособие.
Наконец разобрались. Перевели дух. Генка хохотнул, заискивающе глядя на Костю. Пошарили по кабинету. Зачем открутили проволочки, которыми череп крепится к скелету, объяснить не смогли. Что искали в ящиках и шкафах? Да ничего они не искали — что подвернётся. Подвернулись два микроскопа, какой-то прибор в чёрном футляре, на крышке которого золотым тиснением было написано «Тестер», ещё прихватили скальпели, целую коробочку.
Дверь кабинета так и не закрыли, и снова через окно на крышу спортзала.
Долго шёпотом звали Пюсселя. Наконец он появился откуда-то из-за угла.
— Лови, только не дрожи!
Костя бросил вниз череп. Пюссель поймал, но, видно, так трясся, что, не разглядывая, положил на снег. Коробочку со скальпелями бросили прямо в сугроб. Потом устроили совет: как быть с микроскопами? Бросить — -разобьются. Наконец порешили и спрятали за пазуху под рубашки. Холодный металл ожёг животы. Терпели. По трубе спускались в том же порядке — сначала Генка, потом Костя. На предпоследнем костыле, удерживавшем трубу, Генка оставил варежку. Добравшись до этого места, Костя сдёрнул её, но не удержался на одной руке и грохнулся вниз. Хорошо, что невысоко было — устоял на ногах, только ремень не выдержал, и микроскоп провалился глубоко в сугроб. Раскопали.
Домой бежали той же дорогой. Микроскопы несли Костя и Пюссель. Генке достался череп и коробочка со скальпелями.
И вот почти всё это было обнаружено при обыске у Пименовых — один микроскоп без оптики с разбитым зеркалом, череп, скальпели. Второй микроскоп Дробот утопил в проруби.
У меня в кабинете этот самый Дима Дробот плакал. Вошёл с отцом и сразу же захлюпал носом. Вполне благообразный мальчик, причёсанный так, что лишь по одежде можно было определить — мальчик.
Я выставил его в коридор, отцу предложил стул. Он засуетился, долго отказывался, потом сел и начал нервно мять пальцы, приговаривая вполголоса:
— Это ужасно! Просто невероятно! У нас же свой дома микроскоп хороший. Нет, это ужасно!
И я узнал, что отец Дробота микробиолог, кандидат наук, и у них дома действительно есть отличный микроскоп и Диме разрешено им пользоваться. Зачем ему другой?
И ещё я узнал, что Дима ни в чём не знает отказа, как говорится, сыт, одет, обут. Есть у него и фотоаппарат, и велосипед, и всякое такое. В доме не принято даже говорить, что чужое брать нельзя, — это подразумевается. Мальчика приучали к щепетильности в отношениях с людьми и вещами. Пообещал — исполни, взял — верни. Послушать этого взволнованного, потерявшегося человека — не обыкновенный парень его сын, а этакое лекало, по которому надлежит выкраивать идеальных подростков: и послушный, и трудолюбивый, правдивый, честный и бог весть ещё какой.
— Это недоразумение, говорю вам! Это невероятно!
Он не защищал, нет, он недоумевал, потому что парень, наверно, и впрямь никогда не брал чужого, слушался старших, исправно говорил «спасибо», «спокойной ночи», добровольно чистил зубы и учился хорошо.
Как было бы просто, если бы всё наоборот, если бы таскал из дома, хулиганил, прогуливал и грубил родителям. Логично: сначала из дома, потом из школы, сначала хулиганил, потом начал красть — всё объяснено. И я со спокойной совестью мог бы выложить привычный набор нравоучений — проглядели, упустили, и какие там ещё слова.
Только Дроботу сейчас не до педагогических изысканий.
Ему сейчас очень плохо. Его сын — уголовник! Его сына, чего доброго, посадят в тюрьму! Его сына! Единственного! Как быть? Смягчать? Выручать? Защищать?
Эй вы, те, кто бездумно или обдуманно берёт, что плохо лежит, или, оглушив себя спиртным, затевает уличную драку, шш да мало ли как ещё можно преступить закон, представьте себе хоть на минуту своих родителей! Вам не стыдно, так вспомните о них! Вам не страшно — о них подумайте! Подумайте, какие муки стыда, страх какой испытывает сейчас Димкин отец. Какой леденящий ужас охватил его мать, как мечется она по квартире, собирая последние силы, чтобы не броситься вслед за ним — спасать. У неё нет других слов, нет другой мольбы, только одно — пощадите сына!
Ну вот, мы и замолчали. Спасибо, хоть не стал он спрашивать, чем всё это кончится для Димы, и нельзя ли на первый раз не так уж, может, это всё Дробот поднялся со стула, за что-то благодарил меня и только от самой двери сказал:
— Один всё-таки вопрос, простите, с этим соседом нашим, с мальчиком Дима тоже?.. Фу-ты! Думал, не дойду до вас. — Он помялся, глядя куда-то поверх моей головы. — Я не знаю, что вы с ним сделаете, с Дмитрием, нам упрекать себя не в чем — старались в меру сил. Теперь пусть сам. Мы с женой попробуем пережить это. Иначе станет выродком.
Пустячный повод для такой трагедии? Подумаешь, в школу забрался, какое-то барахло утащил! Первый раз, характеристики хорошие. Стоит ли волноваться? Так вот, может, это самый решающий момент в жизни Димы Дробота, во всей его жизни. Может, сейчас решается — быть ему человеком или действительно станет выродком. Не в микроскопах дело, не в черепах — в нём!
— Зачем полезли в школу?
— Не знаю, мне ничего не нужно. — Дима запнулся и опустил мокрые глаза. — Я же не полез.
— Струсил, наверно.
— Нет, не струсил.
— Ничего не нужно? А понадобилось бы — полез?
Дима помолчал, испуганно и просительно глядя на меня.
Что сказать? Как объяснить? Отца рядом нет. Никто не помо-
жет, не выручит. Раньше не приходилось особенно утруждаться и придумывать убедительные оправдания своим поступкам — родители рады-радёшеньки первым более или менее сносным объяснениям. А тут чужой человек, следователь. Что сказать? Как выкручиваться? Что выгоднее, безопаснее?
— Послушай, Дробот, ты можешь не придумывать, а рассказать, как было?
— Я не придумываю. Я не хотел воровать.
— Вот и объяснил бы Косте: воровство, мол, это. Не желаю. Идите сами. А ещё лучше — не ходите, это же позорно — красть. Взял бы и сказал так.
— Да-а-а, своим ребятам!
— А позови они тебя, положим, снег разгребать у школы? Что бы ответил? Пусть трактор работает, он железный, или что-нибудь в этом роде?
Дробот ухмыльнулся. Шучу я или серьёзно? Очень похож такой поворот разговора на школьные или домашние нотации. Пожурят, отругают, и обойдётся?
— Значит, ты за товарищей горой. Как они, так и ты. Позвали — пошёл, попросили — сделал. Ладно, хорошо. Оставим пока. Теперь вот что: ты в милиции всё рассказал про случай с Рытовым?
— Что спрашивали.
— Значит, Пименовых не видел двенадцатого апреля?
Дробот молчал.
Опять собирается врать. Это же просто на носу написано. Только теперь боится вдвойне. Казалось бы, сказать правду — первое, что должно прийти в голову. А у этого — соврать. Или запугали его дома, строго взыскивая за всё, что не укладывается в родительские представления. Как говорил мне отец Дробота, сына они не били, конечно, но наказывали за малейшую провинность. Вот и врал, видно, пользуясь тем, что родители не вдаются в подробности — лишь бы их устраивало.
А может, я увлёкся, фантазирую? Но ведь от рождения не бывает лживых или правдивых. Такими становятся.
— Ну!
— Видел. Через лужок бежали днём. Ещё какой-то парень был. Я не знаю его, честное слово. Потом пожар начался.
Ещё какой-то парень? И соседи говорили про третьего
О том, что Дробот был в это время на лужке, я уже знаю от Грошева. И видел Пименовых — это логично было предположить.
— Значит, видел. А почему не сказал, когда в милиции спрашивали?
— Думал — не касается. Чтоб они могли!..
— А в школу залезть могли? Это ничего?
— Сравнили!
— Нельзя сравнивать?
— Кто же знал, что они такие?
— Какие? Хуже стали, чем неделю назад? Испортились? Ты ведь дружил с Геной? Между прочим, и с ИлЪей.
— И ничего не дружил!
— С Геной? Вот те на!
— Учились вместе! Ходили, и всё.
— И всё? Опять испугался? Что за дружка отвечать придётся? Так ты успокойся — отвечать придётся только за себя.
Вот так, живёт на белом свете парень, Дима Дробот, нормальный вроде парень. Только это. пока ничего не случилось, пока всё идёт в обычных каждодневных рамках. А стряслась беда — и полезло Выше его сил, наверно, осмыслить и сказать или хотя бы решить для себя: «Да, Гена мой друг и мне страшно, что мой друг совершил такое. Я стыжусь и той ночи у школы. Я готов отвечать за то, что сделал. Я понимаю, за прегрешения моего друга отвечать не должен, но я не могу, не имею права говорить, что это меня не касается, именно потому, что он мой друг».
Много требую от четырнадцатилетнего парня? Такое не под силу иному взрослому? Да, конечно, иному не иод силу, потому что с детства был, как Дробот.
Ну ладно, пусть так — не всякому дано, но взять и откреститься — не дружил! Кем же ты станешь, Дробот? Конечно, придумать более страшное преступление, чем то, в котором участвовал Генка, трудно. Гордиться такой дружбой нелепо — всё так. Но прятаться в кусты — это уже подлость. Этому не учат. Я верю — этому его не учили родители. Это он сам. Никудышный парень. Как говорили во время войны, в разведке с таким пропадёшь.
И мне больше не хотелось говорить с Дроботом. А он вдруг засуетился изо всех сил, затараторил. Илья, говорит, показывал недоделанный складной нож — Костя Пименов мастерил. Видел, говорит, как Илья ценности показывал Косте и Генке — кольца и серьги. Как из письменного стола доставал, как прятал. И всё это, захлёбываясь, налезая грудью на стол, торопясь, как бы не прервали его.
Стоп, стоп! Не напрасно ли я возмущаюсь? Всё ведь нормально: пришёл человек к следователю, тот спрашивает, он отвечает. Нормально. Да, но если бы так же взахлёб говорил о своих грешках, а то безумно обрадовался, что можно уйти наконец от разговора о собственных художествах и, как плату, выплёскивает всё плохое, что знает про Пименовых. И ни одного доброго слова!
Ладно, ступай, Дробот, больше мне не хочется с тобой разговаривать и не о чем, пожалуй. Вовсе не важный ты здесь. Просто примериваюсь к Пименовым. Из всего, что наговорил Дробот, меня интересует голая информация. Значит так, Костя делал какой-то нож для Ильи. Заметим. Илья уже давно показывал ценности ребятам. Зачем? По какому поводу? И ещё: знал, выходит, где ключи от письменного стола. А родственники меня уверяли, что не знал. И это заметим.
И ещё кое-какие итоги подведём: сначала школа, потом история с Рытовым? Всё просто — решили, пошли, украли, потом убили. Так сказать, динамика. И нечего ломать голову.
Хорошо, в школу полезли за фотоаппаратами, хотели украсть, потом продать и получить деньги. Генка договаривался с каким-то спекулянтом на рынке. Обидно, но хотя бы понятно. Так ведь до фотоаппаратов не добрались, схватили первое попавшееся и даже не попытались продать — забросили на антресоли и забыли. И этот самый скелет? Зачем понадобился череп?
Нелепо, конечно, звучит, но в кражах есть пусть мерзкая, но логика: украл — пропил, украл — продал, украл — пользуется сам. По крайней мере ясно — человек хочет жить за чужой счёт. Ужасно, но понятно. А если идёт и ворует, что под руку подвернулось? Как Пименовы. Хватать первое попавшееся, только бы схватить? Не лежит ли за этим ключ к ним? Не к тому, что сделали, — к ним самим.
Не знаю, пока не знаю и не уверен, что докопаюсь. Неразрешимых проблем в нашем деле, конечно, не бывает, это вопрос времени и усилий, но вот неразрешённые ещё Они — маленькие ли, большие — будоражат н не дают покоя. Удивительное у них свойство, у этих проблем, — от них нельзя так просто отмахнуться. Иной раз и хочется, да не выходит.
Вот он, протокол обыска в квартире Пименовых: микроскоп, тестер, череп, скальпели четыре реле, набор гаечных ключей, радиолампы реле, ключи, радиолампы Это уже что-то новое.
1969 г. февраля 18 дня комиссия электролампового завода в составе начальника цеха № 34 Богомолова С. С., главного технолога Кравченко 51. Б., зав. центральным складом Фишкина Ю. М. сего числа на основании распоряжения директора завода № 386-С произвели инвентаризационную проверку импортного оборудования, хранящегося под навесом складской секции № 16 на резервной территории завода. Проверка производится по причине обнаружения нарушений упаковки двух ящиков из партии, поступившей по накладной № 3886271 из ГДР.
В результате проверки и сопоставления со спецификацией установлено:
1. У тарного ящика N° 2 оторваны три доски, вырезан кусок полиэтиленовой защитной плёнки (размер дефекта 1,5 на 2 м). Отсутствуют два реле марки 36-ДК, набор гаечных ключей, 17 радиоламп (перечень прилагается).
2. У тарного ящика № 4 оторваны три доски, вырезан кусок плёнки (размер дефекта 2,15 на 2 м), отсутствуют два реле марки 34-ДК и 19 радиоламп (перечень прилагается).
Кроме того, отмечены значительные нарушения монтажной схемы, разбиты стёкла на нескольких измерительных приборах, отсутствуют 6 рукояток с панели управления.
Комиссия отмечает, что исчезновение реле, которые не выпускаются отечественной промышленностью (радиолампы есть в запасе, схему можно восстановить), исключает возможность использования некомплектных приборов до тех пор, пока с завода-поставщика (ГДР) не будут получены запасные. Вследствие этого комиссия констатирует невозможность своевременного ввода в число действующих второй линии 34 цеха.
Подписи.
Лампочки, реле, ключи Стоит ли из-за мелочей огород городить, если такое страшное свершилось потом? Морока лишняя, и дело засоряется. Главное, я знаю, кто совершил убийство.
Что же собой представляют преступники? Тоже просто: характеристики возьму — с завода на Костю, из школы на Генку, с соседями поговорю, с товарищами. И всё мне станет ясно. Про Костю, про Генку. И я со спокойной совестью подпишу обвинительное заключение. Нашёл, разобрался, доказал вину Можно приступать к следующему делу.
Вот он, Пименов Константин, сидит передо мной на привинченном тюремном табурете, нетерпеливо покачивается, готовый, кажется, ответить на все мои вопросы, разрешить все сомнения. Я даже не сразу узнал его: подстриженный наголо, он выглядит совсем мальчиком. Как только вошёл в кабинет, вежливо поздоровался и вовсе не к месту сказал «спасибо» дежурному, который привёл его. Потом опустился на краешек табурета, сцепил пальцы.
Убийца! Самый страшный преступник! Покажи такого случайному человеку, он содрогнётся от одного сознания, что перед ним убийца. Потому что о людях судят по их делам. И это правильно. И относятся к ним соответственно с того момента, как совершили они нечто противозаконное или предосудительное и об этом стало известно. Тоже правильно. Значит, пока ничего такого за тобой не замечено — хороший ты человек, а случилось — возмущаемся и негодуем. Удивляемся, ещё цокаем языком, приговариваем: «Ай, ай, ай! Кто бы мог подумать!» И сразу водораздел между нами — до и после. До — один человек, после — другой. А мы со стороны, что ли, оцениваем.
Вот и взгляните на нас со стороны, забудьте на минуту, что перед вами — совершивший преступление. Посмотрите, обыкновенный парень, нормальный. Или нет? Как-то сразу изменился с позавчерашнего дня? С того момента, когда кричал у меня в кабинете: «Эх, Рыжий, паразит, трепач!» Чем-то отличается от того Кости, который ещё месяц назад, неделю назад стоял у станка, бегал на тренировки? Ведь он уже тогда был вором! Вот бы спохватиться — преступник, вор, может стать убийцей! Или произошло с ним что-то за эти недели?
Вы же ходили с ним в кино, гоняли шайбу по дворовому катку. Он был рядом. Не увидели? Не распознали? А теперь преступник? Потому что стрижен, сидит на тюремном табурете? Вдруг стена встала между вами. Человечество делится на две Части — преступников и непреступников? Тогда я спрашиваю: с какого момента? Когда один оказывается за решёткой? А до этого? Ведь Костя уже тогда украл, уже был вором. И если бы не вскрылось — могло ведь случиться, — мы числили бы его своим, по эту сторону!
Пу, так как делится человечество?
Эх, если бы просто: преступник — непреступпик, если бы клеймо или какой-нибудь ещё отчётливый знак. Тогда и вопросов никаких: преступник — обходи его стороной.
Когда-то известный итальянский психиатр Чезарре Лом-брозо создал целую теорию. Она в ходу на Западе и до сих пор. С помощью этой теории очень просто объясняются сложнейшие социальные проблемы. В двух словах смысл её таков: преступное начало заложено в человеке от рождения. Вот в чём, оказывается, дело. Родился преступником, быть тебе преступником. И на лице у тебя форменным образом написано: преступник. Низкий лоб, мощные надбровья — убийца. И никуда ты не денешься от этого, всё равно убьёшь кого-нибудь. Чрезмерно развитая челюсть — насильник, и весь вопрос в том, когда проявишься. Ну и так далее в таком же роде. Как просто и удобно как! Можно заранее, чуть ли не с младенчества, расправляться, чтобы не вырос и не совершил предначертанного. Аж оторопь берёт!
Но ведь передо мной совершенно нормальный, обычный парень Костя Пименов, можете мне поверить, синьор Ломбро-зо, нормальный, без всяких там признаков. И никак не укладывается он в вашу теорию, и ничем не может она помочь. А я должен, обязан понять, как этот нормальный человек пришёл к преступлению. Чтобы поняли все, чтобы понял суд, чтобы приговор был справедливым. Когда, почему переступил он ту хрупкую грань, что разделяла теперь нас? Хрупкую, потому что не сразу различима и легко переступить её, особенно молодым.
Ну да, конечно, стандартные сентименты. Ещё бы, каждый день общаюсь с преступниками, мне привычно, меня ничем не удивишь — эко дело, убил! Отчего не поковыряться в психологии, не поговорить задушевно. Контакт! Сколько писано и говорено об этом — мягко стелет, да спать жёстко, улыбается, шуточки-прибауточки, а дело своим чередом идёт И ничего в этом следователе не дрогнет — привык, видел-переви-дел и не такое.
Да, видел и не такое.
Привык?
Привыкнуть можно даже к боли. Её не перестаёшь замечать, но привыкнуть, сжиться с ней иногда можно. Легче привыкнуть к словам, которыми определяется недуг, к мрачным и угнетающим словосочетаниям и произносить их обыденно, запросто. Вот послушайте: детская преступность. Как часто произносятся эти два слова в страшном соседстве! Однако
вслушайтесь, это же противно законам элементарной человеческой грамматики! Детская преступность! Вдумайтесь!
Когда болит даже палец, когда совсем крохотная ранка — это всё равно болезнь. Когда говорят, что малолетних преступников не так уж много, забывают, что это всё равно недуг. Маленькая ранка может привести к заражению крови, а из малолетних правонарушителей вырастают взрослые преступники. Попробуйте привыкнуть и лечиться домашними средствами или сделайте вид, что не так уж больно — станет поздно. Замалчивать недуг, значит, запустить, значит, казниться потом и с превеликим трудом и немалыми жертвами исправлять то, что сегодня поддаётся легче. Когда дело доходит до следствия и суда, уже поздно, уже превеликий труд и немалые жертвы. Значит, я должен узнать про Пименовых всё и рассказать всё должен, чтобы не было других Пименовых. Хоть нескольких уберечь, хоть одного!
Привык! А хирург привык к соседству страданий и боли? Ему не больно — это другое дело, нельзя, чтобы ему было больно, иначе не сможет врачевать. Но не привык он! К этому нельзя привыкнуть!
Вот сидит передо мной Костя Пименов, парень с Заозёрной улицы. Он храбрится, он даже чуть позирует. Ему так страшно, что не осознал случившегося до конца, не успел, потому храбрится и позирует.
— Я ведь говорю про то, что меня касается. Хотите, чтоб ещё и дешёвкой стал? Не знаю, откуда вам про Димку Пюссе-ля известно, но раз узнали, я расскажу. А с завода один брал. Так и пишите — одни. И напишите ещё — осознал и как там у вас — раскаиваюсь. Во всём.
— Раскаиваешься? Молодец, спасибо. Ну скажи ещё — искупить вину хочешь.
— - А почему нет, хочу искупить. Что я, хуже других?
— Ив уплату откровенность? Рассказываешь то, что я и без тебя знаю? Такая откровенность?
— А что предлагаете — ребят закладывать? Это, по-вашему, хорошо? Так я не из тех.
— Ну не из тех, ладно. Ты храбр, ты сам готов пострадать, но друга не выдашь.
— Точно! Не было никого со мной па заводе.
Пу что мне делать? Как пробиться через кольчугу эту, через браваду? Я же твёрдо знаю — не о соучастниках печётся. Он не кривит душой, нет, ему кажется, что в них дело, о них радеет. А па самом деле — о себе. Рисуется, как говорят, стойку держит, хочет казаться таким вот лихим парнем, бесстрашным. Но ведь особенных новостей я от него не жду, и так узнаю, только хочу, чтобы сам сказал, чтобы понял — надо сказать.
Бывают в жизни человека ситуации, когда вдруг, в одно мгновение, всё становится с ног на голову или, наоборот, с головы на ноги, когда в один миг решается или переосмысливается вся жизнь. Но, видно, не наступил ещё этот миг. Раскаивается он? Ещё нет. Искупить хочет? Нет, не знает ещё, что это такое. Он ещё в угаре, его несёт.
Терпение, мы успеем поговорить, когда остынет, когда охватит его настоящий ужас, когда прочувствует, что с ним случилось в жизни. Он с нетерпением будет ждать вызова, уже от двери начнёт говорить и заставит меня слушать часами. И волноваться будет: поверю ли? Потому что за мной — тот мир! Тот, другой, прекрасный мир, о великолепии которого он даже не подозревал. Тот, что грезится днём и снится ночью. Безнадёжное ощущение потери охватит Костю, сожмёт клещами каждую клеточку, сделает руки мокрыми, губы сухими.
Вот тогда он захочет, чтобы ему верили, чтобы хоть как-то встать вровень с теми, из того мира, хоть в чём-то. А я — единственная связь и оселок, на котором можно испытать, верят ли, или отрублен под корень.
Это может показаться неправдоподобным, но я стану для него самым драгоценным человеком. С одной стороны, конечно, олицетворением всех несчастий, этаким материальным их воплощением, а с другой — единственным, в руках которого связь с тем миром. Потому что он — обыкновенный парень, этот опасный преступник. А пока
— Что ж, Пименов, ладно, не хочешь говорить правду, я скажу, а уж там как знаешь. Так вот, не один ты совершил кражу. Ещё был Крючков. Антон Крючков.
С Пименовым Константином я работаю в одном цехе, знаю его года полтора. Мы особенно не дружим и встречаемся только на заводе. У нас один шкафчик для одежды. Примерно два месяца назад, в феврале — числа точно не помню, — я действительно совершил кражу с завода вместе с Пименовым. Как-то во время пересменки он сказал, что вскрыл ящик во дворе под навесом и взял оттуда два реле, какие-то радиолампы и ещё что-то. Одно реле он отдал мне, и я вынес его с завода. На следующий день мы вскрыли другой ящик и взяли два реле, лампы, рукоятки и, кажется, гаечные ключи, маленькие. Поделили поровну. Ещё я взял Полиэтилен — кусок метра два на полтора. В этот полиэтилен был укутан прибор. Полиэтилен резали ножом. Я хотел сшить из него туристическую палатку, но ничего не получилось. До вчерАшнего дня все эти вещи лежали у меня дома, и я не знал, что с ними делать — мне ничего не нужно, и я не могу объяснить, зачем брал. Все вещи я выдал по первому требованию работникам милиции.
12 апреля я вышел на работу во вторую смену к 16 часам и стал искать Пименова, чтобы взять ключ от шкафчика, но в цехе Кости не было.
Я поднялся в раздевалку и нашёл ключ там, где мы обычно оставляем его. Пименов появился около 16 часов, может, немного позже. Я удивился, так как его смена кончилась. Пименов был чем-то расстроен, бледен. Он распахнул на груди и плечах спецовку и попросил посмотреть, нет ли чего. Я взглянул, ничего не увидел и спросил: «А что может быть?» Пименов ответил: «Может быть кровь, тут у нас одно дело было с Толиком». Толик — это Мусляев. Он работает в соседнем цехе, и я знаю его совсем мало — только здороваемся. Пименов дружит с ним. Потом Костя предложил поменяться шарфами. Я испугался, но отказаться не смог и больше ни о чём не расспрашивал. Да, ещё он велел сказать, если спросят, что был на заводе и я его сменил. Я пообещал.
Когда я шёл домой после смены, кто-то из ребят спросил: «Что, махнулись с Пименом шарфами?» Я как подумал, а вдруг на нём действительно кровь, совсем испугался и спрятал шарф во дворе за помойкой. Это место могу показать.
— Так вот, Пименов. Выходит, один ты герой, а остальные дешёвки или как ты там их называешь? Все хуже тебя — и Крючков, и Дробот. И Мусляев Толик?
— Толик? И он?!
— И он. Всё. На тебе одном земля держится.
Костя вытянулся на табурете, его подбородок дрогнул.
Да, разочарование: Толик, друг-приятель, всё делали вместе — и на тебе, сразу рассказал. А ведь слово дали молчать.
Ишь ты, значит, и тут можно говорить о дружбе, о чести — слово дал! Трудно будет с Костей.
А есть ли смысл возиться? Добиваться, чтобы сам сказал, чтобы говорил правду? Для дела это не обязательно. Доказательств, судя по всему, и так полно. Негодовать? Глупо. Где преступление, там и ложь. Тогда о чём говоришь ты, Пименов? О какой чести, о дружбе какой? Слова-то все ответственные. А рядом с ними — преступление. Это же противоестественно. Не кажется тебе? Тебе не кажется, что есть понятия, которые не могут стоять рядом? Дружба — это когда во имя чего-то светлого, чистого. Честь — это когда на карту поставлено нечто большее, чем спасение собственной шкуры или шкуры соучастника. Давай договоримся о терминах: воровская спайка, а не дружба, круговая порука, а не честь. Тут можно и врать, и изворачиваться. Но тогда мы говорим на разных языках: для тебя дружба — это всего лишь воровская спайка, а честь — круговая порука.
Ну ладно, если бы врал, защищая себя, понятно. Ты уже совершил преступление более страшное, чем ложь перед законом, и ничем не рискуешь. Здесь ясно: ты — преступник, я — следователь, мы — противники. А если лжёшь, чтобы выгородить соучастника? Я всё равно узнаю правду. Видишь, узнал ведь голую правду без комментариев и объяснений. И в таком виде она невыгодна тебе. Было бы лучше самому рассказать: по крайней мере, можно представить в максимально удобном свете. Оттенки, детали, нюансы. Но ты и этим не воспользовался, и ту же самую правду я услышал от других, и не знаю, может, это такая правда, какая выгодна им. Посмотри, как рискуешь. Честь! Дружба! Понимаешь ли истинный смысл этих слов? Или затёрлись от частого употребления и утеряли изначальный смысл?
Мы сейчас вдвоём, нас никто не слышит и не возмутится неуместной, пожалуй, аналогией. Давай потолкуем без протоколов и записей. Помнишь «Молодую гвардию»? Как стояли ребята перед лицом озверевшего врага? Стояли, измученные пытками, зная, что обречены, — и молчали. Молчали, спасая товарищей по борьбе. Тебя ещё не было на свете, когда мы узнали об их мужестве и мученичестве. И никому даже в голову не пришло, что можно поступить иначе. Только думалось: хватит ли стойкости, хватит ли сил молчать?
Теперь ты — всё наоборот, тебе всего-то нужно набраться силёнок, чтобы сказать правду. Я понимаю: иной раз совершить подлость легче, чем рассказать о ней. Вот и приходят на ум всякие слова. А за ними что? Подлость и трусость.
Ну хорошо, не понимаешь разницы. Тогда скажи, во имя чего лжёшь, изворачиваешься, приятелей выгораживаешь? Того же Толика Мусляева? Объясни, может, я пойму. Врать, конечно, плохо, но я хотя бы пойму — во имя чего. От чего, собственно, ты пытаешься спасти его? От заслуженного и справедливого наказания? Нет, ты вслушайся — справедливого! Давай представим на минутку — ты промолчал, Генка, Крючков, я не докопался. И в стороне он? Напакостил и чист? Будет ходить по белу свету с поднятой головой и разглагольствовать на комсомольских собраниях о дружбе и чести, нотации читать вам, дуракам, за мелкие проступки. Он вроде член комсомольского бюро цеха? Ну так вот, справедливо это? Согласись, всё должно быть справедливо даже с твоих нынешних позиций. Как думаешь, доведись ему выступать на собрании, когда твои художества обсуждать будут, что говорил бы? Защищал? Оправдывал?.. То-то! Одна подлость следует за другой. Уверен, он говорил бы, что стыдится дружбы с тобой, или вовсе отрёкся бы. Вот и посмотри, во что может превра-- титься человек — в подлеца, в настоящего предателя.
Я не помню, так ли говорил с Костей. Только разговор наш кончился ничем. Он сидел и молчал, не возражал, не соглашался — молчал. И ушёл не попрощавшись. Закинул руки за спину при появлении дежурного и поспешно вышел.
Чёрт возьми, как это, оказывается, трудно — говорить о простейших вещах! Ну чего проще — врать плохо, недостойно, и доказательств эта истина не требует. И потом, где взять, например, аргументы, чтобы доказать, что чёрное — это чёрное, а белое — белое?
Стемнело, а встать и зажечь свет лень. И без того мрачноватая комната вовсе утеряла контуры, уплыла куда-то дверь с круглым глазком, сгладился рисунок паркета, и лишь тень от оконной решётки напомнила о реальности, меня окружающей.
Неохота уходить. Устал. А пора. Вот выйду из прохладных и гулких тюремных коридоров па шумную улицу — и другой мир: мчатся автомобильные потоки, подчиняясь размеренному подмигиванию светофора, вспыхивают витрины магазинов, торопятся пешеходы. Торопятся, пробегают мимо обычного с виду дома, и никакого дела до меня — ну вышел человек с портфелем, ну усталый у него вид, ну озабочен. Нормально, рабочий день за плечами, не так-то просто переключиться на нечернис нерабочие думы. Я потащусь к автобусу, потом метро, потом снова автобус и ещё пешком. Я не соображу даже, что уже вдыхаю чистый воздух нового района, для жителей которого чистый воздух — единственный аргумент в пользу переселения из центра города. И не замечу возмутительно синих стен своего дома. Ох, как бы уже оказаться в своём синем доме, чтобы автобусы и метро — всё было позадй.
Так и не включив свет, я вышел в коридор. За столиком давняя знакомая — дежурная по следственной части.
— Вас жду, начальник, последний вы. Что-то зачастили.
— Зачастил начальник, что делать, завтра опять приду. Дадите кабинет без очереди? Полтора часа ждал.
— Придёте первым — дам без очереди, — засмеялась она.
— Тогда опять просижу дотемна, и вам придётся.
— Не привыкать. Спокойной ночи.
Автобус, метро, автобус, пешком Далеко. А завтра опять сюда.
ТАК БЫЛО
В тот мартовский день Генка пришёл к Илье после долгого перерыва — больше месяца они не разговаривали. Поссорились. Ещё зимой во время игры в лапту Генка угодил мячом Илье в лоб. Так получилось. Илья решил, что это нарочно, и с угрожающим видом двинулся на обидчика. Не дожидаясь развития событий, Генка толкнул его в талый снег, под которым уже хлюпала вода, и побежал к подъезду. Илья вскочил, но, сообразив, что не догнать, бросил вслед приятелю портфель и попал по ногам. Генка растянулся на полном ходу и так содрал ладони о шершавое бетонное крыльцо, что три дня не ходил в школу и потом ещё долго не мог держать ручку. Домашним объяснил, что упал сам. И вдобавок ко всем несчастьям получил от подвыпившего отца затрещину. Было так обидно, что даже ревел в ванной.
Он ждал, что Илья проявит инициативу, будет мириться. Илья не проявлял. Во дворе они расходились в разные стороны, в школе делали вид, что не знакомы.
И вот первый день после примирения, которое с немалым трудом устроил Витя Грошев. Он столкнул ребят во дворе буквально носами и произнёс нечто весьма убедительное вроде: «Ну ладно, пацаны, хватит». Постояли, помолчали и, как настоящие мужчины, не стали выяснять отношения. Оба радовались в душе, обоим хотелось сделать что-нибудь приятное, и, когда Илья позвал к себе ; сыграть партию в настольный хоккей, все трое двинулись к подъезду, подталкивая друг друга плечами. Именинником чувствовал себя и миротворец Грошев.
Но особенно усердствовал Илья, хозяин дома. Он безропотно взял себе команду хоккеистов, в которой правый защитник почти не двигался. Генка не отстал в благородстве и вёл атаки по противоположному краю. Короче, инцидент был исчерпан.
Потом Илья принёс из кухни тугие солёные огурцы. Ребята уселись на диван, похрустели. Илья сказал, что вот в Африке, например, огурцов не бывает и приезжие африканцы увозят их в качестве гостинцев чуть ли не бочками. Тема была найдена, и он принялся рассказывать про отца. Как тот жил в Африке на краю пустыни, видел настоящих львов и даже охотился на них. Ребята слушали вяло. Илья рассказывал это уже не в первый раз, но вот обещанных фотографий охотничьих трофеев до сих пор не показал, и все истории про львов и пустыни начинали казаться ну если не вымыслом, то порядочным преувеличением. Однако любопытство всё равно разбирало.
Особенно хотелось посмотреть на бесшумный пистолет, который, по словам Ильи, в числе прочих вещей привёз отец. Но пистолет куда-то спрятан, и как только Илья найдёт его, сразу покажет, а то и пострелять даст. Сам уже стрелял на даче.
И верилось, и не верилось. Хотелось, конечно, верить — львы, пустыни, пистолет, но доказательств, подтверждения не было. Оба глубокомысленно молчали.
Илья понял, что кризис назрел, ещё чуть-чуть, и его даже слушать перестанут. Он подошёл к буфету, достал из-под газеты ключ, открыл ящик письменного стола и вынул красивые сафьяновые коробочки. Там действительно были интересные вещи: часы с массивным браслетом, по которому вился загадочный рисунок — то ли иероглифы, то ли кусающие друг друга змеи, а между ними пляшущие головастики, а может, просто запятые. Ещё были серёжки, цепочки. Нo особенно поразил золотой медальон в виде женской головки — длинная тонкая шея, шапка, как перевёрнутая усечённая пирамида, и глаза, полуприкрытые, загадочные, нерусские. Илья объяснил, что эта женщина называется Нефертити — смешное какое слово, тоже нерусское, — что она древняя египетская царица, а нашли этот медальон в настоящей гробнице под пирамидой. И цены ему нет — такой дорогой. Как два телевизора.
Это уже на что-то было похоже. Илья снова пообещал со временем узнать, где лежат вещи, много всяких вещей и пистолет.
Рассказывая мне об этом, Витя Грошев увлёкся, особенно когда заговорил о пирамидах и гробницах. Слушать его было нелегко: Витя сильно заикался, и тогда лицо его искажалось, губы судорожно кривились, и я всё время сдерживал себя, чтобы не подсказать никак не дающееся ему слово.
Я, например, поверил, потому что во дворе давно ходили слухи — вроде до переезда к нам Илюшин отец долго жил за границей. Нам с Генкой особенно хотелось пострелять из пистолета. На стене у них висела фотография Илюшиного отца в белой накидке на голове с чёрной лентой поперёк. Илья говорил, что так ходят бедуины. Ещё он показал нам альбом с фотографиями — улицы заграничные, пирамиды, корабли в порту. Будто бы во всех этих местах бывал отец.
Когда мы вышли от Ильи, заспорили. Генка говорил, что Илья врёт про пистолет: оружие запрещается провозить. Я говорил, что всё может быть. Потом как-то Генка сказал, что и брат его Костя сомневается, не верит, пока собственными глазами не увидит. Генке стало обидно, так как Костя сказал, что оба они — и Генка и Илья — врут. Он водил Костю к Илье, а тот показал, что и нам. Ещё Костя пообещал сделать Илье на заводе настоящую финку, если тот даст пострелять.
Каждый вторник и четверг, в дни тренировок, Генка привозил к заводу Костину сумку с борцовскими принадлежностями и провожал его в спортзал. Он любил эти вечера, когда свободно мог входить в сверкающий
огнями шумный вестибюль, с незагзисимым видом подавать гардеробщику пальто и, лавируя между здоровенными парнями в серых просторных куртках с длиннющими поясами, нырять, наконец, в заветный зал. Генка был благодарен Косте за то, что он позволял нести сумку до самого зала, и со стороны можно было подумать, что не Костя, а именно Генка идёт на тренировку. Костя снисходительно смотрел на брата, на то, как у него раздвигаются худенькие плечи и меняется походка. Генка вышагивал вразвалку и помахивал сумкой, не останавливая взгляда на встречных.
Сегодня был именно такой день.
— Ты видел когда-нибудь море, Рыжий? Настоящее, не в кино? А я был там — Костя мечтательно вздохнул. — Волны, как наш дом!
— Это сколько? — усомнился Генка. — Метров пятнадцать?
— Может, и нет, но вот до тёти Фениного балкона — точно. Считай сколько А чебуреки ты ел? — не унимался Костя, хотя отлично знал, что чебуреков Генка не ел к у моря никогда не был. — Ха! Это вроде пельменей, только раз в десять больше и масло капает. — Костя облизнулся и продолжал дразнить: — Ну, а «Хванчкару» пил, вино? Прямо из бочки, сорок пять копеек стакан?
— Ты-то пил?
— У Толика спроси, он сколько раз бывал в Сочи. И я видел, на бочках написано: сорок пять копеек Что хочешь делай, раз деньги есть: лети куда хочешь, пей что хочешь! А пляж! Это тебе не Головинский пруд! Самолётом два часа — и купайся. — Костя помолчал. — Живут же люди, Рыжий, денег не считают! Мне бы! Я бы летом на лыжах поехал кататься. Летом! В горы! Снег, а ты в одних трусах! И в очках чёрных.
Костя увлёкся и отмерял широкими шагами тротуар, так что Генка еле поспевал, волоча тяжёлую сумку. Он даже не очень прислушивался к Костиным фантазиям, привык. И не ради этих разговоров таскался дважды в неделю на другой конец города. Вот сейчас будет последний поворот, потом они пересекут площадь и окажутся наконец в ярко высвеченном зале, где похаживают степенные тренеры в синих спортивных костюмах, раздаются короткие команды и гулко стучат о маты тела борцов.
Там Генка забьётся в угол и погрузится в мир почти сказочный. Он представит себе, как через год-два в высоких кожаных туфлях — борцовках и боевой куртке вступит на такой же мат. И будет таким же широкоплечим, поджарым и сильным, как Костя. Пока врачи запрещают ему заниматься самбо — с детства что-то с сердцем. Но придёт время, придёт, и он так же уверенно будет швырять
своих противников.
— Ты знаешь, — продолжал Костя, даже не оглядываясь на семенящего сзади брата, — знаешь, как покуролесили бы мы с тобой! Что мы, хуже Мусляя? Достаёт же деньги. Не больше меня зарабатывает. — Костя прибавил шагу и уже почти бежал, размахивая руками. —
Это смех: всего четыре раза был в ресторане и то с Мус-ляем. А он сколько!
— Ну его, твоего Мусляя. Поит, а потом треплется, что без него ты — ноль.
— Брось, Толик человек! Хоть бы раз сказал — нету денег. Из-под земли достанет, а даст.
— Смотри, Кот, чем отдавать будешь?
— Не твоё дело! Найду. Он не торопит. Человек!
— Мама узнает
— Не узнает. Заткнись! — сказал Костя беззлобно.
Ему вовсе не хотелось пререкаться с братом. — Вот было бы у нас, сколько у дипломата этого или кто он там, Ильи отец. Ну пусть не столько, а всё-таки. Лето на носу Я думал, врёшь. Нет, денег будь-будь там. — Костя задумался. — Ёлки зелёные, зачем ему такие деньги? Ну ест, ну пьёт, одет-обут, а дальше? Ерундовая жизнь, Рыжий, точно тебе говорю. Хоть бы отцу нашему: пропил бы — по крайней мере удовольствие получил, а собирать, копить — какая радость Не в тех руках, Рыжий, не в тех!.. Почему так получается: когда человек молодой, у него ни черта нету, а появились деньги, уже старик и зачем ему? Правильно Толик говорит: без денег — человек бездельник.
— У Толика твоего котёл варит.
Анатолий Мусляев.
За ним я послал оперативных работников сразу же, как услышал от Антона Крючкова его имя. Вернулись мои помощники в скверном настроении — рассказали, что было с его до-
машними. Брухтий полдня разорялся: «Убил бы на месте гадёныша! Что с матерью-отцом сотворил!»
Обыск в квартире ничего не дал, но уже по дороге в милицию Мусляев заговорил сам. Сказал, что всё это придумали Пименовы — и эфир доставали, и гантелью ударил Рытова старший, Костя. Мусляев несколько раз повторял, что сам хотел заявить в милицию, но не успел, опередили его.
Вот и всё, круг замкнулся, как говорится. Это всегда так: сначала полная неизвестность, намёки, подозрения, топтание на месте. Потом вдруг надламывается что-то, и только успевай вертеться. Кажется после, как просто: преступники объявились в один-два дня, доказательства сыплются, как из рога изобилия. Чего боялся? Стоило ли? Стоило! Ещё одного нераскрытого преступления боялся. Нераскрытое — значит, убийца на свободе.
А тут меня уже вызвал начальник и дал новое дело, нудное и тягучее, — о недостаче овощей! Что теперь церемониться, всё ясно, убийство раскрыто, остальное — дело техники. И я должен теперь планировать работу так, чтобы успеть и то, и другое, и старые хвосты успеть подчистить.
Уже свернул работу наш штаб в отделении милиции, и я перебрался к себе в прокуратуру; сижу на своём привычном стуле, за своим столом, и кажется мне старый мой кабинет самым уютным и удобным, хотя стены не первой свежести, полы не первой молодости и не так уж много света из единственного окна.
Перковский тоже забрал своих ребят обратно на Петровку. В отделении милиции занялись текущими делами.
Итак — Мусляев Анатолий, двадцати одного года от роду. Высокий, полноватый парень с мясистыми руками и чуть оплывшими веками. Черты лица правильные, но какие-то невыразительные, неживые, незапоминающиеся. Мне даже показалось сначала, что уже видел его где-то, настолько ординарное лицо.
В армию его не взяли, потому что перенёс ревмокардит. Отец военный, майор, служит где-то в Воронеже, но часто наезжает в Москву. Мать много лет не работала — растила детей, да и армейская служба мужа не давала засиживаться на одном месте. Недавно устроилась администратором в гостиницу. Ещё есть старшая сестра Клава. Окончила институт,
экономист. Семья, как говорится, благополучная, никаких исходных, чтобы можно было сказать: «Пу вот, конечно, яблоко от яблони » — или что-нибудь в этом роде. Сам Толик, так зовут его домашние и товарищи, — баловень. Ещё бы — младший, болел тяжело, после седьмого класса два года не учился. Пошёл в восьмой, но дело двигалось плохо. Сверстники уже кончали школу, одноклассники моложе, мельче — обидно и скучно. Стал пропускать уроки, прогуливать, матери жаловался на плохое самочувствие — это уже сделалось привычкой. Школу невзлюбил, еле дотянул восьмой класс и уговбрил родителей отпустить в техническое училище. Обещал одновременно с работой учиться в вечерней школе. Что сделаешь — позволили. Вот теперь работает на заводе, числится в девятом классе.
С первого же допроса Мусляев демонстрировал откровенность. Не просто охотно давал показания, а именно демонстрировал. Получалось так: споткнулся, но в качестве залога спасения и искупления — полная откровенность.
Да, действительно договорился с Пименовым обокрасть квартиру их соседа и не намерен скрывать — что было, то было. Правда, что большинство украденных вещей сам забрал и унёс в спортивной сумке. Пожалуйста, задавайте вопросы, он ответит на любой. С Костей Пименовым? Да, с Костей они приятели ещё по техническому училищу. Вместе попали на завод, хотя работают в разных цехах. И вне завода встречаются, ходят в кино, на танцы, в ресторан. А что, разве нельзя? С девушками? Нет, у Кости нет постоянной знакомой. Тут, как говорится, интересы не сходились. А у него есть. Пожалуйста: Ритуля, то есть Маргарита Середина. Да, это именно та Маргарита, которой он отдал часть украденных вещей. Вот её адрес.
Тяжело как всё это ворошить, но разве мог он даже подумать о таком трагическом финале! Кошмар! Ведь прилично зарабатывает — больше ста рублей в месяц, член комсомольского бюро цеха, ни в чём предосудительном замешан не был. Это может подтвердить каждый.
Нет, он вовсе не хочет сказать, что Пименов плохой парень и подчинил его, давил, командовал. Нелепо всё как-то получилось. Не поймёшь даже, где началось и как связалось в этот ужасный узел. Но он, Мусляев, повторяет — готов рассказать всё по порядку, без утайки, не щадя себя.
В конце протокола первого допроса Мусляев дописал сам:
Я признаюсь в этом тяжком преступлении. Вину свою полностью осознал и готов нести заслуженное и справедливое наказание. Уверен, что, отбыв его, сумею доказать, что это было роковой ошибкой, которая никогда больше не повторится. Я смогу стать достойным членом общества и прямо смотреть в глаза товарищам.
Вот таким предстал передо мной Анатолий Мусляев, откровенным и беспощадным к себе. Откровенным и беспощадным до того, что даже коробила эта его откровенность. Может быть, потому коробила, что не от осознания вины эта откровенность — от страха и, следовательно, мало чего стоит. Думаю, в этом дело. Скорее всего, привычка такая с детства. «Скажи, сынок, правду, и тебе ничего не будет». И сынок соображает наконец, что достаточно одного — сказать. Потом можно снова нашкодить и снова сказать, и опять ничего не будет. Родители довольны — ребёнок не врёт, ребёнок доволен — всё ему сходит. А правда превращается в разменную монету и остаётся таковой, когда это уже не ребёнок, а взрослый дядя и речь идёт теперь не о какой-нибудь мелкой шкоде. Признания звучат уже с трибун, сопровождаются биением кулаками в грудь и именуются самокритикой. Иные, освоившие методику, берут на себя даже несуществующие грехи, чаще всего мелкие, а растроганное такой вот откровенностью собрание прощает всё: и о чём говорилось, и о чём умалчивалось — признался человек!
Но это потом, а сейчас Сейчас громко и даже красиво звучат показания Мусляева — этакая лихая откровенность.
С этим протоколом допроса я и приходил к Косте Пименову, и он был ошарашен и, глядя на меня непонимающе, бормотал: «Толик? И он?!»
А вот младший Пименов, Генка.
— Ну как, теперь наконец полная правда, Пименов? Больше ие-появятся неизвестные со шрамами на лице? «Волга» двухцветная тоже не приедет? Смотри, сейчас запишем, и это уже будут не просто разговоры, а протокол допроса. И учительница твоя подпишет. Нехорошо, если что не так.
— Всё так, Сергей Александрович, я же сказал — теперь так.
Молодая учительница во время допроса не проронила ни
слова, хотя я несколько раз обращался к пей — пе спросит ли чего, всё ли понятно. Она сидела позади Генки, вытянувшись на стуле и положив ладони па худые колени. Только время от времени всплёскивала руками и прикрывала рот, точно боялась вскрикнуть. И такой ужас был написан на её лице, будто всё, о чём рассказывал Генка, происходит вот сейчас, прямо на глазах. А уйти или заткнуть уши нельзя. Мало того, подписывать придётся протокол: мол, всё это Пименов рассказывал добровольно, без принуждения и давления, и записано всё именно так, как он рассказал.
Вот и сидит растерявшаяся, потрясённая услышанным женщина. Её ученик, пусть шалун, но способный, располагающий, нормальный мальчишка, и вдруг такое! Может, и её вина здесь? Её недогляд? Как же иначе — наставница, пастырь!
Временами она подавалась вперёд, будто хотела крикнуть: «Что ты говоришь, Гена, не смей, что ты болтаешь ерунду!»
Но он продолжал рассказывать, и тогда лицо учительницы отражало всё смятение, весь ужас, который только и может испытать обыкновенный человек, услышав такое. А я всё-таки не уверен, что Генка говорит полную правду. Я ведь помню, как этот почти ребёнок вдохновенно и убедительно фантазировал, настолько убедительно, что несколько дней назад я сам чуть не попался.
Что-то он не договаривает, мнётся, не так уверенно держится, как прежде. Особенно нервничает, когда речь заходит о брате. Послушать, так сам Генка всё организовал, сам подготовил, а Костя чуть ли не случайно оказался рядом и вроде не делал ничего, только присутствовал. Что за дружба у Кости с Мусляевым, толком не знает. Видел его, говорит, раза два-три и то в связи с последними событиями. Правда, брат рассказывал о Толике много и всегда хорошее, но ему, Генке, этот Мусляй всё равно не нравился.
ТАК БЫЛО
Старший Пименов и Мусляев вот уже целую неделю работали в одну смену и, хотя ехать им в разные концы города, почти ежедневно дожидались друг друга у проходной. В последнее время они чаще стали видеться, больше времени проводили вместе. Вот и сейчас Толик стоял, нахохлившись, засунув руки глубоко в карманы, и приплясывал на месте. Зима ещё не отступила, ещё цеплялась за свою привилегию заставлять людей ёжиться, торопливо пробегать по улицам, дуть на руки и потирать немеющие уши. Скоро наступит перелом, и, обессилев, март падёт в безнадёжной борьбе с настоящей, а не календарной весной. Но пока пропитанный влагой воздух зло пробирается под одежду, а тротуары покрыты тонким, очень скользким ледком.
Появился Костя. Он бежал по центральной аллее завода, размахивая спортивной сумкой и сбивая ногами льдинки.
— Привет, старик! Опять кувыркаться? — Толик был разочарован.
— Точно. На тренировку. Сегодня же четверг. Генки моего не видел?
— Пойдём провожу. Не было его.
Они пошли вдоль бесконечного заводского забора, наполовину заваленного сугробами.
— Откуда у тебя капор такой? — Костя скосил глаза на шапку Толика.
— Пижон! Это последний писк. Весь Запад носит. Хочешь, достану? Я ребятам сегодня две штуки притащил.
— «Хочешь»! Всё спросить собираюсь: откуда у тебя барахло? Девчатам сапоги таскаешь, кофточки какие-то.
— А тебе кто сказал?
— Да говорят.
— Уже говорят! Вот языки! — Толик сплюнул. — Есть у меня одна такая — да не пялься, старая она, — в комиссионном работает, а там что хочешь. Ну вот: ей хорошо, мне хорошо, и людям добро делаю. У неё сейчас такая куртка на поролоне для лыж — смерть мухам и старухам! Я беру. Проверну только пару операций и возьму. — Толик мечтательно улыбнулся. — Кот, у тебя нет знакомой, чтобы сороковой размер ноги? Сапожки итальянские предлагает. Заработаешь.
— Спекулировать?! — Костя скосился на Толика, — Ха, ха!.. А разве бывает у женщин сороковой?
— Я тебе говорю — поспрашивай. «Спекулировать»! Червонец наш.
— А чёрт их знает!
— Дорогой мой, так ничего не выйдет. Волка ноги кормят. Я что, с неба деньги хватаю? Кручусь.
— А-а-а, мелочь Вот сразу бы — это да!
— Чего захотел! Курочка по зёрнышку клюёт
— Смотря какая! У нас сосед года три в Африке жил — лопатой пригрёб и денег и барахла.
— Сам видел?
— Сам.
— Я тут, честно говоря, походил с одним фраером в центре. Он уже давно фарцует. Ничего, получается. А ты, Кот, какой-то неприспособленный, жалко даже тебя.
— Не волнуйся, отдам всё, что должен.
— Да брось ты. «Отдам»! Мне не горит. А как отдавать будешь? То-то! Ну-ка ещё расскажи про соседа.
— А что рассказывать? Сын его — Генкин приятель, учатся вместе. Генка пасётся у них каждый день. И золотишко там, и камешки.
— Ну, ну
— Что — ну?
— Пусть, значит, так и лежат?
Они уже подошли к спортзалу. Пора было расставаться. Толик закурил. Помолчали.
— Ты помозгуй насчёт соседа, Кот, если не врёшь. Это тебе не вшивые микроскопы. Дело! — Толик протянул руку. — Насчёт завтра помнишь? Пируем.
Костя поковырял носком ботинка снег, потом хлопнул Толика по плечу и, перемахнув через несколько ступенек, поднялся ко входу в зал. Уже от самой двери крикнул:
Припомнил микроскопы! Силён! А может, я соврал? Ладно, помозгую! — и смешался с толпой ребят, входивших в вестибюль.
Толик постоял, задумчиво глядя ему вслед, потом поднял воротник и не спеша двинулся к автобусной остановке.
О субботнем вечере они договорились ещё неделю назад. Толик пригласил Костю в ресторан, как он любил выражаться, пировать. Условились встретиться в центре, у памятника Пушкину. Проезжая мимо памятника, Костя увидел через окно троллейбуса Толика и лишь тут сообразил, что вперёд к выходу ему не пробиться. Когда он буквально вывалился из задней двери, сопровождаемый бурчанием пассажиров на тему о беспардонности современной молодёжи, одной пуговицы на пальто не хвата-
ло, шарф болтался где-то сзади, а ботинки из чёрных и блестящих превратились в тусклые, цвета снега с песком.
Наскоро приведя себя в порядок, он побежал к месту встречи.
— Точность, Кот, — вежливость королей, — встретил его Толик. — Запомни: опаздывать неприлично даже на свидание к девушке, а тут и подавно.
— Ладно, не шипи! — беззлобно огрызнулся Костя. — Бывает. Пошли, что ли?
Но они не пошли, а простояли ещё добрых пятнадцать минут, и Толик никак не хотел объяснить, чего ждут.
— Терпение! — Он был возбуждён, похаживал вокруг Кости, говорил без остановки и всё время ухмылялся. — Да, учти, я не работаю с тобой, и ты вообще не знаешь, чем я занимаюсь. Потом всё объясню. А ждём мы ждём человека, которому в отличие от тебя разрешается опаздывать. Что позволено Юпитеру, то не позволено быку. Образование, Кот, — залог успеха.
Однако все эти разглагольствования не могли скрыть его волнения. Чем дальше, тем активнее Толик расхаживал по тротуару, поправляя то шарф, то уже знакомую Косте модную шапку.
— Теперь смотри! — Толик резко повернул Костю лицом к улице Горького и победоносно взглянул иа него. — Шубку видишь серенькую? Как?
Костя ничего не успел ответить — шубка была уже рядом. Владелица её, миловидная девушка, невысокая, складненькая и подчёркнуто аккуратная, прошла было мимо, поминутно озираясь и щурясь через очки в металлической оправе, но Толик подхватил её под руку.
— Константин Лаврентьевич, подайте девушке руку, только не жмите сильно. Ритуля, это Кот, великий спортсмен и гордость рабочего класса! — сказал он громко, разделяя слова, как конферансье. — А это Ритуля. — Толик застыл в горделивой позе, наслаждаясь произведённым впечатлением. Потом подхватил обоих под руки. — Ну вот, познакомились. Куда же мы пойдём, дети мои? Предложения есть? Нет предложений? Тогда командовать парадом буду я, как сказал О. Бендер. Вперёд!
Они пошли вниз по улице Горького. Толик болтал без остановки. Это избавляло Костю от необходимости что-то говорить. Он был слегка ошарашен внезапным ноявлепнём девушки. Все прошлые походы в ресторан совершались, так сказать, в однородном, мужском составе. И вообще с девушками Костя стеснённо чувствовал себя и до сих пор старательно избегал их общества. Смущал немодный костюм, отсутствие денег, неумение развлекать.
У входа в ресторан «Метрополь», как всегда, толпился народ. Молодые люди в модных коротких пальто, кое-кто с непокрытой головой, хотя это и выглядело нелепо в снежный холодный вечер. Девушки в тоненьких чулочках. Стояли гуськом, тихо переговариваясь и с надеждой поглядывая на пожилого швейцара, который неторопливо прохаживался на той стороне, там, где заманчиво сверкали огни, откуда рукой подать до вожделенного зала, крахмальных скатертей и солидных официантов.
. Вопреки ожиданиям, оказалось полно свободных столиков. Мусляй был нетороплив и галантен. Он широким жестом отодвинул кресло и помог устроиться Рите, потом уселся сам и первым делом старательно затолкал за воротник крахмальную салфетку.
На официанта Толик не глядел — этакая небрежность! — называя очередное блюдо, пощёлкивал пальцами, а когда чего-то не оказывалось, недовольно морщился.
Косте уже знакомы были эти номера. Он постоянно удивлялся способности друга легко и непринуждённо общаться с окружающими, но в этот вечер Толик превзошёл самого себя.
В зале было так празднично, так уютно и обещающе звучал джаз, столько было вокруг нарядных людей и так хорошо пахло, что всё вместе не могло не вызвать приподнятого настроения. Костя почувствовал, как внутри у него защемило радостно, захотелось что-то делать, двигаться, бежать куда-то, но он сидел насупившись, боясь, как бы Рита и Толик не подумали: вот, мол, провинциал, ресторана не видел.
Стол быстро заполнялся напитками и закусками. Запотели рюмки, приняв ледяную влагу, засверкало ситро в фужерах — пиршество началось. Чередовались смены блюд, чем дальше, тем громче говорил Толик, всё чаще он подзывал официанта и требовал то ещё маслин, то коньяку, то просил убрать опустошённую посуду, а под конец, вовсе обнаглев, сказал:
— Ну, а теперь, голубчик, три раза чёрный кофе, как всегда.
Но и это не покоробило Костю — всё, что делал сегодня Толик, нравилось ему. Нравилось даже, как он танцевал, хотя зрелище было едва выносимо для нормального человека. Толик гнулся во все стороны, вовсе позабыв о музыке, ноги его разлетались, как будто не танцует, а перепрыгивает лужи, рубашка выбилась сзади из брюк и торчала в разрезе пиджака. Толик был потный, красный, подбородок его блестел, глаза помутнели — он явно плохо соображал. Костя тоже отяжелел и от вина, и от еды. Ремень зло впился в живот, но было всё равно так весело, что он даже позволил Толику один, правда, раз втолкнуть его в круг танцующих. Костя выделывал кренделя перед Ритулей и не чувствовал, как его толкают, как наступают на ноги.
Когда зал наконец почти опустел и стали гаснуть огни, когда оркестранты отыграли традиционное «Ну что сказать вам, москвичи, на прощание?..», сопровождавшееся грустным позвякиванием посуды, Толик тяжело поднялся из-за стола, разлил себе и Косте — уже не в рюмки, а в фужеры — недопитый коньяк, этак с треть бутылки, и сказал, сдерживая икоту:
— Это жизиь, дети мои! Вот это и есть настоящая жизнь, запомни, Кот.
И Косте показалось, что это действительно настоящая жизнь, что ради такой жизни только и стоит существовать на белом свете. Он покачнулся, поднял над головой фужер и, как только мог задушевно, сказал:
— Жизнь! Ты человек, Мусляй! — И, впервые за весь вечер взглянув на Риту, добавил: — Он — человек!
Только на улице, на свежем воздухе Костя понял, как пьян. Тротуар уходил из-под ног, волосы под шапкой стали липкими и мокрыми. Но самое неприятное — начало тошнить. Горячая слюна подкатывала к горлу и жгла рот. Костя сплёвывал, кашлял надрывно, но тошнота нарастала. Как сквозь туман, вспоминал он потом прощание с Ритой.
Перед уходом она пожала потную Костину руку и, взглянув на него удивлённо, как глядела на них обоих всю вторую половину вечера, когда хмель взял своё, сказала:
— Вы, кажется, очень выпили. Вам пора ломой. Не надо провожать, — и быстро пошла к лифту.
Костя не слышал, о чём она разговаривала с увязавшимся за ней Мусляем. Как только захлопнулась парадная дверь, он прислонился к стене и его стошнило.
В поисках такси они брели по улицам, серые и обмякшие. Толику тоже было худо, но он крепился и, сплёвывая на тротуар, то вяло помахивал проходящим машинам, то срывался вдруг с места, выбегал на середину улицы и, растопырив руки, казалось, норовил грудью остановить объезжавшие его такси.
Костя появился дома около двух и, хотя был пьян, сообразил, что мать ждёт его и волнуется. Когда он с трудом взбирался по лестнице, вместе с тошнотой к горлу подкатила тоска. Нет, Костя не боялся, он знал, что Вера Пантелеевна ни ругать его не будет, ни упрекать. Подхватит под руки, тревожно заглянет в глаза, разденет, отведёт в ванную, потом уложит, приговаривая: «Ничего, это пройдёт, сынок, это пройдёт, выпил ты лишнего». А он будет метаться на подушке в поисках удобного положения и не сможет ни на секунду закрыть глаза, потому что сразу всё вокруг поплывёт и с новой силой подкатится тошнота. Ужасающе громко будут тикать часы, такие неслышные в обычные вечера, и, чтобы заглушить тиканье, он начнёт охать и мычать сквозь зубы. А Вера Пантелеевна долго просидит у постели, поглаживая его мокрую руку, и плакать будет тихо, чтобы не услышал.
Предвидя именно такой-поворот событий, Костя затосковал окончательно. Уж лучше ругала бы, легче стерпеть от неё пощёчину, только не слёзы.
Косте казалось, что, когда другие пьют и являются домой в таком непотребном виде, это действительно мерзко, но ведь он — совсем другое дело. И не так уж часто случается, а сегодня — просто недоразумение. Ну перебрал, не рассчитал, бывает.
Как мало требуется времени, чтобы казнить себя, заречься на будущее и успеть простить собственные грехи — всего-то пока поднимаешься на четвёртый этаж. И так не хочется, чтобы были слёзы, тоска в глазах и молчаливый укор!
Но на этот раз случилось иначе — дверь открыл отец. Редкий случай — родитель дома, и в самый неподходящий момент. Он стоял в полосатой пижаме, из разреза которой на груди торчали седеющие волосы.
— А-а-а, прибыл, сынок! Явился — не запылился! Хорош! Отцу бы поставил стопочку. Как думаешь? Отец тебя кормит, поит — не грех и отблагодарить. Вот и посидели бы. А? — Он втолкнул Костю в коридор и продолжал: — Мать всё жалуется: денег нет, денег иет, высылай, а я так вижу, вы совсем неплохо живёте. Пьёте, гуляете Одни, значит, в поте лица хлеб добывают, мотаются по всей России, а другие
Вера Пантелеевна никак не могла протиснуться в узком проходе между массивным плечом мужа и стеной. Она суетилась, привставала на цыпочки, но Лаврентий Иванович, уперев руки в бёдра, перегородил всё свободное пространство.
— Отзынь, мать, тебе говорю! Вот сейчас и посмотрим, как вы бедствуете, с куска на кусок перебиваетесь. Ну, так что пил, сынок? Что ел? Небось «Столичную», а не какую-нибудь «Московскую»? Рыбкой хорошей закусывал, икрой? Конечно, это мы можем колбасу варёную употреблять. Молодёжь нынче разбирается. Нет чтобы матери лишнюю копейку
Вера Пантелеевна не выдержала:
— Господи, ты-то уж много копеек Молчал бы! Пусти, видишь, парень не в себе!
Она решительно оттолкнула мужа, подхватила Косно, сняла с него пальто и увела в ванную.
Потом Костя лежал в постели, отвернувшись от света, пробивающегося из соседней комнаты, и стены плыли и дышали, и страшно было закрыть глаза, потому что становилось ещё хуже. Противно тикали часы, горячей и противной была подушка, противно сопел на соседней кровати Генка.
Только бы уснуть! Уснуть бы! Но настоящий сон не шёл. Это было какое-то промежуточное состояние, когда сновидения и кошмары мгновенно сменялись реальным тиканьем всё тех же часов и Генкиным посапыванием.
Наконец свет в соседней комнате погас. Тяжело охнули пружины старой кровати. — родители улеглись.
Отец ещё долго кашлял, и кашель этот физической болью отдавался в Костиных висках. Потом всё затихло, и Костя мгновенно провалился в забытьё.
Ему показалось, что проспал он долго, хотя прошло всего несколько минут. Сон ушёл, и снова тошнотно поплыла тень от оконных переплётов. Из соседней комнаты через полуоткрытую дверь слышался громкий шёпот:
— Ну что раскудахталась! Небось как я тёпленький прихожу, смотреть не хочешь, хоть сдохни, хоть голова разломись надвое, а как сынок — Лаврентий Иванович снова закашлялся.
— Тихо ты, господи, тебе что дети, что не дети! Месяцами тебя дома не видно. Кто ж смотреть за ними будет?
— Работа такая. Что теперь? Кормиться надо.
— То-то, кормиться! А я тут одна-одинёшенька. «Кормиться»! В тебя Костя пойдёт — руки на себя наложу. Мало одного пьяницы!..
Лаврентий Иванович хохотнул:
— Где ж пьяница? На свои вроде бы пью
— И о нас подумать бы не грех! Двое всё-таки детей. Ты погляди, три месяца не было тебя, а прислал всего сколько шестьдесят рублей.
— Расходы, Вера. В отдалённости, один мужчина
— Знаю я, какой ты один! Сидел бы дома, работал, как все. Нет, тоска тебя берёт, непоседство. — Она помолчала. — Прошлый раз сказала Косте: не пей, мол, зачем тебе? А он: «В отца я, в батю нашего». Глаза б мои не видели!.. - -
Костя знал, что продолжаться это будет долго. Сначала шёпотом и мирно, потом отец начнёт раздражаться.
В конце концов он грубо-грубо выругается, зло вскрикнут пружины, и вскоре раздастся его храп. А мать ещё долго будет вздыхать, сморкаться в платок и плакать.
Как жалел её в эти минуты Костя, сколько раз давал себе слово не огорчать мать! Такая она маленькая, вечно суетящаяся, больная, наверно, хотя никогда не жалуется.
И так достаётся ей! То от отца, то от них, то на работе. Приходит иной раз, плачет, говорит, главный бухгалтер накричал за что-то. Уволит, говорит, он меня, такой - безжалостный. Или на улице обидит кто невзначай, или в очереди. Жалуется Косте — больше некому, — а он начинает беситься и орать, что оторвёт когда-нибудь голову бухгалтеру. Но разоряется Костя недолго. Ему кажется, что своим возмущением он сглаживает обиды, причинённые матери. А она и радуется, что вот защитник растёт, и пугается. «Смотри, — говорит она неизменно, — смотри, сынок, не дай тебе бог вмешиваться на улице! Уходи, ради всего святого, не твоё это дело. Знаешь, сколько хулиганов!» И мать уже плачет совершенно по другому поводу. Ей уже рисуются страшные уличные сцены, когда Костю избили или он сам избил кого-нибудь и попал в милицию. Мать требует, чтобы Костя поклялся её здоровьем, что будет осторожен, будет обходить всякие уличные происшествия и за Генкой приглядывать.
Косте становится скучно. Из защитника он вдруг превращается в подозреваемого. Чтобы уклониться от нотаций и причитаний, уходит в другую комнату или на кухню, но мать не отстаё! , и Костя уже не рад, что поддержал разговор, и старается — как единственное средство — поскорее выскользнуть из дома.
Особенно Костя не любит дом, когда появляется отец, хотя в последние годы это бывает не так уж часто. Только начинают они с Генкой и матерью отвыкать от его громкого хрипящего голоса курильщика, от вечной ругани и постоянных претензий, как он снова появляется, и снова квартира превращается в проходной двор или, как говорит мать, в харчевню. Приходят какие-то типы, отец моментально оживает, суёт Косте деньги и говорит шёпотом: «Сбегай». Костя приносит водку, отец усаживается со своими гостями на кухне, а если вечером, то в комнате, чтобы не мешать соседям, и начинается форменная пьянка.
Костя никак не мог понять, зачем отец пьёт. Собутыльники уже валятся грудью на стол, тыкают вилками в пустые тарелки, уже пьют так, что большая часть водки течёт по подбородкам, а они будто насильно, как лекарство, льют её в себя. Отец же вроде и не пил, вроде очередная рюмка была первой. Он крякает смачно после каждой, сдвигает на край тарелки огрызки и объедки, разыскивает целый кусок колбасы или нетронутую дольку огурца или ломтик розового сала, с удовольствием жуёт и продолжает нескончаемую тираду о смысле жизни, о заработках, о том, как, по его мнению, следует управлять государством, о нынешней молодёжи — и всё самоуверенно, с апломбом, тоном, не терпящим возражений. Эти темы причудливо сплетаются и вроде выстраиваются в какую-то единую теорию.
Собутыльники сначала делают вид, что заинтересованы, поддакивают, говорят, что у Лаврентия государственная голова, потом сникают и лишь мычат бессвязно.
Когда же Лаврентий Иванович наконец выставляет их, наступает очередь Кости и Генки. Он грузно валится на диван, подзывает ребят, и начинается воспитательная работа.
В конечном итоге концепции Лаврентия Ивановича сводятся к одному — как и что надо уметь брать от жизни и что давать взамен. Живём сегодня! Это основной постулат отца. Что будет завтра — никто не знает. Второе: человек ищет, где лучше. И третье: каждый живёт, как умеет. Примеры, естественно, из личной биографии.
И всё-таки его возвращения из дальних вояжей ребята ждали с нетерпением. Отец обязательно привозил что-нибудь интересное, необыкновенное, загадочное. Вот последний раз, например, появилась шкура енота, У кого из ребят есть настоящая шкура енота? В комнате на самом видном месте — рога северного оленя, панты называются. Тоже отец привёз. Откуда у Генки настоящая подзорная труба, медная, старинная? Отец! А дни рождения? Лаврентий Иванович никогда не дарит прозаические штаны или ботинки. Это его не интересует, это забота матери. В те редкие годы, когда дни рождения ребят совпадают с его наездами, в доме появлялись удивительные вещи. Например, электрическая железная дорога. Это же отец подарил, не кто-нибудь! Ворвался в квартиру шумный, возбуждённый, отдуваясь, ползал вместе с ребятами по полу и веселился не меньше их. Такая широкая душа!
Вера Пантелеевна не знала, радоваться или огорчаться. С одной стороны, ребятам забава, но ведь каких денег стоит! Лучше бы действительно штаны или ботинки. Так ведь не выпросишь ни копейки. Лаврентий Иванович кричал, что она скряга и не понимает фантазии.
В эти минуты отец был первым человеком. Конечно, мать выкладывается, каждую копейку сберегает, и все для них, но это как бы норма, этого не видно. А родитель пусть редко, наскоками, но событие, праздник, запоминается.
Если бы Костю спросили, любит ли он отца, сразу, пожалуй, не ответил бы. Однажды ему приснилось, что отец ушёл от них, и горький комок подкатил к горлу, сердце тревожно забилось, стало страшно и одиноко. Но когда Костя видит, как мать, сгорбившись и поджав губы, чтобы не дрожали, убирает со стола остатки очередного пиршества, ему кажется — исчезни отец, и не было бы ни тоски, ни сожаления.
— Я говорю — живём сегодня, — уже не шептал, а хрипел Лаврентий Иванович. — Заладила — «чёрный день, чёрный день»! Если придёт, никто не поможет И ладно, кончай. Спать надо.
На этот раз обошлось без скандала. Костя закрыл глаза и с облегчением отметил, что тошнота уходит постепенно и по всему телу разливается тяжёлая, на приятная усталость. А завтра — воскресенье.
Мусляев познакомился с Ритой в начале зимы на вокзале, когда провожал отца. Михаил Павлович возвращался к месту службы в Воронеж.
Приезжал он в Москву часто, то по делам, то просто удавалось вырваться на несколько дней. И каждый раз, вот уже много лет, сын провожал его. Так было заведено.
Они вошли в купе мягкого вагона. Михаил Павлович привычно и сноровисто устроил чемодан в ящике под нижней полкой, а сумку с продуктами — подальше от тепла, в нише над входом. До отправления оставалось ещё минут пятнадцать, и, чтобы убить эти томительные пятнадцать минут, вышли покурить. Разговаривать было не о чем — все нотации и увещевания уже выданы, домашние дела обсуждены. Оставалось курить.
Ну вот, опять для Михаила Павловича начинается беспокойная жизнь. Его, уже много лет живущего вдали от детей, постоянно обуревал страх, всё время казалось, что с ними вот-вот стрясётся беда, настигнет болезнь или другое несчастье. Человек тихий и слабый духом, он с замиранием сердца бросается в своём Воронеже к телефону па каждый междугородный звонок и первым делом спрашивает прерывающимся голосом, всё ли в порядке у Толика и Клавы, не случилось ли чего — как будто непременно должно случиться что-то, — а уж мотом интересуется здоровьем жены и домашними делами. Часто звонят из дома — он волнуется, почему так часто, звонят редко — беспокоится, отчего нет звонков.
Наконец объявили отправление. Михаил Павлович поцеловал Толика и прошёл в вагон. Поезд мягко и беззвучно тронулся. Толик повеселел. Он не любил, когда кто-то уезжает. Радостно уезжать самому. Все его поездки были связаны с курортом, с отдыхом, с развлечениями. А тут сразу стало грустно и одиноко на неприветливой платформе.
Толик бросил сигарету, примял её и направился было к выходу, ио остановился. По платформе, то появляясь в тусклом свете фонарей, то исчезая в снежном полумраке, вслед поезду бежала девушка. Полы коротенького пальто распахнулись, обнажив мелькающие коленки, шапочка сбилась на затылок. В одной руке у неё была сумка, в другой — пакет, которым она размахивала над головой.
И бывает ведь: раз спешит человек, непременно всё ему мешает, все стоят на пути. Как начинающий автомобилист, не способный объехать ни одного столба, девушка цеплялась сумкой за провожающих, уже потянувшихся к выходу, сталкивалась с другими, не успевшими посторониться.
Когда она поравнялась с Толиком, хвостовые огни поезда уже мелькали в конце платформы.
— Господи! — охнула девушка, бросив пакет и сумку прямо на обледеневший асфальт. — Какая же я невезучая!
Она растерянно взглянула на Толика. В глазах стояли злые слёзы.
— Ну кто поверит, что это просто троллейбус!
Толик растерялся. Девушка смотрела прямо на него, будто именно от него требовала ответа: кто ей поверит?
— Не огорчайтесь, — выдавил Толик. — Другой поезд будет.
— Да я не ехать. Я посылку
Она присела на корточки и негнущимися на морозе пальцами стала заталкивать в сумочку вывалившееся со-
держимое: пудреницу, записную книжечку, авторучку, какие-то бумажки.
Толик успел немного освоиться и пристроился рядом. К нему вернулась находчивость.
— - Слушайте, девушка, неужели это смертельно? Посылка! Стоит ли? Завтра передадите.
— Завтра! Завтра поезд уже будет в Воронеже, и встречать его придёт тётя Дуся. Завтра
Они медленно направились к выходу. Толик нёс злополучную посылку. Девушка постепенно перестала сокрушаться. Лицо её просветлело. Разговорились.
Зовут её Ритой. На вежливый вопрос Толика, чем занимается Рита, она ответила, что работает воспитателем в детском садике, но это вынужденное занятие, поскольку в прошлом году она не попала й Институт иностранных языков — уже второй раз, однако будет пытаться. Ведь сыпалась вовсе не оттого, что плохо знала, — от страха. Дома, уже потом, как говорится, после драки, рассказывала минимум на четвёрку, а как сядет к экзаменатору, ну всё, буквально всё вылетает из головы. И этот жуткий старик по английскому! Про него легенды ходят. Говорят, что, принимая экзамены у собственной дочери на третьем курсе, он швырнул на пол её зачётку, когда девушка что-то там напутала, и чуть ли не пропел: «Шла бы ты, коровушка, домой». С девушкой была истерика, и пересдавала она другому преподавателю.
И ещё Рита сказала, что по ночам ей снятся институтские коридоры и она ужасно завидует всем студентам. Только недавно перестала плакать, вспоминая свои злоключения.
Рита была так трогательна и откровенна, так сокрушалась и вроде искала его сочувствия, что Толику уже через полчаса показалось, будто знакомы они давным-давно и её несчастья — это чуть-чуть и его несчастья.
. Пешком дошли до самого её дома, отчаянно замёрзли и устали. Начали было прощаться, а Рита, погружённая в свои беды, всё не спрашивала, кто же такой Толик, чем занимается.
Наконец, увидев, что он совсем продрог и стал натягивать шапку то на одно ухо, то на другое, Рига сказала, что можно погреться у них в подъезде. И они долго ещё простояли, разговаривая о разных разностях. Только перед самым уходом Рита, как бы опомнившись, спросила, как его зовут и чем он занимается. Толик помедлил немного и ответил, что зовут его Анатолием или просто Толей, он студент МВТУ четвёртого курса.
Толик заранее знал, что так ответит.
Не успел отзвучать сигнал на обеденный перерыв,- а Толик уже разыскал Костю и затащил его в раздевалку.
— Ну, Кот, оклемался? Честно говоря, перебрали мы. Знаешь сколько? Ритуля не в счёт — она почти не пила. Кило четыреста! Это, я тебе скажу, порция!
— Поддали — согласился Костя. — Ещё чуть-чуть, и с копыт долой.
— Я и больше принимал. Ерунда. — Толик опустился на корточки у стены и снизу взглянул на Костю. — Ну, как вечерок?
— Нормально. — Костя пристроился рядом. — Слушай, Мусляй, я всё хотел спросить: ты же тёмный, как валенок, вроде меня, откуда это — лазеры, циклотроны ещё там про что-то пилил? Целый вечер, без остановки!
Толик самодовольно хмыкнул. Стало ясно: именно за этим искал он Костю. Мало быть героем — надо ещё, чтобы люди об этом знали и говорили.
— Есть такое слово, Кот, «эрудиция», понял? Эрудиция!
— Понял, понял! По-русски говоря: мели, Емеля
— Псих! Старшим не надо завидовать, учиться надо. — Толик, смеясь, повалился на бок, чтобы уклониться от Костиного локтя. — Учись, пока я жив!
Костя помотал головой: мол, вот даёт малый! Он немного завидовал умению приятеля быстро находиться, пространно толковать о малознакомых предметах и выгодно подавать себя. Всё это казалось Косте необыкновенно привлекательным и совершенно ему недоступным.
— Слушай, а за кого ты идёшь у неё? Про какие это кафедры молотил, про лаборатории?
— О-о, спасибо, напомнил! Имей в виду: я — студент МВТУ, Бауманского. Усёк?
Костя покосился на приятеля.
— Значит, с работягой она ие пойдёт, Ритуля твоя?
— Это почему? Пойдёт. Только мне самому противно, понимаешь? Что это — сле-сарь, то-карь! Другое дело — э-лек-трон-щик, ки-бер-не-тик! Чуешь? — Произнося эти звучные слова, Толик встал, поднял над головой указательный палец и выпучил глаза. — Каждому своё, Кот. А это звучит!
— Но ты-то при чём?
— Спецфакультет! И ничего объяснять не надо.
— А потом?
— А потом или осёл сдохнет, или погонщик. Что про потом думать — сейчас живём!
— Тебе бы с моим батей потолковать!
Толик будто не расслышал.
— Я, по-твоему, век здесь буду гнуться, на заводе? А с Ритулей, например, под венец пойду? Чудак! Ещё неделька — и готова Ритуля.
— Не поливай! ТЗйдел я, как ты в парадное за ней полз.
— Поливаю?! — Толик даже привстал. — Сама поползёт как миленькая! Результат важен. Вперёд надо смотреть, говорю. Вот ты, отработал, попотел на своём самбо, уткнул нос в кормушку и доволен? Хорошо, а дальше? Думал?
— Чёрт его знает — Костя потянулся. — Как другие, так и я.
— То другие! — Толик не унимался, раздражённый Костиным безразличием. — Ну загремишь . в армию — ать-два, вернёшься, женишься на радостях и будешь сверхурочно ишачить на молочишко. Это же удавиться можно! — Лицо Толика собралось в страдальческую гримасу.
— А ты? — Костя с любопытством взглянул иа друга.
— Я? О-го-го! Я так жить не буду, понимаешь, никогда! Любым способом! Хватит, на отца насмотрелся. Пятьдесят лет, а еле до майора допёр У него такой блокнот есть — Толик презрительно хмыкнул. — Короче, он туда все расходы записывает. Баланс, говорит, семейный. И мою зарплату. Форму носит по пять лет, засаленную. Сам носки штопает! Интендант называется! Мы бедные, но мы честные! Бр-р-р! — Толик нервно заходил но раздевалке. — Всю войну отбухал, а как живёт! Так и тянет до пенсии Матери всё твердит: вот детей поставит на ноги — это нас с Клавкой, — пот тогда вот потом А что потом? Потом — крематорий.
Косте стало не по себе. Таким он ещё не видел Толика.
— Ты что-то, Мусляй, мрачный сегодня. С перепоя?
— Дурак! «С перепоя»! Когда-то надо и мозгами ворочать. Жизнь устраивать. Ты вот, например, ржал как лошадь, когда меня в бюро цеха выбирали. Ржал? А кто я теперь? Начальник над вами, дураками. Собрания, заседания, рейды и всё такое. Свободный выход с завода!
А вы вкалывайте! Каждому своё!.. Чёрт его знает, может, и по комсомольской линии пробьюсь, а? — Толик мечтательно закатил глаза. — Ты посмотри на Лёху Сыркова.
Ещё при нас работягой был. Кто сейчас? Секретарь райкома! Махай руками, загребай — и будь здоров.
— Мусляй, что-то тебя занесло! Лёху каждая собака на заводе знает. Лёха не вылазил отсюда сутками
— Может, ещё скажешь — передовой, порядочный, идейный? Ну и дурак, с идеями труднее Эх, я бы на его месте Ничего, Кот, не выгорит этот номер — другой будет, может, получше. Время есть. Мы и сейчас неплохо живём. Так, что ли? — Толик подёргал Костю за отвороты спецовки. — А ты зря, Кот, зря, у меня получается, скажи? Как я речи толкаю на собраниях? Хуже Лехи, что ли, твоего? Рваться надо, старик, рваться! И весело жить! Пока ещё в люди выбьемся! Времени жалко, Кот.
Нам деньги строить и жить помогают! — Толик захохотал и запрыгал по раздевалке. Потом посерьёзнел, подошёл к Косте, легонько притиснул его к стене.
Конечно, если они не лежат без дела, как у дипломата твоего.
Ну вот, я уже довольно много рассказал про ребят — и про моих обвиняемых, и про других тоже. Гораздо больше, чем знал сам к тому времени. И у вас, наверно, складывается какое-то представление о них. Антипатия рождается или, вопреки всему, симпатия. И вам достаточно.
А мне? В уголовном деле на ощущениях далеко не уедешь. Никуда не уедешь. Я должен не столько почувствовать — услышать должен, проверить, доказать. И не только касающееся самого преступления, но и преступников. Как у нас говорят, охарактеризовать личность полагается.
Что ж, полагается так полагается — я беседовал с людьми, только выслушивать приходилось лишь охи да ахи, сетования на нынешнюю молодёжь, сочувствие родителям и вариации на тему: «Кто бы мог подумать!»
И характеристики запросил, конечно, прислали тут же — на половинках листочков. И ничем они не отличались, эти характеристики, по стилю и сути своей одна от другой.
Про Мусляева написали, что производственные задания он выполняет, ведёт общественную работу, член комсомольского бюро цеха, прогулов и нарушений трудовой дисциплины не допускал. А внизу целый столбик подписей начальства, длиннее, чем сам текст характеристики.
Пименов, оказывается, тоже не прогуливал, не безобразничал и активно участвовал в спортивной работе. Это про самбо. Не просто «занимался спортом», а именно «активно участвовал в спортивной работе».
Какой от них прок, от таких, с позволения сказать, харак-теристик? Но никуда не денешься — я в ходе следствия выяс-няю, что сделал человек, а характеристики должны ответить на вопрос, что он за человек. И по этим компонентам суд будет вершить справедливое дело своё. Вот и верши: «прогулов не допускал », «участвовал » Лишь бы отписаться?
Ладно, бог с ними, с характеристиками и сентиментами друзей и соседей. Можно и по другому разглядеть — кто есть кто. Вот они живые передо мной — Костя, Генка, Мусляй
ТАК БЫЛО
Когда наконец наступало воскресенье и Косте не надо было идти на работу, а Генке в школу, оба спали до ломоты в боках, а потом ещё долго нежились в постели, ровно до тех пор, пока мать пе возвращалась с покупками, о чём свидетельствовали аппетитные запахи грядущего завтрака. Тогда Костя вскакивал и приступал к зарядке. Он прыгал и приседал, сгибался в разные стороны, уперев руки в бока, разминал брюшной пресс, вытянув в струпку ноги, и проделывал уйму других замысловатых упражнений. Генка знал их наперечёт и громко отсчитывал ритм. Он ждал своего часа, когда Костя, вспотевший и раскрасневшийся, грохнется на циновку и скомандует: «Гиря, к бою!» Тогда Генка вскочит с постели и, поджав ноги, усядется верхом на Косте, и тот начнёт отжиматься от пола. Генка будет визжать от удовольствия
и орать по весь голос: «Эй, кобылка, и-но, поехали!» Фокус состоит в том: угадает Генка момент, когда Костя резким рывком попытается сбросить его с себя, или не угадает. И Генка либо полетит кубарем на пол, либо они вместе, сцепившись, покатятся к дивану. Если Генке удавалось удержаться, то в ванную первым шёл он, долго плескался там и фыркал: «Кошошия занята, подождёшь».
То утро выдалось пасмурное, шёл мокрый снег, в комнате было сумрачно и совсем не хотелось вставать. Первым проснулся Костя, но лежал тихо. Потом заворочался Генка, протёр глаза.
— Не спишь?
Костя не ответил и даже не пошевелился. Так и лежал, уставившись в потолок.
— Я говорю: ты что не спишь?
— Думаю.
— Про что?
— Думаю: трепач ты или не совсем?
— Я?! Сам трепач.
— Слушай, Рыжий, как считаешь, Илюхин отец всё дома держит?
— Что держит?
— Ну, золотишко и всё такое А если засадится к ним кто? С приветом? Нет золотишка?
Генка непонимающе взглянул на брата.
— Там же народу полно. Как это?
— Днём все на работе.
— А-а-а, могут, конечно. Ключ, например, подобрать или ещё как подделать.
Костя помолчал. Потом спросил, не глядя на брата:
— А как подделать? Где взять его?
— У-у-у, это ерунда. Ну ну, например я вот, например, могу же отпечатать на пластилин. Я у него дома каждый день почти. Потом выпилить, и будь здоров А тебе что, Кость?.. Слушай, а ты можешь отмычку сделать? Это знаешь ну, в общем, как крючок Я У Ро-бика видел из шестого «А», говорит, любой замок можно. И я сам читал забыл, как называется книжка, тоже из кармана у одного пьяного вытащили ключ, на пластилин — рраз! — и выпилили потом. От сейфа. Там документы были это ещё во время войны.
— А в комнате тоже замок?
— В какой? У Илюхи?.. Ты что?!
— Я говорю, в комнате тоже? — Костя пнул Генку ногой — Из коридора в комнату?
— Тоже — Глаза у Генки расширились. Он отполз в угол кровати. — Только там Илья ножом открывает, когда ключа нет. Через щель
Костя зажмурился и лежал молча.
Потом сказал:
— Ты можешь достать на пластилин?.. Или опять треплешься, как в школе тогда?.. Или век у матери стрелять будем рубли?
Я принял за шутку, когда Костя заговорил о ценностях и ключах. Мы часто болтали с ним всякие вымыслы. Один раз он придумал, что нашёл чемодан с деньгами, и мы прятали от мамы наш старый чемодан, как будто там деньги. Несколько раз мы ходили к булочной, которая на углу, смотреть, как приезжает машина за деньгами, и Костя говорил, что можно вырвать у инкассатора сумку и убежать. Ещё мы слышали, что в палатку утильсырья забрались двое с наганом. У них лица были завязаны платками, как у ковбоев. Кажется, обоих поймали, а наган оказался деревянным. Костя говорил, что идея хорошая, но они дураки: надо лезть, где много денег, раз уж такой риск. Поэтому, когда зашёл разговор насчёт ключей, я подумал, что и это шутка, очередная Костина фантазия, и, конечно, принял участие. Во дворе я нашёл ключ зажигания от автомашины «ЗИЛ» и на куске пластилина выдавил его форму. Правда, сначала спилил буквы «ЗИЛ». Костя долго мучился, но всё-таки сумел выпилить. Однажды мы попробовали. Ключ, конечно, не подошёл. Костя злился, что-то поправлял, и мы снова пробовали, а потом забросили. Через некоторое время он спохватился и снова велел делать оттиск, сказал, что тот, первый, был плохой. Я тянул, мне это надоело, но Костю огорчать не хотел.
Через неделю он сказал, что отдал старый оттиск парню из слесарного цеха. Я знаю его только по фамилии и имени — Климович Женя. Ещё Костя говорил, что Климович может понадобиться, чтобы выносить вещи, так как нам нельзя, нас все вокруг знают.
Климович пришёл ко мне перед самым концом работы. День выдался тяжёлый, свидетели шли, как говорится, косяком — и те, которых вызывал, и без повесток. Человек десять допросил. Спина ныла от бесконечного сидения, плохо слушалось перо.
— Почему вчера не явился?
— Откуда я знал? Только вечером повестку вытащил. Дома и так шум-гам, чуть не растерзали меня родители по вашей милости. Что? Как? За что? Я им своё, они — своё. — Он дружелюбно улыбнулся и, как бы прощая мою вину, заключил: — Ладно, обойдётся.
И мне расхотелось ругать его. Уж больно хорошо улыбнулся парень. А он, удобно вытянув ноги, устроился на стуле, высокий, сухощавый, с необыкновенно крутым, нависающим над глазами лбом.
То ли от усталости, то ли из любопытства я стал разглядывать Климовича. Молчание затянулось. Он несколько раз поднимал на меня глаза, но снова опускал. Потом не выдержал:
— Что-то не так? Что-то не нравится вам?
Нет, всё было так. Одет скромно и по-модному, чуть небрежно. Расклёшенные брюки, широченный ремень, стёганая куртка. Через распахнутый ворот рубашки видна крепкая шея. Русые волосы, коротко подстриженные, лежат на лбу аккуратной чёлкой-клинышком.
— Нет, всё так
Я вытащил чистый бланк. Начали заполнять анкету: фамилия, имя, отчество, год рождения Климович косился на бланк и говорил, не дожидаясь моих вопросов. Когда дело дошло до графы «место работы», я было начал писа ть название завода-, но он остановил:
— Не работаю сейчас. Уволился.
— А что делаешь?
— Ничего не делаю. Тунеядец. — Климович беспечно улыбнулся.
— Как же писать: без определённых занятий?
— Ага Всё неопределённо. На курсы поступлю. На шофёра.
— Сколько классов?
— Десять. Ещё до армии.
— А дальше что же?
— Учиться? Не, неохота. Надоело
Я отложил ручку. Мне тоже ужасно надоело сегодня писать. Климович расценил это как приглашение к объяснениям — отчего и почему неохота ему учиться. На его лице отразилась скука, голос потух, и он, по всей вероятности в который уже раз, заученно выдал спасительную формулу:
— Не идёт учёба. Тупой.
— Тупой? Ну что ж, и это неплохой способ, извини за выражение, отбрехаться.
— Да нет, серьёзно. — Климович обнажил прекрасный ряд зубов. — В школе, например, собственные сочинения боялся перечитывать. Так и отдавал — пусть учителя мучаются.
— Ошибки?
— И стиль. Когда говорю, сносно получается, писать начинаю — не на что смотреть. Ну, в общем, не хочу больше. Не всем же учиться.
— Понятно. На производство, значит, к станку?
— Во-во
— Сколько ты у станка простоял?
— Полтора уже года.
— Уже! А теперь без определённых занятий? Так, видно, и работать тебе неохота? А? Ничего неохота!
— Почему это? — Климович искренне удивился.
— Видишь ли
Ну какого дьявола я опять сползаю со своей стези сыщика? Мне бы к делу, за которым позвал. Так нет же! Поучать тянет. Болезнь прямо. Короче — не удержался:
— Видишь ли, к станку хорошо, когда именно к нему хочется. Тогда понятно: не всем быть инженерами, мне хочется к станку. Хочу быть, положим, слесарем. Так ведь хочу! Чего-то хочет человек. Хочу быть шофёром. Прекрасно! Но ты-то не от хочу, а от не хочу. Не хочу учиться, пойду в слесаря, не хочу слесарить, пойду шофёром. Скажи пожалуйста, стиль у него плохой!
Я утомился от длинной тирады и замолчал, исчерпав свой педагогический порыв. Климович сидел неподвижно и глядел на меня с любопытством. Потом потянулся до хруста в костях и снова заулыбался.
— Один раз захотел, да расхотел быстро Смеху было! Поехал сдавать в военно-морское училище. Дошло до сочинения, и тут меня стукнуло: ёлки-палки, что это я сам под воду лезу? Ни солнца, ни света. Взял сдуру и написал на листке: «Рождённый ползать, нырять не может». И начал вещички собирать. Вызвали, показали листок, а там приписано: «Ползать можешь, нырять научим». Не оценил юмора, упёрся. Так и отбарабанил матросом. Служить всё равно надо. — Климович замолчал и задумчиво уставился в окно.
— Вот так, дорогой мой, хватишься, да поздно будет! Уже ничего не захочется — ни слесарем стать, ни шофёром. Вместо обыкновенного не хочу найдутся оправдания — поздно или ещё что-нибудь. И готов! Бросовый ты человек. Сейчас не поверишь мне, но смотри не опоздай.
С делом нашим покончили быстро. Я заранее знал, что Климович расскажет, как обратился к нему Костя Пименов и попросил выпилить ключ по оттиску. Климович объяснил мне, что не стал расспрашивать про ключ. Обыкновенное дело — может, потерял или ещё один понадобился.
— Значит, не знал, зачем этот ключ?
— Никак нет, вынужден огорчить, не поинтересовался.
— Что с оттиском стало?
— Выбросил, надо полагать. А что, свидетелем всё равно буду?
— Всё равно.
— Попал! — Климович хлопнул себя по коленям. — Так, может, скажете хоть, что они там нарисовали? На заводе целая каша. Гудят — кто что.
— Суд будет — узнаешь.
— Значит, не полагается. Ну ладно. Свободен? Больше не вызовете? Тогда повесточку отметьте.
— Ты же тунеядец?
Климович удивлённо поднял брови, потом сообразил, рассмеялся и широко зашагал к двери.
ТАК БЫЛО
Кусок пластилина с оттиском злополучного ключа Костя принёс на завод в отцовской коробке из-под табака «Золотое руно», думал ещё раз попробовать выпилить. Потом решил, что опять не получится — всё-таки он не слесарь, а фрезеровщик, и сноровки нет, и инструмента подходящего. Нужен слесарь. Почему выбрал Климовича, сам не мог объяснить. Свой, говорит, парень.
В огромном слесарном цехе Костя не сразу нашёл Климовича. Тот стоял у верстака в спецовке с закатанными рукавами, под которой в такт движению рук монотонно ходили лопатки. Костя тронул его за плечо. Климович оглянулся не сразу. Ещё несколько раз взмахнул напильником, ловким ударом освободил деталь из тисков и завершил ею очередную пирамидку. Потом вытащил засаленную пачку сигарет и кивнул.
Они вышли на лестничную клетку, закурили.
— Ну, что, Кот, решил, значит? Смотаем сегодня? Среда как раз.
— Я же не понимаю в лошадях.
— Попробуй! Играть не обязательно. Зрелище! Люди, свежий воздух. Пивка выпьем. Поставим разок-другон. Пара рублей найдётся? А то у меня есть. Сегодня большой день. Интересно будет. Отвечаю.
— Погоди. Посмотрим. Дело к тебе. — Костя достал коробку и извлёк оттуда пластилин. — Можешь? Болванку я дам.
Климович едва взглянул.
=. Могу. Смотаем на ипподром — сделаю.
— Не торгуйся, не на базаре.
— Нет, серьёзно, Кот, баш на баш! — Климович оживился: — Ты со мной на бега, а я тебе что там надо? Ключ? Сделаю.
— Когда начало?
— Во, молоток! Сразу после смены и махнём.
Ипподром на Костю не произвёл никакого впечатления. Лошади чавкали по грязи, перемешанной с талым снегом. Картинные наездники в разноцветных камзолах сидели нахохлившись, свесив ноги с двухколёсных тележек. На трибунах, тоже нахохлившись и пряча от холодного ветра носы, прохаживались группами и в одиночку унылые посетители. Было скучно. Только в момент финиша очередного заезда наступало оживление. Люди торопливо подходили к барьеру, вытягивали шеи и так замирали. С разных концов трибуны раздавались нестройные крики. И снова всё затихло. Одни отходили — даже не раздосадованно, а как-то по-деловому, другие так и оставались у барьера, и только единицы торопливо проталкивались к кассам, сжимая в руках счастливые билетики.
Климович чувствовал себя радушным хозяином и всячески старался заинтересовать Костю.
— Вот, теперь смотри. Чтобы выиграть, надо поставить или на одинар, это на одного рысака, или на дубль, значит, на двух Нет, ты слушай: дубль — это надо уга-
дать победителей в двух заездах. Тогда куш твой. Можно и комбинировать. Жутко интересно!
— Жутко! — Костя хмыкнул и нахохлился.
Сильно дуло.
— Погоди ты! Сейчас мы с тобой игранем. Вот эта тёмная, значит, не фаворит. На ней можно прилично сорвать. Понимаешь? — Климовичем овладел азарт. Куртку он расстегнул, шапка сбилась на затылок. — Если фаворит, то все ставят, а выигрыш плёвый — рубля два-три. А эта, — он опасливо оглянулся, не подслушивает ли кто, — эта тёмная, её давно готовят, верный человек говорил, а сегодня она попала с фаворитами в заезд и уделает их.. Да не эта, куда смотришь? — Он снова зашептал: — Вой, у четвёртого столба. Наездник в белом камзоле, ну гнедая, видишь? — и совсем уже тихо назвал имя лошади.
Костя не расслышал — то ли Вышка, то ли Пышка, — но стал следить за ней. Лошадь как лошадь, невидная, забрызганная грязью. И у наездника вид тоже какой-то грязный. Но тёмная так тёмная. Он вытащил последние два рубля и отдал Климовичу. Тот побежал к кассе.
Когда подошла очередь их заезда, Климович и Костя протолкались к самому парапету.
— Наше будет счастье — по тридцатнику или больше отхватим.
— Отхватим! — Костя усмехнулся. — Я вижу, тут у вас отхватишь!
Лошади приняли старт дружно. Пышка или Вышка оказалась второй и-довольно бодро чавкала по грязп. Прошли поворот и почти всю противоположную прямую. Потом, как-то вдруг — Костя не успел оглянуться, — она оказалась рядом с первой. Вдвоём, опередив остальных, они и появились на финишной прямой. Трибуны действительно загудели больше обычного, видно, это и впрямь было сюрпризом для знатоков.
— Ну, ну, голубушка! — Климович до боли-5 стиснул Костимо плечо. — Ну, ещё, ну чуть-чуть!
И как бы услышав его, Вышка — оказывается, это была Вышка — легко стала отрываться. Вот уже последний соперник остался позади.
Тут и Костю охватил азарт. О деньгах он думал меньше всего, но теперь это был спорт, соревнование. Костя свесился через барьер и впился глазами в гнедую. А она, будто подвластная его воле, почти у самого столба перешла на галоп и финишировала первой. Костя затряс кулаками и заорал, как доводилось на футболе.
Однако Климович почему-то не ликовал. Костя закрыл рот и удивлённо посмотрел на его кислую физиономию.
— Чего орёшь, темнота? Она же галопом прошла. Не считается. Только срамиться с тобой.
Оказывается, всю дистанцию лошадь должна пройти рысью и финишировать тоже рысью.
Они отошли от барьера. Закурили.
— Ты не обижайся, Кот, что пропали твои рублики. Ведь чуть-чуть — и порядок.
— Да брось ты, игра А вот которые часто ходят, бывают с прибылью? Не за один раз, а вообще?
Климович усмехнулся. Он тоже остыл.
— По-моему, все в проигрыше. Правда, один малый тысячу выиграл недавно. Дуракам счастье.
— Неплохие деньги. Только не про нас.
— Не скажи, бывает!
— Жди у моря погоды.
— А чёрт с ним, зато удовольствие!
— Без денег?
— Ну, а если нету, где взять? — Климовича, кажется, меньше всего занимала эта проблема. — У меня старики не берут зарплату.
— А я полтинник в день имею, на обед. — Костя сказал это так, будто стыдился своего убогого положения
— Сурово! — посочувствовал Климович. — И не подхалтуришь с пашей работой.
— Значит, по-другому надо. Сюда с деньгами приходить хорошо, а добывать здесь, смотрю я, пустое дело.
— Л где?
— Вот сделаешь ключик, и никаких лошадей не надо . — Это как?
— Есть па примете хата одна. Там полно. — Костя смотрел мимо Климовича, будто разговор шёл о чём-то малозначительном и не стоящем сосредоточенности. — Зайдём, уйдём — и всё в порядке.
— Что-что?
— А вот то!
— Шутить, Кот! Воровать?
— Бог велит всё делить.
— Ладно трепаться! — Климович явно не принял всерьёз Костиной болтовни. — Ключик. Старо. Надо современным, научным способом.
Костя безразлично посасывал сигарету, всем своим видом демонстрируя, что это действительно трепотня. Климович тем временем продолжал балагурить:
— Ну, доведись мне. Гипноз, например. Научиться можно. Или эфир. Знаешь эфир?.. Эфир, говорю, знаешй?
— Это который к моторчикам на модели?
— Пускай на модели. Медицинский препарат. Наркоз дают при операциях. Подышит человек, и делай с ним что хочешь. Спит. А проснётся — не помнит, что было.
— Поливай больше! Не помнит!
— Я тебе говорю! Наркоз же. По-научному называется В общем, выпадение памяти.
— Это тот, который на моторчики?
— Тот самый!
— С умным человеком поговорить приятно.
— Это точно Посмотрим, что ли, ещё пару заездов?
— Посмотрим. Но ключик ты обещал?
— Сделаю, ладно. От квартиры твоей? Потерял?
— Пускай от квартиры.
Когда Пименов при очередной встрече — это было на заводе примерно 15 марта — сказал, что с ключами ничего не выходит (замок почему-то не открывается), я даже обрадовался. Я подумал: очень хорошо, пиболти-ли, и хватит. Это же действительно жуткая затея. Какой-то дурман опутал. Ведь кражами я никогда не занимался. Мне, правда, очень в то время нужны были деньги. Мы почти каждый день встречались с Ритой Серединой, и я водил её то в ресторан, то в кафе, то в другие места. Бывало, что и в театр, и всегда платил сам. Рита мне очень понравилась. Она не была похожа на других девушек, которых я знал. Я могу даже сказать, что влюбился и очень хотел ей понравиться. Один раз она была у нас дома, и родители сказали, что она действительно хорошая девушка. В общем, мне нужны были деньги. Но я всё-таки обрадовался, когда понял, что наша с Пименовым затея лопнула.
— Это очень жаль, Кот. Простейшая вещь — сделать ключ, и не получилось. Так дела не делаются Вот невезение! Именно когда во как надо!
Костя почувствовал себя чем-то виноватым перед Толиком.
— Не жалей, Мусляй, неохота стало вязаться с Климовичем. А мы ещё хотели его с собой брать. По-моему, правильно я прикусил язык. Воровать, говорит, что, мол, треплешься! Я и заткнулся. Вроде пошутил!
Толик как бы не услышал Костиных оправданий.
— Да, жаль! Такие варианты не каждый день. Ладно, забудем, как говорится.
— И потом, что бы ещё вышло — продолжал Костя, ища глаза Толика. — Это ведь от входной двери ключ, а дальше?
— Ну, как знаешь! — Толик был холоден и, казалось, не расположен к продолжению беседы.
А Костя — ну что за характер! — не мог отделаться от ощущения своей вины. Чуть ли не обидел друга. Уж так нужны Толику деньги, ведь сам сказал. И задолжал ему порядочно
— Знаешь, что он мне говорил, Климович? Говорит, это примитивно, старо — ключ. Лучше, говорит, эфиром. Наркоз. Засыпает человек, если понюхает. Научно.
— Кто засыпает? Ну и что?
— Засыпает и не помнит потом.
— Ну и что? — Толик явно не уловил сути.
— А если этого малого эфиром?.. Он же приятель Генкин, брата.
— Да ладно тебе!
— Нет, серьёзно. Покумекай.
— И что?
— Уснёт. А нам пять минут надо.
— И помнить не будет?
— Климович божился. У него мать врач.
— Ну-ка, ну-ка, ещё раз.
— Я тебе говорю — устроим. Генка поможет. Он парень ушлый.
— Так-так, любопытно. Кот, кажется, ты начинаешь соображать. — Толик явно заинтересовался. — Это я тебе говорю, Анатолий Михайлович Мусляев. Так А где эфир достать?
— У пего же, у Климовича. Мать у пего врач. Скажу, для моторчика.
— Подожди Кажется, в этом что-то есть Говоришь, попробовать?
— Попробуем! — Костя был почти счастлив: пашелся-таки выход! И Толик доволен. — На Генке и попробуем.
Пименов буквально уговорил меня. Я отказывался, отнекивался, но он ничего не хотел слушать. Давай, говорит, усыпим эфиром. Просто и хорошо. Я сделал вид, что согласен, так как был уверен, что всё равно ничего не получится. Сразу отказаться неудобно. Я же вроде поддерживал сначала идею с кражей.
Толя был раздражён и угрюм. Таким Рита не часто видела его. Он не стал, конечно, объяснять, что угрюм потому, что в кармане всего рубль, а раздражён потому, что на улице мерзкая погода — то ли снег, то ли дождь, — а Рита вот уже который вечер не соглашается пригласить его домой. Одно из двух — или где-нибудь поразвлекать-ся, или уж сидеть дома, в тепле. Он знал, что Рита живёт только с отцом и часто бывает одна. Хватит стоять в подъезде и вздрагивать от звука шагов по лестнице!, И потом, он же любит Риту и сказал об этом. Дети они, что ли?
— Пойдём тогда в парадное. Там хоть батарея.
— А разве холодно? Холодно тебе?
Оттаявшие за день тротуары прихватило прозрачным, хрустящим под ногами ледком, и на фоне мостовой одинокие сугробы выглядели неестественно, будто привезённые издалека и оставленные на время. Рита шла немного впереди, близоруко щурясь на уличные фонари. Толя брёл сзади и раздражённо сшибал льдинки.
Настроение его чуть исправилось, когда увидел, что в подъезде не горит свет.
Рита запротестовала:
— Что это такое? Я не хочу в темноте. Боюсь!
— Меня? Ну давай постоим.
Они вошли и пристроились у батареи. Почти каждый раз, когда Толя провожал её, они стояли вот так. Раз-
засыпающей Москве.
говоры были односторонними — говорил Толя. Об институте, о товарищах. Смешные случаи вспоминал. Рита не могла понять только одного: о каких это секретных делах упоминал он как бы невзначай? То на операции были — не выспался, то скажет, задержали типов одних — повозиться пришлось, чуть не опоздал к тебе. Какое это имеет отношение к нему, студенту МВТУ? Она спросила как-то, но Толя отмолчался, сказал, что про это нельзя. Больше Рита не осмеливалась расспрашивать, хотя было любопытно. Что-то загадочное проскальзывало в нём, необычное.
Толя нравился Рите. Она уже давно, наверно месяц, как поняла это, но когда первый раз в подъезде Толя попытался её поцеловать, вся сжалась и отпрянула, так что ударилась головой о батарею. Нет, не такая она маленькая, но отношения с Толиком стали казаться со вре- — менем очень серьёзными, и она боялась дать себе волю, боялась того, что могло быть дальше. А Толя становился всё более настойчивым и нетерпеливым. Он говорил: значит, она не любит его, раз так ведёт себя. Рите было обидно. Подружки тоже уверяли, что она несовременна, и, значит, парень быстро охладеет.
Не может быть, ведь он сказал, что любит!
Когда Рита сообщила об отъезде отца в очередную командировку, он пришёл на свидание с бутылкой коньяка и объявил, что сегодня они проведут вечер наедине у неё дома. От неожиданности и обиды Рита расплакалась. Толя испугался, стал утешать и объяснять, что совсем не то имел в виду, а просто хотел побыть с ней вдвоём, посмотреть, как она живёт.
Ещё через несколько дней он сказал, что вот наступит лето, родители уедут на курорт, и они с Ритой смогут приходить к нему домой. Это было приятно. Рита считала, что уж к лету отношения между ними определятся, а слова Толи воспринимала как свидетельство упрочения их любви.
Вот и сейчас, стоя у батареи, Толя заговорил о том же.
— Знаешь, Ритуля, так относятся к обыкновенному ухажёру, с которым встретились раз-другой и разошлись. Почему ты боишься оставаться со мной наедине?
— А ты не обыкновенный? Правда?.. — Она потупилась и замолчала. Молчала долго.
И Толя вдруг почувствовал, что это не просто так, сейчас должно произойти очень важное, решающее. Вот сейчас
Не поднимая ресниц, Рита взяла его за руку, и они быстро стали подниматься по лестнице
Эфира была целая бутылка, граммов двести. Костя достал его по рецепту, который дал Климович. Ещё Костя сказал, что это очень сильный наркоз, но не известно, как с ним обращаться. Придётся попробовать на мне. Сначала я обрадовался, а потом испугался: может, я вовсе не проснусь! Однако брат успокоил и объяснил, что эфир очень летучий, быстро выветривается, и я обязательно проснусь, только помнить не буду, как мне его давали и кто давал. Я всё равно боялся, но Костя заорал, что со мной лучше не связываться, что я трус, говорил, что всё будет в порядке — он отвечает. Сначала мы открыли бутылку и просто понюхали. Запах был резкий и сильный, но ничего, терпеть можно. Костя уложил меня на диван, велел закрыть глаза и дышать глубоко, а сам намочил вату и дал понюхать. Я вдохнул несколько раз, но ничего не почувствовал. Костя решил, что мало эфира, и намочил большой клок ваты. Я снова вдохнул, но вата щекотала, и я засмеялся. Костя стал кричать, что я валяю дурака. Мы попробовали ещё раз. Я дышал эфиром довольно долго, а он стоял тихо и ждал, когда усну. Мне стало жалко Костю, и я притворился, что по правде уснул, даже захрапел. В голове чуть-чуть помутилось, но совсем немного. Я слышал, как Костя отошёл от диванее и сел на стул. Он, наверно, смотрел на меня. Пролежал я минут десять. Больше не выдержал — очень хотелось смеяться. Костя стал спрашивать, что было. Я сначала сделал вид, вроде совсем ничего не помню, о чём говорили, как нюхал. Сказал, что мне снился сон. Вроде мы с ним в Сочи и пьём «Хванчкару». Костя всё допытывался, правда ли, что я ничего не помню. Потом стал рассказывать, как давал мне эфир, как я смеялся и не засыпал сначала. Я же говорил, что он врёт. Короче, Костя был доволен, сказал, что это гениальная идея. Но я-то знал, что всё это чепуха. Мы стали обсуждать план действий. Костя сказал, что Толик хочет сам сначала побывать в квартире Ильи и надо это устроить. Я говорил Илье раньше, что брат может выпилить настоящую финку. Илья спросил, нельзя ли и ему. Так вот, мы решили, что я скажу Илье, вроде Костя и Толик согласились и надо встретиться и обсудить.
Утром, когда я пришёл на работу, в коридоре ждал Климович. Так же, как и в первый раз, он сидел на стуле, развалившись и вытянув длинные ноги.
Я не ответил на его широченную улыбку и холодно поздоровался. Потом прошёл в кабинет и долго не звал его, пока раздевался, по телефону разговаривал, какие-то бумаги перебирал. Наконец самого обуяло нетерпение.
Заговорил он от самого порога:
— В походе был, на Валдае. Даже загорел. Правда? Сил набирался. С понедельника на курсы. А вы говорите — без определённых занятий. Это я по желанию
— Ладно, желания твои потом обсудим.
Климович, видно, почувствовал неприязнь в моём тоне. Он посмирнел и уселся на стул, но уже не вытягивал ноги.
— Вы же сказали — не вызовете больше?
— Мог и догадаться, что вызову, раз врал.
— Я?
— Вот, прочитай: свидетель несёт ответственность за дачу ложных показаний. И распишись, что предупреждён.
Климович расписался, даже не взглянув на текст.
— Ну расписался! Дальше что?
— Дальше расскажи про ипподром, про эфир, про то, зачем понадобился Пименову ключ.
Климович было вытянул ноги, но снова подобрал их. С минуту он сидел, уставившись в пол. Потом поднял глаза и улыбнулся.
— Вот вы про что Так это же болтовня. Трепач он.
— Выходит, не трепач.
— Теперь выходит Кто мог подумать? Ерунда какая-то Он же нормальный был! Он наболтал, я бы вам наболтал. Одпй разговоры.
— Разговоры?
— А что?
— Или у тебя память отшибло, Климович, или мы не понимаем друг друга. Я же сказал — выкладывай всё, что было.
— А что было? Что?
— Я должен сказать?
— Нет, я скажу, только не знаю о чём.
— Рецепт, например
— А-а-а Так при чём рецепт? Пожалуйста, я скажу.
— Сделай одолжение.
— Костя попросил выпилить ключ. — Климович говорил размеренно, как бы диктуя. — Я не поинтересовался зачем. Потом па ипподроме начал нести какую-то ересь про квартиру, где можно деньги достать. Я смеялся, говорил, что это не научно или что-то в таком роде. Сказал, что есть новейший способ — усыпить эфиром. Это же бред! И ещё сказал, что память потом отшибает. Говорил? Точно, говорил. Все знают, что у меня мать врач. Ну вот я честно, честное слово Дня через два он забежал ко мне в цех, сказал, что для моторчика, ну для модели авиационной, ему нужен эфир. Попросил достать рецепт, раз, мол, мать врач. Я достал. Всё При чём рецепт? Они же просто Не пойму, что я врал?
Что? А действительно — что? Я спросил — он ответил, я не спрашивал — он промолчал. Бред, говорит Может, и впрямь не пришла в голову такая возможность: его приятель нормальный парень — и вдруг преступление, да ещё какое!
Ну вот представим себе: мой знакомый, пусть двадцать лет назад, говорит: «А знаешь, не взорвать ли мне госбанк? Ты одолжи свой велосипед, я смоюсь на нём». Бежать в милицию — мой приятель хочет госбанк взорвать? Бред!
Что я должен сказать Климовичу? Ты не проявил бдительность, ты должен был заподозрить? И рецепт не следовало давать, и сообщить куда надо?
Вот уж действительно можно чёрт знает до чего дойти.
ди. Не преступники. Климович живого преступника, может, и в глаза не видел. Кого? В чём? Почему подозревать? Оглядываться? Прислушиваться? Он ведь дал довольно безобидную вещь — эфир. Не нож, не пистолет. Что же мне, сказать Климовичу: вот видишь, оказывается, бывает и такое, в другой раз изволь не хлопать ушами? Будь бдительным?
С другой стороны, прислушайся он, заподозри, сообщи — и не случилось бы того, что случилось. Но этак можно превратиться в испуганного, вздрагивающего от каждого шороха человека.
Бр-рр! Это немыслимо! У меня просто не поворачивается язык сказать такое. Я даже боюсь, что услышу от Климовича: мол, в следующий раз буду знать, буду внимательным, осторожным, бдительным. Значит, преступление, и так принёсшее столько беды, обернулось ещё одной, пусть не сравнимой, но бедой — прибавило нормальному парню трусости, подозрительности, изменило, сдвинуло точку созерцания мира.
Нет, не надо ничего говорить Климовичу. Если он убеждён, что по свету ходят хорошие люди, которые не могут делать гадости, пусть так думает и каждую встречу с мерзавцем — а они, увы, будут — воспринимает как исключение. Не надо сбивать парня. Он и так на распутье.
Школа, где учились Дробот, Генка, а раньше — Костя Пименов, встретила меня весёлым гамом перемены. Я с трудом пробирался по коридору, всё время рискуя поплатиться за свою смелость. Проникнуть в это царство движения и бьющей через край энергии, которые мучительно сдерживались целых сорок пять минут урока, — почти подвиг. Смех, крики, топот! Всю переменуяжлпл директора, и буквально ня моих глазах свершилось давно забытое чудо, когда магический звонок вмиг разбросал по классам весёлое и шумное племя. Простукали каблучки учительниц, и всё затихло.
Боже мой! Сколько же я не был в школе! Подумать страшно! Где-то глубоко-глубоко шевельнулось знакомое ощущение. Это не всякому дано — видеть опустевшие школьные коридоры. Это когда тебя выгоняют с урока. А я видел пустые коридоры, и не раз
О встрече договорились заранее. Все свободные от уроков учителя уже собрались. Был здесь и директор, и завуч, и, кажется, даже представитель роно. Конечно, ЧП! В беспокойных школьных буднях это всё равно ЧП, да ещё какое!
Встретили меня как вестника беды. До сих пор были одни разговоры. Говорили так, говорили этак, но конкретную информацию несу я. Потому было тревожно в учительской. Тревога чувствовалась во всём: и как меня представляли, как здоровались и ждали, когда сам заговорю.
И я растерялся. Сесть или говорить стоя? Увы, я уже давно не школьник, но всё равно — учителя! Это укореняется с детства, как говорить «спасибо» или уступать место старшим.
Рассказал, что знал к тому времени про кражу из школы, про Димку, Костю, Генку. Я как-то уже привык за короткий период следствия называть их по именам, но директор вежливо поправил меня:
— Вы имеете в виду Дробота и Пименовых?
Костю Пименова помнят плохо — уже три года, как он оставил школу. Незаметный, ничем не примечательный.
Дробот? Поразительно! Способный мальчик, никаких нарушений, ничего такого. И семья Надо же
Вот Гена Пименов — это да1 Шалун, каких мало. Сладу не было. Мать только жалели. Достаётся ей! И болел, и отец что-то у них Но всё равно никто бы не подумал1 Это. прямо, надо сказать, ни про того, ни про другого.
Проглядели, получается, не распознали. Виноваты, куда денешься. На всю школу пятно. Так старались, столько вкладывали. Всего семь лет школе — новостройка. Пока актив создали, пока не ладилось — и на тебе!
— Нет, мы не оправдываемся, не подумайте, ради бога! — Директор спохватился, как бы я не истолковал превратно его слова. — Виноваты, что ж теперь
Виноваты! Это как? В любом школьнике видеть потенциального преступника? Ходить за ним? Подозревать? Виноваты Или должность у вас такая? За всё-то в ответе себя считаете: и за что действительно обязаны отвечать, и за то, что не в силах предвидеть и предотвратить. За чужие грехи! «Безобразничаешь, а мы отвечай за тебя!», «Ты подумал, что весь коллектив страдает?» И растёт Дробот или Пименов с ощущением, что не один в ответе. Есть учителя, родители. Набедокурил, а учитель: «Смотри, узнает директор, попадёт нам!» Или мать: «Не проведал бы Отец, достанется нам с тобой». Нодгебе одному - нам. Проходит время, взрастают Дроботы и Пименовы, но оказываются под новой опекой. Провинится на службе бородатый дядя, отец семейства, а песенка та же: «Проглядели», «Все мы виноваты». И не поймёшь тут, кто за что отвечать должен. Иной раз проглядевшие страдают и казнятся больше виноватых.
Так, может, не будем тогда искать виноватых? Это наша общая беда. Я посоветоваться пришёл, за помощью, а не обвинять. Пусть сурово это, но мы с вами по одну сторону, они — по другую.
Так пусть отвечают! Сами! Одни! Без скидок! Никто не заслонит, не примет на себя.
Директор был немногословен.
— Обсудили мы здесь и решили. Пименов Геннадий — это, как я понял, ваша власть, тут мы ничего не можем. А вот Дробот Проще всего, конечно, вон! Украсть, да ещё из своей
школы! Мы тогда прямо головы изломали: кто мог? Но, право же, с чистой совестью — никого заподозрить язык не повернулся Виноваты и ответственность с себя не снимаем
— А в чём? Извините, что перебиваю. В чём виноваты?
Директор запнулся и непонимающе взглянул на меня.
— Это наши ученики
Вот так. Они сами возложили на себя ответственность и только сами могут снять её. Посторонний, вроде меня, — не судья им.
Директор тем временем продолжал:
— Ну что, выгнать Дробота из школы? Как я понял, в тюрьму его не посадят, даже если будет суд.
Я подтвердил, что скорее всего не посадят. Первый случай. Учтут характер преступления, роль Дробота.
— Так что же, — кивнув, продолжал директор, — паршивую овцу из стада вон? Думаю, это всегда вредно овце и не всегда полезно стаду. В другую школу отец пристроит. Полагаете. другие должны из ДроботгГ делать человека? Не мы? Вот какая история Скажите, а возражения будут, если наш коллектив поручится за Дробота? С чистой совестью.
Я ответил, что возражений, надо полагать, не будет.
— А сколько ты рассчитывал взять у Рытовых?
Мы уже давно обговорили с Пименовым деловую часть и всё записали, но ему не хотелось уходить — опять в камеру, опять к своим мыслям. И я не торопился.
— Сколько? — Он мечтательно закатил глаза. — Тысяч десять, а то и больше.
— Ну, положим, достались они тебе. Или даже больше.
— Ого-го! Какую бы я жизнь устроил королевскую!
— Ладно, давай представим: наступило утро и проснулся ты богатым. Дальше?
И я услышал, что было бы дальше. Значит, проснулся бы он на квадратной постели под пологом, сделал зарядку и прошествовал в ванную комнату. А там не просто ванна, а вроде бассейн, весь в чёрном кафеле — и пол, и стены. И полотенца в целый рост, махровые.
Что ел бы на завтрак? Устриц, например. Я, как мог, объяснил, что устриц не едят за завтраком Даже самые богатые люди. Пища эта совсем другого назначения. Правда, я сам не знаю толком, какого она назначения, но договорились — за
завтраком ou будет пить просто какао. Потом развалится на кушетке п под звуки транзистора станет разглядывать заграничные журналы — хорошенькие гёрлс, спорт и прочее. Потом потом поедет на бега деньги проигрывать. Вечером ресторан — джаз, шейк. Среди ночи домой. Хорошенькая горничная в наколочке уже приготовила постель. Красота!
Завтра что? Ванна-бассейн, какао, гёрлс, на яхте покатается. Ресторан, шейк, горничная в наколочке
Послезавтра? Ванна-бассейн, какао, гёрлс
— А потом?
Он вскинул на меня ещё полные азарта глаза. Но вдруг взгляд его потух и голос потух.
— Думаете, нельзя так без дела?
— Озвереешь!
Я понимал, что Костя куражится и пи о каких горничных и яхтах не думает. Он тоже понимал, что я понимаю. Просто игру такую предложил мне. Решил иносказательно объяснить свою жизненную позицию. И я принял условие.
Но, чёрт возьми, откуда это? У него, у рабочего парня? Начитался? На экране увидел? Наслушался?
Я просматривал его библиотечный формуляр. Ничего подобного! Приключения, научная фантастика, научно-популярная литература, а вовсе не из жизни светских бездельников.
— Не знаю я. — Теперь, кажется, разговор пошёл всерьёз. — Мать долбит: трудись, трудись, тихо, скромно, человеком будешь. Это не про еду-питьё — вообще. А я не хочу тихоскромно Отец? Ну батя у меня с размахом только нет, мне это тоже не нравится. Не знаю! Вот и всё!
Мы помолчали.
— Я что же, объяснять должен?
— Нет, не должен. Это я так, для себя.
— Значит, почему и как преступления совершаются?
— Значит.
— Ну и напишите, где надо, — тунеядец, лодырь. Работать не хотел, пошёл воровать.
— Слабо.
— А что же ещё? Что я, голодный был? Раздет-разут?
— Ия говорю.
Так мы зашли в тупик.
Механически я нажал кнопку вызова дежурного. Но мы ещё долго сидели. И молчали.
Дверь отворилась неслышно.
— Можно уводить?
Костя вскинул глаза. Расширенные, потерявшие обычный цвет. Что-то надломилось в нём.
— Всё?
— Всё.
— Уже?
Он попятился к двери, задел плечом дежурного и замер на пороге, беззвучно шевеля губами. Потом сглотнул.
— Наврал я.
— Что?
— Наврал про жизнь.
— Я знаю.
Дежурный перевёл взгляд с него на меня; потом обратно и тронул его за плечо. Костя дёрнулся, будто к нему прикоснулись раскалённым железом.
— Вы понимаете? — Это он уже крикнул.
— Не очень.
— Тогда всё?
Что — всё? Чего ты ждёшь от меня? Не пойму. Чтобы разделил твои недоумения? Пришло время? Тебя охватило отчаяние? Одиночество сдавило? До сих пор ты был устремлён в будущее, пытал судьбу. Теперь вдруг прошлое встало перед тобой. Понять хочешь, осмыслить, разобраться?
Нелёгкая задача. Даже со стороны. Даже умудрённому опытом. Это же не какое-нибудь хулиганство — напился, подрался. Умышленное тяжкое преступление совершает личность, сформировавшаяся и подготовившая себя. Значит, Костя сформировался. Но как?
Провести прямую от нежелания трудиться к тяжкому преступлению? Примитивно. На папу-хапугу нагляделся? Но рядом была труженица мать. Мусляев? Все вместе? И ещё многое, о чём не ведаю я? Например, не научили трудиться и любить работу свою. Именно любить, а не просто отбывать. Не донесли, что самое прекрасное в жизни — строить её собственными руками. И вот мечты подменились иллюзиями, романтик превратился в искателя лёгкой жизни. Убедительно?
А может, он исключение? Особой психической конструкции? Допустим. Но мало ли таких? И ещё более сложных. Л преступления совершают единицы. Так не ждать же, когда появится ещё один Костя? И одни ли?
Уже из коридора я услышал голос дежурного:
— Не беги. Не поспеваю.
Я думал, что собрание будет в клубе завода, по его почему-то назначили прямо в цехе. И время выбрали неудобное для меня — в перерыве между сменами, среди дня. Но обещал приехать — деваться некуда.
Первая смена уже закончилась, когда мы с председателем завкома, грузным, наголо бритым человеком, вошли в цех. На заводах я бывал и раньше, но в разгар работы, когда из-за грохота штампов, гула моторов и скрежета металла трудно было разговаривать не напрягая голоса. А сейчас цех .затихал. Было ещё шумно — перекликались рабочие, на автопогрузчик укладывали готовые детали, чумазый парень волочил мимо нас по цементному полу литую чушку, — но так силён был контраст между этими обыденными звуками и могучей музыкой вовсю работающего цеха, что казалось — тишина вокруг.
Пока совершался обряд подготовки, принесли небольшой столик и пару венских стульев с продавленными сиденьями, какую-то бесформенную зелёную груду, оказавшуюся традиционной скатертью для торжественных случаев, и графин, и стакан — со всех концов цеха стекались рабочие. В спецовках и комбинезонах, клетчатых промасленных ковбойках м кокетливых платочках на коротких девичьих стрижках. Шли вихрастые парни, и степенные дяди, и молоденькие девушки из цеховой конторы. Справа от пас ремесленники целым выводком прямо-таки облепили высоченный станок, как бы укрыв его чехлом из синих спецовок. Устраивались кто где мог: на пирамидах заготовок, на станках и на бог весть откуда появившихся скамейках, а то и прямо на полу. Незаметно образо-вался амфитеатр. И вот уже не цех это — настоящий зал, а станки, ажурные переплетения кранов и стальные балки — декорации.
Открыл собрание председатель месткома и прежде всего меня представил по всем чинам и должностям. Отовсюду обратились любопытные взгляды. Председатель выждал немного и, удостоверившись, что слово «следователь» произвело должный эффект, продолжал:
— Вот нам товарищ Базаров расскажет, что и как, а мы обсудим всем коллективом, что делать. — Он замолчал на мгновение, потом будто встрепенулся: — Ну-ка, Крючков, выбирайся па свет божий. Покажись людям, какой ты есть.
Кругом зашевелились и повеселели. Я не понял, откуда должен появиться Крючков. Когда же увидел Антона, он стоял недалеко от нашего стола среди таких же подростков. На нём была спецовка, большие ботинки без шнурков и засаленная кепка, надвинутая на самые глаза.
Э-э, брат, здесь ты, как все, а каким фертом явился в прокуратуру! Тогда Антон был скорее похож на официанта, чем на рабочего. Ну, а в остальном — тот же Крючков: нагловатая улыбка, зло прищуренные глаза, беспокойные руки.
Тогда Крючков быстро сник. Предупреждая вопросы, подробно рассказал, как взламывали ящики и выносили инструмент, как встретил Костю и тот попросил посмотреть, нет ли на нём крови. Потом они обменялись шарфами. Я посылал с Крючковым Брухтия, и шарф действительно оказался за помойкой. Потом эксперты обнаружили на нём следы крови.
В то время история с шарфом была для меня новостью. Крючков очень старался и всё время приговаривал: «Подождите, я ещё что-нибудь вспомню».
Теперь он стоит не поднимая головы и дружелюбно отмахивается от приятелей. а те дёргают его за спецовку ж подталкивают, шушукаясь и хихикая.
Так они и есть воспитатели? Это им на поруки? Это они будут делать из вора человека?
Пока я размышлял, все окончательно устроились. Председатель оглядел Крючкова с головы до ног и продолжал:
— Так, может, сам пусть и расскажет о художествах своих?
— Пусть сам1
Председатель опустился рядом со мной и, то ли спрашивая, то ли подводя итоги беспорядочным выкрикам, сказал:
— Пусть сам? Вот и хорошо. Докладывай, Крючков.
Стало тихо. Все смотрели на Крючкова. А он молчал. Наклонил голову, отгородился козырьком и ни звука, будто не его ждут три сотни людей.
Я не впервые на таких собраниях и почти наверняка знал, что будет дальше. Кто-то нетерпеливый крикнет: «Ну что там, давай расскажи, и с концами». И действительно, из задних рядов послышалось нечто в этом роде. Как бы вторя настроению крикуна, Антон выдавил:
— Чёт рассказывать? Ну взял украл, вернее. Так отдал же всё. Больше не буду Первый раз. — Он поднял голову. —
А про шарф разве я знал? — Антон махнул рукой, надвинул глубже кепку и засуетился в поисках места, где бы пристроиться.
Не обращаясь пи к кому, председатель заключил:
Конечно, что он ещё может сказать? Украл, отдал, больше не буду. А новая линия до сих пор стоит! Это его не касается. Ладно, послушаем, что другие скажут.
Ораторы к нашему столу не выходили, говорили со своих мест, а люди только поворачивали головы да так и застывали в неудобных позах, пока не наступала очередь следующего.
Всё шло, как уже не раз доводилось слышать мне: сначала Антона ругали во все корки — припомнили, как инструмент без спросу брал, как из напильника финку вытачивал и учил ремесленников играть в карты, — а потом и себя, и начальство, и рабочих. Как проглядели, не хватились вовремя? На заводе испокон веков ни замков, ни сторожей. Так что же, значит, и приглядывать не надо? Вспомнили — пропадало уже кое-что, да отмахивались: не наш, мол, чужой кто забрёл. А зря, может, и свой. Сидит сейчас как ни в чём не бывало
Хорошо говорили люди, спору нет, но к концу — пороху не хватало: «не надо судить, исправим сами, на поруки »
Собрание явно шло к концу, а удовлетворения я не испытывал. В который уже раз поднялся председатель:
— Ещё какие-нибудь предложения есть? Или кто выступить хочет?
Но других предложений не было, и выступать больше никто не хотел.
— Я хочу. — Голос раздался из-за моей спины.
Почти рядом увидел я высокого худощавого человека с крупным, нависающим над самой губой носом. Лицо, тронутое оспой, было мрачным, а может, так казалось из-за косматых, сросшихся над переносьем бровей.
Председатель придвинулся ко мне:
— Лучший наш бригадир. Коммунистического труда.
— Я хочу! — ещё громче сказал бригадир и, вскинув голову, оглядел собрание. Потом помолчал и раздельно, так что нельзя было ослышаться, продолжал: — Я четыре года сидел в тюрьме Вот так Кто здесь знает, что такое тюрьма, колония, с чем их едят? — Он оглядел собрание, сделал паузу, потом выдохнул: — Страшно это!
Конечно, тюрьма — страшно, давай Крючкова на поруки. Ещё один ходатай.
Бригадир тем временем продолжал. Говорил он глухо, не по-ораторски:
— Тут иной раз слышно: подумаешь, тюрьма! Там работа, здесь работа. Конечно, там тоже работа. Лес мы ворочали
и вроде то же делали, что другие, вольные, в соседнем леспромхозе. Только, выходит, разные это вещи. Не домой ты идёшь с работы. Не домой. Не вольный ты человек! — Последнюю фразу он выкрикнул и всем телом подался вперёд. — Хотя, как понимаете, ещё кое-какая разница. — Бригадир усмехнулся и провёл рукой по лицу, будто стирал паутину.
Вот теперь в цехе была настоящая тишина.
— Попал я, конечно, за дела похуже крючковских. Вор. Квартирный. Со взломом. Судили — и в тюрьму, одним словом, без всяких там порук в собраний
Что-то знакомое мелькнуло в его облике — нос, брови, оспины Я перестал слушать и до предела напряг память. Где я видел это лицо? И как часто бывает, не вспомнил ещё, но уже понял — вспомню. Воспоминания шли трудно, откуда-то издалека. Подробности всплывали, цепляясь одна за другую.
Знаю я этого человека, знаю! Фамилии не помню, а кличка «Меченый», из-за оспы, наверно. Я вёл следствие. С ним ещё двое было, постарше. Один без глаза — «Кривой», а вот второй Сколько же лет прошло? Десять? Больше?
Я снова прислушался к глухому голосу бригадира.
— В колонии я, конечно, работал Людей повидал разных. Хлебнул, как говорится, что положено, а вышел срок, вроде вся наука из головы долой. — Бригадир говорил тоном человека, твёрдо знающего, что его слушают. И его слушали! — Мусорным парнем прибыл я, вроде Крючкова. И прогуливал, и попивал с ребятами, из бригады в бригаду бегал, пока к Иван Семенычу не попал — умер он недавно, знаете. Так вот, взяли меня в работу: и что такое труд разобъяснили, и какая жизнь человеческая. Не для виду, а изнутри, по-настоящему Когда бригаду давали — вот уже два года, — ничего не припомнили, только Семеныч отозвал в сторону: не забыл, спрашивает, то-то! — Бригадир помолчал, вроде желая убедиться, что поняли его, и резко обернулся ко мне. — Вот гражданин следователь думает, наверно, что июни мы распустили и Крючкову поверили, что не будет он больше, осознал. Ни черта он не осознал! Это я определённо знаю. И подвернись случай, то же самое учудит, а то и похлеще. Так ведь хороших на поруки к чему? Они и так хорошие Не человек он ещё, Крючков, пет, не человек
Бригадир постоял задумавшись, будто хотел ещё что-то сказать, но махнул рукой и сел.
Когда закончилось собрание и рабочие, негромко переговарнваясь, столпились у выхода, я задержался немного, думал, подойдёт Меченый. Но его нигде не было. Я вышел из цеха и направился к проходной. Там и ждал он, стоял, прислонившись к забору, покусывая мундштук папиросы.
— Помните меня? Забыли небось А я вас помню, вроде вчера было Вот чего сказать хочу: не знаю уж, что вы там решите, но если не посадят Крючкова, к себе в бригаду возьму. И ребята не против.
Он не ждал ответа, а просто повернулся и пошёл к проходной, высокий, сутуловатый, широко и грузно шагая.
ТАК БЫЛО
Разведка прошла так, как и запланировали. После школы Генка забежал домой к Илье вроде бы просто поговорить. Следом в дверь позвонили Костя и Толик: как будто Генку ищут. Илья, конечно, позвал их. Пробыли у него с полчаса, но этого хватило Толику, чтобы убедиться — не пустые разговоры. Илья снова показывал отцовские заграничные фотографии. Экзотические безделушки и пёстрые покрывала с арабским рисунком тоже произвели впечатление. Зашёл разговор о финке. Костя сказал, что почти готова, надо только пружинку раздобыть и на той неделе можно будет собирать. Договорились встретиться у Ильи. Днём у него квартира пустая, никто не помешает.
И вот встреча состоялась.
Толик должен был наступить в вечернюю смену. Костя просто сбежал в обеденный перерыв. Сидели дома у Пименовых, ждали вестей от Генки. Оба нервничали.
— А если не уснёт? Что тогда? — спросил Толик.
— Не уснёт так не уснёт. Уйдём. Ещё что-нибудь придумаем. — Костя был возбуждён, ему не сиделось на месте.
— Поздно будет придумывать, Кот. Считай тогда — лопнуло дело.
— Так Рыжий спал же!
Около двенадцати появился Генка. Он швырнул в угол портфель и затараторил:
— Порядок! Договорился! Сказал ему — сегодня будем делать финку. Всё, говорю, есть! И пружинка — всё. Он домой пошёл. Велел ждать. Зайдёт.
— Зачем сюда заходить? — Толик нахмурился. — Вот дурак! Чего тогда к нему попрёмся?
— Я же говорю — порядок, — обиделся Генка. — «Дурак»! Сам дурак. Зачем он здесь? Просил же Костю, чтоб не было никого. Ещё командует! Все вместе к нему и вернёмся.
— Посмотрим, шкет, какой у тебя порядок. — Толик не обратил внимания на надувшегося Генку и повернулся к Косте. — Пузырёк и вату берёшь ты. Я тут сумку прихватил, в неё что хочешь влезет. Финка у тебя? Ну, посмотрим.
Хотя Илья пришёл вскоре, им показалось, что миновала вечность. Илья дожёвывал что-то, губы его были испачканы то ли киселём, то ли вареньем.
— Вы что? — Он оглядел напряжённые .пина ребят и продолжал, как бы извиняясь: — Сестру встретил на лестнице. Пока вернулись, пока обед разогревал Я же быстро.
Толик насторожился:
— Какая сестра?
— Это ничего. Из Минска. Двоюродная. Она ушла, теперь долго не будет. У нас никого. Можно.
По лестнице Толик шёл последним и всё время оглядывался — не хлопнет ли дверь, не выглянет ли кто.
— Ну где? — нетерпеливо спросил Илья, как только они вошли в комнату. — Получилось?
— Получится. Почему не получится?
Костя достал из кармана пиджака клинок, пластмассовую рукоятку, пружинку и ещё какие-то мелкие детали. Пальцы у него вздрагивали, но орудовал он быстро и ловко.
— Вот, гляди здесь болтик маленький будет. Это пока вместо оси. У тебя есть плоскогубцы или щипцы для сахара? Тащи Сейчас мы затянем до упора Рукоятку Толик точил. Сила? А теперь она щёлкать должна. Ну-ка, щёлкает? Щёлкает. Порядок.
Пока Костя собирал финку, Генка и Илья, вытянув шеи, следили за ним. Толик расхаживал по комнате, как бы невзначай оглядывая обстановку. Всего второй раз в. доме, любопытствует — ничего особенного.
Том временем сборка была завершена.
— Всё? — Илья аж задохнулся от радости. — Готова?
— Не совсем. Не торопись. — Костя был доволен работой. Он положил финку на ладонь и разглядывал, вытянув далеко вперёд руку. — Ещё лезвие надо отшлифовать. Вместо болта — это же некрасиво — настоящую ось приделаем. Тогда всё.
— Ну-ка дай! — Илья больше не мог терпеть. — Дай хоть посмотреть.
Он выхватил финку из рук Кости и заскакал по комнате, как дикарь.
— Костя, а когда готова будет? Сколько ещё?
— Дня два.
— А что возьмёшь за неё?
Вопрос прозвучал неожиданно. Костя смешался. Не просто же так он старается. Пацанов полно в доме, никому же не делает.
На помощь пришёл Толик.
— Мы не барыги. Договоримся.
— Хотите Ну что я могу дать? — Илья остановился и оглядел комнату, будто искал, что может отдать за эту великолепную финку.
Но финка финкой, а как-то надо начинать. Никто не решался. Ребята вопросительно глядели друг на друга.
А Илья был в восторге. Он говорил не умолкая и всячески старался занять гостей, взволнованный и полный благодарности.
— Есть хотите? Я-то обедал. Хотите? Я сейчас. — Илья умчался на кухню, но вскоре вернулся с колбасойГ хлебом и маслом. Финку он так и не выпускал из рук. — А резать можно? Попробуем?
Костя отобрал финку.
— Я же говорю, шлифовать надо, а сначала точить. Нож возьми. — Он отошёл в сторону, вертя финку между пальцами и покусывая губы.
Толик есть не стал. Костя откусил раз-другой и положил недоеденный бутерброд. Один Генка деловито устроился в углу дивана, примостил тарелку на коленях и начал жевать.
— Курить здесь можно? Хочет кто? — Толик протянул пачку сигарет.
— Я хочу, — сразу отозвался Илья. Уж очень старался он быть приятным, радушным, общительным. — Отец у меня курит. Ничего.
Он торопливо припал к зажигалке, протянутой Толи-ком, однако закашлялся. На глазах выступили слёзы, но Илья снова потянулся к сигарете, неумело сжимая её судорожно вытянутыми пальцами.
Толик захохотал.
— Смотри, затошнит, курила.
Илья мотнул головой и ещё раз затянулся.
Теперь уже смеялись все, глядя, как он бегает по комнате с выпученными глазами и надрывно кашляет.
Костя обхватил его сзади, вырвал сигарету и выбросил в открытую форточку.
— Дурак, не умеешь, не берись.
— Умею, — с трудом отдышавшись, прохрипел Илья. — Уже пробовал. Египетские курил. У отца есть. А эти какие-то
Толик подошёл к Косте и дёрнул его за пиджак: пора.
Пора? Костя даже не предполагал, что так испугается. До сих пор были одни разговоры, фантазии, так, вообще, отвлечённо. А вот бы эфиром а он уснёт а мы Но действовать? Уже? Косте вдруг захотелось бросить всё к чёрту — эфир, вату, финку. К чёрту Толика с его настырностью. К чёрту попрыгунчика Генку. Плевать он хотел на Илью с его побрякушками и пистолетами. Бросить всё и убежать
Но рядом стоял Толик и нетерпеливо дёргал его за пиджак.
Пора? Костя отшвырнул руку Толика.
— Курево — это ерунда. Не интересно. У меня тут одна штука есть. Вот это да! — Он решительно двинулся па середину комнаты.
Илья вытер слёзы и ещё мутными глазами посмотрел па Костю.
— Какая штука?
— Эфир. Вот. — Костя поставил бутылку на стол.
— А что он?
— Не знаешь? Нюхают. Понюхаешь — и, как в сказке, видения всякие. За ним гоняются, будь здоров!
— Это же лекарство. — Илья взял бутылку.
— Ну и что? — вмешался Толик. — Попробуй достань. По спецрецептам. Понюхай, узнаешь.
— Не, я боюсь. Не хочу. — Илья поставил бутылку и отошёл от стола.
— Чего бояться? — Толик занервничал. — Мы же нюхали. Не оторвёшься!
— Я шохал. — Генка вскочил с дивана. — Мирово! Жаль, всего одна бутылка.
— Ну нюхал — и нюхай. — Илья перевёл глаза с бутылки на Генку.
— И понюхаю. Давай, Костя, намочи.
Генка лёг на диван и закрыл глаза. Костя вытаЩил зубами пробку, достал из кармана вату, намочил слегка и сунул Генке под нос. Тот задышал глубоко, потом всё медленнее и, наконец, совсем притих. Илья и Толик подошли к дивану и замерли, глядя на его неподвижную физиономию.
Минуты через две он открыл глаза и сладко потянулся.
— Ну что? — недоверчиво спросил Илья.
— А что — ничего. Море видел, вот что. Волны красные, и я вроде лежу на них, и знаешь, как в тёплой ванне. И ещё такая музыка играет
— Брось ты! — Это вырвалось у Толика совершенно непроизвольно.
— Честное слово. Намочи ещё, Костя.
— Хватит с тебя, всем надо.
— Останется — намочишь?
— Если останется. — Костя продолжал держать в руке флакон и вату. По комнате разносился незнакомый сладковатый запах. — Давай теперь, что ли, ты, Илья
Илья мотнул головой.
— Боюсь.
— Чего боишься? На, нюхни!
Костя протянул бутылку. Илья опасливо приблизил к пей лицо.
— Ну и что? Пахнет и пахнет.
— Так ничего не получится. Надо с ваты. Подышать. Ну давай!
Костя взял его за локоть и подвёл к дивану, но Илья вывернулся и отбежал на середину комнаты.
— Вы сначала.
— Вот ёлки-палки! Рыжий ведь при тебе нюхал. А мы уже сколько раз. Давай-давай
Вдруг Илья насторожился и обернулся к окну. Только тут ребята услышали, что его кто-то зовёт. Потом раздался свист. Илья взобрался на письменный стол и просунул голову в форточку. Ему что-то кричали снизу. Разобрать было нельзя. Костя сделал движение к окну, но Толик остановил его.
Илья помотал головой, просунул руку в форточку и помахал.
— В футбол зовут. Ну их
Костя перевёл дух.
— Так давай, а то уйдём скоро.
На этот раз Илья не сопротивлялся. Он прыгнул на диван и вытянулся лицом вверх.
— Ни черта не получится. Трепотня. Увидите. Только немножко. Ладно?
Когда Костя мочил вату, руки у него противно дрожали и жидкость выплёскивалась ня пол. Он пристроился рядом с Ильёй на диване и приложил вату к его лицу. Илья зажмурился, вдохнул несколько раз, но резко поднялся, отбросив вату.
— Ну ничего! Я же говорил!
Хранивший до сих пор молчание Толик подошёл к дивану и тоже присел.
— Так не выйдет. Надо подольше. Видел, как Рыжий? — Он отстранил Костю, взял у него из рук бутылку и вату. — Дай-ка я. Давай-давай, не бойся.
Толик обильно смочил вату и, приложив её ко рту и носу Ильи, решительно опрокинул его на диван.
Илья забился и, извернувшись, сел.
— Больно! Прямо по зубам.
— А ты не вертись. Ляг, я потихоньку.
Он хлопнул Илью по плечу и ещё смочил вату.
На этот раз Илья лежал спокойно. Дышал он глубоко, как у врача, когда выслушивают лёгкие. Толик победоносно посмотрел на Костю и Генку, напряжённо вглядывавшихся в лицо Ильи.
Так продолжалось около минуты. Илья дышал всё ровнее, ресницы его вздрагивали. Толик отнял вату и тихонько поднялся, растопырив руки, как бы гипнотизируя Илью. Тот не шевелился. Прошли томительно длинные секунды. Под ногами Толика скрипнули половицы. Генка кашлянул.
По Илья всё-таки открыл глаза — сначала один, потом другой, — медленно сел и тряхнул головой.
— Я же говорил — ничего.
— Врёшь ты, было! — Толик зло швырнул вату. — Смотри, качаешься ещё.
— И ничего не качаюсь! Хочешь? — Илья вскочил с дивана. — Вот, по одной половице Хочешь? — И, по-жу-равлиному поднимая ноги, он зашагал к окну.
— Шатаешься! — взвизгнул Генка. — Вот она, половица-то!
— А всё равно ничего я не видел. Так, чуть-чуть. Не видел! — Илья опёрся о письменный стол и широко расставил ноги. Потом наклонился и достал из-под стола гантели. — Вот, хотите? — Выжимая их над головой, он приговаривал: — Вот вот И ничего! Не действует. Вот!
Ребята растерялись. Толик изобразил на лице безразличие и глубоко вздохнул.
— Мало подышал, значит. И то всё-таки Ну, чёрт с тобой, не хочешь — не надо. Пошли, Кот, ну его Забирай финку, раз так. — Он засуетился, вроде действительно собирается уйти.
Илья шагнул на середину комнаты и растерянно огляделся.
— Погоди, Толик я же может, и мало Я ничего не говорю. Не сразу ведь. Может, на Генку так, а на меня так. Ты что? Я вот сейчас попью только Пить хочется. — И он, виновато улыбнувшись, заторопился к двери.
— Слушай, Мусляй, — Костя вытер со лба пот, — и правда, ну его! Может, правда не действует?
— Не действует, точно! — Генка стоял в углу за диваном и, широко раскрыв глаза, теребил воротник.
— Действует! Я же видел. Заткнись!
Из кухни донёсся шум воды. Потом хлопнула дверь в уборную.
Толик зашагал по комнате.
— Пижоны! Трухаете?
— Ну не выходит! Что ж теперь?.. — неуверенно откликнулся Костя.
— А вот шлёпнуть гантелью, и выйдет!
— Ты что, Мусляй опупел? — Костя выпрямился на стуле.
— Пижон собачий! — Толик был раздражён. Он буквально метался по комнате.
— Это же будет — Костя встал, так и не успев закончить фразу.
В дверях появился Илья
ПРОТОКОЛ очной ставки
г. Москва 27 апреля 1969 г,
Ст. следователь прокуратуры М-ского р-на г. Москвы юрист 1-го класса Базаров в соответствии со ст. ст. 162, 163 УПК РСФСР произвёл очную ставку между обвиняемыми Мусляе-вым Анатолием Михайловичем и Пименовым Константином Лаврентьевичем.
Я категорически утверждаю, что никогда не подавал
Пименову идею воспользоваться гантелью. Об этом у нас не было разговора. Я вообще не обратил внимания на гантели и не помню даже, где они лежали
Вопрос Пименову. Вы подтверждаете показания Мусляева?
Ответ. Ещё раз повторяю, что Мусляев говорит неправду. Когда Рытое вышел в кухню попить, Мусляев был очень расстроен, поскольку ничего не получается, и сказал, что если ударить гантелью, то всё получилось бы. Я удивился и не принял всерьёз эти слова, просто подумал, что Мусляев бесится и потому говорит глупости. До этого ни о гантелях, ни о чём подобном разговора между нами не было
Когда закончилась очная ставка, Мусляева увели первым. Костю я задержал.
Он сидел, откинувшись головой к стене, и глядел куда-то мимо меня.
— Ну, так как же, Константин Лаврентьевич, на самом деле было? Может, Мусляев говорит правду?
— Да нет. Я сначала подумал: какая разница — он сказал первый, я сказал первый Ну Толик, ну гад! Совсем, что ли, совесть потерял? Думает, наверно А-а-а — Костя вяло махнул рукой. — Было так, как я говорю. Не верите, спросите у Генки.
ТАК БЫЛО
В дверях появился Илья.
— Пить хочет кто-нибудь? Принесу. — Он подошёл к дивану. — Ладно, давайте. Только я говорю — не действует. Мне и самому, может, интересно.
Толик резко поднял глаза. Его лицо исказила гримаса, которая должна была изображать улыбку. Он подошёл к столу и положил в пепельницу горящую сигарету.
— Конечно, интересно. Ты только, знаешь, не сопротивляйся, лежи спокойно и дыши. Поглубже. Па всех действует. Проверено. — Толик взял бутылку и пристроился на краешке дивана. — А то ведь ничего не получится, Илья, пойми!
Илья вздохнул глубоко, как перед прыжком в воду, лёг на диван и сложил крестом руки.
— Валяй!
Толик сжал бутылку, будто эфир из неё надо было выдавливать, и кивком подозвал Костю. Тот нехотя подошёл. Не то чтобы эта затея ему вдруг надоела или он окончательно испуталея, но обстановка вокруг непонятно накалилась, какое-то возбуждение овладело им, руки стали потными, засосало под ложечкой. Он растерянно оглянулся. Генка сидел на корточках у буфета, прикрыв рот ладошкой, и широко раскрытыми глазами смотрел на Илыо. «Ну откажись, Илюшка! Толику скоро на работу. Он уйдёт скоро. Откажись!»
— Значит, лёг? — хрипло спросил Толик.
Илья кивнул. -
Толик бережно пронёс смоченную вату и прижал её к носу и рту Ильи.
— Дыши!
Наступила полная тишина. Слышалось только мерное посапывание Ильи. Напряжение нарастало. Будто неведомые токи пронизали атмосферу комнаты и принесли такое возбуждение. Лоб Толика покрылся испариной. Кос-тя нервно кусал губы, вцепившись до белизны ногтей в спинку дивана.
Прошла минута, другая Вдруг Илья открыл глаза и что-то промычал — вата мешала ему говорить. Толик склонился к самому его лицу и, как бы опасаясь разбудить, прошептал:
— Дыши, дыши
Опять послышалось сопение. Напряжённая тишина снова воцарилась в комнате.
Скрипнула пружина — шевельнулся Илья. Потом он поднял руку и, растопырив пальцы, стал вертеть кистью: мол, не действует.
Генка прыснул в углу, но ребята так взглянули на него, что он съёжился и затих.
— Ты лежи, — хрипел Толик, — я сейчас ещё помочу немного. Ты лежи, не открывай глаза Сейчас — Дрожащими руками он смочил вату и снова приложил её к лицу Ильи.
Илья приоткрыл один глаз, но быстро зажмурился и засопел. Ещё немного! Ну совсем чуть-чуть! Но рука Ильи снова заплясала в воздухе. Толик поднял мутныб глаза на Костю. Тот вздрогнул и пожал плечами. Продолжая прижимать вату, Толик кивнул на гантели. Косея, протянул руку и катнул гантель по столу в его сторону. Если бы Костя не подхватил гантель, она грохнулась бы на пол. Приподнимаясь, Толик сильно надавил на голову Ильи. Тот замычал и упёрся в его плечо, пытаясь освободиться, но не смог: всей тяжестью Толик навалился на него.
— Ну!.. — Это был даже не крик. Всё клокотало в горле Толика.
И Костя ударил
— Всё! — выдохнул Толик и вскочил с дивана. — Всё, я тебе говорю! Бросай!
Но Костя лишь мотнул головой.
Толик вытащил из кармана кожаную перчатку, натянул её, взял из рук Кости гантель и без стука опустил на пол. Потом нашёл глазами Генку.
— Где?
Генка не шевельнулся. Толик подскочил к нему, поднял с пола и тряхнул.
— Где, говорю?
Пошатываясь, Генка подошёл к буфету и приподнял салфетку вместе с газетой. Там лежал ключ. Толик схватил ключ и в два прыжка оказался у письменного стола.
Я плохо помню, что было дальше. Мы с Генкой просто как обалделые смотрели на Мусляева. Вспоминаю, что он
открыл ящик письменного стола, покопался там и вытащил красные коробочки и ещё что-то, но, кажется, не пистолет. Всё это Толик запихал в свою сумку. После этого он подбежал к шкафу и стал рыться там. Клал ли он что-нибудь в сумку, я не знаю. Потом Мусляев залез на стол и начал шуровать на шкафу. Там стояли чемоданы и коробки для обуви. Сумка по-прежнему была у него в руках, и он что-то клал в нёс. Когда Мусляев спрыгнул со стола, то зацепился за скатерть и сильно потянул, её. Бутылка с эфиром упала, и вдруг вспыхнуло пламя. Тогда я не сообразил, в чём дело, а теперь понимаю, что эфир попал на горящую сигарету и, наверно, от этого вспыхнул огонь. Загорелась скатерть. Мы перепугались, не знали, что делать. Кто-то. — я или Мусляев — крикнул, что надо бежать. Сначала у меня мелькнула мысль тушить, а потом вообще всё заплясало в голове, и я — не знаю даже зачем — перевернул стол. Пламя вроде прибилось, но я уже не смотрел, что будет дальше. Мы побежали Я не помню, встретился ли кто-нибудь, когда мы бежали через двор. Кажется, на лужке ребята играли а футбол. Сумку унёс Мусляев. У меня за пазухой оказался свёрток с перчатками. Когда мне отдал его Мусляев, не помню. Потом на заводе я пробовал сжечь перчатки, но они плохо горели, и я засунул их под решётку в цехе. Тогда же на заводе я встретил Крючкова Антона и попросил осмотреть меня — нет ли крови. Он сказал, что вроде нет. Больше ничего я не говорил ему, а только попросил поменяться шарфами. Он не расспрашивал — за- чем, и мы поменялись.
Если бы в тот роковой момент кто-нибудь крикнул Косте: «Что ты делаешь! Опомнись! Убиваешь ведь человека!» — я не сомневаюсь, его рука замерла бы в воздухе, а сцена эта осталась бы просто дурным воспоминанием. Да что там!.. Если бы ему сказали уже потом: «Знаешь, а ведь ещё мгновение, и ты стал бы убийцей», — не поверил бы Костя, отмахнулся.
Он и сейчас, когда говорит: «Да, это было», не верит самому себе. Когда при допросах я употребляю слово «убийство», Костя удивлённо вскидывает глаза, будто перепутал я что-то и вовсе не его имею в виду.
И всё-таки это умышленное убийство. Нанося удар, Пименов обязан был отдавать себе отчёт в возможных последствиях, и не просто возможных — наиболее вероятных. И вот они наступили. Значит, события развивались логично, последовательно, по заведомо осознанному им пути. Умышленное убийство!
Если бы кто-то шепнул Мусляеву: «Ты что, спятил? Ведь Костя ударит сейчас, и вы оба окажетесь убийцами!» — больше чем уверен, он ужаснулся бы, схватил Костю за руки и всё равно не поверил бы потом, что ещё миг и могло наступить непоправимое.
И это не поза, когда Мусляев в ужасе отмахивается и просит, если можно, конечно, не называть его убийцей. Но он убийца, так же как и Костя. Это он сказал раздраженноз «А вот шлёпнуть гантелью — и выйдет!», а потом катнул по столу эту самую гантель с яростным «Ну!» и вдавил Илью в диван. Значит, сознательно совершил не менее страшное и ещё более подлое, потому что чужими руками. Иначе гово-ря — оба они делали одно дело.
С точки зрения уголовного кодекса всё абсолютно ясно, и нет других возможностей для толкования, если бы кому-то и пришло в голову искать варианты. Нет их, вариантов, и оправданий нет. Можно только попробовать осмыслить и объяснить.
Они — убийцы, хотя, направляясь к Илье, ничего подобного и в мыслях не имели. Они убийцы по результатам содеянного. Убийство умышленное — оба в какой-то момент сознавали, на что идут, пусть мимолётно, путано, подспудно, и не остановились, дальше действовали руки. Они убийцы в наихудшем варианте, ибо убили из корыстных, низменных побуждений. Бывают ведь убийства по неосторожности, бывают, говоря языком закона, в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения, и другие варианты бывают. Всё это — убийство. Но тут
С большой натяжкой мы можем сказать, что поняли, как они пришли к преступлению. К преступлению! Но к убийству?
В том-то и дело, что преступление преступлению рознь, хотя рам факт — любой! — омерзителен. Но от карманника до убийцы — дистанция всё-таки огромная. От хулиганства до убийства — невероятно далеко. Так ведь считается? И кара несоизмерима. Одних просто сажают в тюрьму в надежде на исправление, других других могут приговорить и к высшей мере наказания. И это справедливо, потому что нет страшнее преступления, чем лишить человека жизни. Это не месть, это не «око за око». Это возмездие. Закон мудр: разная кара за разное. Разные это вещи — кража из школы и убийство. Вроде нет между ними ничего общего, разве что и то и другое — преступление.
Ничего общего
Не будем пускать в ход общеизвестные истины. Проще всего сказать — сначала украл, потом убил. От малого к большому. Это всё равно что сказать: сначала он прыгнул с крылечка, потом с парашютом. Оно конечно — прежде с.крылечка. Но ведь есть граница, переходя за которую человек совершает качественный скачок. Ни разу не прыгнув с крылечка, можно всё-таки стать парашютистом. Случается, что убийство совершают люди, не имеющие уголовного прошлого. Но поищите внимательно, настойчиво. Переломный момент обязательно был. Надо только суметь найти его. Давайте попробуем.
Между кражами, совершёнными Пименовым, и спекулятивными махинациями Мусляева, с одной стороны, и разыгравшейся вскоре трагедией связь есть. Но не та примитивная — «сначала украл, потом убил», — она глубже и психологически сложнее. Я думаю, от Кости, такого, каким он был до первой кражи, к Косте после кражи — скачок качественный. Это уже разные люди. А вот кражи и убийство совершил один и тот же Костя. Недаром и то и другое именуется преступлением. Он преступил закон, перешагнул некую грань, из одного качества перешёл в другое.
Что же, значит, Пименов и Мусляев непременно должны были убить? Нет, не обязательно. Но они свернули с дороги. Повернуть назад, возвратиться не так просто.
Вот взгляните на рецидивистов, на людей, совершивших несколько преступлений. Не припомню, чтобы человек сначала обокрал квартиру, а потом схватил какую-нибудь мелочь с прилавка. Наоборот — сначала он совершит мелкую кражу в магазине, потом взломает табачный ларёк и, наконец, полезет в квартиру. Сначала он снимет часы с пьяного, то есть совершит кражу. Потом отнимет бумажник у растерявшегося ночного прохожего — это уже грабёж. И, наконец, угрожая ножом, разденет человека, не осмелившегося сопротивляться. Разбой! А то и ножом пырнёт — убийство!
Поверьте, за плечами почти любого опасного преступника есть, так сказать, «биография», которая развивается по нарастающей. Преступник — это уже новое качество.
Но вернёмся к нашей истории. И у Пименова, и у Мусляе-ва тоже «биографии». Думаете, совпадение, случайность? Ничего подобного — логика. Пименов — крал. Мусляев Мусляев уже за много месяцев до трагедии перешёл некую грань, преступил закон — он перешагнул через нравственные каноны человеческих отношений, возвёл в культ личное благополучие, потерял совесть. Вне общества он поставил себя не тогда, когда убил, а значительно раньше, когда сформировался воинствующим обывателем, потенциальным тунеядцем, мещанином. Дальше действовали руки.
Конечно, убийство — не единственный исход в такой ситуации, но вполне логичный. Могло случиться другое, другое преступление, но это уже Детали. Важен принцип — преступление. И нечего отмахиваться Мусляеву, когда я называю убийство убийством, а не случайным стечением обстоятельств.
ТАК БЫЛО
По существу заданных мне вопросов могу показать следующее. Я проживаю вместе с мужем Пименовым Л. И. и двумя сыновьями — Константином восемнадцати лет и Геннадием, которому скоро исполнится четырнадцать. Сегодня я пришла домой после работы около 19 часов. Сыновей дома не было, а муж в командировке. От соседей по дому мне стало известно о несчастье в семье Рытовых. С Рытовыми у меня никаких отношений не было. Здоровались, и всё. Знаю, что Геннадий дружил с их сыном Ильёй и бывал у них дома. Илья тоже к нам заходил. Никаких сведений о случившемся дать не могу, поскольку ничего не знаю. Соседи мне сказали, что сын в милиции, вот я и пришла за ним.
Из милиции Вера Пантелеевна и Генка шли домой пешком. Это недалеко, всего две трамвайные остановки. Генка был возбуждён, забегал вперёд и тараторил без умолку.
— Знаешь, ма, меня самый главный допрашивал! Сначала такой пожилой, а потом главный. Этот первый дядька всё говорил мне «вы»: «Что вы видели?» Настоящий допрос. Честное слово А тебя кто допрашивал? Ну, ма, кто?
— Господи, о чём ты, сынок? Несчастье-то какое!
Я как услышала Ведь это ж надо, душегубы, ребёнка не пожалели! Мало казнят таких! И при людях, чтоб другим неповадно!.. Нет, не переживёт Алла Сергеевна, мама его Я бы не пережила. — Вера Пантелеевна стиснула Генкино плечо. — Мало ли что ещё двое у неё! Дети! Нет, я бы не пережила.
Генка попробовал освободиться, но мать не разжимала пальцы.
— Прямо и не знаю теперь Теперь всё, сынок: если один дома, не смей дверь открывать. Слышишь — никому! — Вера Пантелеевна ещё сильнее стиснула Генкино плечо. — Я вот что я тебе ключ на тесёмочку привяжу, и будешь носить на шее.
— Ты что, ма!
— Будешь, будешь! И ничего в этом зазорного. Никто не увидит. Боже милостивый, это сколько бандитов развелось! Так ведь и по улице не пройдёшь! У Настасьи Михайловны, уборщицы нашей, — ну тётя Настя — так мальчонку избили! Уж она убивалась! По сей день рука в гипсе. Мать, сердце-то разрывается — Вера Пантелеевна повздыхала. — Тоже чьи-то дети, бандиты окаянные, ведь и у них матери. Носит же таких земля, прости господи. Выродки!.. Ох, Геночка, Христом-богом молю тебя: будь осторожен! А с Костей прямо уж и не знаю. Домой что-то поздно стал заявляться и выпивает Сынок, не знаешь, что это он? С кем, а? И сегодня вот задержался
Но Генка не расслышал вопроса. Он шёл насупленный и уже не чувствовал, как больно мать сжимает плечо. Вере Пантелеевне пришлось дважды повторить вопрос, прежде чем он ответил.
— Не знаю. Вроде всё нормально. Да ни с кем он не ходит. С ребятами
Вера Пантелеевна поленилась лезть за ключом в сумку, перегруженную кулёчками, бутылками с кефиром, свёртками, а просто позвонила, в надежде, что Костя уже дома. Но дверь никто не открыл. Тогда Генка стал шарить по карманам, разыскал ключ, и они вошли. В коридоре горел свет. Значит, кто-то дома. Вера Пантелеевна распахнула дверь. Посреди комнаты на стуле сидел Костя.
Обычно после работы он, не дожидаясь матери, шёл на кухню, разогревал обед, ел сам, кормил Генку. И Вера Пантелеевна знала: если ребята дома, значит, во всей квартире горит свет и ещё с лестницы слышны голоса. А тут полумрак, и Костя какой-то непривычно тихий в тёмной комнате
— Сынок, слышал? Ужас какой!
— Слышал, слышал! — почти закричал Костя. — Всё знаю, всё слышал!
Он поднялся и ушёл на кухню. Следом шмыгнул Генка. Костя остановился у окна, невидяще глянул на улицу. Генка тронул его за плечо.
— Я в милиции был. Вызывали.
— Ну!
— Ничего. Всё нормально — зашептал Генка, косясь на дверь. — Я наврал. Сказал, какие-то три типа выхо-
— дили тгз подъезда с чемоданами. ТТ машина была
— А почему тебя?
— Не знаю. Всех.
— Видел нас кто-нибудь? — Костй придвинулся к самому Генкиному лицу.
— Не знаю. На лужке ребята играли Может, они? Может, кто ещё видел?
— А про меня спрашивали?.. Тогда хана!
— Нет. Никто
— Теперь не отвяжутся. Наверно
Вошла Вера Пантелеевна, зажгла свет и удивлённо посмотрела на растерявшихся сыновей.
— Вы что такие? Почему ужип не разогреваешь, Костя? Ты что, сынок? — Она подошла ближе. — Что с тобой? Весь белый. Господи, да что это?
Костя встрепенулся и, не поднимая глаз, шагнул к двери.
— Сынок!
— Пусти! «Что, что»!
Он почти вбежал в комнату и рухнул па диван. Вера Пантелеевна засеменила следом.
— Батюшки, да неужто из-за этой истории? Не вернёшь ведь мальчонку
Костя вскочил с дивана и стал судорожно сбрасывать с себя одежду: куртку, рубашку, штаны, майку.
— Мать, слушай, это вот всё спрячь. Унеси, спрячь
где-нибудь. Всё. — Он скомкал одежду и сунул её матери. Губы его дрожали, голое прерывался.
У Веры Пантелеевны опустились руки. Сердце сжалось, сразу затошнило, ноги стали ватными. Она ещё не понимала, в чём дело, но нутром почувствовала; случилось что-то страшное, непоправимое.
Костина одежда попадала па пол и горбилась там бесформенной, разноцветной массой. Сам он стоял в одних трусах, бледный и совсем потерявшийся.
— Что, сынок? — У неё только и хватило сил на эти два слова.
Костя не ответил, медленно вернулся к дивану и сел, выпрямившись и положив на колени руки.
Если бы кто-нибудь в этот момент посмотрел на Веру Пантелеевну, без слов понял бы всё. Нежданно навалившееся ощущение беды, ещё не известной, но тем более страшной, ударило по самому чувствительному и самому беззащитному, что есть в ней, по тому, что нельзя точно определить и выразить словами. Мать!.. Это и страх за детей, и забота о них, и ответственность. Здесь все их болезни, все их проказы, маленькие и большие радости, маленькие и большие печали — всё, что занимает её в любое мгновение суток, затмевает личные беды и боли, даёт силы жить. Самое главное! Чувство это несравнимо ни с чем. Страху этому нет подобного. И нет силы, подобной той, которую рождает материнство!
Если бы кто-нибудь в этот момент посмотрел на Веру Пантелеевну, сразу бы всё понял. Лицо её вдруг передёрнулось, словно тень пробежала сверху вниз и невидимая рука прошлась от чела к подбородку, стерев все краски.
Всего миг — и новый человек. Всего миг — и Веру Пантелеевну не узнать. Это уже не мягкая, беспомощная женщина. Это мать, у которой ребёнок в опасности. Она вся сжалась и окаменела.
Вера Пантелеевна подошла к дивану, села рядом с Костей и положила руки ему на плечи.
— Ну, теперь расскажи Не молчи. Хуже нет молчать.
Костя вздрогнул, обернулся, посмотрел на мать и вдруг уткнулся ей в колени. Он не плакал, только плечи мелко дрожали.
О Генке в этот момент забыли. Он стоял в дверях и
растерянно переводил глаза с матери на брата. Но когда Костя, сильный, смелый, весёлый Костя, вдруг ткнулся матери в колени, у Генки что-то оторвалось внутри, и он взвыл. Продолжал смотреть на них и отчаянно выл. Без слёз и всхлипываний.
Невозможно сказать, сколько прошло времени, — может, минута, может, час. Вера Пантелеевна очнулась, когда в комнате наступила тишина. Жуткая тишина! Генка не выл. Костины плечи перестали дрожать.
— Ты что, Костя?.. Это ты?
— Нет! — завизжал Генка. — Не он! Не он, мама!
— Молчи!
Голос Веры Пантелеевны прозвучал глухо и ровно. Но лучше бы не слышать этого голоса. Она спрашивала и молила бога, молила, как никогда в жизни, чтобы Костя вскинулся и посмотрел на неё удивлённо: «Что ты, мать!» Она почти поняла правду. Не верила, не могла, не хотела верить и в то же время почти не сомневалась — правда. Так устроено материнское сердце. И всё равно услышать сейчас эту правду, облачённую в слова, значит, всё значит, нет надежды, значит, это не сон, не наваждение — правда. Но пока молчит, есть надежда.
И Вера Пантелеевна не решилась переспрашивать, из последних сил уцепившись за последнюю соломинку — неведение.
Потом она не могла вспомнить, как собирала с пола Костину одежду, такую родную, свою, всегда пахнущую сыном. Как запихивала её в сумку и прикрывала сверху газетой, чтобы не увидел кто случайно.
Не помнила она, как бежала по улице, растрёпанная, со сбившимся на затылок платком. И лишь когда совсем перехватило дыхание и будто клещами сжало сердце, пришла в себя.
У Настасьи Михайловны, тёти Насти, уборщицы института, где кассиром работала Вера Пантелеевна, дома никого не было. Flo Вера Пантелеевна всё равно заглянула и в кухню, и в ванную и только потом, еле переведя дух, стала сбивчиво объяснять, что у них-де в доме такая беда стряслась — мальчонку порешили. А Костя вот шёл и мазпулся обо что-то среди толпы на лестнице, и как бы не осталось следов, как бы не подумали на него.
— Спрячь, христа ради, тётя Настя, подальше куда-нибудь. Разберутся, минует беда, тогда заберу.
Откуда пришло это? Когда надумала про толпу, про лестницу?.. Какой страх должен обуять уже немолодую женщину, может, двух слов неправды не сказавшую за всю жизнь, чтобы решиться на такое и глаз не опустить!
ПРОТОКОЛ
г. Москва 14 апреля 1969 г.
Ст. следователь прокуратуры М-ского р-на г. Москвы, юрист 1-го класса Базаров в присутствии понятых составил настоящий протокол в том, что сего числа гр. Уткина Анастасия Михайловна добровольно выдала следующие вещи:
1. Куртку-спецовку темно-серого цвета. Нижняя пуговица отсутствует, правый нижний карман прожжён.
2. Брюки-спецовку темно-серого цвета.
3. Рубашку в красную и чёрную клетку.
4. Майку х/б белую.
Уткина пояснила при этом, что перечисленные вещи 12 апреля с. г. ей передала гр. Пименова В. П., попросила их спрятать и сказала, что вещи принадлежат её сыну Константину.
Ст. следователь Базаров
Понятые Уткина
Фёдоров
Абашкина.
ТАК БЫЛО
Следующим утром Толик приехал на завод перед самым обеденным перерывом первой смены, хотя выходить ему только во вторую. Костю он не стал вызывать из цеха, а пристроился на лестничной площадке, так, чтобы его не видели, а сам он мог видеть единственный выход.
Но уже прозвенел звонок на обед, затих грохот станков и цех почти опустел, а Кости всё не было.
Толик заглянул в цех. Далеко в углу стоял Костя, тяжело навалившись грудью на станок, и будто разглядывал что-то, очень его занимающее.
Убедившись, что в цехе почти никого не осталось, Толик подошёл.
— Здорово!
Они долго молча смотрели друг на друга. Потом Толик подмигнул и опустился на корточки. Костя присел рядом. Оба оказались между массивной станиной и стеной. Видеть их никто не мог, слышать разговор тоже.
— Ну что там, Кот?
— А ничего — Костя, не поднимая головы, ковырял железкой пол.
— Дом-то не сгорел ваш?
— Нет. Только в комнате Потушили.
— А малый этот?
Костя, прищурившись, поглядел на Толика.
— Спрашиваешь? Сам не знаешь?
— Да-а-а Уж больно ты засадил. Со всей дурацкой силой. Я думал
— Ты думал! Посмотрел бы на себя!
— Ну ладно, ладно, чего уж теперь Как считаешь, куда вещички девать? — Толик воровато оглянулся и сунул руку в сумку. — Поглядишь?
Костя не повернул головы.
— Другой раз. Делай что хочешь.
— Наврал, паразит, брат твой. Золото! Пистолет! Так, погремушки, мелочь. Не стоило.
— «Чего уж теперь»! — зло передразнил Костя. — Генку в милицию таскали вчера.
— Иди ты! — Толик замер с открытым ртом.
— Отпустили. Не дрожи.
— А я и не дрожу. Мне меньше всего дрожать Да нет, чего уставился, я просто говорю — обойдётся. Не видели же нас.
— Кто его знает
— Слышал что? Ну говори!
— Я и говорю — кто его знает! Может, видели
— Надо ховать вещички. Вот псих, на завод притащил! Ладно, смываюсь. Значит, так, Кот, договорились: меня уж точно там не было. Я же посторонний, кто меня знаег? Брату втолкуй — не было меня
— А мы, значит, были? — Костя криво усмехнулся.
— Я не про то, чудак! Ии меня с вами, ни вас со мной То есть никою не было. Ты на заводе, у тебя смена до шестнадцати А я я с Ритулей гулял Не было пас! Брат не сдрейфит?
— Брат не сдрейфит Куда перчатки девать? Кровь на них. — Костя брезгливо поморщился.
— Фу-ты, ёлки, а я всю голову изломал, где они Значит, у тебя? Давай спалим, а? В подсобке, внизу. Там иол цементный.
Они спустились в подвал, прошли полутёмным коридором, пригибая головы, чтобы не удариться о нависающие балки, и проскользнули в захламлённую подсобку.
— Давай. Газеты есть? — Толик стал разгребать-мусор на полу.
Но газет не оказалось — только та, в которую были завёрнуты перчатки. Нашли ещё пару засаленных обрывков и несколько щепок. Газеты сгорели быстро, сырые щепки чадили, а перчатки лишь немного занялись.
Костя поднялся с колеи.
— Газеты нужны. И деревяшки сухие.
— Слушай, Кот, мне лететь надо, а то не успею до смены. Ты один, а? Сгоняй в заводоуправление в ларёк, купи штук десять. Во дворе щепок полно. А? Мне лететь
надо Значит, не было нас, её виделись мы вчера. Да?
— Не дрожи, Мусляй, не виделись!
Звонок зазвенел, когда они уже были наверху. Обед
кончился. Толик, не попрощавшись, выскочил во двор, Костя немного помедлил и шагнул было в сторону коридора, ведущего к заводоуправлению, но махнул рукой и вернулся в цех. Там, присев за станком, поднял секцию. , траншейной металлической решётки и сунул туда обго- . вевшие перчатки.
Толику не терпелось — он позвонил Рите от самой проходной и сказал, что хочет видеть её, пусть ненадолго, но сейчас же. Рита попробовала объяснить, что не может, ещё не начался тихий час у детей и вообще они ведь договорились встретиться только в субботу. Но Толик настаивал — хоть на десять минут. Он подъедет к детскому саду.
Ещё издалека Толик увидел Риту. Она стояла на том месте, где обычно они встречались, — против гастронома, у забора детского сада. Из-под её коротенького пальто выглядывали полы белого халата. Руки были засунуты в рукава, на голове — белая косынка.
— Что случилось, Толичек? Ты же знаешь, сейчас нельзя. Вот лягут дети
— А если я сейчас хочу тебя видеть? Ну вот захотел! Не рада?
— Глупый! Рада, конечно. И всё? Просто видеть хочешь? — Лицо Риты засветилось.
— Давай отойдём куда-нибудь. Что мы здесь, на глазах.
— И пускай! Я никого не боюсь! — сказала она вызывающе.
Но Толик всё-таки взял Риту под руку и повёл по улице. Они свернули в переулок.
— Толичек, а куда мы в субботу пойдём? Что будем делать? Мы ведь увидимся в субботу? Сегодня не считается?
— Никуда мы в субботу не пойдём. Ко мне нельзя, к тебе Тоже нельзя? Ну вот, видишь, а я пустой, как барабан. Ни шиша! — Толик досадливо передёрнул плечами.
— И пусть! Очень хорошо! Погуляем. Папа будет дома, ты же знаешь. Мы вот что, мы пойдём в кино. У меня есть деньги, не думай
— То у тебя
— Как не стыдно! Ты что, серьёзно?.. Слушай, Толичек, а ведь мы ну конечно, мы с тобой ни разу в кино не были. Или были?
— Были.
— Ах, да! Но это один раз. Не считается.
— Кино Смех! Без денег — человек бездельник. Детские забавы. Ничего, Ритуля, это временно. Вот смотри, хочешь, покажу одну штуку? — Толик залез в карман, пошарил там, вытащил красную сафьяновую коробочку, повертел ею, как фокусник, и нажал кнопку запора. — Хоп-ля-ля! Смотри!
Рита привычным жестом протёрла очки и склонилась над коробочкой. Там на бархатном дне лежали часы-крабы. Но не обыкновенные, каких много на руках модниц. Эти были с крышкой па циферблате, а по браслету вился тонкий цветной рисунок.
— Ой, красивые какие!
— Золото. Примерь. Хочешь? — Толик, как ни старался, не мог сдержать улыбку. — Не бойся, бери!
Рита потёрла ладошки о пальто, аккуратно, двумя пальцами, взяла часы и надела их на запястье.
— А как открываются?
— Вот здесь ковырни ногтем. Темнота.
— А откуда они? Красивые! Идут! — - Она всмотрелась в циферблат. — Ой, пропала я! Будет ругаться Мария Филипповна. Я же на десять минут Не могу больше, Толичек, бегу. Сними, сними, уроню ещё.
— Не надо, пусть будут. Потом. Слушай, у меня просьба. Вот эту сумку возьми и отнеси домой. Только не лезь туда. Там ничего интересного. А в субботу принесёшь. И часы. Говорить никому не надо. Это секрет.
— Опять секрет?
— И вот ещё что. Запомни: вчера от часу до двух я приходил к тебе. Вот сюда же. И мы гуляли, как сегодня. От часу до двух! Кто бы ни спросил. Запомнила? Ну, беги. До субботы.
Толик передал Рите сумку и долго ещё смотрел, как она семенит по переулку и, не оглядываясь, машет ему рукой.
Я виновата, что не послушалась и заглянула в сумку. Просто было любопытно. Почему надо прятать? Почему врать? В сумке лежали колечки и серёжки, красивый кулон в виде женской головки. Ещё ботинки новые вишнёвого цвета, мужские носки в целлофановом мешочке, несколько галстуков. Может, ещё что — я забыла. Всё — эти вещи находятся у меня, дома Никаких, подозрений у меня не возникло. Я знаю Анатолия. Он порядочный человек. И, кроме того, много раз намекал, что выполняет какие-то секретные задания. Раз секретные, я не стала расспрашивать
В тот день он сказал, что денег у него нет и поэтому в субботу мы просто пойдём гулять. Я много раз слышала от него про деньги. Есть деньги — идём в ресторан или на танцы, нет денег — просто гуляем. И тогда был он грустный и неразговорчивый, вроде все удовольствия зависят только от денег. Когда же я пыталась возражать, он злился и говорил, что я ничего не понимаю в жизни, что это пустая болтовня — «с милым в шалаше рай»
Мусляева я не видел уже давно — пожалуй, недели полторы. Приезжал, конечно, в тюрьму — и к Косте, и по другим делам, но к нему всё никак не поспевал, да и нужды не было: вроде обо всём переговорили, всё, что требуется, выяснили.
А он заждался. Я увидел это по тому, как ещё в дверях засветилось лицо Мусляева. Он торопливо вошёл в кабинет и приветливо вскинул руку, словно мы с ним приятели и встретились где-нибудь на улице Горького.
— Извините Здравствуйте. — Мусляев как бы опомнился: — Это я случайно. Давно не были. Я ждал.
Он пристроился на табурете и выжидающе посмотрел на меня. Потом спросил:
— Что нового?
— Где?
— Там, на воле Мои приходили, старики? Отец в Москве? Не знаете? Просьба у меня: передача будет, так чтобы две пары носков, платок один носовой и ещё рубашку, в клеточку. Зелёная такая. Мямя чнярт,, А сигарет не надо. На махорку перешёл. Ничего! Я вот написал, чтобы не забыли. — Толик привстал и положил передо мной клочок бумаги. — Мама бывает у вас?
— Да нет, что-то давно не была. Звонит, Я передам.
— Спасибо. Клавка, наверно, не просыхает. — Он усмехнулся. — У неё глаза всегда на мокром месте. Сестра всё-таки
— Всё-таки
— Я и говорю Отец, наверно, совсем Он у нас ещё хуже мамы, в общем, нервный безобидный. Меня пальцем за всю жизнь не тронул.
— А следовало?
Мусляев засмеялся:
— Наверно. Не было бы вот этого.
— Думаешь?
— А кто его знает?
Мы помолчали. Ну что ж, будем расходиться. Кажется, говорить не о чем.
— Рита твоя приходила.
— Сама? Вызывали, наверно.
— Вызывал.
— Конечно Что ей самой-то? Вещи все принесла? Я же говорил — всё у неё. Ритуля
— Что — Ритуля?
— A-а, вес они одинаковые!..
— Это как же?
— Уж, наверно, забыла, как зовут меня. А я, честное слово, хорошо к ней относился. Ладно, теперь все против. Они хороши, когда у нас порядок. Не зря говорят: радости вместе, а неприятности врозь.
— Это кто говорит?
— Все! Вот у нас в камере малый один. Сидит за хулиганство. Знаете, сколько здесь хулиганов! Никогда не думал. Он из колонии прибыл, ещё какое-то дело. Говорит, жена в колонию ни разу не приехала. Любовь называется! Говорит: я ей ноги мыл и воду пил. Чудак! Ритуля Все они Ну вот дай вы, например, свидание, ведь не пойдёт. Что ей срамиться?
— А действительно — что ей срамиться?
— Вот я и говорю — любовь!
— Да не за что ей любить тебя!
— А разве любят — за что?
Уел-таки! Разве любят «за что»?
— Пусть так. Но вот скажи, если бы ты узнал, что Рита, допустим, воровка? Нечиста на руку? Как?
Мусляев задумался.
— Если бы любил
— А без «если»? Вот сейчас. Ты сидишь дома, и вдруг узнаешь, что Рита твоя воровка, и всё такое. И вовсе она не воспитатель в детском саду, и ни в какой институт не поступает. Всё врала!
— Сказали ей, наверно, про Бауманский? И что я
— Вот видишь! Она-то другим тебя представляла. А ты - не тот. Не он Ничего я ей не говорил. Это ваши дела. —
— Наплевать. Теперь всё равно. Всё равно меня Как думаете? — Он криво усмехнулся, но тут же испуганно вскинул глаза.
— Этого я не знаю. Это как суд.
А что ещё я должен ответить? Врать? Или говорить как есть, что могут, конечно, и расстрелять? И поделом. Толик ждёт совсем другого ответа — по глазам видно.
— Я понимаю, ваше дело разобраться. Но ведь я же рассказал всё. Первый раз. И потом, не я Неужели? — Голос у него дрогнул. — И в кодексе написано, нам говорили, чистосердечное признание — это ведь смягчающее
— Ты сам, что ли, пришёл чистосердечно признаваться? Смягчающее, это верно
Мусляев перебил меня:
— Я же всё, как было Неужели не примут во внимание? Да, вот ещё вспомнил. — Толик подвинулся на край табуретки и всем телом подался ко мне, будто нас могли подслушать. — Пименов рассказывал — это ещё давно было, — как ограбили они с Генкой школу. Он говорил, взяли магнитофон «Гофман», телевизор утащили, кажется «Рубин», ещё что-то он перечислял. Второе. Он говорил, что собирается с братом напасть на инкассатора, который у его матери на работе. И мне предлагал. Я отказался. Так и запишите. Правда так правда.
Записали, конечно, хотя я уже знал цену Костиным фантазиям. «Гофман», «Рубин»!
— Что было, то было. Я не намерен скрывать.
— Так и он не скрывал!
— Да? Ну вот видите, значит, правда. — Мусляев был разочарован. — Но это меня не касается. Я тут ни при чём Можно подписывать?
Он склонился над столом и, пробежав глазами исписанную страницу протокола, уже привычно вывел, что записано с его слов правильно и им лично прочитано.
Что-то я всё время плохо говорю про Мусляева! Стараюсь быть объективным, но всё равно неприязнь проскальзывает — интонации, оттенки, краски всё-таки недружелюбные. Поймал себя на этой мысли, и стало досадно. Что, так уж всё плохо в нём? Не бывает же людей абсолютно плохих или абсолютно хороших. Каждому известно. А Мусляев почему-то представляется мне сплошь со знаком минус.
Объективность, беспристрастность Затёртые от употребления слова. А я вот признаюсь: Мусляев мне действительно несимпатичен. Я, конечно, обязан относиться к нему ровно, но для этого должен делать усилие над собой. Потому что отношение к человеку всегда личное, субъективное и порой не поддаётся контролю и анализу.
Но ведь следователей не выбирают, обвиняемых тоже. А я не просто фиксатор событий. Моё личное отношение — хочу я того или не хочу — накладывает отпечаток на всё дело. Стараюсь, конечно, и поступаю, как мне кажется, справедливо, но отношусь — хоть убей — субъективно, вовсе не как сторонний наблюдатель.
Сколько за многие годы прошло их, грешников, через мои руки, дел сколько, а всех помшо, всё помшо, с каждым какую-то частицу себя оставил! Одного жалел — но показать нельзя, другой раздражает — а ты терпи, а с третьим разговаривать противно — но надо
И пот приходит время от времени самая что ни на есть настоятельная необходимость — оглядеть себя как бы со стороны. Не то очерствеешь, возомнишь себя этаким безгрешным судьёй. Ты — здесь, а они, людишки, — там внизу копошатся, грешат, каются.
Вот и сейчас, видно, пришла эта самая необходимость. Сейчас я, кажется, могу взглянуть на все эти события, так сказать, невозмутимо — дело давно закончено и запылилось уже на архивной полке. Я больше не следователь им, Мусляеву, Пименовым Так вот, Мусляев действительно был мне неприятен, но, честное слово, именно поэтому я старался изо всех сил, чтобы это моё личное отношение никак не повлияло на ход дела, ни на йоту. Иначе мне кажется, иначе я не простил бы себе эмоций, тем более что они вовсе не предусмотрены Уголовно-процессуальным кодексом.
Сразу я даже не понял, кто это заглядывает ко мне в кабинет, чуть приоткрыв дверь. Я отмахнулся: дескать, сейчас кончу разговор по телефону, тогда войдёте. Потом заговорился, забыл. Минут сорок прошло, прежде чем дверь опять скрипнула. Теперь я узнал — Рита Середина.
— Проходите. Что в дверях топтаться? Только вроде не вызывал:
Посетительница зацепилась зонтиком за ручку двери, прищемила краешек плаща, расстроилась и стала пунцовой.
— Я нет, я сама пришла. Извините, пожалуйста. — Она стояла у порога и нервно теребила зонтик. — Я про Анатолия. Про Мусляева плохо наговорила прошлый раз. Вот, пришла
— Плохо? — Я как-то не сообразил сразу, в чём дело. — Не припомню. Давайте посмотрим. Вы сядьте. М-м
— Середина.
— Помню. Садитесь. Сейчас посмотрим.
Папка лежала под рукой. Я разыскал протокол её допроса.
— Сейчас найдём. Так. «Никаких подозрений Он порядочный человек» Не вижу ничего плохого.
— Пожалуйста, пожалуйста Вот там посмотрите, дальше,
про деньги. — Рита приподнялась и розовым пальчиком указала на протокол. — Нехорошо наговорила. Получается, он только о деньгах и думал. — Последние слова она произнесла совсем тихо и как-то вся поникла, сгорбилась.
— Но я ведь записал именно так, как вы говорили.
— Да, конечно, говорила. Я и пришла поэтому — плохо говорила.
— А если это правда?
Рита хотела что-то ответить, но так и застыла, приоткрыв рот. Глаза её сначала заблестели, потом стали влажными, н, наконец, две крупные слёзы, увеличенные стёклами очков, повисли на ресницах.
Несколько минут она пыталась справиться с собой,
— Ему ведь хуже будет, если про него так Ведь хуже?
— Ну зачем же?
— Тогда зачеркните, пожалуйста. Пожалуйста, зачеркните Это такое горе! Я только вчера узнала Толик в тюрьме.
— Радости, конечно, мало!
Она закивала головой и судорожно глотнула.
— Мы с ним хотели осенью хотели Он сказал, что осенью поженимся Что же мне теперь делать? Я даже не знаю, с кем посоветоваться.
Она потупилась, а я только сейчас разглядел: нездоровый румянец на щеках, фиолетовые подглазины, плащ застёгнут не на ту пуговицу.
— Не понимаю, о чём вам нужно советоваться?
— Но ведь я же у меня ведь — Рита с отчаянием взглянула на меня, но тут же закрыла ладошками лицо.
— Не понимаю. Что — вы? Что — у вас? Что случилось?
Она закивала головой и стала покачиваться, прикрывая
лицо.
— Вы можете сказать, наконец?
Рита снова всхлипнула.
— Уж не собираетесь ли вы как бы это выразиться стать мамой?
— Кажется
— А Мусляев знает?
— Нет, не успела. — Она беспомощно подняла глаза, словно хотела сказать: что ж теперь, раз так получилось!
Вот тебе на! Догадался, называется! Полез не в своё дело. Как же быть? Отмахнуться: мол, это выходит за пределы моих обязанностей? Это не моё дело, чёрт возьми, решать интимные
проблемы и осушать слёзы попавших в беду девиц. Сами как-нибудь разбирайтесь, дорогие мои. По сказать так
Несчастная любовь — это большое горе и многим знакомое. Вот и у Риты, может быть, первое чувство нежданно-негаданно обернулось большим человеческим горем. И ей никто не поможет. Я тоже могу лишь погоревать с ней.
И мы погоревали.
Что делать! Сомневаюсь, что Мусляй действительно любит эту девушку. По-моему, Рита — не событие в его жизни. Ну и что, вот сейчас взять и сказать: «Бедная ты моя девочка, он же вовсе не любит. Так, поразвлекался, и всё». Полить его грязью, благо есть за что. Сказать, что он такой и сякой, негодяй и убийца, и не стоит даже одной её слезинки?
Нет, это нечестно, хотя и правда. Да и не услышит она меня, не поверит и не поймёт. Просто посчитает недобрым человеком. И неумным.
Ругать? Мол, как вы могли! Это неприлично! Надо было приглядеться, проверить его и себя. Вечно вы, молодые, спешите!
Только смолоду всё равно торопимся и перескакиваем ступеньки. Торопимся и уверяем себя и других, что нет смысла тратить дорогое время на условности. Жить надо проще, оно же будет и быстрее. Долой условности!
Проще Ну вот Рита Середина. Ей нет и двадцати. Едва минуло три месяца, как она знакома с Мусляевым. Долой условности! Жить надо проще! Надо торопиться жить! Несколько раз в ресторан. Несколько раз на танцы. Постояли в подъезде у батареи. Заговорили про любовь. Ну что ж, лю-бовь бывает даже с первого взгляда. И вот (уже месяца пол-тора прошло!) Мусляй стал настойчив. Рита вполне достаточно (целых две недели!) противилась. Наконец подгадали момент, когда родители ушли из дома И вот она почувствовала себя будущей матерью.
Забудем на минуту нынешнее положение Мусляева. Представим себе даже: любит он Риту. Нарисуем самый лучший для них вариант: заторопились молодые, родители заторопились — и сыграли свадьбу. И пусть даже будут жить благополучно. Допустим. Так ведь обокрали себя всё равно! Это не упрощение — обкрадывание! Запыхавшись, не замечая, что под ногами, перемахнули целый лестничный пролёт, целый кусок жизни с его радостями, удовольствиями и преодолениями. Перемахнули! Это же всё присказка, сказка будет впереди.
Скорее вперёд, подавай всё сегодня! Так наступает пресыщение и старение прежде времени. Так теряется каждодневно подаренное нам судьбой, а потом приходит грусть о невозвратимом.
Жить надо красиво! Э, что там, красивые слова! Любить красиво! Так любовь сама по себе хороша. Главное — не задерживаться, не медлить! Вдруг не успеем!
Уж не начинаю ли я действительно брюзжать? В наше время А вот предки наши Это было бы совсем некстати. Да нет, не брюзжу. Мы и сами порой снисходительно посмеиваемся над теми, кто жил, любил и переживал вчера, и над тем, как они это делали. Мол, сегодня мы лучше, умнее, совершеннее.
Вот первое, что пришло в голову: средневековый рыцарь, уходивший в поход со слезами на глазах, прижимая к груди под панцирем шарф дамы сердца. Мы посмеиваемся над этим рыцарем и над дамой, до старости ожидавшей в замке своего избранника. Посмеиваемся и напрочь отметаем куртуазность, сопровождавшую отношения наших пращуров. Ну что ж, время, конечно, другое. Можно смеяться, можно отметать. Но всё ли? Да и заменить чем-то не мешает. Не для виду, не ради одного ритуала, а потому, что возвышенные отношения требуют к себе возвышенного отношения. Красиво любят — скорее всего красиво будут жить. А где они, образцы? С кого пример брать?
Человек учится всему. И любить тоже. Мудрость, переходящая из поколения в поколение, — это ли не наука? Или каждый должен изобретать свой велосипед?
Как-то к другому случаю провёл я самодеятельное исследование — сейчас это модно: спрашивал у молодых людей и девушек с десятилеткой, а то и двумя курсами вуза, что знают они о великих и бессмертных образах, сила которых и убедительность не умаляются с течением веков и чередованием эпох. Так ведь подумать страшно — ни один не ответил, кто такие Тристан и Изольда, ничего не слышал о Гекторе и Андромахе. Про Пенелопу знают по плохому заграничному фильму. Да что там! В их изложении Отелло просто задушил жену из ревности, и я не услышал, какой чистой и могучей любовью одарил мавр свою Дездемону, как раним был в этом великом и трагичном чувстве своём и как пал жертвой своей ранимости. Не знаку этого, «не проходили». А жаль! И не в том, конечно, дело, что надо слепо подражать Пенелопе.
Только говорить об этом с Ритой я не мог. Не затем она
пришла ко мне, чтобы выслушивать нотации, поучения и вдаваться в теорию. Просто самому подумалось. Не часто в спешке будней появляется повод для таких размышлений.
— Я чем-нибудь могу помочь вам?
Она вздохнула глубоко и безнадёжно.
— Пет, спасибо. Вы — ничем Никто. Пожалуйста, не говорите никому. Пожалуйста. — Девушка засуетилась, но снова присела на краешек стула. — Можно, ещё спрошу? Что с ним будет? Ведь за это За это же
Да, да, да, Рита, несчастный ты человек! Ты права: это карается беспощадно, вплоть до расстрела, Рита!
Но я смалодушничал:
— Пока ничего не известно. Мы ещё поговорим с вами. Сложно всё, разбираемся — и бормотал ещё какие-то чужие слова.
Сегодня понедельник. На работу я приехал прямо с дежурства. Не выспался. Точнее, совсем не спал, хотя — редкий случай — никаких серьёзных происшествий не было, и милиция справилась сама, меня не тревожили. Но всё равно, пристроиться на жёстком диване я не смог, поминутно вздрагивал от грохота дверей, телефонных звонков и урчания автомобильных моторов во дворе.
Утром позвонил дежурному прокурору и доложил, что всё было спокойно, а сам двинулся на работу — небритый, вялый, в неважном настроении.
Так что у нас сегодня? Понедельник. Понедельник? Значит, надо понаведённому порядку, как говорится подбить бабки. ТТрикинуть надо, что уже сделано, что предстоит сделать, как распланировать неделю. Сейчас посмотрим После обеда придёт эксперт по делу о несчастном случае. На молокозаводе взорвалась аммиачная холодильная установка. Несколько человек пострадало. Звонил в больницу, там опасаются за жизнь мастера цеха. Он был ближе всех, пытался предотвратить аварию. Сильные ожоги. Никого к нему не пускают. Но надо быть готовым. Дадут знать, сразу и поеду. С этим ясно.
Ещё дело — возле ресторана избили водителя такси. Перелом скуловой кости. Двое арестованы. Поеду к ним, пожалуй. Вот завтра с утра и поеду. Провожусь до обеда, как минимум. Чёртовы пьяницы! Поразвлекались! Будут теперь мямлить: мол, не помним ничего. Всё одно и то же — пьяный был, не помню. И, между прочим, в таком тоне, будто о болезнях говорят. Болен был, понять надо! Вроде пьянство не порок, а извиняющее обстоятельство. Будет вам обстоятельство!
Значит, с ними завтра.
Пименовы и Мусляев Здесь всё, кажется, идёт нормально. Но надо поторапливаться — сроки. Уже начальство теребит — возишься, кончать пора. Пора, конечно, а я упёрся, выражаясь языком нашего ремесла, в одно следственное действие. Как во всяком деле, в нашем тоже есть мероприятия интересные, безразличные, а есть тягостные. Их-то и откладываешь, отодвигаешь. Так и я: всё время откладываю со дня на день допрос Веры Пантелеевны, матери братьев Пименовых. Это будет тягостное мероприятие.
Кажется, чего проще — допрос матери преступников. Допрос матери Нелепое сочетание слов. С точки зрения закона — обыкновенное дело: вызвал, допросил, записал, отпустил. Усилий не требует, напрягаться нет нужды. Простейшее след-ственное действие. Тем более, что мять Пименовых в некотором роде соучастница. Она же прятала вещи сына-убийцы. И ещё не сообщила, как говорится, куда следует. Простейшее следственное действие.
Закон по этому поводу категоричен и ясен: совершил человек уголовно-наказуемое деяние, должна наступить соответствующая кара. Исключения тоже предусмотрены законом, но ни одно под Пименова не подпадает. Закон не делает исключений для родственников, и я обязан выполнять его пунктуально. Значит, закон избавляет меня от размышлений по поводу судьбы этой женщины. Всё ясно.
Тогда я приглашаю вас к себе в кабинет. Приходите завтра. До обеда я буду в тюрьме, а потом приходите. От вас ничего не потребуется. Вам ничего не надо будет делать и решать ничего не надо. Вы только посидите и послушаете.
Первый раз Веру Пантелеевну допрашивал не я. Помните, это было, когда она пришла в милицию за Генкой. Соседка живёт этажом ниже, вот её и допросили — не слышала ли чего, не знает ли. Тогда многих допрашивали. Вера Пантелеевна рассказала, как пришла с работы, сыновей не застала, прослышала, что Генка в милиции, и пошла за ним. Тогда она ещё ничего не знала и не догадывалась пи о чём. Вернулась домой с Генкой, и только затем состоялся тот самый разговор.
Раза два Вера Пантелеевна заходила ко мне в прокуратуру
справиться о Косте — Здоров ли, нельзя ли чего-нибудь передать сверх положенной нормы. И всё, больше ии о чём не спрашивала. И я не стремился к продолжению беседы — откладывал, оттягивал.
Вот теперь она сидит передо мной, Вера Пантелеевна Пименова, кассир одного из московских институтов, мать Кости и Генки. Совершенная старуха сорока двух лет! Старуха! Жёлтая, пергаментная кожа, глубоко запавшие бесцветные глаза. Руки узловатые, с короткими, будто обкусанными ногтями. Голова повязана чёрным простым платком — словно уже хоронит кого. Остановившийся взгляд, тусклый голос.
Я предложил снять пальто, сесть. Она шевельнула губами: «Спасибо» — скинула платок на плечи. Села.
Без всякой цели я стал возиться с бумагами. Вытащил один бланк — мятый, достал другой. Потом заправил ручку чернилами — тянул время. Пусть освоится немного.
Зазвонил телефон. Пока я разговаривал, Вера Пантелеевна сидела, всё так же втиснув руки в колени, и смотрела на меня не моргая. От её глаз некуда было деваться, а я, как назло, то и дело взглядывал на неё. Словшг магнитом, притягивали меня её сухие бесцветные глаза.
Ну всё, пора начинать. Сейчас начну допрос, хотя знаю заранее всё, что она скажет. Не дожидаясь, могу записывать. Но всё равно прежде я должен выслушать, задать полагающиеся вопросы, а потом уж взяться за ручку.
Она скажет, что оба сына — хорошие мальчики, и это правда с её материнской точки зрения, — слушались, жалели её, помогали. Она скажет, что никогда не замечала за ними дур-иых наклонностей, а уж насчёт воровства или чего похожего — избави бог. И это тоже правда, потому что ни дома, ни у соседей нитки не взяли без спросу.
Так она и говорила, едва заметно поворачиваясь, но прямо, не мигая глядя на меня.
— Был, правда, один случай, может, и не стоит говорить: Генка утащил у нашей знакомой, Уткиной тёти Насти, — она почти как родственница нам — вилочку такую маленькую из пластмассы или из чего она там копеечная. Я чуть со стыда не сгорела — господь свидетель. Думали мы потом с ней, гадали: наказать его или сделать вид, что ничего не было? Промолчали. Так он сам потом отдал, говорит, поиграть хотел Маленький ещё был, годов восемь Вот ведь как обернулось.
Вот ведь как обернулось! Вера Пантелеевна вспоминала даже такие мелочи, которые совсем не к делу. Она вполне могла умолчать о том, что хоть как-то могло обернуться против детей. Но нет — всё говорила, как человек, находящийся в последней степени отчаяния. Вот, сами глядите, всё говорю, всю подноготную. Знайте, тогда и вы удивитесь вместе со мной и поймёте, как всё это нелепо, невероятно, дико. Я не ищу спасения — чуда жду.
Она рассказывала, как росли дети, как болели и шалили, сколько пережила от их двоек и радовалась успехам. За Костю волновалась — на самбо этом больно делают. У Гены — сердце, врождённый порок. Даже операцию предлагали. Видите — как все дети. Вера Пантелеевна говорила о них в прошедшем времени. «Он был добрый». Был! «У него были способности к учёбе». Были! И о себе в прошедшем времени, будто и её жизнь кончилась. Говорила, как о покойниках, когда воспоминания приносят утешение.
— Сломалась! Надорвалась! Нет человека. Но я всё равно слышу надежду в её полушёпоте. Надежду и страшную внутреннюю силу. Мать, она никогда не смирится с мыслью, что выхода нет и уже ничего нельзя сделать. И вот сидит окаменело, неподвижно, но мечется в поисках выхода.
Смотрите, ничего не скрываю. Я мать, я знаю про них, даже чего другим знать не дано. Послушайте, разве такими растут злодеи? Вот они, все их грехи — вилочка Или вы знаете что-то ещё? Нет? Не знаете? Выходит, правда? Не злодеи? Это сон! Наваждение! Ну скажите, что это сон!
Вот так, вопреки логике и здравому смыслу! Заведомо зная, что вопреки здравому смыслу. Такая сила — материнство, наперекор всему. Любой дрогнет! И мне вдруг захотелось сказать: «О чём вы? Конечно же, сон».
— Ну хорошо, оставим это. А отец? Муж ваш?
Вера Пантелеевна будто ткнулась с разбегу в глухую стену, но не изменила ни позы, ни выражения лица. Перемены в её состоянии можно было только угадывать по едва заметным теням, по еле ощутимому движению век. И ещё подбородок: то заострялся и каменел, то бессильно и вяло подрагивал.
— Отец?.. Ну что отец! Вроде как и не было его. Мы сами по себе, он сам Я им и за отца, и за мать. (Это значило: не ищите других виноватых, всё я, одна.) Тоже ведь плохому не учил, зачем грешить! Копейку, говорит, берегите, отца-мать почитайте. Слова, конечно, а всё одно. Ребята слушались его, он им гостинцы возил — Вера Пантелеевна чуть скривила
губы. — На пасху приехал. Как узнал, нету у меня, говорит, больше детей. Надел Костино пальто, зимой только справили, и ушёл. Нету детей — Она потянула воздух сквозь зубы.
Вот теперь, пожалуйста, спрашивайте, задавайте вопросы! Сейчас самое время обрушиться на неё, корить, что таких злодеев вырастила. Кто-то же виноват? Других виновников не нашли — значит, мать.
Или подождите, мы за всё сразу спросим. Она же ещё и пособник — прятала окровавленную Костину одежду. И смолчала, не привела за руку сынов своих — вот они, убийцы. Нам тем более просто, что Вера Пантелеевна не противится, даже наоборот — сама идёт навстречу. Да, действительно прятала. Да, смолчала. Конечно же, виновата! И если всё так несправедливо устроено в мире, если всё так чудовищно и невероятно — её дети преступники! — тогда можно требовать и этого шага. Можно требовать, чтобы она взяла их за руку и привела. А раз не привела, что ж, виновата!
Но взгляните на неё — не слушайте, что она говорит, — взгляните. Она и сейчас не верит! Нутром, всем естеством своим. Мысли не допускает, что всё правда. А тогда, в тот ужасный вечер, тем более не верила
Или вам кажется, что всё значительно проще? Я преувеличиваю? Преступление — наказание. Совершил — отвечай. Или вы думаете, что человека можно оторвать от его поступков и рассматривать отдельно по законам элементарной логики?
Элементарная логика Вы слышите, что говорит сейчас Вера Пантелеевна? Вроде бы вне связи с предыдущим.
— Нам с Аллой Сергевной, наверно, жить не надо Я как подумаю про мальчонку Нет, нам жить нe надо!
Мать не бывает матерью только собственных детей.
Я уже несколько раз слышал, что её заставали поздно вечером в тёмном углу лестничной клетки против дверей Рытовых. О чём думала она в эти минуты?
А что сейчас творится за дверью?
Какое невероятное сплетение! Погиб ребёнок, и мать его проклинает и убийц, и чрево, породившее их. А за дверью стоит другая мать, и ей некого винить и проклинать некого, потому что она не знает виноватых. Понять до конца происшедшее не в состоянии. Связать гибель мальчика и причастность к этому сыновей не может. И не может расценить своё поведение в тот вечер как противозаконное.
Но ведь мы-то с вами знаем, что сокрытие следов, то есть
то, что она сделала, само по себе тоже преступление! Умышленное. Значит, мы должны сказать, что Вера Пантелеевна Пименова действовала осознанно, с преступным умыслом.
Вы можете сказать так? Я, например, не могу.
А как же закон?
Закон мудр, поверьте, и он не требует, чтобы к нему относились формально. Иначе не нужны люди, которые применяют закон. Это могли бы делать и машины. А разве можно доверить машине решение судьбы?
Вам не кажется, что я оправдываю Веру Пантелеевну? Нет, это совсем не те слова. Я просто надеюсь, что понимаю её.
Теперь вы попробуйте сядьте на моё место. Со стороны виднее. Попробуйте сами, тем более что дело прошлое и ваше решение, даже неправильное, не возымеет последствий.
Конечно же, я ломлюсь в открытую дверь. Конечно же, мы с вами правы и нас поймут — -и прокурор, и суд, и всё. Мы просто разнервничались и стараемся убедить себя в том, что и так ясно.
Ах, как жаль, что я не могу на самом деле собрать людей, чтобы послушали! Костиных приятелей, приятелей Мусляева, Генкиных Приятелей их приятелей. Запомнили бы на всю жизнь.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о привлечении в качестве обвиняемого г. Москва 20 мая 1969г.
Ст. следователь прокуратуры М-ского р-на г. Москвы юрист 1-го класса Базаров, рассмотрев уголовное дело об убийстве Рытова Ильи и кражах, установил, что гр. Пименов Константин Лаврентьевич достаточно изобличается в том, что он, вступив в преступный сговор со своим братом Геннадием и товарищем по работе Мусляевым, совместно с ними 12 апреля 1969 г. около 13 час. в кв. 17, дома 62, по Заозёрной ул. с целью завладения имуществом совершил умышленное убийство Рытова Ильи, ударив его по голове спортивной гантелью; в результате нападения было похищено: 2 пары золотых серёг с камнями, 3 золотых кольца с камнями, золотые наручные часы, браслет из платины, золотой кулон, мужские ботинки, 10 пар мужских носков, 7 галстуков, 6 чайных ложек.
В ночь на 1 января 1969 г., предварительно договорившись с братом Геннадием и соседом по дому Дроботом Дмитрием,
совместно с ними проник в школу № 465 — Красковская ул., 7, — взломал двери методических кабинетов и похитил два микроскопа, прибор «Тестер», деталь скелета, учебного пособия, и комплект скальпелей, общей стоимостью 116 руб.
16 февраля 1969 г. во дворе завода электронного оборудования взломал ящик с приборами и инструментами и похитил 2 реле, 16 радиоламп и 22 сверла, общей стоимостью 38 руб. 17 коп., а на следующий день, предварительно договорившись с Крючковым Антоном, совместно с ним взломал другой ящик и похитил 2 реле, 20 радиоламп и набор гаечных ключей, общей стоимостью 47 руб. 09 коп.
Вследствие этого и на основании ст. ст. 148 и 149 УПК РСФСР
ПОСТАНОВИЛ:
привлечь по настоящему делу в качестве обвинямого Пименова Константина Лаврентьевича, предъявив ему обвинение по п. «а» ст. 102 и ч. II ст. 89 УК РСФСР,
Ст. следователь
юрист 1-го класса Базаров.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ о привлечении в качестве обвиняемого
г. Москва 20 мая 1969 г.
Ст. следователь прокуратуры М-ского р-на г. Москвы юрист 1-го класса Базаров, рассмотрев уголовное дело об убийстве Рытова Ильи и кражах, установил, что гр. Мусляев Анатолий Михайлович достаточно изобличается в том, что он, вступив в преступный сговор с братьями Пименовыми, совместно с ними 12 апреля 1969 г. около 13 час. в квартире 17, дома 62, по Заозёрной ул. с целью завладения имуществом совершил умышленное убийство Рытова Ильи — держал его в то время, когда Пименов Константин нанёс спортивной гантелью удар по голове; в результате нападения было похищено: 2 пары золотых серёг с камнями, 3 золотых кольца с камнями, золотые наручные часы, браслет из платины, золотой кулон, мужские ботинки, 10 пар мужских носков, 7 галстуков, 6 чайных ложек.
Вследствие этого и на основании ст. ст. 148 и 149 УПК РСФСР
ПОСТАНОВИЛ:
привлечь по настоящему делу в качестве обвиняемого Мус» ляева Анатолия Михайловича, предъявив ему обвинение по п. «а» ст. 102 УК РСФСР
Ст. следователь
юрист 1-го класса Базаров.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ г. Москва 20 мая 1969 г.
Ст. следователь прокуратуры М-ского р-на г. Москвы База-ров. рассмотрев уголовное дело об убийство Рытова Ильи и кражах,
УСТАНОВИЛ:
12 апреля 1969 г. братья Пименовы, Геннадий и Константин, совместно с Мусляевым Анатолием с целью завладения имуществом совершили убийство Рытова Ильи и похитили ценности и носильные вещи, принадлежавшие его родителям. Непосредственно убийство Рытова совершили Мусляев и Пименов Константин. Однако Пименов Геннадий принимал активное участие в организации и осуществлении преступления.
Виновность всех троих полностью доказана материалами уголовного дела — они, в частности, признались в совершении преступления и выдали похищенные вещи.
Кроме того, в ночь на 1 января 1969 г. братья Пименовы и Дробот совершили хищение из школы № 465 двух микроскопов и других вещей. В совершении этого преступления они также признались и возвратили часть похищенного. Мусляев А. М. и Пименов К. Л. привлечены к уголовной ответственности. Что касается Пименова Геннадия, то хотя он и был прямым участником преступлений, тем не менее к уголовной ответственности привлечён быть не может, поскольку не достиг четырнадцатилетнего возраста (родился 16 августа 1955 г.).
Однако с учётом содеянного следует прийти к выводу о необходимости применения в отношении его принудительных мер воспитания.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 10 УПК РСФСР
ПОСТАНОВИЛ:
направить настоящее постановление в Комиссию по. делам несовершеннолетних исполкома М-ского районного Совета депутатов трудящихся для решения вопроса о направлении Пименова Геннадия Лаврентьевича, 16 августа 1955 г. рождения, в детскую трудовую воспитательную колонию.
Ст. следователь юрист 1-го класса
Базаров.
Всё. Кто нужен, допрошены, экспертизы проведены, обвинение предъявлено.
Костя Пименов признал себя виновным полностью. Мусляев написал, что признаётся частично, поскольку вовсе не имел в виду убивать и участия в убийстве не принимал. Я было попытался объяснить, что при таких обстоятельствах совсем не важно, кто именно наносил удар. Просто были разделены обязанности во имя достижения общей цели — один держал, другой ударял.
Мусляев не спорил со мной и, вопреки обыкновению, был немногословен. Он лишь сказал, что не намерен брать на себя больше того, что было на самом деле, и пусть суд разберётся, кто говорит правду — он или Пименовы. Я снова стал пространно объяснять смысл происшедшего с точки зрения уголовного закона. Мусляев терпеливо слушал, кивал головой, потом поморщился, как от зубной боли, и сказал, что будь по-моему, раз я так настаиваю. Он может написать что угодно, только правда всё равно на его стороне — он не убивал и делать этого не собирался.
Тогда я пошёл на попятный: зачем же признаваться, если он не считает себя виновным? Мы поменялись ролями. Мусляев говорил — пожалуйста, он напишет всё, что я хочу. Не надо думать, что он такой-сякой, просто старается облегчить своё положение. Я возражал: мол, не во мне дело, а в истине. Наконец договорились, и в протоколе он написал собственной рукой, что виновным себя признаёт лишь частично, только в краже, но вовсе не в убийстве.
Потом я знакомил его с материалами дела. Так полагается по закону: после окончания следствия всё дело от первой до последней бумажки надлежит представить обвиняемому и его защитнику для ознакомления. За этим занятием мы и провели целый день. Они читали дело, я — газеты, пока не кончились.
Назавтра пришла очередь Кости Пименова. Услышав, что предстоит ознакомление с делом, он согласно кивнул головой и уееяея в углугцд табуретке.
Теперь табуретку к столу не придвинешь. Это раньше можно было, до тех Пор, пока едва не случилось несчастье. Мы привыкли — и следователи, и начальство тюремное, — что идёт в кабинетах работа чуть ли не канцелярская: разговаривают, записывают. Но вот однажды разнервничался следователь, и обвиняемый сошёл, как говорится, с колков, схватил табуретку. Как обошлось без увечья, мы сами понять не могли. Табуретка вдребезги, стол вдребезги. И тут вспомнили, что имеем дело с преступниками, а вовсе не с благонамеренными девицами. Засуетилось тюремное начальство, и вот привинтили табуретки к полу, подальше от стола следователя. Теперь приходится выпрашивать у дежурного стул. А то что это за работа: ты в одном углу, он в другом!
Я притащил стул, усадил Костю поближе.
— Подождём. Адвокат должен сейчас прийти.
— Мать наняла? Я же говорил, не надо. — Костя отвернулся к окну. — Без толку.
— Что значит — не надо?
— Не успокаивайте, пожалуйста, не маленький.
— А я не успокаиваю. Но адвокат нужен. Особенно в суде.
— Ладно. Если ей спокойнее, пусть будет.
— Ей спокойнее.
Костя лизнул пересохшие губы и посмотрел на меня в упор.
— Свидание, говорят, полагается после закрытия дела. Так вот, мне не надо. Пусть привыкает. Скажите — нельзя. Незачем. Пусть не надеется. Не обещайте ей.
— А что я могу обещать?
— Ну там снисхождение, смягчение
— Значит, не будет? Ишь ты!
— Не маленький.
— Послушай, Костя, дело к концу, а я что-то не слышал от тебя ну, как бы это сказать, отношения не уразумел ко всему этому. Одно дело писать — признаю, виноват, осознал, — а как на самом деле? Ты хоть понял, что произошло?
— После драки кулаками? — Он положил локти на колени и низко опустил голову, так что сошлись лопатки и кожа на шее натянулась. — Для суда или для вас? Если для вас — не понял!.. Я не мог этого! Не мог! Но ведь сделал! — Костя выпрямился. — Чего не хватало? Барахла ихнего? Вонючего микроскопа? Может, думаете, действительно на яхте хотел кататься?.. Я отлично жил. Отлично! Это здесь, теперь видно. — Он резко выдохнул воздух. — Не боюсь, не думайте. Правда, не сплю почти Но не страшно. Не хочу даже думать, что будет Не понимаю Я даже драться не любил.
Не понимает!
А вот Мусляев всё понимает и объяснил мне всё детально. Причины, нюансы. Всё растолковал. И не убедил ни в чём. Или я опять несправедлив? Да нет, это точно — Мусляев именно всё разобъяснить старался. Не осмыслить — меня убедить.
А Костя говорит «не понимаю». Пытается, но
Так ведь это же труднейшее дело — себя самого понять.
Это же не всякому за целую жизнь удаётся.
Из тюрьмы мы вышли вместе с Костиным адвокатом. Постояли у ворот, поговорили. Начали было прощаться, но выяснилось, что нам в один конец города, почти соседи. Он предложил пройтись немного — вечер тёплый, тихий, и врачи рекомендуют прогулки. Всё-таки и ему уже седьмой десяток. И два инфаркта. Я согласился. Насчёт инфарктов опыта не имею, но по части прогулок и свежего воздуха испытываю крайний дефицит. А главное, мне было просто интересно. Об этом человеке я много слышал. До недавнего времени — большой судейский начальник. Молодым работал в ВЧК. Во время войны — прокурор армии. Теперь адвокат. Все говорят о нём — личность.
Высокий худощавый старик с гривой снежных волос и удивительно синими глазами, он шёл, слегка откинувшись назад, и мерно постукивал толстой и, видно, очень тяжёлой палкой.
— Как защищать его, паршивца? И от чего защищать? Вот вы бы на моём месте как? Факты бесспорны. Признается. Сидеть в суде дурак дураком и задавать бессмысленные вопросы? Это же даром есть хлеб! Нет, вы подумайте, молодой человек, ведь в зале будут родители этого несчастного мальчика как его забыл ну да, Рытова. Они же меня подлецом сочтут. Да это бы ладно, коли на пользу. — Он чаще застучал палкой. — Вдаваться в сентиментальные подробности биографии? Так нет у него биографии. Мать пожалеть — кстати, совершенно невозможная трагедия, — но есть и другая мать — Он ещё больше насупился. — С удовольствием поменялся бы с вами местами. Ну да ладно. Кто-то же должен защищать. Попытаемся Как думаете, не типичный случай, а? — Он спрашивал, а мне казалось, вовсе забыл о моём существо-вании. — Где истоки? Внешние причины — да, но истоки?
— Может, поэтому и типично?
Старик не ответил — не расслышал или пропустил мимо ушей.
— У меня самого два внука, школу кончают, близнецы. Так вот, доложу вам, совершенно за них спокоен. Говорят, всё может быть От сумы да от тюрьмы Ерунда! С порядочным человеком ничего такого быть не может Стечение обстоятельств? Малые причины? Смещение понятий? Возраст, наконец? Непросто, конечно, но человек всегда остаётся человеком. Уверяю вас. Вы же, прошу прощения, не украдёте? И внуки мои не украдут! Слава богу, перестали толковать о пережитках, отрыжках Всё-то мы одним словом объяснить стараемся Что ж, бывает, чуть-чуть — и пропал человек. Но обратите внимание — с порядочным человеком это чуть-чуть почему-то крайне редко происходит. Вот ведь как!
Незаметно стемнело. Притихли уличные звуки, поблёкли краски. Не хотелось спорить и даже разговаривать. Мы миновали площадь Белорусского вокзала и вышли на Ленинградский проспект. Мой собеседник замолчал и только время от времени гулко кашлял.
Это очень хорошо — тёплым летним вечером молча шагать по городу. Мысли приобретают своеобразный ритм. На ходу вообще легче думается.
Ну вот, пришло время садиться за обвинительное заключение. Я больше не увижу ии Костю, ни Мусляева. Ко мне больше ие придут их родители, не придут адвокаты. Я останусь наедине с делом.
Обвинительное заключение. Итоговый документ. В нём уже не будет никаких эмоций, никаких переживаний и сомнений. Всё, добытое за месяцы следствия, выстроится в единую цепь. Каждый факт должен быть бесспорным, каждый довод обоснованным. Никаких догадок, никаких колебаний. Факт — доказательство, мысль — подтверждение. Логика, анализ, выводы.
Обвинительное заключение Ну и что? Сколько составил я Их — маленьких, средних, больших! Сложных и вовсе не требующих усилий ума, когда вполне хватает одной, так сказать, голой техники. И сейчас я абсолютно спокоен. Напишу, в чём обвиняются — украли и убили. Доказательства? Пожалуйста — свидетели, экспертизы, похищенные вещи. Наконец, собственные признания.
Причины? Истоки? Зачем! Это же обвинительное заключение, а не социологическое исследование. Необходимый минимум объяснений приведу, конечно. Украли, потому что Убили, потому что Украли, потому что хотели нажиться за чужой счёт. Убили, потому что хотели завладеть чужим имуществом и опять-таки нажиться за чужой счёт.
А почему хотели нажиться за чужой счёт?..
Да, тяжкое это бремя — всё на свете объяснять. Объяснять, потому что полагается. Правда, есть разница: одно дело — стараться проникнуть в суть, другое — создавать видимость, что проник. Но вот если не получается? Может, лучше признаться — не получается? Причины, конечно, есть, но сегодня я не знаю их и, возможно, не узнаю никогда, не докопаюсь, хотя они непременно есть и их обязательно надо искать. А раз «проник», больше от тебя ничего не потребуют.
Но поднялась бы рука написать в обвинительном заключении, положим, такую фразу: « и вот этот по всем признакам хороший человек почему-то всё-таки совершил преступление, но объяснить случившееся я не могу». Или бросился бы изыскивать (не придумывать, избави бог, а именно изыскивать) факты и обстоятельства, свидетельствующие о том, что не так уж он и хорош, бывало и за ним, вот и докатился Есть в этом соблазнительный резон. Надо же как-то объяснять.
Но разве не случаются в жизни, казалось бы, невероятные вещи? Происходит же порой нечто на первый взгляд противоестественное, не поддающееся истолкованию сегодня. Как быть? Стараться? Искать? Пусть долго, мучительно, может, безнадёжно. Или: не так уж он и хорош, бывало и за ним, вот и докатился И ведь действительно докатился, факт, как говорится, налицо. А значит, где-то было начало и не так уж важны детали. Или важны?..
Однако на свете есть счастливые люди. Уверяю вас, есть. Это те, которым всё ясно. Оми не виноваты.
Но к делу. Пора подводить итог.
Я освободил свой рабочий стол, сгрёб в ящики всё лишнее. Только стопка бумаги и два аккуратно подшитых тома уголовного дела. Даже телефон сдвинул в сторону, чтобы не мешал. Ручка заправлена, сигареты и спички на месте. Дверь кабинета заперта изнутри. Можно начинать.
«УТВЕРЖДАЮ» Прокурор М-ского р-на г. Москвы советник юстиции
10 июня 1969 г. (РЫБАКОВ)
ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ДЕЛУ ПО ОБВИНЕНИЮ
1. Пименова Константина Лаврентьевича по п. «а» ст. 102 УК РСФСР.
2. Мусляева Анатолия Михайловича по п. «а» ст. 102 УК РСФСР.
12 апреля 1969 г. при тушении пожара в кв. 17, дома 62, по Заозёрной ул. был обнаружен труп Рытова Ильи, 14 лет, со следами насильственной смерти.
Расследованием уголовного дела, возбуждённого в связи с этим, установлено
Обвинительное заключение А почему не сразу приговор? Почему не так: сам раскрыл преступление, сам расследовал и сам приговорил?
Разве судья лучше будет знать дело? Ведь это я начинал его с листа. Со всеми — обвиняемыми, свидетелями, потерпевшими — первым разговаривал я. И до конца — я. Судья же увидит каждого из них только раз. Почти все документы — протоколы, постановления и многие другие, что составляют уголовное дело, — писал я. Все следственные действия — допросы, очные ставки, осмотры, обыск, выезды на место — выполнял тоже я или, в крайнем случае, по моему заданию работники милиции. Кому же, как не мне, решать? Кто другой сможет определить справедливое наказание?
Да что там! В деле далеко не всё, известное мне. Сколько часов провёл я в разговорах с теми же Мусляевым и Костей о материях, вроде не касающихся следствия, но важных для проникновения в суть! Или просто о жизни. Сколько я знаю такого, что никак не укладывается на казённую бумагу! Как описать, например, выражение лица или интонацию, голоса?
Так почему же не мне решать?
Хорошо, допустим. И как бы я решил?
Перво-наперво сам факт. Убийство! Страшное и непрощае-моё преступление. Преступление умышленное, то есть самое опасное.
Что ещё надо? Ясно — пощады быть не может!
В законе сказано, что умышленное корыстное убийство, то есть убийство при отягчающих обстоятельствах, карается лишением свободы на срок до 15 лет или высшей мерой наказания.
Постойте, при чём здесь лишение Свободы? Ведь пощады быть не может?
Обвиняемых двое — Пименов и Мусляев, и степень их участия в преступлении разная. Один подал мысль и содействовал — это Мусляев. Другой, Пименов, нанёс роковой удар. Есть разница? Значит, есть, о чём думать.
Идём дальше: степень участия и степень вины опять-таки не одно и то же. Только фактов — кто что делал — мало. Закон требует ответа: при каких обстоятельствах они действовали, каковы побудительные мотивы, каковы особенности поведения того и другого.
И ещё: мы должны определить степень социальной опасности каждого и решить, какие нужны меры, чтобы оградить общество от них обоих.
Дело серьёзное, поспешности не терпит.
Мы должны знать, есть ли надежда на исправление или они неисправимы и им нет места на белом свете.
И ещё мы обязаны сделать так, чтобы приговор стал уроком и предостережением другим и не оставил сомнений в справедливости суда.
Теперь давайте сначала. Сам факт. У меня до сих пор стоит перед глазами место совершения преступления — квартира Рытовых. Ужасное место! Фотографии в деле — всего лишь его бледное подобие. А я видел это место собственными глазами, и до сих пор становится не по себе.
Так, может, к лучшему, что судья не был там, иначе не смог бы, пожалуй, избавиться от дополнительных тягостных ощущений. А они лишние при беспристрастном решении дела.
Дальше. У меня до сих пор стоит в ушах крик матери Ильи, и поныне кажется, что чуть ли не на моих глазах поседел его отец. Судья не услышит этого леденящего душу крика. Перед ним будет стоять просто не по годам седой, прибитый горем мужчина,
И это тоже к лучшему, потому что только одни воспоминания могут вывести из состояния душевного равновесия. А судья обязан быть ровным, иначе эмоции захлестнут его и лишат объективности.
Другая сторона. Мать Пименовых. Для судьи она будет одним из свидетелей, да ещё таким, который балансировал на грани: совсем немного — и обвиняемая. С судейского места трудно будет разглядеть её глаза, а на меня они глядели в упор, не мигая, и я до сих пор ощущаю себя под взглядом этой женщины. С судейского места почти не будут видны её натруженные руки, а я видел их совсем рядом, по-матерински сильные, по-женски беспомощные. Я даже временами забывал, какое страшное преступление совершили её сыновья и как виноваты перед людьми.
Я думал о том, какое страшное злодейство учинили они над своей матерью, и о том, что нет меры злодейству, когда оно учинено над собственной матерью.
И это хорошо, что судья лишь на расстоянии увидит Веру Пантелеевну. И не наедине, а на людях, в официальном зале заседаний, иначе сочувствие могло бы захлестнуть здравый смысл и профессиональную стойкость.
Родители Мусляева. Его мать я так ни разу и не видел. У неё открылась тяжёлая болезнь сердца, несчастная женщина и поныне не поднимается на ноги. Отец, Михаил Павлович
Мусляев, сразу же уволился из армии, и теперь его время делится между беготнёй по врачам, дежурствами у постели жены и посещениями прокуратуры.
Он почти ежедневно бывает у меня, и каждый раз я слышу: «Не может быть! Мой сын не мог сделать этого!» Мы спорим до хрипоты, уже забрались бог знает в какие дебри, по он не сдастся. «Не может быть!..»
Нет, Мусляев-старший не настолько наивен, чтобы ставить под сомнение сам факт убийства. Он отчаянно не соглащается с тем, что это именно убийство и совершено его сыном. Несчастное стечение обстоятельств! Недоразумение! Толика просто втянули, запутали, оболгали. Он хороший, добрый парень. Любит родителей, товарищей.
Он не мог!
Здесь я уже не следователь, не сторонний наблюдатель. Я превратился в участника событий и как мог силился доказать, что будет только справедлив, когда его сын ответит, наконец, один, лицом к лицу с законом, не имея возможности опереться на папину руку, спрятаться за его спину. Ответит по всей строгости.
Это будет справедливо.
К счастью, в пылу спора мне всё-таки удалось удержаться: я так и не сказал Михаилу Павловичу, что его сын, его Толик, хороший и добрый, за всё время следствия сам, кажется, один только раз вспомнил о родителях. И ещё раз: когда речь зашла об адвокате, он спросил, что по этому поводу думает отец и сильного ли защитника пригласил.
Нет, хорошо всё-таки, что не мне окончательно решать судьбу Мусляева. Я, пожалуй, не был бы безупречен. Это мудро, когда одному человеку не дано решать судьбу других, потому что, когда решает один, даже добросовестный человек, слишком велик риск ошибки. Когда решают двое — риск сокращается наполовину. Когда решают многие — ошибка практически исключена.
Каждый должен заниматься своим делом. Следователь — раскрывать преступления, суд — оценивать злодеяния и воздавать по заслугам.
Но ведь нас маленькая горстка. А другие? Им что, остаётся только негодовать и возмущаться, охать и ахать? Их слово ничего не значит?
Протокол собрания работников лабораторий и отделов института
5 июня 1969 г
Присутствовало 354 человека.
СЛУШАЛИ: Сообщение председателя местного комитета Левиной о предстоящем суде по делу об убийстве сына сотрудника института Рытова А. П. — Илюши Рытова.
ПОСТАНОВИЛИ: Коллектив сотрудников института, в котором на протяжении многих лет трудится А. П. Рытов, отец зверски убитого школьника Илюши Рытова, с болью и гневом воспринял весть об этом подлом преступлении.
Коллектив института потрясён тяжестью утраты, понесённой А. П. Рытовым, и той жестокостью, с которой было совершено преступление.
Сейчас, когда следствие по делу заканчивается и бандиты, поднявшие руку на самое дорогое — жизнь человека, должны предстать перед судом, сотрудники института обращаются к суду с просьбой применить к убийцам высшую меру наказания — смертную казнь.
Им, этим выродкам, нет места на нашей земле, среди советских людей, строящих самое справедливое общество — коммунизм.
Коллектив сотрудников просит суд допустить в качестве общественного обвинителя начальника отдела института Громова С. Ф.
По поручению собрания директор института Доктор технических наук
профессор Волчков
Секретарь партбюро Гудковская
Председатель месткома Левина.
Каждый должен заниматься своим делом. Это так. Но есть дела, к которым вправе прикасаться каждый. Обязан! И борьба с преступностью из их числа. Потому что уголовная преступность — беда, которая касается всех. Потому что, когда решает не один человек, ошибка практически исключена.
И я доволен, что нет равнодушных.
Это точно: когда на моём столе появляется очередное дело, равнодушных нет.
Но вот раньше? Когда не существует ещё уголовного дела?
Преступниками не рождаются, ими становятся. На это нужно время. Значит, и у нас есть время — увидеть. Грань между проступком и преступлением порой едва различима, и одно следует за другим.
Так что, дожидаться, когда последует?
Оставим на время криминальные материи, прислушаемся, о чём иной раз говорят вне казённых степ. «Он совершил большую подлость». Услышим, и это вызывает тревогу. Или: «Как ни говори, а это всё-таки маленькая подлость». И мы уже не так волнуемся. Маленькая!
Так что, дожидаться, когда подрастёт?
И зачем так много слов, если достаточно одного — подлец.
Увы, нельзя судить за одну подлость, пока за ней не последовало преступление.
Не судят просто мерзавцев, просто бесчестных людей. Просто человеческие пороки не судят уголовным судом. Ну пусть не пришло ещё время — судить. Но всего лишь не подавать руки такому? Ему наплевать на наши рукопожатия. Его вполне устраивает, что мы отворачиваемся, когда надо глядеть в упор. Беспечно проходим мимо, когда самое время остановиться, потакаем, когда следует пресечь, подзадориваем, вместо того, чтобы остановить. И — поздно!
Вот и у нас уже поздно. Свершилось! Приговор, наказание уже не поднимут мёртвого, не осушат слёзы живых. Только и остаётся — возмездие и предостережение другим.
Возмездие Возмездие — это когда уже поздно.
Предостережение Так ведь это другим!
Укор? Мы возмутимся, конечно, вознегодуем. Посетуем ещё: как же так, ай-ай-ай, проглядели! Но всё это, когда уже нет возврата. А ведь это же не частный конфликт между преступником и потерпевшим. Общественная беда это! Если бы хоть на мгновение задумались злоумышленники? Да где там! Или хотя бы мысль мелькнула: что же мы с матерями своими делаем! Коль ты негодяй и не хочешь понять, какую общественную беду несёшь, подумай о ближних своих. Или суть негодяя такова, что горе окружающих — не его горе? Так о себе подумай! Ведь почти нет преступлений, которые не раскрываются. Или не знаете этого?
Так знайте и пугайтесь! Если у вас нет совести, пусть будет страх!
И всё-таки не самое главное дело делаем мы, следователи, прокуроры, судьи. Мы вступаем, когда уже поздно. Найти, изобличить, наказать — не самое главное и не самое трудное. Увидеть начало пагубного пути, уберечь людей от появления ещё одного преступника, его уберечь от самого себя! Кто посмеет сказать это не моё дело?
Что-то у меня чуть ли не сплошь плохие люди — убийцы, воры, лжесвидетели! Этак поработаешь десяток-другой лет, и может показаться, что на каждом шагу они, всюду.
Да нет, просто должность у меня такая. Я сам выбрал её и не жалею. Ведь от того, что врач постоянно общается с больными, мир не кажется ему сплошь населённым страдающими людьми. Напротив, он выходит из клиники и радуется, что за её стенами живёт весёлый, здоровый телом и духом народ.
И я, выходя из своей прокуратуры, радуюсь прекрасному миру прекрасных людей. Они даже не знают и не узнают никогда, где находится такое неприветливое учреждение — прокуратура. Или милиция. Разве что за паспортом придут или выслушают нотацию от постового — зачем, мол, переходите улицу в неположенном месте, жизнь свою не бережёте. Будьте любезны, берегите свою драгоценную, жизнь!
А сейчас у меня особенное настроение — я закончил дело. Как любой мастеровой, закончил свою работу — доволен.
Мне уже не надо ничего решать, не надо переживать, воевать ни с кем не надо.
В суд я не пойду — у нас не принято, да и делать мне, собственно, там нечего. Я своё дело сделал. Теперь пусть судьи. Перед ними снова развернётся ужасающая картина, пройдёт вереница свидетелей, прозвучат прерывающиеся голоса обвиняемых. Произнесёт речь государственный обвинитель. Выступят адвокаты. А в разных концах зала будут сидеть родители: с одной стороны — Рытовы, с другой — Пименовы и Мусляевы. Не потому в разных концах, что так полагается. Просто эти люди рядом сидеть не смогут.
Потом будут последние слова обвиняемых.
И, наконец, из совещательной комнаты выйдут судьи, и председательствующий, сдерживая волнение, зачитает.
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД ПРИГОВОРИЛ
_____________________
Распознавание, ёфикация и форматирование — БК-МТГК.
|