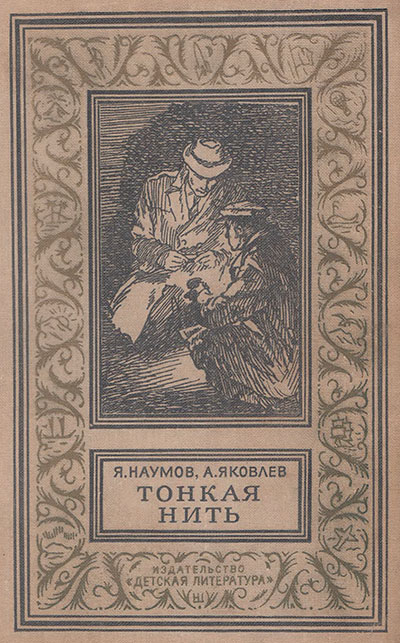|
Сделал и прислал Кайдалов Анатолий.
_____________________
Андрей Яковлевич Свердлов (Андрей Яковлев) (1911–1969) —сын одного из наиболее известных деятелей большевистской партии Я.М.Свердлова — поступил на службу в органы НКВД совсем молодым (ему было немногим больше 20 лет). В последние годы службы он занимал должность заместителя начальника отдела «К» (контрразведка) Главного управления МТБ СССР, работал в 4-м секретно-политическом отделе управления МВД СССР, потом в Институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, защитил диссертацию на звание кандидата исторических наук. Первые две остросюжетные книги
— романы «Двуликий Янус» и «Тонкая нить» были написаны Андреем Яковлевичем в соавторстве и издавались под псевдонимом «Я.Наумов, А.Яковлев». Роман «Схватка с Оборотнем» увидел свет уже после смерти писателя и был подписан его настоящим именем.
Роман «Тонкая нить» рассказывает о самоотверженной работе советских чекистов, умело раскрывающих сложное и запутанное дело.
Читатель узнает, как необходимо быть бдительным и внимательным и как любой на первый взгляд незначительный факт даёт возможность сотрудникам органов госбезопасности разоблачить важных государственных преступников, которые оказываются среди твоих родных, близких и знакомых.
Глава 1
Прошел уже час, если не больше, как майор Миронов, не выпуская папиросы изо рта, прикуривая одну от другой, мерил и мерил шагами свой кабинет из угла в угол: четырнадцать шагов туда, четырнадцать обратно и снова четырнадцать. Сколько уже пройдено: пять тысяч шагов, десять? Мысль мелькнула и пропала — не все ли равно?
Миронов подошел к окну и распахнул настежь обе створки. В комнату ворвалась осенняя прохлада. Сизые пласты табачного дыма, лениво тянувшиеся к потолку, качнулись и начали таять. Миронов облокотился на подоконник и глянул вниз: перед ним раскинулась знакомая картина. Направо, чуть устремляясь вверх, убегала узкая улица Дзержинского, забитая в этот предвечерний час машинами, троллейбусами, автобусами. Налево виднелась небольшая часть площади Дзержинского, толчея у входов в магазин «Детский мир». Сверху, с высоты пятого этажа здания Комитета государственной безопасности, были хорошо видны бесконечные потоки пешеходов, заполнявших тротуары, перекрестки…
Минуту-другую Миронов задумчиво смотрел на проносившиеся внизу машины, на оживленную толпу пешеходов, но все это, такое привычное, близкое, сегодня не радовало глаз — слишком неспокойно, тревожно было у него на душе. Он выпрямился, со вздохом закрыл окно, круто повернулся и шагнул к своему столу. Усевшись поплотнее в кресло, Миронов придвинул к себе папку, на которой стояло: «Дело №…»
Папка была простая, коричневая. Судя по объему, в ней находилось десятка полтора-два документов, не больше, но именно содержание этой тощей папки вот уже третьи сутки как выбило майора из колеи. Он раскрыл папку и вновь, в который раз, принялся тщательно изучать документ за документом, страницу за страницей, но напрасно: настроение не улучшалось. Сколько он ни вчитывался в материалы (а Миронов, пожалуй, знал их чуть не наизусть), ему никак не удавалось нащупать ту нить, ухватившись за которую можно было начинать расследование. Настолько все было неясно, неопределенно.
На ком в первую очередь сосредоточить внимание, думал Миронов, кого прежде всего изучать? Самойловскую? Ничего не скажешь — с нее все началось, и все же Миронов был уверен, что Самойловская — фигура случайная, что внимания органов государственной безопасности она не заслуживает.
Черняев? Сомнительно. Да, поведение Черняева, если верить Самойловской (но можно ли ей верить?), казалось странным. Зачем ему, обеспеченному человеку, понадобилось сбывать импортные дамские вещи? И все же, в худшем случае, это не больше, чем мелкая спекуляция. Сам же Черняев — коммунист, участник Великой Отечественной войны, инженер-подполковник, кавалер многих орденов, крупный строитель — никак не был похож на человека, способного совершить преступление против Родины, против Советского государства.
Кто же тогда? Автор записки? Безусловно. Но как с него начнешь, если неизвестно, кто он или, вернее, она? Где этого автора искать? Как? Если и есть какая-нибудь ниточка, то она так тонка, так малоосязаема…
Миронов закрыл папку и попытался мысленно проследить за всем ходом дела.
Началось все с того, что возле одного из московских комиссионных магазинов была задержана некая Самойловская, оказавшаяся матерой спекулянткой, давно известной милицейским органам. Ее задержали с поличным: она пыталась сбыть по спекулятивным ценам заграничные нейлоновые кофточки. В объемистой сумке Самойловской обнаружили предметы дамского туалета заграничного происхождения (США, ФРГ, Франция) и старинные женские украшения, являвшиеся, по заключению специалистов, предметами антиквариата.
Сотрудники милиции без труда определили, что вещей, подобных тем, которые пыталась сбыть Самойловская, в нашей торговой сети не бывает. Это навело на мысль, что тут не обошлось без контрабанды, тем более что вещи в своем большинстве были почти новые, неношеные. В сочетании же с антикварными ценностями все выглядело и вовсе подозрительно.
Дело, однако, этим не ограничилось: при тщательном осмотре вещей, изъятых у Самойловской, под подкладкой одной из курточек (кстати, в отличие от большинства остальных предметов, эта курточка была изрядно поношена) был обнаружен клочок бумаги, провалившийся туда, по-видимому, из прохудившегося кармана. Клочок этот был обрывком какого-то письма или записки. Не было ни начала, ни конца, ни одной законченной фразы. Торопливым женским почерком было написано:
…русские не знают и не узнают…
…дете вести себя хорошо. Что…
…выполнять задания…
…тать предателем…
Знала ли Самойловская об этом клочке бумаги? Как попала к ней злосчастная куртка, как попали остальные предметы?
На допросе в милиции Самойловская путалась, давала противоречивые показания. Сначала она заявила, что изъятые у нее вещи (в том числе и курточку) она нашла. На улице. Просто нашла… Шла, видит — сверток. Рядом — никого. Развернула, а там — вещи. Что с ними делать? Вот она и решила их продать. Разве это преступление? Однако, когда работники милиции предложили ей уточнить, где именно, когда она нашла сверток, как он выглядел, Самойловская сбилась, вконец запуталась и… отказалась от своих показаний. Она поспешила выдвинуть новую версию: нет, вещи она не находила. Вещи эти вручил ей для продажи один из ее знакомых — Черняев. Капитон Илларионович Черняев.
Кто такой Черняев, Самойловская толком сказать не могла: военный, кажется, полковник. Живет в городе Крайске. Кем работает? Он начальство, крупное начальство, машину имеет. Ничего другого Самойловская о Черняеве не знала.
Органы милиции проверили ее показания: запросили Крайск. Проживает ли там Капитон Илларионович Черняев, по имеющимся данным полковник? Ответ не заставил себя ждать: да, проживает. Инженер-подполковник запаса Черняев работает в Крайске на одном из строительств специального назначения.
Как явствовало из собранных милицией справок, характеристик, анкет, автобиографий Черняева, жизненный путь инженер-подполковника был безупречен. Капитон Илларионович Черняев родился в 1915 году, в глухом сибирском селе. Окончив сельскую школу, подростком уехал в город, на заработки. Работал и учился: окончил вечерний рабфак. Затем — Москва, Военно-строительная академия, армия. Всю войну на фронте: сначала в саперных войсках, затем у партизан. Ранение, снова фронт, и опять саперные части. Имеет правительственные награды. Холост. После окончания войны — стройки, стройки и снова стройки. Недавно уволился в запас. В Крайске около двух лет, является одним из руководителей крупного строительства специального назначения. В служебных характеристиках подчеркивалось, что инженер-подполковник Черняев морально устойчив, делу партии предан, усиленно работает над повышением своего идейно-политического уровня, занимаемой должности соответствует.
Правда, читая сухие, штампованные строки характеристики, трудно было представить себе живой облик человека, узнать хоть что-нибудь о его характере, интересах, наклонностях, но репутация Черняева рисовалась ясно: на ней не было ни пятнышка. Трудно было понять, что свело его с Самойловской, откуда взялись у него дамские вещи и почему он решил их сбыть, да еще таким странным путем: в другом городе, при посредстве спекулянтки.
Впрочем, можно ли верить Самойловской, не пытается ли она спрятаться за широкую спину инженер-подполковника? Органы милиции воздержались от выводов и все материалы, связанные со странным клочком бумаги, передали в Комитет государственной безопасности.
Это случилось три дня тому назад. В тот же день коричневая папка, в которой теперь были подшиты все материалы, очутилась на столе у майора Миронова. К папке была приколота короткая записка, написанная рукой начальника управления, в котором работал Миронов, генерала Васильева:
Тов. Миронов! Ознакомьтесь с материалами дела, допросите задержанную и доложите ваши соображения.
Да, легко сказать: «Доложите соображения»! А что делать, если их, этих самых соображений, пока нет? Что тут будешь докладывать? Вот уже третьи сутки возится Миронов с этим делом, но никакого просвета пока не видно. Самойловскую он допросил, но ничего особо интересного этот допрос не дал. Судя по всему, знакомство Самойловской с Черняевым было чисто шапочным. Ровно ничего к тому, что она показывала о Черняеве ранее — «полковник», «большое начальство», — Самойловская добавить не могла.
По словам Самойловской, ездила она в Крайск навестить знакомых. Там случайно повстречалась с Черняевым, которого знала раньше. Черняев будто бы зазвал ее к себе в гости, упросил взять кое-что из принадлежавших ему вещей и продать в Москве. Чьи они, эти вещи, как попали к Черняеву, кому принадлежали раньше, Самойловская не знала. Черняев ничего об этом не говорил, а она не спрашивала. Ей-то это к чему?
В ходе допроса Миронов незаметно навел разговор на курточку, за подкладкой которой была обнаружена таинственная записка: и эта курточка тоже от Черняева? А Самойловская ее осматривала? Что там находилось в карманах?
— В карманах? — искренне изумилась спекулянтка. — Что вы, гражданин начальник, карманы были пустые. Ничего там не было, ничегошеньки. Я смотрела…
Да, судя по всему, за подкладку куртки Самойловская не заглянула и записки не обнаружила. Тут ей можно было верить, а в остальном…
Разгадку следовало искать, по-видимому, в Крайске — так полагал Миронов. Значит, надо ехать туда. Быть может, на месте появится какая-нибудь зацепка, которая подскажет, как и с чего начинать расследование. Однако, прежде чем ехать, необходимо побывать у Семена Фаддеевича (так звали генерала Васильева). С ним следует посоветоваться, получить указания. Ему решать — ехать в Крайск или нет. Проницательность генерала, его огромный чекистский опыт, умение разглядеть важное и значительное там, где другой, менее искушенный и талантливый контрразведчик ничего не замечал, не раз изумляли Андрея Миронова.
Его мысли прервал телефонный звонок.
— Товарищ Миронов? — послышался в трубке голос генерала. — Прошу…
Вряд ли кто, не знавший профессии Семена Фаддеевича Васильева, встретив его на улице, в театре или в дружеской компании, принял бы его за боевого, умудренного опытом чекиста, — настолько мирно выглядел генерал, Лицо его, лицо типичного русского интеллигента, излучало добродушие. Костюм (генерал обычно ходил в штатском) сидел на несколько располневшей фигуре чуть мешковато. Густые, тронутые сединой светлые волосы слегка вились. Глаза прятались за толстыми стеклами очков, и не всякому доводилось видеть, сколь пронзителен и суров становился порой его взгляд.
Жизненный путь генерала был не из легких. Еще юношей, в годы гражданской войны, он был направлен комсомолом в органы ЧК. Ему довелось выполнять поручения Дзержинского, лично встречаться с Феликсом Эдмундовичем, довелось работать под непосредственным руководством Менжинского, Трилиссера и других выдающихся большевиков-чекистов. В середине 30-х годов, когда очутившийся во главе НКВД Ягода избавлялся от многих старых чекистов, соратников и учеников Дзержинского, Семен Фаддеевич Васильев был отчислен из центрального аппарата и направлен на далекую пограничную заставу. Без малого два десятка лет он отдал оперативной работе в погранвойсках и только в пятидесятых годах был возвращен на руководящую работу в центральный аппарат Комитета государственной безопасности. Таков был Семен Фаддеевич Васильев, непосредственный начальник майора Миронова.
Закончив чтение и отодвинув в сторону лежавший перед ним документ, генерал откинулся на спинку кресла:
— Нуте-с, Андрей Иванович, рассказывайте.
Взяв коричневую папку, генерал принялся перелистывать находившиеся в ней документы, одновременно внимательно слушая Миронова.
Майор докладывал сжато, скупо, обдумывая каждое слово, каждое выражение. Пока он излагал обстоятельства дела, генерал успел бегло просмотреть содержимое папки, отложил ее в сторону, поставил локоть левой руки на стол и, опершись подбородком о ладонь, внимательно слушал Миронова, пристально глядя ему в глаза. Когда Миронов перешел к выводам, когда заговорил о том, что связь между автором таинственной записки и таким человеком, как Черняев, представляется ему сомнительной, правая рука генерала легла на стол и пальцы его принялись выбивать дробь. Дробь становилась все чаще и чаще. Миронов насторожился: эта привычка генерала была известна каждому сотруднику управления. Если генерал забарабанил пальцами по настольному стеклу, значит, его что-то встревожило, что-то пришлось ему не по душе.
— Простите, — внезапно перебил Миронова генерал, — а вы представляете себе, чем занимается инженер-подполковник Черняев?
— Примерно, — осторожно ответил Андрей. — Ровно настолько, насколько об этом говорится в имеющихся справках. Черняев — один из руководителей крупного строительства под Крайском.
— Да, но какого строительства?
— Насколько мне известно, это секретное строительство. Специального назначения.
— Вот именно: специального назначения, — поднял генерал указательный палец. — В подробности я вас посвящать не буду — в этом нет необходимости, но строительство это имеет первостепенное оборонное значение. Как вы понимаете, иностранные разведки проявляют к строительствам подобного рода повышенный интерес. Больше того, у нас есть данные, что одна из разведок кое-что пронюхала о строительстве в Крайске. Отсюда история с Черняевым приобретает своеобразную окраску. Чувствуете?
— По совести говоря, — нерешительно заметил Миронов, — не совсем. Надо полагать, работу на подобном строительстве доверяют людям особо проверенным. Следовательно, Черняев…
— Да при чем здесь Черняев? — недовольно поморщился генерал и вновь забарабанил пальцами по столу. — Разве в нем дело? Впрочем, конечно, и в Черняеве, но не столько в нем, сколько в том, что делается или может делаться вокруг него, в его окружении, за его спиной. Не будем ничего утверждать заранее, но задумайтесь над следующим. Судя по всему, Черняев не чужд соблазнов: доказательство тому — хотя бы вся эта неблаговидная история с попыткой сбыть через спекулянтку заграничные тряпки. Да и как они к нему попали? Некрасиво все это! Какие же напрашиваются выводы? Можно ли исключить, что некая иностранная разведка раздобыла кое-какие сведения о Черняеве, нащупала его слабости и пытается к нему подобраться? Повторяю, это всего лишь предположение, требующее тщательной проверки. Почему возникает подобное предположение? Попробуем разобраться: по меньшей мере, странная, скажем так, запись на клочке бумаги, обнаруженном за подкладкой куртки, сделана женской рукой. Так?
Миронов молча кивнул.
— Куртка эта попала к Самойловской от Черняева. Верно? Следовательно, возле Черняева была, а возможно, и поныне находится женщина, заслуживающая самого серьезного внимания. Надо найти эту женщину — автора записки, разобраться, что она собой представляет. Далее — поскольку не исключено, что Черняев попал в поле зрения иностранной разведки, надо позаботиться о его безопасности, обеспечить ему нормальные условия работы и жизни. Для этого следует изучить окружение Черняева, повнимательнее присмотреться к образу его жизни, к его близким. Ну, и, наконец, надо как-никак выяснить происхождение заграничных вещиц и антикварных ценностей. Вот, коротко говоря, ваши задачи. Решить их можно только в Крайске, так что готовьтесь к отъезду. Начальнику Крайского управления КГБ полковнику Скворецкому я уже звонил, предупредил о вашем приезде. Кстати, вы ведь с ним знакомы?
— Знаком, Семен Фаддеевич, — ответил Миронов, — больше чем знаком…
— Да, да. Припоминаю. Война… Так вот, Скворецкого держите в курсе всех дел, он вам поможет. В случае чего непредвиденного звоните без стеснения, докладывайте. Теперь, пожалуй, и всё. Вопросы будут?
— Нет, Семен Фаддеевич, какие вопросы? Все ясно. — Андрей поднялся. — Когда разрешите выехать?
— А чего тянуть? — вопросом на вопрос ответил генерал. — Сегодня и выезжайте. Желаю успеха.
В тот же вечер Миронов выехал в Крайск.
Глава 2
Поездка в Крайск волновала Миронова не только из-за сложности и серьезности стоявших перед ним задач, — он знал и любил этот южный веселый город. Но вот уже несколько лет Андрей не бывал в Крайске и ждал сейчас встречи с городом, как ждешь встречи со старым, близким другом, которого долгое время не видел, по которому соскучился.
…Близился полдень, когда за окном вагона замелькали, то приближаясь, то отдаляясь, громады заводских корпусов, муравейники строек, ажурные стрелы башенных кранов. Поезд подходил к Крайску…
Огромное белое здание вокзала, ослепительно сиявшее под лучами яркого южного солнца, Миронову было в новинку. Раньше, когда он бывал в Крайске, такого вокзала не было. Старый, исчезнувший ныне вокзал был куда беднее, проще. Изменилась и привокзальная площадь: она раздвинулась, раздалась вширь, покрылась асфальтом.
От площади веером разбегались просторные улицы, обсаженные по краям тротуаров липами, диким каштаном. По улицам сновали машины, автобусы, солидно проплывали троллейбусы, совсем как московские, только чуть-чуть поуже, чуть покороче да какого-то непривычного бледно-салатного цвета.
Без труда отыскав здание Управления Комитета государственной безопасности, Миронов прошел прямо в приемную начальника управления.
К Кириллу Петровичу Скворецкому Андрей Миронов испытывал сложное чувство: тут была и благодарность за все хорошее, доброе, что сделал для него в свое время Скворецкий; и уважение к его богатому чекистскому опыту, признание его заслуг и авторитета; и некоторая доля иронии по поводу кое-каких черточек в характере полковника, в методах его работы, казавшихся Миронову устаревшими; и нечто похожее на сыновнюю привязанность.
Скворецкого Андрей знал давно, много лет: их свела война. Кирилл Петрович Скворецкий, работавший до войны в Управлении НКВД по Смоленской области, с оккупацией фашистами Смоленщины возглавил одно из партизанских соединений, действовавших на юго-западе от Смоленска. Именно сюда, к этому партизанскому соединению, и прибился зимой сорок второго года вчерашний школьник Андрюшка Миронов, потерявший с приходом гитлеровцев сначала отца, затем мать.
Скворецкий намеревался поначалу отправить мальчонку при первой возможности на Большую землю, в советский тыл, но возможности такой долго не было, а когда она представилась, от былых намерений не осталось и следа: Андрюшка прижился в отряде. Шустрый, не по годам смышленый парнишка, лютой ненавистью ненавидевший гитлеровцев, сначала находился при штабе соединения, а со временем стал одним из лучших партизанских разведчиков. Он пробирался в оккупированные фашистами села и города, проникал чуть не в самое логово гитлеровцев, что взрослому было сделать трудно, поддерживал связь с подпольщиками, добывал ценные разведывательные сведения.
Пожалуй, именно тогда, в ту партизанскую годину, зародились у Андрея Миронова качества, которые помогли ему со временем стать хорошим чекистом, искусным контрразведчиком.
С изгнанием фашистских захватчиков со Смоленщины, Орловщины, Брянщины партизанское соединение, которое возглавлял Скворецкий, прекратило свое существование: кто ушел в ряды регулярной армии, а кто с головой отдался мирному делу восстановления. По настоянию и при помощи Скворецкого Андрей Миронов поступил в военное училище пограничников. Затем — служба на границе, Дальний Восток, Средняя Азия. В начале пятидесятых годов Миронов был направлен на работу в Министерство государственной безопасности — в Москву…
Расставшись в 1943 году с Кириллом Петровичем, Андрей не порывал с ним связи: нет-нет, а встречался; хотя и редко, но переписывался. Последние несколько лет он Скворецкого не видел и радовался теперь этой встрече.
Не менее Андрея был рад встрече и Скворецкий.
— Ну-ка, как ты там, брат, покажись, каков стал? — взволнованно гудел Скворецкий, втаскивая Андрея за руку в свой кабинет и любовно оглядывая со всех сторон. — Нет, — продолжал полковник, усаживая Миронова на диван и опускаясь рядом, — ничего не скажешь: молодцом! — Скворецкий откровенно любовался открытым, мужественным выражением чуть смугловатого, не утратившего летнего загара лица Андрея, широким разворотом его плеч, по-юношески стройной фигурой. — И не изменился почти, совсем молодой еще. Сколько же тебе теперь? Тридцать стукнуло?
— Что вы, Кирилл Петрович! — смущенно улыбнулся Андрей. — За тридцать-то перевалило…
— Да, — вздохнул Скворецкий, — летит время, летит… Ну, а живешь как, во второй раз семьей не обзавелся?
Миронов помрачнел.
— Нет, Кирилл Петрович. Говорят, обжегшись на молоке, дуют на воду. Вы же знаете…
Скворецкий знал. В первые годы жизни в Москве Миронов встретил на водной станции в Химках девушку-студентку, Люду. Люда ему понравилась. Он ей, по-видимому, тоже. Андрей как-то до этого сторонился девушек, а тут прошло две-три недели, и он понял, что любит Люду, любит всерьез. Через месяц, несмотря на протесты родителей Люды, считавших, что дочери нечего спешить с замужеством, они поженились. Но получилось все совсем не так, как думалось Миронову. Чем ближе он узнавал свою жену, тем больше убеждался, что человек она избалованный, легкомысленный и даже, пожалуй, вздорный. Совместная жизнь не получалась.
Андрей занимал просторную комнату в общей квартире, где, кроме него, жил еще один товарищ с семьей. Люду это не устраивало: она требовала отдельную квартиру. В те годы получить отдельную квартиру двум молодым людям, без детей, практически было почти невозможно. Миронов считал претензии Люды нелепыми. С этого начались размолвки. Дальше — больше. Люда не хотела мириться с ночной работой мужа, с его возвращениями домой под утро. Ей не нравился скромный быт Миронова, его отвращение к бездумному, лишенному смысла и содержания времяпрепровождению.
Люда без стеснения обвиняла мужа в обмане. «Я, мол, — говорила она, — считала профессию чекиста сплошной романтикой, жизнь — широкой и бурной. А ты что? Протираешь штаны день и ночь, как какой-нибудь мелкий канцелярист. Нет, не как канцелярист — хуже! У канцеляриста хоть вечера и ночи свободные, а у тебя?» Не мог же Миронов ей рассказывать, как он «протирает» штаны. Впрочем, чекистская работа требовала порой — и довольно часто — и усидчивости, и «протирания» штанов.
В довершение ко всему вскоре обнаружилось среди друзей Люды немало беспутной публики из числа великовозрастных «сынков» и «дочек» обеспеченных родителей, любивших покутить за счет щедрых папаш и мамаш. Люда открыто предпочитала эту свою компанию Андрею, его товарищам… Разрыв стал неизбежен.
Сколь ни ясно было Андрею, что, женившись на Люде, он глубоко ошибся, что совместная жизнь с ней была невозможна, он горько переживал происшедшее. Прошел уже не один год, как все это случилось, но боль осталась…
Кирилл Петрович знал историю женитьбы Миронова, понял его настроение и счел за лучшее дальше не расспрашивать, перейти прямо к делу.
— Ну, давай, Андрюша, выкладывай, с чем приехал. В общих-то чертах я знаю. Семен Фаддеевич мне говорил, когда звонил, да и наши докладывали, но надо бы знать подробности.
Андрей принялся обстоятельно рассказывать, как была задержана Самойловская, какие дала показания, что у нее изъяли, но едва он дошел до таинственного клочка бумаги, текст записи на котором помнил дословно, как Скворецкий внезапно прервал его на полуслове:
— Стой, погоди. Вот вы, судя по твоим словам, ломали там в Москве голову над тем, откуда взялся этот клочок бумаги, кто писал всю эту тарабарщину, а чего тут мудрить? Курточка, надо полагать, принадлежала супруге Черняева. Вероятнее всего, и записка ее.
Миронов опешил:
— Позвольте, Кирилл Петрович, позвольте. Какая супруга? Черняев же холостяк.
— Холостяк? Откуда ты взял? Нет, он женат. Хотя… Хотя теперь, может, и действительно холостяк…
— Вы что, Кирилл Петрович, шутите: не то женатый, не то холостяк? Ерунда какая-то. Я же сам все его анкеты пересмотрел, и везде ясно сказано: холост, женат никогда не был. Правда, последняя из имевшихся у меня анкет заполнена около двух лет назад, перед назначением Черняева в Крайск. После начала работы в Крайске анкет он не заполнял. А справок из Крайска всего ничего: из адресного стола. Проживает, мол, и адрес…
— А он, — перебил Скворецкий, — как раз и женился около двух лет назад, накануне своего приезда в Крайск.
— Накануне приезда в Крайск? Ну, тогда все ясно. Но почему вы говорите, что он холост, когда, по вашим же словам, уже два года как женат? Что за ерунда!
— Это, брат, целая история. Я сам узнал ее всего день назад. Бросила Черняева жена. Сбежала. Месяца этак уже три-четыре. Да как-то так некрасиво, обманом. Даже вещичек своих не взяла. Черняев ждал-ждал, не дождался. Переживал здорово. А тут еще эти вещи… Напоминают. Решил он от них избавиться. В это время подвернулась Самойловская… Остальное ты знаешь. Вот я и думаю: не этой ли самой дамочки, бывшей жены Черняева, записочка? Как полагаешь?
Андрей, внимательно слушавший Скворецкого, не спешил с ответом. Он думал сейчас о другом.
— Кирилл Петрович, — спросил он, — можно задать вопрос? Откуда вам известна вся эта история: сбежала, обманула? О таких вещах обычно болтать не любят, а Черняев, судя по всему, не из болтливых.
Скворецкий замешкался, крепко от лба к затылку провел ладонью по выбритой до глянца голове и, смущенно покашливая, сказал:
— Тут, понимаешь, накладка получилась.
— То есть? — насторожился Миронов. — Какая еще накладка?
— Видишь ли, когда наше Крайское управление милиции получило сообщение о задержании Самойловской, о том, что она ссылается на Черняева, ребята взяли да и пригласили на беседу самого Капитона Илларионовича. Нас поставили в известность, когда он уже был у них. От него и узнали о всех его семейных неурядицах. Ну, а он узнал об аресте Самойловской, узнал, что ведется следствие. Глупо, конечно, получилось, да теперь-то что поделаешь? Приходится считаться с фактом. При беседе присутствовал один из наших работников, Луганов, но от него мало что зависело. Да и произошло все это совершенно неожиданно.
— А о записке, об этом самом клочке бумаги, Черняеву говорили? — взволнованно спросил Миронов.
— Нет, — успокоил его Скворецкий, — об этом наша милиция сама не знает. Я и то узнал только от Семена Фаддеевича, совсем недавно.
Андрей не пытался скрыть своего недовольства непредвиденной поспешностью крайской милиции. В самом деле, не успели начать расследование, а о нем уже знает, и не кто-нибудь, а человек, сам как-то причастный к этой истории. Скверно! Но в одном Кирилл Петрович прав: что было, то было, от фактов никуда не денешься.
По совету Скворецкого, Андрей решил вести дальнейшее расследование совместно с сотрудником Крайского управления КГБ капитаном Лугановым, который как раз и присутствовал при беседе с Черняевым в милиции.
Условившись с полковником, что вечером, попозже, обязательно явится к нему домой, Андрей отправился к Луганову.
Сначала капитан Луганов не вызвал симпатии у Миронова: невысокий, коренастый, судя по виду, лет под сорок, он показался Андрею медлительным, вяловатым. Однако вскоре Миронов понял, что первое впечатление было обманчивым. Капитан не был тугодумом — наоборот, соображал он быстро, хотя и не спешил навязать собеседнику свое мнение, не лишен был чувства юмора, обладал, судя по всему, твердым характером. Особенно понравилось Миронову, как сдержанно, но не без иронии рассказывал Луганов о действиях руководства крайской милиции, поспешившего вызвать Черняева на беседу. Кое-кто из работников милиции, как утверждал Луганов, считал такой вызов преждевременным. (Сам Луганов придерживался такой же точки зрения.) Однако с этим мнением не посчитались. Как же! Черняев — фигура в Крайске! Какие от него могут быть секреты? Ссылается на него какая-то вздорная баба, спекулянтка, у него, значит, и спросить надо. Он сам все разъяснит, все растолкует.
— Ну, а на вас-то, на вас лично, какое впечатление произвел Черняев? — спросил Миронов.
— Какое же может быть впечатление, товарищ майор? — рассудительно заметил Луганов. — Ведь я всего лишь присутствовал при беседе, а она и часа не длилась. Что можно сказать? Человек он солидный, держится уверенно. С выводами спешить не хотелось бы. Да и данных у нас пока почти никаких нет, надо разбираться.
И этот ответ Луганова понравился Андрею. Он не любил доморощенных шерлок холмсов (а ему доводилось встречать таких), которые утверждали, что «чуют человека с первого взгляда».
Почти ничего нового по сравнению с тем, чем уже располагал Миронов, что содержала в себе изученная им вдоль и поперек коричневая папка, Луганов сказать Андрею не мог, если не считать более полных данных о семейном положении Черняева.
Из рассказа Луганова Миронов узнал некоторые подробности в дополнение к тому, что уже рассказывал ему Скворецкий. Как оказалось, Черняев, в прошлом закоренелый холостяк, женился внезапно, чуть не на следующий день после знакомства с женщиной, ставшей его женой. Фамилия этой женщины Величко. Звать — Ольга Николаевна.
Семейная жизнь Черняева была как будто безоблачной, как вдруг, месяцев пять назад, он неожиданно узнал, что жена ему изменяет, а вслед за этим она бросила его, уехав неизвестно куда. Поскольку за своими вещами Ольга Николаевна не являлась, Черняев решил от этих вещей избавиться. Так они и попали к Самойловской. Вот вкратце все, что он сообщил в милиции.
Таинственная запись на клочке бумаги явилась для Луганова полной неожиданностью. Он долго вертел в руках этот злополучный клочок, внимательно вчитываясь в текст, беззвучно шевеля губами.
— Н-да, — сказал наконец Луганов, возвращая Андрею записку, — это меняет дело. Что будем предпринимать?
Что предпринимать, с чего начинать расследование, Миронову было ясно: прежде всего надо раздобыть образец почерка Ольги Николаевны Величко и сличить этот почерк с тем, которым была сделана запись на обрывке бумаги. Надо полагать, думал Андрей, что Кирилл Петрович прав: это действительно ее рук дело. А если так, задача облегчается. Далее следовало принять самые энергичные меры к розыску этой самой сбежавшей жены, тем более энергичные, если проверка покажет, что записка написана ее рукой. Когда сбежавшая жена будет найдена, многое прояснится.
— Простите, товарищ Луганов, — спросил Миронов, — как вас звать-величать?
— Василий Николаевич, товарищ майор.
— Ну, а меня — Андрей Иванович. Скажите, в рассказе Черняева не было каких-либо деталей, зацепок, которые помогли бы определить, куда уехала его бывшая жена? Где и как она приобретала те вещи, которые он передал Самойловской?
— Нет, товарищ май… простите, Андрей Иванович. Какие там детали? Его проинформировали насчет Самойловской. Он подтвердил, что действительно вещи ей передал. Коротко, в двух словах рассказал историю своей женитьбы и бегства жены, объяснил, почему решил продать вещи, и мы расстались. Допрашивать его не допрашивали, вопросов почти не задавали. Мне, как вы понимаете, вмешиваться было неудобно, да и не готов я был к этой беседе.
— А что, — после минутного раздумья сказал Миронов, — если нам еще разок вызвать Черняева? Опять, конечно, в милицию, благо он вас считает милицейским работником. Будто бы для уточнения некоторых данных, связанных с Самойловской. Один вызов или два — существенной разницы нет, хуже не будет, а какие-нибудь важные подробности, глядишь, в обстоятельной беседе и выявятся. Насчет записки, конечно, ни слова.
После недолгого раздумья Луганов согласился. Они наметили план беседы и условились, что Луганов, дабы излишне не волновать Черняева, представит ему Миронова как своего помощника.
Луганову же был поручен и розыск образца почерка жены Черняева.
Изучение окружения Черняева и выработку мер по обеспечению его безопасности Андрей взял на себя.
Глава 3
Сидя утром следующего дня в крайской милиции, в любезно предоставленном ему и Луганову кабинете, Миронов испытывал нетерпение: каков-то он, инженер-подполковник запаса Черняев? Что ни говори, а одно дело — представлять себе человека по материалам, характеристикам, документам, и совсем другое — встретиться с ним лицом к лицу.
Черняев явился точно в назначенное время. Миронов увидел перед собой крупного, хорошо сложенного человека с умным, волевым лицом. Держался он уверенно, с большим достоинством. Слегка кивнув в ответ на приветствие Луганова, Черняев спокойно уселся в предложенное ему кресло, не обратив на Миронова никакого внимания.
— Ну-с, чем еще могу служить? — спросил он мягким, глубоким басом, всем своим видом, выражением лица, тоном, которым был задан вопрос, показывая, что человек он занятой и нисколько не собирается тратить время на пустые разговоры.
— Прошу извинить, Капитон Илларионович, что вторично вас побеспокоили, — начал Луганов, — но нам требуется ваша помощь. Нужно уточнить некоторые вопросы, связанные с махинациями Самойловской.
Черняев пожал плечами.
— А я-то чем могу помочь? Ведь эту, как ее, Клавдию Семеновну…
— Клавдию Петровну, — вежливо поправил Луганов.
— Ну, Клавдию Петровну, все равно, — чуть усмехнулся Черняев, — так я ведь ее едва знаю. Познакомил меня с ней несколько лет назад кто-то из сослуживцев, не помню уж кто, когда я искал квартиру. Самойловская имела знакомых, заинтересованных в обмене жилплощади, и выступала в роли посредницы. Не бескорыстно, конечно. Вот, собственно говоря, и все наше знакомство. Несколько дней назад я случайно встретил ее на улице. Самойловская, как это свойственно такого рода особам, поинтересовалась, не может ли быть чем-либо полезна, а у меня лежат вещи, самый вид которых — вы понимаете? — ну, что ли, угнетал меня. Я возьми и спроси ее: «Мол, так и так, не могли бы вы продать кое-что из моих вещей?» Она тут же согласилась, а потом московская милиция схватила ее как воровку. Нелепость!
— Простите, — перебил Черняева Миронов, — я вас не вполне понял. Вы говорите, что поручили Самойловской продать ваши вещи, но ведь вещи-то эти были не ваши? Дамские?
Черняев с недоумением посмотрел на Миронова, затем на Луганова.
— По-моему, в прошлый раз, — внушительно, отделяя одно слово от другого, произнес он, глядя в упор на Луганова и адресуясь исключительно к нему, — я достаточно ясно изложил, что вещи принадлежали моей бывшей жене, Ольге Николаевне Величко. Еще вопросы будут?
— Помилуйте, Капитон Илларионович, зачем же так официально? — воскликнул Луганов. — Мой помощник, — он кивнул в сторону Андрея, — не был при нашей предыдущей беседе, о которой я рассказывал ему очень кратко. Думаю, если он своим вопросом и допустил какую-то неловкость, мы его извиним. Все мы, собравшиеся здесь, заинтересованы в одном: выяснить все, что связано с Самойловской, которую, как вы сами подчеркнули, вы знали очень мало. Я, например, отнюдь не уверен, что она сбывала только ваши вещи. Без вашей помощи нам разобраться очень трудно. Вы согласны?
Черняев молча кивнул.
— Не скрою, — продолжал Луганов, — что у нас вызвало недоумение, как попали к Самойловской некоторые из изъятых у нее предметов дамского туалета. Я имею в виду заграничные вещи. Если это вещи вашей бывшей жены, тогда, возможно, вы рассеете наше недоумение. Но не исключено, что это вовсе и не ваши вещи. Мы как раз и выясняем, где и как добывала Самойловская все эти предметы для перепродажи.
Луганов и Миронов ознакомили Черняева со списком вещей, изъятых у спекулянтки. Тот быстро пробежал его, предупредив следователей, что никогда толком не знал состояние гардероба своей жены. Самойловская сама, по его словам, отобрала в шкафу и чемоданах Ольги Николаевны Величко то, что считала возможным продать; все же, буквально все, что осталось, он подарил ей «в знак благодарности за услугу».
Таким образом, Черняев был просто не в состоянии точно определить, только ли вещи его бывшей жены были изъяты у Самойловской.
— Еще один вопрос, — осторожно сказал Миронов. — Вы не могли бы рассказать по возможности подробнее о прошлом вашей бывшей жены, о ее знакомых, друзьях?
— А с какой, собственно говоря, стати это вас интересует? — сухо спросил Черняев. — Какое это имеет отношение к делу?
Андрей не спешил с ответом: показать Черняеву записку? Сказать, что его бывшая жена внушает подозрение, что среди ее окружения, возможно, затаился враг? А как скажешь, когда все еще так неопределенно, так неясно? Нет, нельзя. Нельзя, да и не к чему.
— Видите ли, — неторопливо заговорил Миронов, — как я понял из ваших слов, вам неизвестно, каким путем попали к вашей бывшей жене заграничные вещи и старинные украшения. Так? Нам надо это выяснить. Думаю, такое выяснение и в ваших интересах. Не исключено, что ответ на этот вопрос таится в прошлом вашей жены, в ее окружении. Вам ясно?
— Куда уж яснее! — горько усмехнулся Черняев. — Только прошлого Ольги я почти не знаю, не интересовался… Да и насчет ее знакомства толком сказать ничего не могу, вроде бы особых знакомств у нее и не было, не замечал…
— Позвольте, — возразил Миронов, — ведь вы прожили с Ольгой Николаевной около двух лет и так-таки ничего и не знаете? Хотя… бывает…
В этот момент Андрей вспомнил историю своей неудачной женитьбы, вспомнил Люду. А что он, Миронов, знал о своей бывшей жене? Мало. Ой как мало! Да, понять Черняева нетрудно. Действительно, бывает. Так что же, так и кончить разговор, ровно ничего не выяснив, не узнав ни единого нового факта, ни одной детали?
С минуту помолчав, Миронов спросил:
— В таком случае, Капитон Илларионович, не можете ли вы рассказать поподробнее, как познакомились с вашей бывшей женой, где, при каких обстоятельствах? Может, какие-либо факты из тех, что вы вспомните, окажутся нам полезны?
— Что же полезного для вас я могу вспомнить? — не скрывая недовольства, сказал Черняев. — Как я познакомился с Ольгой Николаевной, вряд ли кого касается. Впрочем, если вы настаиваете… — Черняев вопросительно посмотрел на Миронова, тот молча кивнул: настаиваю. — Извольте…
Начав рассказывать историю своего знакомства с Ольгой Николаевной Величко, Черняев разволновался, заспешил, заговорил горячо, сбивчиво:
— Ольга… С Ольгой… Мы познакомились с Ольгой Николаевной в Сочи. Все это не так просто. Видите ли, долгие годы я был закоренелым холостяком, о женитьбе и не помышлял. Увлечения, конечно, бывали, не без этого, но так, ненадолго. Тут играла роль моя профессия: я ведь строитель. Военный. Сегодня — одна стройка, завтра — другая… Ну, куда тут, думалось, обзаводиться семьей? К чему? А годы шли. И вот однажды, года два с небольшим назад, как раз накануне моего переезда в Крайск, поехал я в отпуск. В Сочи…
В специальном лечении я не нуждался. Купание, прогулки — вот и все, что мне требовалось. Так прошла неделя, другая, и я заскучал. Подумывал было махнуть на Сочи рукой и ехать назад, на работу, как случись тут моим соседом по палате один майор, помоложе меня. Мы быстро сошлись, как это часто бывает на курорте, и жизнь стала сноснее. Вот через него, через этого майора, я и познакомился с Ольгой Николаевной Величко.
Черняев на минуту умолк.
— Расскажу вам, как это произошло, — продолжал он. — Прогуливались мы однажды с майором вдоль берега. Дело было к ночи. Луна светила — хоть книгу читай. Проходя мимо «грибка», стоявшего на отлете в гуще кустарника, мы услышали громкий разговор. Говорили двое — мужчина и женщина, и, надо сказать, в весьма повышенных тонах. Мы решили было повернуть, уйти, но в этот момент послышался звук пощечины, и на тропинку выбежала женщина. Она была молода и, как я сумел заметить, очень красива. Не знаю, может быть, тут сыграла роль вся обстановка этой встречи, но только, простите мне это избитое выражение, я почувствовал, что погиб. Да, погиб.
Черняев судорожно вздохнул, словно проглатывая застрявший в горле комок, и продолжал:
— Вслед за ней на дорожку вышел пожилой, взъерошенный человек. Мы оказались лицом к лицу с этой парой. Возможно, встреча так бы ничем и не окончилась, если бы незнакомка не окликнула моего спутника. Оказывается, она его знала. Отступать было некуда. Я был представлен. Познакомились мы и с мужчиной, который оказался ее мужем.
Мне думается, что он не очень обрадовался нашему появлению, она — наоборот. Стараясь задержать нас, она взяла майора под руку и оживленно заговорила, посматривая временами в мою сторону. Можно было подумать, что между ней и ее мужем ровно ничего не произошло, что просто четверо хороших знакомых коротают время в прогулке. По предложению Ольги Николаевны, мы всей компанией зашли в ресторан, посидели там час-полтора, затем расстались. Когда прощались, Ольга Николаевна пригласила нас с майором заходить к ним в санаторий. Запросто. Я, конечно, не счел себя вправе воспользоваться случайным приглашением, хотя мысль об Ольге Николаевне не покидала меня. Но надо же так случиться: дня через два мы встретили ее на пляже нашего санатория. Выяснилось, что муж Ольги Николаевны внезапно уехал — отозван на работу. Она осталась в Сочи одна.
Нужно сказать, я не очень люблю поддерживать светский разговор, не умею говорить любезности, не мастер ухаживать. А в присутствии Ольги Николаевны и вовсе часами был нем, нем как рыба. Она же, напротив, оказалась очень милой и приятной собеседницей.
Можете представить мое самочувствие? Как только мы оставались вдвоем, меня охватывало волнение, я терялся, краснел, отвечал невпопад. Но частые встречи сделали свое дело. Я стал привыкать к Ольге Николаевне и сам не заметил, как стал чувствовать себя так, словно знал ее долгие годы. Больше того: день ото дня она становилась мне все дороже, и вскоре я понял, что жить без нее дальше не смогу.
Прошла, быть может, неделя, другая, как я заметил, что мои чувства, мои переживания не безразличны Ольге Николаевне. Она стала ко мне особенно внимательна. Словом, отношения наши становились все ближе и ближе. Когда же она рассказала грустную историю жизни с нелюбимым мужем, который изводил ее отвратительной ревностью…
Черняев опять умолк. Помолчав с минуту, он продолжал:
— Что там говорить! Мы поняли, что нас свела сама судьба, и там же, в Сочи, решили пожениться. Дело было за ее прежним мужем, с которым она должна была оформить развод.
— Кстати, — вмешался Миронов, — его фамилия Величко? Вы его еще ни разу не назвали.
— Величко? — переспросил Черняев. — Нет, не Величко. Это девичья фамилия Ольги. А вот его фамилию, убей бог, не помню, Знаю, что он врач, кажется, хирург. Жил в Куйбышеве. Вот, пожалуй, и все, что я могу о нем сказать, Сами понимаете, меня он особо не интересовал. Все, что касается развода, Ольга взялась уладить сама. Да и как могло быть иначе? Не мне же было этим заниматься!..
Из Сочи мы с Ольгой вместе вернулись в Саратов, где я тогда работал. Не успели приехать, как был решен вопрос о моем назначении в Крайск. Переехали вместе. К моему счастью, Ольга оказалась превосходной хозяйкой. Обычную для меня холостяцкую берлогу она превратила в уютное гнездо. Особенно хорошо у нас стало, когда предоставленную мне вначале комнату удалось обменять на две… Вот тут-то я и познакомился с Самойловской. Не знаю, как в чем другом, а в части дел по обмену жилплощади она — талант!
Жили мы с Ольгой, — продолжал Черняев, — душа в душу. Все свое свободное время, каждую минуту я отдавал ей. Старался делать все, чтобы она была счастлива. На отдельные ее слабости, а они со временем обнаружились, я смотрел сквозь пальцы.
— Что вы имеете в виду? — спросил Луганов.
— Тряпки, — ответил Черняев, — страсть к нарядам. Ольга готова была без конца путешествовать по магазинам, по портнихам, по каким-то знакомым, приобретая наряды. Я, правда, пытался время от времени удержать ее от этой погони за тряпками, но уж очень трудно было ей в чем-нибудь отказать. Она, как правило, и слушать меня не хотела. Порой дело доходило у нас до размолвок, но последнее слово всегда оставалось за Ольгой Николаевной: не мог я, ну просто не мог ей перечить.
В общем, если не считать этих мелочей, жили мы дружно, хорошо. Первой серьезной тучей, появившейся на нашем горизонте, стал ее прежний муж. Около года назад, разузнав каким-то образом о нашем местопребывании, он нагрянул в Крайск и явился к Ольге с угрозами и домогательствами. Тут-то и выяснилось, что Ольга развод не оформила, а попросту скрылась от него, сбежала.
Человек этот нисколько не был мне симпатичен, скорее наоборот, но поступок Ольги меня возмутил. Судите сами — обман! И ведь она не только его обманула, но и меня, сказав, что оформила развод. Как оказалось, когда Ольга уезжала на несколько дней, по ее словам, в Куйбышев для оформления развода, на самом деле она была совсем в другом городе, у каких-то своих родственников…
— Где именно, в каком городе? — живо заинтересовался Миронов. — У кого?
— Точно не скажу, — ответил Черняев. — Я ее не расспрашивал. Помнится, Ольга говорила, что была в Воронеже, но говорила это уже потом, после скандала. Ну, как вы сами понимаете, эти не очень приятные события несколько омрачили нашу жизнь, но ненадолго: слишком велика была моя любовь к жене.
Летом прошлого года дела на стройке шли так, что я никак не мог уйти в отпуск, а мы собирались съездить с Ольгой Николаевной в Кисловодск. Видя, как близко к сердцу она принимала крушение наших планов, как расстраивалась, я достал путевку и отправил ее одну. Тяжко, конечно, было расставаться, но так хотелось доставить радость любимому человеку!..
Черняев тяжело вздохнул, опустил голову и замолк. В томительной тишине прошло минуты две-три. Затем, словно собравшись с силами, он вновь заговорил. Заговорил торопливо, заметно волнуясь:
— Да, вот с этой поездки все и началось. Из Кисловодска Ольга вернулась неузнаваемой. Ее точно подменили. С магазинами и портнихами было покончено. Целыми днями она тосковала, лежала на диване, ничего не делая, никуда не выходя. Разве что изредка читала, что попадалось под руку. Все мои попытки узнать, что с ней происходит, кончались ничем. От моих вопросов она отделывалась ссылками на плохое самочувствие, скверное настроение. Не знаю, как долго бы все это тянулось, если бы не случай. Однажды, в выходной день, она наконец-то куда-то ушла, а я, оставшись в одиночестве, от нечего делать начал перебирать книги, лежавшие на диване. И вот, когда я листал одну из книг, на пол упал листок бумаги. Я поднял его, и меня словно обухом ударило. В глаза бросились слова: «Ольга, любимая…».
Это было письмо, любовное письмо. И кому?! Ольге! Моей Ольге. Я был настолько потрясен, что плохо соображал, что делаю. Скомкав письмо, я швырнул его на пол, но тут же поднял и прочел. Сомнения не было. Ольга мне изменяла. Да вот судите сами.
Черняев опустил руку во внутренний карман пиджака, достал измятый листок бумаги, исписанный мелким убористым почерком, и протянул Луганову.
— Прочтите. Прочтите, — настаивал Черняев. — Подумать только, у Ольги появился другой. И кто? Мальчишка. Студент. Такого удара я не ждал. Не знаю, как хватило сил перенести этот ужас… — В голосе Черняева послышались истерические нотки. Собравшись с силами, он продолжал: — Как утопающий хватается за соломинку, я пытался убедить себя, что это ошибка, недоразумение. Тщетно. Факты говорили за себя. Письмо объясняло все: перемену в Ольге, ее бесконечные капризы, тоску…
Как это ни было трудно, я взял себя в руки. С минуты на минуту Ольга должна была вернуться. Как быть? Скрыть от нее, что я все знаю, что прочел письмо? Притвориться, будто ничего не произошло? Нет! Будь что будет! Как только Ольга вошла, я молча протянул ей письмо. Она разрыдалась. «Да, да, да, — твердила она, — я дрянь, знаю, но что я могу поделать? Кто он? Ты хочешь знать? Настаиваешь? Ну, студент, геолог. Живет в Ленинграде. Познакомились мы в Кисловодске. Полюбили друг друга. Что хочешь, то и делай». Я был раздавлен. Мысль потерять Ольгу была невыносима. Но какой мог быть выход? Выхода не было. Все было решено на следующий день.
Правда, Ольга было притворилась, что колеблется, но ненадолго. Стыд перед окружающими вынудил нас скрыть ее уход, а ее внезапный отъезд мы объяснили тем, что ей необходимо пройти повторный курс лечения в Кисловодске. Туда она и уехала. Только не лечиться, а к своему очередному супругу.
Последние дни перед отъездом были сплошной мукой и для меня, и для нее. Трудно сказать, кому из нас было тяжелее. Но всему бывает конец: не знаю, как хватило у меня сил, но я сам отвез Ольгу Николаевну на вокзал, сам посадил в поезд, и мы расстались. Вот, пожалуй, и вся моя история.
Черняев замолк и как-то сразу поник, будто внезапно, вдруг постарел на десяток лет.
— А вещи? — прервал затянувшееся молчание Миронов.
— Простите, вы о чем? Какие вещи?.. Ах да, вещи… — Черняев провел рукой по лбу. — Ольга Николаевна взяла с собой самое необходимое. Как я ее ни уговаривал, она заявила: «Все это куплено на твои деньги, делай с этим что хочешь». Я ждал, хотел верить, что она одумается, приедет, но, судите сами, прошло почти полгода, а об Ольге Николаевне ни слуху ни духу. Для меня же созерцать все это, все ее вещи — мука. Тут, как нарочно, подвернулась эта самая Самойловская. Вот так все и получилось.
— Прошу извинить, — задал вопрос Миронов, — а как фамилия студента, к которому уехала Ольга Николаевна? Кстати, насчет этого студента я не все понял. Вы говорите, что он живет в Ленинграде, а поехала она в Кисловодск. Почему?
— Фамилию студента я не знаю. Письмо, как видите, без подписи. Какая-то закорючка. — Черняев показал на листок бумаги, лежавший перед Лугановым. — В Кисловодск же она поехала потому, что он там был не то на практике, не то в какой-то экспедиции. Теперь-то они уже, наверное, в Ленинграде. Впрочем, мне-то к чему это знать? Я не Садовский, гоняться за ней не буду.
— Садовский? Какой Садовский?
Черняев невесело усмехнулся:
— Вот ведь как бывает! Садовский — первый муж Ольги Николаевны. Силился вспомнить его фамилию — не смог, а тут сама выскочила.
Миронов незаметно сделал знак Луганову. Тот поднялся:
— Извините, пожалуйста, Капитон Илларионович, что отняли у вас столько времени, такая уж наша работа…
— Н-да-а, работа… — неопределенно протянул Черняев и, попрощавшись с Лугановым и Мироновым, направился к выходу.
Дойдя до двери, он вдруг повернулся и сделал шаг назад:
— Да, письмо! Оно вам нужно?
— Вы хотите его взять? — спросил Луганов.
— Пожалуй, да. Что ни говорите, а память. Хоть и горькая, но все же память.
— Мы предпочли бы пока оставить это письмо у себя, если, конечно, вы не очень возражаете, — сказал Миронов. — Оно может нам понадобиться.
— Как вам будет угодно, — ответил Черняев и, сухо кивнув, вышел.
— Ну-с, что скажете? — спросил Андрей, когда дверь за Черняевым закрылась.
Луганов недоуменно вскинул брови:
— А что тут скажешь? Для меня лично ничего особенно нового в рассказе Черняева нет, если исключить всякие романтические подробности.
— А письмо? Письмо он вам в прошлый раз показывал?
— Насчет письма — правильно. Письма он не показывал. Но я и его отношу к числу романтических подробностей. Суть-то от этого не меняется.
— Занятная подробность, — задумчиво заметил Миронов.
— Чем, собственно говоря?
— Да многим. Ну, например, зачем он хранит это письмо, которое, казалось бы, должно жечь ему руки? Зачем носит с собой? Зачем показал нам? Почему, уходя, не хотел его оставить?
— Не знаю, — возразил Луганов, — чем вас заинтересовало это письмо. Давайте, кстати, хоть прочитаем его.
Взяв письмо, Луганов вслух прочел:
— «Ольга, любимая! Судя по твоим письмам, ты теперь совсем другая, или это только на бумаге? Если бы ты знала, как хочу я видеть тебя, как жду встречи! Расставаясь, я хотел многое тебе сказать, но… не решился. Я так и не рискнул просить тебя быть моей, моей навсегда. Но ведь только об этом я мечтаю, только этим живу. Жду тебя с нетерпением на старом месте в конце мая. Я опять получил туда направление. Знаю, верю, мы встретимся, чтобы никогда больше не расставаться. Верно?!
Твой В…»
Закончив чтение, Луганов взглянул на Миронова:
— Да, определеннее не скажешь. Нетрудно понять Черняева. Переживает он, видно, основательно. Мне, во всяком случае, рассказ его показался искренним.
— Согласен, — кивнул головой Андрей, — сомневаться в его искренности оснований нет. Но вот письмо… История с письмом мне определенно не нравится. Что же касается сути дела, то ни один из вопросов пока не выяснен. И без Ольги Николаевны Величко нам ничего не выяснить. Вот давайте и подумаем, как будем ее искать.
Договорившись, что основное свое внимание Луганов сосредоточит на розыске Величко и поисках образца ее почерка, а Миронов займется изучением окружения Черняева, они разошлись. В качестве одной из первых мер по розыску Величко было решено разослать запросы в Кисловодск и по всем местам, где, судя по имеющимся данным, бывала раньше Величко: в Саратов, где жили Черняевы до переезда в Крайск, в Куйбышев, где находился прежний муж Величко, а так же в Чернигов, невдалеке от которого родилась и выросла Ольга Николаевна. Чем черт не шутит: а вдруг там и до сих пор живет кто-нибудь из ее родственников? Вдруг она сама туда укатила?
Между тем Черняев, выйдя из управления милиции, медленно побрел в сторону своего дома. Не пройдя, однако, и половины пути, он остановился, с минуту постоял, о чем-то раздумывая, затем круто повернул и энергично зашагал к центру города. Поравнявшись со зданием, в котором помещался городской комитет партии, Черняев вошел в подъезд и по широкой лестнице поднялся на второй этаж, в кабинет секретаря горкома КПСС.
Соколов, секретарь горкома, разбирал бумаги, когда, уверенно постучав в дверь, на пороге его кабинета появился Черняев.
— Ну, входите, входите, Капитон Илларионович, уж коли пришли, — подавляя легкое раздражение, пригласил его Соколов. — В кои-то веки доберешься до бумаг, так и тут от строителей покоя нет, — продолжал он, заметно окая, пытаясь прикрыть ироническим смешком свое недовольство. — Что там у вас стряслось, с чем пожаловали?
— Я по личному вопросу, Петр Иванович, — угрюмо сказал Черняев, исподлобья глядя на Соколова, Было заметно, что он сильно волнуется.
— Ну, слушаю, слушаю, — подбодрил его секретарь горкома, плотнее усаживаясь в кресло.
— Петр Иванович! Я прошу горком расследовать мое поведение, и если заслужил, то наказать меня, но оградить от преследований, которым я начал подвергаться со стороны милиции. Не знаю, известно вам или нет, но за последние месяцы на мои плечи свалилось немало переживаний. От меня ушла жена… А тут эти допросы, бесконечное копание в мелочах… На каком основании? Я не мальчик…
— Ты что?.. — перебил его Соколов. — Эту историю со спекулянткой имеешь в виду? Наслышан я о ней, начальник милиции докладывал. Так на кого же тебе жаловаться? Ну, жена бросила — это, конечно, нелегко, но кой черт тебя дернул со всякой швалью вроде этой самой спекулянтки связываться? Барахлом торговать? Некрасиво все это получается, не к лицу тебе, коммунисту, да еще ответственному работнику!
— Тут, конечно, я свалял дурака, — уныло согласился Черняев, — готов нести за это ответственность. Заслужил — так накажите, хотя никакого преступления, ей-ей, не совершал. Но нельзя же дергать без конца, таскать на унизительные допросы…
— А чего же ты хочешь? — возразил секретарь горкома. — Сам спутался со спекулянткой — и в кусты? Разбираются пусть другие? Так, что ли? Насколько я знаю, тебя вызывали в милицию именно для того, чтобы ты помог распутать эту грязную историю. На что же ты обижаешься? Или, быть может, они там, в милиции, начали тебе провокационные вопросы ставить, путают в такие дела, в которых ты не виноват? Если так — давай факты, за это мы их по головке не погладим.
— Нет, — возразил Черняев, — провокационных вопросов мне никто не задавал. Когда меня вызвали в первый раз, я нисколько не возражал, прекрасно понимая, что должен помочь милиции. Но за первым вызовом последовал второй, за первым допросом — другой, всё об одном и том же. Это копание в мелочах, в моих личных переживаниях, которые, в конце концов, никого не касаются. Вот о чем разговор. Повторяю, виноват — накажите, но дергать без конца нечего.
— Ну, раз ты сам понимаешь, что поступил неправильно, чего тут разбирать? А урок тебе на всю жизнь. Насчет излишних допросов, копанья, как ты говоришь, в мелочах я с милицией поговорю. Все?
Соколов придвинул к себе отложенные было в сторону бумаги, давая понять, что разговор окончен. Черняев поднялся и, попрощавшись, вышел. Когда дверь за ним закрылась, секретарь горкома снял трубку и соединился с начальником управления городской милиции. Расспросив его, зачем понадобился повторный вызов Черняева, он позвонил Скворецкому, Разговор с начальником Крайского управления КГБ, по-видимому, удовлетворил секретаря горкома. Во всяком случае, закончив разговор со Скворецким, он тут же взялся за бумаги и спокойно продолжал работу.
Глава 4
Первые дни после беседы с Черняевым были заполнены у Миронова и Луганова делами и беготней до отказа. Пока не поступил ответ из Кисловодска и не было установлено местонахождение Величко-Черняевой, они все время тратили на поиски знакомых и друзей Величко в Крайске. А для этого требовалось не только время, но и… ноги. Да, ноги. Побегать пришлось немало!
Прежде всего Луганов побывал в доме, где жил Черняев. В беседах с жильцами соседних квартир и работниками домоуправления он выяснил кое-какие подробности, проливавшие некоторый свет на быт Черняева. Так, в частности, ему удалось выяснить, что в одной квартире с Черняевым, в маленькой комнате, проживала молодая девушка — Зеленко, работавшая медсестрой в больнице. Зеленко будто бы была дружна с Ольгой Николаевной Величко. Луганов также узнал, что семью Черняевых, а теперь одного Капитона Илларионовича обслуживает приходящая домработница Стефа Левкович, работающая постоянно уборщицей в одной из гостиниц Крайска. С ней, очевидно, стоило побеседовать пообстоятельнее. За это дело взялся Миронов. Придумав благовидный предлог, он в тот же вечер отправился к ней на дом.
Стефа Левкович оказалась, на счастье, женщиной общительной, любящей поговорить.
— Как живу? — охотно отвечала она на расспросы Андрея. — Да ничего, не жалуюсь. Какое-никакое, а жалованье получаю. В гостинице. Еще и прирабатываю. Убираю тут одну квартиру. Черняева Капитона Илларионовича. Не знаете такого? Ну как же? Серьезный человек, солидный. Правда, на деньги жаден — это да. Попросит что купить, сдачу до копейки пересчитает. Уж так прижимист, так прижимист, не дай бог. А так — ничего. Самостоятельный.
Когда речь зашла об Ольге Николаевне Величко, бывшей жене Черняева, Стефа развела руками:
— Что о ней сказать? Ольга Николаевна казалась уж такой хорошей, а вышло — с ветерком в голове. Как Капитон Илларионович ее лелеял, как лелеял, а она возьми да и брось его. Со стороны посмотришь — такая уж она милая, такая симпатичная, скромная, а что на деле получилось? Не говорю уж как с мужем, таким солидным человеком, поступила: бросила, слова не сказав. Но я-то ведь и раньше кое-что замечала. Вот, к примеру, перед самым ее отъездом один молодой мужчина к ней заходил. Пришел, кофе напился и все сидит, сидит. А она-то, Ольга Николаевна, как на иголках… Да-а. А этот, гость, братом назвался. Двоюродным. Только на брата не очень-то похож. Я почему его запомнила? Потому, как день спустя в гостинице встретила. Видать, у нас останавливался.
— Так он что, не здешний? — заинтересовался Миронов, внимательно слушавший болтовню Левкович.
— Он-то? Конечно, не из здешних. Приезжий. Потому и в гостинице останавливался.
— А из каких мест приезжал, не запомнили?
— Почему же не помнить? — удивилась Левкович. — Очень даже помню. Интересовалась. Как-никак не чужому человеку он братом назвался — Ольге Николаевне, моей хозяйке…
— Так откуда же он? — повторил свой вопрос Миронов.
— Из этого, как его…
Левкович назвала крупный портовый город Энск, вблизи которого, как то хорошо было известно Миронову, находились некоторые заводы, изготовлявшие сверхсекретную продукцию, точного назначения которой Андрей не знал. «Уж не на одном ли из этих заводов работает этот „братец“? — подумал Андрей. — Этого только недоставало!»
— Вот я и говорю, — продолжала между тем Левкович, — что в коридоре его встретила, он из номера выходил…
— А из какого номера, не помните? — поинтересовался Андрей.
— И это помню! В пятнадцатом он останавливался… — Левкович внезапно запнулась. — Хотя нет… В двадцать пятом. Ой, вру. В двадцать первом. Точно, в двадцать первом.
Ничего заслуживающего внимания Левкович больше не сообщила, и Андрей поспешил закончить затянувшуюся беседу.
Вечером того же дня в конторе гостиницы появились Миронов и Луганов. Их интересовали регистрационные книги постояльцев. Особый интерес вызвали у них те, кто останавливался в гостинице весной текущего года. Внимание Миронова привлек Антон Владимирович Рыжиков, тридцати трех лет, инженер-радист, который, как значилось в книге, прибыл из Энска. В апреле месяце он несколько дней прожил в гостинице, но не в пятнадцатом и не в двадцать первом номере, а в восемнадцатом. Как было указано, в Крайск Рыжиков приезжал в командировку.
В ту же ночь в Энск был направлен запрос о Рыжикове, месте его работы и целях поездки в Крайск. А на следующее утро Луганову удалось наконец раздобыть образец почерка Ольги Величко. Сомнения не было: странная запись на клочке бумаги была сделана ее рукой. Тем с большим нетерпением ждали Луганов и Миронов ответа из Кисловодска.
Продолжал Миронов заниматься и Черняевым: тщательно изучал его окружение. Андрей посоветовался с Кириллом Петровичем и попросил его поручить кому-нибудь из сотрудников Крайского управления КГБ постоянно находиться поблизости от Черняева, чтобы уберечь его от возможных неожиданностей. Да и к его окружению следовало присмотреться.
На следующий день в кабинет Миронова вошел молодой офицер:
— Разрешите доложить, товарищ майор! Младший лейтенант Савельев. Явился в ваше распоряжение.
Андрей внимательно приглядывался к своему новому помощнику. Шел тому двадцать четвертый год, но выглядел он совсем юнцом, и многие в управлении, особенно девушки-машинистки, секретари, стенографистки, звали его Сереженькой. В органах КГБ Сергей Савельев работал всего второй год, но уже успел зарекомендовать себя с самой лучшей стороны: он был смел, предприимчив, энергичен, очень дисциплинирован. Тут, очевидно, сказывалась служба на флоте, откуда Савельев пришел в органы. Сергею уже приходилось участвовать в нескольких сложных операциях, и действовал он каждый раз успешно, однако под непосредственным руководством представителя центрального аппарата КГБ он никогда не работал и был рад и горд оказанным ему доверием.
Миронов не спеша, обстоятельно растолковал Савельеву стоявшие перед ним задачи.
— Вам, — говорил он, — поручается Капитон Илларионович Черняев, инженер-подполковник запаса, руководящий работник крупного строительства специального назначения. По имеющимся у нас данным, есть основания предполагать, что в окружение Черняева проникли люди, стремящиеся скомпрометировать инженер-подполковника и затем воспользоваться этим в преступных целях. Чтобы в этом разобраться, надо как следует присмотреться к Черняеву, выяснить, кто его окружает, нет ли среди его близких каких-нибудь подозрительных лиц. Вам ясно?
— Понятно, товарищ майор, — кивнул внимательно слушавший Савельев.
— Растолковывать вам в деталях, как вести работу, думаю, — продолжал Миронов, — нет нужды. Опыт у вас есть. О результатах будете докладывать мне. Ежевечерне. Специальным рапортом. Вот, пожалуй, и все.
— Слушаю, товарищ майор. — Савельев поспешно встал. — Разрешите выполнять?
Не прошло и часа, как Сергей был уже на строительстве, где работал Черняев…
Вскоре после ухода Савельева в кабинет Миронова неожиданно ворвался Луганов. Плюхнувшись в кресло, он выхватил из кармана сложенный вчетверо телеграфный бланк и кинул его через стол Андрею.
— Вот, Андрей Иванович, телеграмма. Из Кисловодска. Читайте. Нет, вы только прочтите, что они пишут!
Миронов спокойно взял телеграмму, развернул ее и молча проглядел. Брови у него нахмурились, на лице появилось выражение недоумения, и он вновь слово за словом перечитал весь текст.
Луганов, пристально следивший за выражением его лица, увидев, что тот кончил читать, воскликнул:
— Каково? Нет, что вы скажете, каково? Не при-езжа-ла!
— Н-да-а, — хмыкнул Миронов. — Закавыка!
Андрей, конечно, не думал, что Ольга Величко-Черняева все еще в Кисловодске. Вряд ли станет она жить на курорте несколько месяцев. Да и на какие средства? Но он полагал, что работники кисловодской милиции сообщат, когда и куда она выехала. Все эти вопросы Луганов просил выяснить в своем запросе. Но то, что содержалось в телеграмме, явилось для Миронова полной неожиданностью.
Текст телеграммы гласил, что никто под фамилией Величко или Черняевой в Кисловодске не проживает, что вообще женщина с таким именем, отчеством и фамилией в течение текущего года в Кисловодск не приезжала, ни в одной из гостиниц или санаториев не останавливалась.
«Как же так? — думал Андрей. — Ведь Черняев сам проводил ее на вокзал, сам усадил в поезд. Правда, прямых поездов до Кисловодска из Крайска нет, ехать надо с пересадкой. Так неужели Величко по дороге сошла, не доехала до места? Но почему? Или и тут обман, и тут она не сказала Черняеву правду: поехала не в Кисловодск, а в другое место. Но зачем ей было обманывать, с какой целью?»
— Андрей Иванович, а что будем делать со студентами? — прервал размышления Миронова Луганов.
— Со студентами? — спохватился Андрей.
Он вновь взял телеграмму и прочел, что в прошедшем и текущем годах в районе Бештау работало две геологические изыскательские партии. В одной из них, разновременно, проходило практику несколько студентов, в том числе и студенты из Ленинграда. Фамилии их были указаны. В самом Кисловодске и его окрестностях никаких геологических поисков не велось, и данными о пребывании здесь ленинградских студентов кисловодская милиция не располагала.
Внимательно перечитав эту часть телеграммы, Андрей предложил:
— А что, Василий Николаевич, если вам слетать в Ленинград, поискать там самому автора письма, а с его помощью и Величко? Это надежнее да и быстрее, чем писать запросы и ждать ответа.
Тут же Миронов изложил Луганову свои соображения: коль скоро известно, кто именно и из каких вузов Ленинграда был в тех краях на практике (а таких было не так много), будет нетрудно выяснить, кто же является автором письма к Величко. Дальше проще простого: надо будет с ним побеседовать и узнать, где Величко находится сейчас. Ему это, надо полагать, известно.
Луганов выехал в Ленинград следующим утром. Сразу же по прибытии с помощью сотрудников Ленинградского управления КГБ он быстро установил, что автором письма, найденного Черняевым у своей бывшей жены Ольги Николаевны Величко, является Виктор Сергеевич Кузнецов, студент пятого курса геологического факультета Ленинградского университета. Луганов, не мешкая, пригласил его на беседу, которую решил провести в помещении милиции.
Когда Кузнецов вошел в кабинет, было заметно, что он волнуется. Оно и понятно: впервые в жизни Виктор Кузнецов был вызван в милицию, да еще неизвестно зачем.
Чтобы успокоить разволновавшегося студента, придать беседе непринужденный характер, Луганов начал расспрашивать его об учебе, о поездках на практику в составе геологических партий, в частности на Кавказ, в район Минеральных Вод.
Кузнецов с увлечением рассказывал о поездках. Сразу было видно, что он влюблен в свою будущую профессию. Он сообщил, что успел побывать в Сибири, а последние два года летом выезжал в составе изыскательских партий на Северный Кавказ, в район Бештау. В Кисловодске, по его словам, он бывал всего несколько раз, наездами, в качестве экскурсанта.
— А знакомств в Кисловодске вы никаких не заводили? — как бы невзначай поинтересовался Луганов.
— Знакомств? — удивился Кузнецов. — Каких знакомств? Что вы имеете в виду?
Луганов молча выдвинул ящик письменного стола, достал оттуда несколько фотографий молодых женщин, снятых в профиль и анфас, среди которых была и фотография Ольги Николаевны Величко, и веером раскинул их по столу:
— Кого из изображенных здесь лиц вы знаете?
— Можно? — робко спросил Кузнецов, протягивая руку к фотографиям.
Пока он рассматривал фотографии, Луганов пристально следил за выражением его лица, но ровным счетом ничего, кроме самого искреннего, самого неподдельного недоумения, не уловил.
— Н-нет, — неуверенно проговорил наконец Кузнецов, перебрав и внимательно пересмотрев одну за одной все фотографии и возвращая их Луганову. — Я тут никого не знаю…
— Так уж и никого? — не без иронии спросил Луганов. — А вы присмотритесь повнимательнее.
— Зачем? — уже твердо сказал Кузнецов. — Я же вам говорю, что ни одной из этих женщин не знаю.
Луганов начал терять терпение. Это ещё что за новость? Зачем понадобилось Кузнецову отрицать очевидное: свое знакомство с Величко?
— Помилуйте, — сказал он резко. — Вы что, не знаете Ольгу Николаевну Величко, или Черняеву, как вам будет угодно? Полноте!
— Величко? Черняеву? В первый раз слышу!
Луганов рассердился не на шутку: и чего он запирается, этот студент? С какой стати? Может, за этим что кроется?
— Нехорошо, Виктор Сергеевич, нехорошо. Так дело у нас не пойдет. Может, вы и этого не знаете? Может, не вы это писали? — Луганов широким жестом бросил на стол письмо Кузнецова Ольге Величко.
Увидев письмо, Кузнецов на мгновение опешил, затем стремительно вскочил, чуть не уронив стул, на котором сидел. На его лице сквозь загар проступил кирпично-красный румянец. От былой растерянности не осталось и следа.
— Письмо! Мое письмо! Как оно к вам попало?
— Прежде всего сядьте, успокойтесь, — с легкой усмешкой сказал Луганов. — Вот так. Ну, а теперь расскажите всю правду об этом письме, а так же о той, кому оно адресовано. Только — правду, и со всеми подробностями.
Кузнецов глубоко, судорожно вздохнул.
— Это письмо… мое письмо… оно написано Зеленко. Ольге Ивановне Зеленко… Ольга… — Кузнецов чуть замялся, затем решительно продолжал: — Ольга — моя невеста. Правда, на это письмо она не ответила. Почему, не знаю, не могу понять… Да, а как мое письмо попало к вам? Почему?..
Теперь пришел черед краснеть Луганову. Он притворно закашлялся, стремясь выиграть время, собраться с мыслями. Беседа приняла неожиданный, непредвиденный и, как это стало очевидно Василию Николаевичу, не очень приятный для него оборот.
Зеленко? Зеленко? Эта фамилия была знакома Луганову. Да, сомнения не было. Он вспомнил: Ольга Зеленко — соседка Черняева по квартире. Но как письмо, адресованное Зеленко, попало к Величко? Почему жена Черняева хранила его, зачем прятала? Почему, наконец, увидев это письмо в руках мужа, видя, какую оно у него вызвало реакцию, Ольга Николаевна не разъяснила недоразумения, не сказала, что письмо это не имеет к ней никакого отношения?
Да, тут было над чем поломать голову. Луганову вспомнились многочисленные «зачем» и «почему», которые возникали в связи с этим злосчастным письмом у Миронова после их беседы с Черняевым.
«А ведь прав, пожалуй, был Андрей Иванович, обратив такое внимание на это письмо, — подумал Луганов. — Кузнецов? С Кузнецовым все ясно, больше беседовать с ним не о чем. Зря, выходит, я на парня накинулся. Он-то тут ни при чем. Извинившись и объяснив Кузнецову, что вышло недоразумение, Луганов попросил разрешения оставить письмо у себя.
— Вот именно из-за этого недоразумения, которое надо рассеять, — сказал он, — письмо может понадобиться. Не возражаете?
Кузнецов вынужден был согласиться, после чего они распрощались, и Луганов тут же связался по телефону с Крайском, с Мироновым. Выслушав его краткий доклад, Андрей Иванович предложил ему немедленно возвращаться в Крайск, заметив, что в связи с этой «странной историей» у него возникли немаловажные соображения.
Глава 5
Сразу же по возвращении в Крайск, прямо с аэродрома Луганов отправился к Миронову. Едва он успел закончить доклад о встрече с Кузнецовым, как Миронов предложил:
— Давайте-ка вызовем Ольгу Зеленко и поговорим с ней начистоту. Судя по имеющимся характеристикам, дивчина она серьезная, честная, не болтушка, А рассказать, прожив два года в непосредственном соседстве с Черняевым, кое-что, надо полагать, может.
Луганов согласился. День спустя они беседовали с Ольгой Зеленко.
Миронов начал с объяснения причин ее вызова. Произошло, говорил он, недоразумение, которое надо рассеять. Какое, он скажет потом.
— Прежде всего, — подчеркнул Миронов, — надо условиться, что разговор, который мы будем вести, останется между нами.
Зеленко, хотя и взглянула на него с недоумением, молча кивнула в знак согласия.
— Вы живете, — продолжал Миронов, — по соседству с Черняевыми, в одной квартире. Нам нужно знать об этой семье все, что знаете вы. Поверьте, это очень важно.
Выражение лица Ольги становилось все более и более удивленным.
— Черняевы? — переспросила она. — Капитон Илларионович? Но что он мог сделать плохого? И что я о нем знаю? А семьи у него нет. Ольга Николаевна уехала. Навсегда.
— Меньше всего нас интересует Капитон Илларионович, — возразил Миронов. — Я ведь вас спросил не о нем, а о его семье. Если хотите, уточню: как раз Ольгой Николаевной мы и интересуемся. Поверьте, к тому есть основания. Может быть, вы знаете, как и откуда добывала жена Черняева различные заграничные вещи, которые у нас, в частности в Крайске, в магазинах не бывают. Вот мы и надеемся, что вы сможете нам помочь, поскольку живете по соседству с Черняевыми и были дружны с Ольгой Николаевной. Интересуют нас и взаимоотношения супругов Черняевых, наиболее близкие из их друзей. Так что вы скажете?
— Я… — смущенно запнулась Зеленко. — Я рада вам помочь, но смогу ли?
Нервно теребя платочек, Зеленко начала рассказывать. Говорила она, заметно волнуясь, подыскивая выражения, вспоминая те или иные факты, подробности. По ее словам, Ольга Николаевна Величко интересовалась нарядами не больше, чем любая красивая женщина, а она была очень красивой, очень.
Была ли Величко жадной? Нет, этого Ольга за ней не замечала. Потерянная она какая-то, что ли, была — это да. То сидит целый день у себя, носа не кажет, то часами у нее, Зеленко. Тормошит Ольгу, шутит, смеется, только не весело, с надрывом… Со странностями, одним словом, была, но человек, судя по всему, хороший, добрый.
Откуда у нее были заграничные вещи и старинные украшения, Зеленко не знала. Она никогда Ольгу Николаевну не спрашивала, а та не рассказывала. Не замечала Зеленко у Величко и особого пристрастия к беготне по магазинам или по портнихам: никогда Ольга Николаевна с ней об этом не говорила. Впрочем, она и вообще-то, скорее, была скрытная, все о чем-то своем думала.
Какие были у Величко отношения с мужем? Трудно сказать. Вроде бы неплохие, но и особой нежности между ними Ольга не замечала. Пожалуй, Капитон Илларионович относился к жене лучше, чем она к нему. Он всегда держался с ней спокойно, ровно, а она из-за пустяков чуть не истерики закатывала, не стесняясь ее, Ольги.
Рассказывая о взаимоотношениях супругов Черняевых, Ольга Зеленко вдруг смутилась.
— Да, вы знаете, — сказала она, — ведь у нее, у Ольги Николаевны, был другой муж, совсем старый… Я его видала.
— Видали? — заинтересовался Миронов. — Где? Когда? Расскажите поподробнее.
— Когда? Да прошлой зимой, в самом начале. Вернулась я днем с дежурства (я ведь медицинской сестрой работаю: когда дежуришь в ночь, когда днем), слышу у Черняевых какой-то шум, не то крик — не разберешь. Что, думаю, такое? Ведь Ольга Николаевна должна быть дома одна. Капитон Илларионович в это время всегда на работе. Тут Ольга Николаевна как закричит, да так пронзительно, что я через дверь услышала. Ну, я, конечно, давай стучать. Может, думаю, случилось что, плохо ей, помочь надо?
Вдруг дверь распахнулась, и прямо на меня выскочил какой-то чужой человек. Мужчина. Я никогда до этого его не видела. Седой такой, с усами. Я отшатнулась. А он кинулся мимо меня — и вниз по лестнице. Чуть не бегом. А сам ведь уже старый…
Стою я в коридоре возле двери, совсем растерялась, не знаю, что и подумать. Тут выходит Ольга Николаевна, рукой за горло держится. По виду как будто спокойная, только бледная очень. Улыбается, но, видно, через силу.
«Что, — спрашивает, — Оленька, испугались? Да вы заходите ко мне, заходите. Ничего страшного не случилось. Это, знаете ли, мой прежний муж. Он совсем не страшный, жалкий скорее. Любит он меня, что поделаешь?..»
— Ну, а потом, после, она вам об этой истории что-нибудь рассказывала? — спросил Миронов.
— Нет, ни об этой истории, ни вообще о своем прежнем муже Ольга Николаевна никогда со мной не говорила. Не любила она вспоминать прошлое. Я же говорю, скрытная она…
— Скажите, — задал вопрос Луганов, — а об отъезде Величко, об ее разрыве с Черняевым что вам известно? Быть может, вы помните какие-нибудь подробности, детали?
— Какие же подробности? — задумалась Зеленко. — Ничего особенного не было. Уехала Ольга Николаевна в Кисловодск, лечиться. Уехала одна, без Капитона Илларионовича, как и в прошлом году. Я и думать не думала, что она не вернется.
— Как по-вашему, — вмешался Миронов, — Черняев знал, что она совсем уехала? Какие между ними отношения были перед ее отъездом?
— Ничего особенного я не замечала. Капитон Илларионович, конечно, ничего не знал. Он же сам на вокзал ее провожал. Как сейчас помню — я тогда у них была, — вернулся он под вечер с работы, машину не отпустил. Вышли они из дома с Ольгой Николаевной; Капитон Илларионович ее чемодан нес. Я их до машины проводила. Сели и уехали. А я ушла на дежурство — мне тогда в ночь было. Как Ольги Николаевны не стало, Капитон Илларионович загрустил. Прошел месяц, второй пошел, нет ее, не возвращается. Я как-то встретила Капитона Илларионовича и спросила, уж не случилось ли с ней чего, а он мне и говорит: «Случилось не случилось, только не вернется больше Ольга Николаевна. Она совсем уехала. Разошлись мы…»
Закончив свой рассказ, Ольга Зеленко вопросительно посмотрела на Миронова: как, мол, теперь все? Тут Миронов неторопливо достал письмо Кузнецова и протянул ей. Увидев знакомый почерк, Зеленко нахмурила брови и чуть прикусила нижнюю губу. На лице ее проступило выражение недоумения.
— Вот это, — сказал Миронов, указывая на письмо, — и есть то самое недоразумение, о котором я говорил вам в начале нашей беседы. Оно и явилось причиной, из-за которой мы решили вас побеспокоить. Письмо это — да берите его, берите, оно же вам предназначено — написал ваш знакомый, Виктор Кузнецов. Впрочем, — усмехнулся Миронов, — автор письма вам и без меня известен. Верно?
Ольга вспыхнула.
— Из-за этого письма, — продолжал Миронов, делая вид, что не замечает ее смущения, — вы чуть не поссорились с Виктором, ведь так? А зря! Он ни в чем перед вами не виноват. Ну, да в этом вы сами разберетесь. Нас интересует другое: письмо это, адресованное вам, попало в руки Ольги Николаевны Величко, которая длительное время его хранила, скрыв от вас. Вы говорите, что у вас с Ольгой Николаевной были хорошие отношения; чем же тогда объяснить ее поступок, зачем она прятала письмо, почему не отдала вам?
По мере того как Миронов говорил, удивление Зеленко возрастало. Она беспомощно развела руками:
— Ничего не могу понять. Ольга Николаевна взяла мое письмо? Украла его, прятала? Не может быть! Это так на нее не похоже. Тут что-то не так. Вы уверены, что не ошиблись?
Миронов отрицательно покачал головой:
— Нет, Ольга Ивановна. Какая же ошибка? Судите сами: письмо, которое вы держите в руках, факт? Факт, Обратите внимание на дату: уже несколько месяцев, как оно пришло в Крайск, а к вам не попало. Это тоже факт. И виной тому Ольга Николаевна Черняева: она перехватила ваше письмо, скрыла его от вас. И это факт, О какой же ошибке может идти речь?
— Значит… — задумалась Зеленко. — Значит, Ольга Николаевна до сих пор держала это письмо у себя и только теперь отдала вам? Но зачем, почему? Где она, наконец? Вернулась? Я сама ее обо всем спрошу. Это… это же гадость!
— Успокойтесь, Ольга Ивановна, — мягко сказал Андрей. — Все не так просто. Письмо нам дала не Ольга Николаевна, а… впрочем, пока неважно, кто его нам дал. И в Крайск Ольга Николаевна пока не возвращалась, в том-то и дело. Да вы прочтите письмо, прочтите, а то вон как его скомкали, Мы постараемся вам не мешать. Читайте!
— Извините, пожалуйста, — возразила смущенная Зеленко, — но лучше уж я дома прочту. Зачем вас задерживать?
Однако Миронов сказал, что отдать сейчас письмо Зеленко он не сможет: оно может понадобиться, поэтому придется Ольге прочесть его здесь, хочешь не хочешь…
Когда Ольга кончила чтение и с явной неохотой вернула письмо, Миронов и Луганов тепло простились с ней. Перед этим Миронов еще раз напомнил Зеленко о необходимости сохранить их беседу в тайне.
— Кстати, — заметил он, протягивая Ольге листочек бумаги. — Вот мой телефон. На всякий случай. Вдруг что случится — позвоните. Условились?
Зеленко вышла.
— Василий Николаевич, надо будет встретиться с шофером, который возит Черняева, побеседовать с ним пообстоятельнее, — обратился Андрей к Луганову. — Коль скоро он отвозил Величко на вокзал, глядишь, и вспомнит какие-нибудь обстоятельства, подробности, связанные с ее отъездом из Крайска, которые помогут пролить свет на всю эту запутанную историю.
Луганов сразу согласился. Еще в ходе беседы с Зеленко у него и самого мелькнула эта мысль. Теперь, после беседы с Кузнецовым и рассказа Ольги Зеленко, самый отъезд жены Черняева превратился в какую-то запутанную историю. Миронов прав. Тут важна каждая деталь, каждая мелочь.
Прежде чем встретиться с Кругляковым (такова была фамилия шофера Черняева), Луганов получил его характеристику, из которой узнал, что Кругляков — человек нечистоплотный, способный «слевачить», что он подхалим и лизоблюд, увивающийся возле своего «хозяина». Впрочем. Черняев, как можно было понять из той же характеристики, смотрел на недостатки своего шофера сквозь пальцы.
Взвесив все, Луганов решил вызвать Круглякова под благовидным предлогом в ОРУД. Таким путем удастся просмотреть его путевые листы, в том числе и за тот день, когда Величко уехала в Крайск, и обстоятельно побеседовать с ним, не вызывая у него подозрений.
В ОРУД Луганов приехал минут за тридцать до того, как должен был появиться Кругляков. Пройдя в кабинет, где инспектора беседовали с провинившимися шоферами, Луганов принял участие в опросе нескольких нарушителей, чтобы, как он сам над собой посмеивался, «набить руку».
Заставив Круглякова немного подождать, Луганов пригласил его в кабинет.
— Садитесь, — суровым тоном коротко бросил он изрядно струхнувшему шоферу, показывая всем своим видом, что шутить не намерен. — Ваши права?
Кругляков протянул через стол водительские права. Рассматривая их, Луганов сердито начал:
— Ай, ай, ай, и как только вам не стыдно! Такой опытный водитель, со стажем, в возрасте, а такие фортели выбрасываете. Чистое безобразие!
Кругляков, сидевший до того уныло потупясь, удивленно вскинул голову:
— Прощения прошу, товарищ инспектор, только, видать, вы меня с кем спутали. Никаких фортелей я отродясь не выкидывал, спросите хоть кого хотите.
— Путаю? А кто в конце мая на Игуменском тракте зацепил колхозную телегу и дал стрекача? Кто?! — с возмущением воскликнул Луганов.
— Я? — опешил Кругляков. — Я? Да я, почитай, цельный год на Игуменском тракте не был. — В голосе его слышалось искреннее негодование.
— Неправда! Номер вашей машины 11-23?
— А что с того? Номер этот, только я там не ездил! — уверенно возразил Кругляков.
— Судя по показаниям потерпевших, машина была именно ваша. Номер машины — раз, цвет машины зеленый — два, все совпадает.
— Наговор, — возмутился Кругляков, — чистый наговор! Не был я на Игуменском тракте, и все. А что номер мой, так это еще не резон. Номер-то может быть и тот, да ведь буквы при номере разные бывают.
— Буквы, конечно, разные бывают, это нам известно. Поэтому так долго вас и не трогали, что букв свидетели не разобрали. Пришлось выяснять. Все на вас сходится, товарищ Кругляков, так что лучше вы не крутите.
Вышедший из себя Кругляков кипятился:
— Да что же это такое? Какую напраслину на человека взводят? Вы путевые листы возьмите, товарищ инспектор, там все сказано. Тогда и увидите, где я в тот день был.
Луганову только это и надо было. Через час путевки были доставлены. Взяв их в руки, Кругляков стал перечислять названия улиц, переулков, адреса, фамилии, с кем ездил, поясняя каждую поездку. О дне двадцать восьмого мая он, в частности, заглядывая в путевой лист, рассказал:
— Весь день был на приколе — сами видите. Первый вызов в семнадцать ноль-ноль. Еще поутру Капитон Илларионович предупредил не отлучаться: понадоблюсь, дескать. Супругу его на вокзал свезти. Прибыли мы на квартиру Капитона Илларионовича; он наверх поднялся, а я жду. Потом, значит, вышли Капитон Илларионович с супругой. Капитон Илларионович еще чемодан вынес, как сейчас помню. Ну, отвез я их на вокзал, к московскому поезду. Капитон Илларионович дожидаться не велел, отпустил совсем. Я сразу в гараж: вот — отмечено. Какой же тут Игуменский тракт!
Победное выражение лица Круглякова, казалось, говорило: «Ну, чья взяла?»
Луганов удрученно развел руками:
— Выходит, товарищ Кругляков, не ваш грех. Ошибка вышла. Придется дальше искать.
Обрадованный, что посрамил извечного врага шоферской братии — представителя ОРУДа, Кругляков укатил на стройку, а Луганов отправился к Миронову, в Управление КГБ.
Хотя почти ничего нового Кругляков и не сообщил, Луганов был доволен результатом беседы: рассказ Круглякова полностью подтверждал то, что говорили об обстоятельствах отъезда Величко Черняев и Зеленко, А это тоже кое-что значило.
Однако, едва Луганов перешагнул порог кабинета Миронова, его благодушное настроение улетучилось: он понял, что за время его отсутствия произошло нечто серьезное. Миронов нервно расхаживал из угла в угол, зажав в зубах погасшую папиросу.
— Василий Николаевич, наконец-то! — воскликнул он. — Где вы пропадали?
— Почему — пропадал? — возразил Луганов. — Я не пропадал, а беседовал с шофером Черняева — Кругляковым. По вашему же указанию. Разрешите доложить результаты?..
— Подождите, Василий Николаевич, сейчас не до Круглякова! Вы думаете, мы кого ищем? Ольгу Николаевну Величко? Как же! Держи карман шире!..
— Не понимаю, Андрей Иванович. — Луганов невольно начал заражаться возбуждением Миронова.
— А я, думаете, я что-нибудь понимаю? — сказал Андрей, протягивая Луганову документ, лежавший на его столе.
На бланке со штампом Черниговского областного управления милиции в углу было написано: «В ответ на ваш запрос сообщаем: Величко Ольга Николаевна, 1925 года рождения, уроженка села Софиевка, проживавшая там же, активная комсомолка, в годы Великой Отечественной войны являлась связной местного партизанского штаба. В 1943 году была схвачена гестаповцами и вывезена в Германию. По имеющимся сведениям, в 1944 году зверски замучена в одном из гитлеровских лагерей смерти… Заместитель начальника управления (подпись), Начальник отдела (подпись)».
Глава 6
Валериан Сергеевич Садовский одиноко брел вдоль набережной Волги, тяжело передвигая ноги, словно нес на плечах непомерную тяжесть, словно его придавило к земле низкое, покрытое тучами небо. Временами он останавливался и подолгу смотрел на темную воду.
Каждый вечер совершал теперь Садовский эту унылую прогулку, порой часами, да и куда было торопиться? Домой? Дома никто не ждет — ни родных, ни близких. Один, всегда один. Читать? Не читалось. Так что же, лечь спать? Но и спать Валериану Сергеевичу не спалось — не отпускала проклятая бессонница. Стоит лечь в кровать, сомкнуть веки, как перед глазами встает Ольга…
Ольга? Как, как только могла она так скверно, так вероломно поступить после всего, что он для нее сделал, что в их жизни было? А ведь было, было…
Как сейчас, видит Садовский жалкую фигурку Ольги, беспомощно прижавшейся к стене в коридоре. Она тогда только что вернулась из плена: надломленная, ко всему равнодушная, испившая до дна чашу страданий в гитлеровских лагерях на оккупированной территории России и в Германии, в лагерях для перемещенных лиц где-то на Западе. Ободранная, без крова, без прописки, без куска хлеба… Вряд ли Садовский узнал бы ее, если бы она его не окликнула. Да и как можно было узнать в этом изможденном, измученном существе живую, немного сумасбродную и на редкость хорошенькую девушку, какой он знал Ольгу.
Он познакомился тогда с ней в семье своего старого учителя, профессора Навроцкого, эвакуировавшегося в начале войны из Воронежа в Куйбышев. Встретив случайно Садовского на улице, профессор затащил его к себе.
Ольга, племянница жены Навроцкого, воспитывалась у них с детства. Родители ее будто бы давно умерли. Кем они были, что делали, Садовский не знал, не интересовался.
С того вечера Валериан Сергеевич зачастил к Навроцким, и не только ради бесед с любимым учителем. Все чаще коротал он вечера с Ольгой, кончавшей тогда школу. Вечера эти нисколько не казались ему скучными: Ольга была живым, интересным собеседником. Она была не по годам начитана, остроумна, за словом в карман не лезла, сознавала силу своего девичьего обаяния. Профессор, заставая их сумерничавших вдвоем, частенько подшучивал: «Смотрите, студиозус (так он любовно называл Садовского), вскружит вам наша Оленька голову!»
Садовский смеялся: «Помилуйте, профессор! Да я Ольге в отцы гожусь. Того и гляди, сорок стукнет!»
Смеяться-то Валериан Сергеевич смеялся, а сам все чаще и чаще ловил себя на том, что он увлекся девушкой. Поняв, что он увлечен Ольгой не на шутку, Садовский испугался, попытался погасить вспыхнувшее чувство. Он не нашел ничего лучшего, как прекратить встречи с Ольгой, почти перестал бывать у Навроцких. А осенью 1942 года Ольга ушла в какую-то специальную школу — и на фронт. Как сказал под строжайшим секретом Навроцкий, «ушла в партизаны», в тыл к немцам. Так все и кончилось, не успев, по существу, начаться. Садовский поначалу получил от Ольги несколько писем, сам написал ей, но переписка скоро оборвалась. Ольга писать перестала… Прошло около года, и от убитых горем Навроцких Валериан Сергеевич узнал, что Ольга погибла, пропала без вести.
В конце войны Навроцкие уехали из Куйбышева, вернулись к себе, в Воронеж. Год спустя из газет Валериан Сергеевич узнал о смерти старого профессора. Он бросил все, помчался в Воронеж, но на похороны опоздал…
И вот прошел еще год. Война давно кончилась, как вдруг Садовский в коридоре своей больницы встретил Ольгу… Изменилась она до неузнаваемости, и все же это была она, Ольга, Оля, Оленька, которую Валериан Сергеевич никогда не забывал, не мог забыть.
Встреча ошеломила Садовского: он задохнулся от неожиданности, от счастья, готов был на все, а Ольга? Ольга была ко всему безучастна…
Валериан Сергеевич, в общем-то, житейски был не очень практичен, но тут он проявил чудеса находчивости, настойчивости, упорства. В городе его знали, с ним считались, и после бесконечных хлопот ему удалось добиться прописки для Ольги, устроить ее на работу в больницу. Теперь они виделись ежедневно, постоянно. Ольга постепенно оттаивала, оживала. Время шло, и Садовскому становилось все очевиднее, что он не в силах справиться со своим чувством, что жить без Ольги не может.
День ото дня он тянул, не решаясь объясниться с Ольгой, казня себя за собственную нерешительность. Но вот как-то однажды их с Ольгой пригласил к себе на свадьбу молодой врач, работавший под руководством Валериана Сергеевича. Со свадьбы Садовский и Ольга возвращались вдвоем. Валериан Сергеевич провожал Ольгу и вдруг отважился, заговорил… Он сказал все. Сказал, что полюбил Ольгу давно, еще тогда, в первые годы войны, что любит ее все сильнее и если она согласна…
В глазах Ольги Садовский увидел испуг. Нет, не испуг — ужас. Он отшатнулся:
— Простите, Оленька, я не хотел вас обидеть. Если бы я мог предположить, что так вам противен…
— Валериан Сергеевич, милый, что вы говорите? — Ольга взяла себя в руки. — Вы мне противны? Да вы с ума сошли! Если бы я только могла помышлять о замужестве, то о лучшем муже, чем вы, я не могла бы и мечтать. Я так привязана к вам, так вам благодарна. Но я не могу, не могу…
Ольга горько разрыдалась.
Так в тот вечер разговор и кончился ничем. Садовский ничего не мог понять: он знал, что Ольга одинока, что у нее никого нет, ему казалось (да Ольга это и подтвердила), что он ей не безразличен, так почему же она не может стать его женой? Отказ Ольги был каким-то странным, малопонятным, но возобновлять разговор Садовский не стал, не посчитал себя вправе.
…Время шло. Их отношения стали еще теплее, еще ближе: им трудно было пробыть и день друг без друга. И вот разговор возобновился, и вернулась к нему Ольга, сама Ольга… Вскоре она стала женой Садовского.
Ольга была хорошей женой: ласковой, заботливой, близким другом, надежным помощником. Любила ли она Валериана Сергеевича? Трудно сказать. Вряд ли и сама Ольга смогла бы дать исчерпывающий ответ на этот вопрос. Чувство глубокой признательности, искренней привязанности порой принимают за любовь. И так бывает… Во всяком случае, жили они дружно, душа в душу. Правда, случалось, что временами на Ольгу словно что-то накатывало: она мрачнела, становилась угрюмой, молчаливой, но проходил день-другой — и все как рукой снимало, все входило в обычную колею. Ничто, казалось, не предвещало, беды, как вдруг на курорте, в Сочи…
Да, в ту осень, года этак два с небольшим назад, они поехали с Ольгой в Сочи. Ольга ехала на юг впервые. Всю дорогу и первые дни по приезде она была очень оживлена, весела; как никогда, нежна с Садовским. Все ее удивляло, все радовало. Как-то под вечер они отправились вдвоем побродить в знаменитый сочинский дендрарий. Валериан Сергеевич стоял и рассматривал какое-то диковинное растение, а Ольга с интересом глядела по сторонам. Здесь все ей было в новинку. Внезапно она вздрогнула, судорожно сжала руку Садовского и сдавленным, каким-то необычным голосом тихо сказала: «Скорее, скорее домой. В санаторий… Скорее же!..».
Отчего? Почему? Ольга не объяснила. Не сказала и слова. Молчала она всю дорогу до санатория, молчала в ответ на бесчисленные вопросы Садовского и в санатории. Заговорила Ольга только ночью, почти под утро, но как? Что она сказала? И тут ничего… Видя, что Валериан Сергеевич не спит, не может уснуть, Ольга вдруг горько, до истерики разрыдалась:
— Уедем, — твердила она, — умоляю. Уедем завтра же… Завтра…
Как ни пытался Валериан Сергеевич успокоить Ольгу, все было напрасно. Она твердила одно: «Уедем, уедем скорее», никак не объясняя своего поведения, не говоря больше ни слова.
Ночь так и прошла без сна. Сколько Садовский ни ломал голову, он ровно ничего не мог понять: впервые видел он Ольгу в таком состоянии. Что было делать?
Утром, сославшись на головную боль, Ольга отказалась выйти из палаты. Валериан Сергеевич отправился побродить один, осмыслить случившееся. Не получалось: он никак не мог понять, что произошло с Ольгой.
Вернувшись к себе, Валериан Сергеевич застал Ольгу несколько успокоившейся, но по-прежнему молчаливой. Об отъезде из Сочи она больше не говорила. Вечером они даже пошли немного пройтись, но, когда при выходе из санатория встретили двух каких-то незнакомых мужчин, Ольга стремглав кинулась бежать и спряталась в своей палате. Садовский, чуть поотставший, застал ее опять в слезах.
На следующее утро Валериан Сергеевич, более не раздумывая, достал два билета до Куйбышева. Когда он вернулся в санаторий, Ольги в палате не было; возвратилась она к ночи. Услышав, что билеты на поезд у Садовского в кармане, она как-то невесело усмехнулась и, не сказав ни слова, легла. Где она пропадала — не объяснила.
Следующий день прошел сравнительно спокойно. Ольга слегка оживилась, разговорилась с соседями по столу; объясняла им свой внезапный отъезд служебными делами Валериана Сергеевича.
Конец всему наступил на вокзале. Садовский сидел в купе, а Ольга стояла у окна в коридоре, безразлично поглядывая на кишевший людьми перрон. Вдруг, словно кого-то увидев, она приникла к окну, затем круто повернулась и встала в дверях купе. Она тихо произнесла: «Прости. Прости и прощай. Я не могу с тобой ехать, не могу с тобой оставаться…»
Задохнувшись на полуслове, Ольга подавила рвавшееся из ее груди рыдание и кинулась к выходу из вагона. Поезд уже набирал скорость…
Валериан Сергеевич не сразу пришел в себя, не сразу сообразил, что произошло, но, и сообразив, ничего не понял.
На первой же станции он сошел с поезда и вернулся в Сочи. Где он только не побывал! В санатории, где они жили с Ольгой, на пляже, в многочисленных кафе и ресторанах, в милиции и морге — все было напрасно: Ольги не было и следа.
День спустя все разъяснилось. Садовский встретил симпатичного молодого врача, их прежнего соседа по санаторию. Увидев Валериана Сергеевича, тот с трудом подавил возглас изумления — за прошедшие два-три дня Валериан Сергеевич изменился до неузнаваемости: горе его согнуло, прибавилось морщин, на щеках пробивалась седоватая щетина.
— Понимаю, — быстро заговорил знакомый, бережно подхватывая Садовского под руку. — Все понимаю. Но будьте мужчиной. Она вас недостойна…
— Позвольте, вы о чем? — вскинулся Садовский. — Что вы знаете?
Собеседник на мгновение замялся.
— Видите ли, — начал он осторожно. — Я знаю все. Вчера я был в Адлере, на аэродроме. Провожал приятеля…
— А мне-то какое до этого дело? — с несвойственной ему резкостью перебил Садовский. — Какое мне дело?!
— Минутку терпения. Так вот: на аэродроме я встретил… Ольгу Николаевну. Не одну. С каким-то военным, кажется, подполковником. Они улетели. Вместе…
Все. Это был конец. Конец дикий, нелепый, необъяснимый. Так вот что значили слезы Ольги, ее истерики, бегство. Искать далее не имело смысла, и день спустя Садовский уехал в Куйбышев. Один…
И все же Валериан Сергеевич не мог забыть Ольгу, вычеркнуть ее из памяти. Может, все это не всерьез, думал он, просто увлечение? Ведь Ольга еще молода. Может, она одумается, уже одумалась, рада бы вернуться к нему, но не отваживается сама на первый шаг? Нет, нет, надо ее найти, помочь ей. А он простит ей все, все забудет, лишь бы вернулась, лишь бы она вернулась…
Но как искать Ольгу? Где? Что за человек, ради которого она его бросила? Где он? Где они? Кто поможет Валериану Сергеевичу в розысках, кто может помочь? Внезапно Валериана Сергеевича осенило: Навроцкая. Конечно же, Навроцкая! Вдова профессора, надо полагать, знает, где ее любимая племянница, что с ней. Ведь и живя с Садовским, Ольга нет-нет да ездила к тетке, переписывалась с ней.
Сутки спустя Садовский был в Воронеже. Увидев его. Навроцкая разохалась, заплакала. Да, Ольга была у нее совсем недавно, да, она получала от нее письма. Ольга в Крайске, с каким-то военным. Фамилия его Черняев… Капитон Илларионович Черняев…
И вот Садовский в Крайске… Прошло больше года, а он все еще не может без содрогания вспомнить эту встречу. Что-то мрачное, зловещее было в этой встрече, в поведении Ольги.
…В тот вечер Валериан Сергеевич, приехав в Крайск, долго стоял возле дома Ольги, поджидая, не покажется ли она на улице. Ее знакомую фигуру он узнал издалека и, забыв все, кинулся навстречу. Увидев его, Ольга смертельно побледнела, судорожно схватила за руку и втащила в подъезд. Она стояла в подъезде, продолжая держать Валериана Сергеевича за руку, и молча плакала, да так горько…
Первым пришел в себя Садовский. Он бережно высвободил свою руку и повел Ольгу по лестнице вверх, в ее квартиру. Но едва они очутились в комнате, как Ольгу словно подменили. Лицо ее исказилось. Не то с ужасом, не то с ожесточением (Садовский так и не разобрался) Ольга потребовала, чтобы он ушел, уехал, уехал немедленно, навсегда. Она и слушать ничего не хотела, истерически повторяя одно: «Уходи, уезжай, мы не должны быть вместе, не должны…»
Валериан Сергеевич порывался хоть что-нибудь сказать, как-то объясниться — напрасно. Ольга металась по комнате, от двери к окну и от окна к двери, без конца твердя: «Уходи, уходи…»
Что было дальше, Садовский вспоминал с трудом. Все словно заволоклось туманом. Кажется, он кричал, а может, кричала Ольга? Вывел его из этого нелепого состояния оглушительный стук в дверь. Он осознал, что находится в чужой квартире, что между ним и Ольгой все кончено, и кончено навсегда. Тогда он распахнул дверь и кинулся прочь из этой комнаты, из этой квартиры, из этого города. Да, все было кончено навсегда…
Время шло, а мысли об Ольге не исчезали, воспоминания преследовали Садовского неотступно. Почему все же она ушла? Почему так странно, так не похоже на себя держалась в Крайске? Почему, почему, почему? Вот и сейчас, уныло бредя по пустынной набережной, Садовский думал все о том же. Ему и в голову не могло прийти, что есть на свете другой человек, который в эту минуту так же думает об Ольге, о причинах ее ухода от него, об их взаимоотношениях. Думает о том, кто же все-таки такая на самом деле та женщина, которая носит имя Ольги Николаевны Величко?
Этим человеком был майор Миронов.
Вот уже несколько суток Андрей находился в Куйбышеве, собирая сведения о Садовском и Величко, обдумывая возможность беседы с Садовским. Казалось бы: чего проще? Надо побеседовать с Садовским — так пригласи его, беседуй. Но Миронов прекрасно понимал, что в данном случае как раз такое простое решение и невозможно: слишком много тумана было вокруг Величко. Да и в ее отношениях с Садовским тоже не все было ясно. Взять хотя бы рассказ Зеленко… И вообще, с той минуты, как стало известно, что Ольга Николаевна Величко вовсе не Величко, что под именем героически погибшей партизанки скрывается неизвестно кто, таинственная записка приобрела куда более серьезное значение, чем прежде. Возник десяток новых вопросов: кто она, эта женщина, бывшая жена Черняева, присвоившая имя Величко? Как она это сделала, зачем, с какой целью? Как попали к ней в руки документы погибшей комсомолки? Где, наконец, находится она сейчас, почему скрылась из Крайска, обманув всех, даже своего прежнего мужа — Черняева?
Не исключено, что Садовский мог дать ответ на многие из этих вопросов, но можно ли с ним откровенно говорить? На чьей он окажется стороне? Миронова? А вдруг нет? Вот это и должен был выяснить Андрей, прежде чем решить: можно ли говорить с Садовским или нет?
В первые же дни пребывания в Куйбышеве Андрей выяснил, что Садовский прожил с мнимой Величко около десяти лет, чуть не с самого окончания войны. Все, с кем беседовал Миронов, говорили о нем только хорошее. Валериан Сергеевич жил и работал в Куйбышеве лет двадцать, если не больше. Фигурой он в городе был приметной: заслуженный врач, чуткий, отзывчивый человек. Правда, как отмечали все, с кем под различными предлогами встречался Миронов, в последние год-два после ухода жены Валериан Сергеевич заметно изменился: стал нелюдимым, замкнутым. Но врачом по-прежнему оставался превосходным, человеком незлобивым, деликатным. Садовского не порицали: его жалели.
Да, казалось бы, с Садовским можно говорить прямо. Все говорило за это, все… если бы не одно «но». Дело в том, что, собирая сведения о Садовском, Миронов выяснил, что весной этого года, точнее, двадцать шестого мая, то есть ровно за два дня до отъезда мнимой Величко из Крайска, Садовский вдруг исчез и около десяти суток не появлялся. Он внезапно взял отпуск за свой счет и куда-то уехал, никому ничего не объяснив. Где он находился, тоже никто не знал.
Вот пойди тут и беседуй с ним! Могло статься, что между поспешным и труднообъяснимым выездом Садовского из Куйбышева и исчезновением мнимой Величко из Крайска существует связь. Какая — выяснять и выяснять, но… существует.
«Нет, — говорил себе Миронов, — пока не выясним, где был Садовский между двадцать шестым и тридцатым числами мая, о беседе с ним нечего и думать!»
Легко сказать: «пока не выясним», а как это выяснишь, если никто ничего не знает?
Трудно сказать, как бы решил Андрей вставшую перед ним задачу, если бы не счастливый случай. Впрочем, генерал Васильев любил повторять, что случай в чекистской работе выпадает на долю не удачливого и везучего, а умного и настойчивого.
Беседуя с разными людьми, собирая по крохам сведения о так называемой Ольге Величко и ее бывшем муже, Миронов как-то разговорился со старой нянечкой, долгие годы проработавшей в той же больнице, что и Садовский.
— Так, — говорила старушка, — так. Значит, больницей нашей интересуешься? Что ж, это хорошо, потому как больница у нас хорошая, есть чему поучиться, и врачи хорошие. Разные, конечно, но в общем-то ничего, хорошие. Ну, а уж кто особливо к больным душевный, заботливый, так это Валериан Сергеевич, значит… Садовский. А еще Василий Митрофанович был. Проскурин. Очень они промеж себя дружили. Только Василий Митрофанович уехал, он теперь в Ставрополе. Вы места-то наши небось знаете? Это верст сто вверх по Волге будет. Ставрополь Волжский прозывается. Валериан Сергеевич когда и в гости к нему съездит, а как вернется, обязательно мне привет передаст. Это уж как водится. Очень они оба с Василием Митрофановичем меня уважают.
Что? Когда последний раз Валериан Сергеевич привет от Василия Митрофановича передавал? Да, почитай, с полгода назад. Точно не помню. Весной вроде это было… Никак, после троицы…
«Весной, — думал Миронов, — опять весной? А что, если?..»
Следующим утром, взяв в областном управлении милиции быстроходный катер, Миронов двинулся вверх по Волге. Через три с небольшим часа хорошего хода он был в Ставрополе.
Проскурина, главного врача местной больницы, Андрей нашел сразу и, поговорив с ним о том о сем, между делом спросил, не скучает ли Василий Митрофанович здесь, в Ставрополе, не тянет ли его обратно в Куйбышев, поддерживает ли он связь с больницей, где работал раньше, с прежними товарищами.
— Как вам сказать, тянет ли в Куйбышев? — задумчиво сказал Проскурин. — Ведь ехал я сюда по доброй воле. Конечно, условия для работы не те, но дело интересное, самостоятельное. Да и дел, дел… — Проскурин усмехнулся. — Тут не то что о прошлом помечтать, а, бывает, присесть на минутку не присядешь. Не до того. Что же до товарищей, так они меня не забывают, нет-нет, а кто и приедет. Места-то у нас знаменитые. Красотища неописуемая. Особенно летом хорошо, да и весной… Тут тебе и охота, и рыбалка…
— Ну, раз рыбалка… — понимающе кивнул Миронов. — Сам грешен. Что ж, и этой весной кто приезжал? Весна-то была холодная, ненастная.
— Да, весна в этом году не порадовала, а приезжать все же приезжали. Друг у меня есть, Садовский — может, слыхали? Мы не один год в Куйбышеве вместе работали; вот он и приезжал. Большой души, доложу вам, человек и великого благородства. Обидно, что жизнь с ним так неласково обошлась.
— Что, — участливо спросил Андрей, — беда какая случилась?
— Беда? Можно сказать и так. С женой у него… Ушла она, бросила Валериана. Тяжко ему. Э, да что об этом говорить… — Проскурин горестно махнул рукой.
Чувствуя, что беседовать на эту тему Проскурин не расположен, Миронов не стал настаивать. Он вернулся к разговору о рыбалке.
— Значит, говорите, Садовский рыбачить приезжал? Небось ранней весной, в половодье? Нет лучше времени!
— Да-а, — мечтательно протянул Проскурин, — в половодье хорошо! Только Валериан приезжал не ранней весной, попозже, в конце мая. Даже точно скажу — двадцать шестого мая. День рождения у меня, понимаете? Вот он и приезжал. Посидели мы вечерком, отвели душу, а наутро он и укатил… Так-то!
Миронов на мгновение задумался: значит, Садовский уехал из Ставрополя двадцать седьмого мая, но куда? Где он находился в день отъезда Величко из Крайска? Может, Проскурин даст ответ на этот вопрос?
— Что ж, — безразличным тоном заметил Миронов, — выходит, ваш товарищ приехал в такие благословенные места и, пробыв сутки, так и вернулся в Куйбышев, даже не порыбачив? Зря!..
— Чего не скажу, того не скажу, — возразил Проскурин. — Может, и рыбачил. Валериан в Куйбышев не сразу вернулся, он еще к Захарьичу заехать хотел, по лесу денек-другой побродить. Он это любит…
— К Захарьичу? — не понял Андрей.
Проскурин снисходительно усмехнулся:
— Сразу видно, что вы из приезжих. У нас Захарьича не то что в Ставрополе, но почти весь Куйбышев знает. Знаменитый старик! Далеко за семьдесят, а любого молодого за пояс заткнет. Лесничим он работает тут, невдалеке. Ну, и рыбак, и охотник отменный. Такие места знает!.. К нему в сезон чуть не все куйбышевское начальство съезжается. А с Валерианой они старинные друзья…
— Василий Митрофанович, будьте человеком, — загорелся Миронов, — порекомендуйте меня Захарьичу, скажите, как его разыскать? Вот бы денек-другой порыбачить. Люблю!
Не то чтобы Андрей был заядлым рыбаком, хотя изредка в компании и ездил на рыбалку, случалось, но Захарьич был ему нужен, чтобы окончательно уточнить, где был Садовский двадцать седьмого, двадцать восьмого, двадцать девятого мая, встречался ли он в эти дни с так называемой Величко. Ради этого не жалко было пожертвовать не то что днем или двумя, а если потребуется, хоть неделей.
Недели, однако, не потребовалось. Прорыбачив с Захарьичем день и переночевав в его лесной избушке, Андрей выяснил все, что требовалось. Со слов Захарьича, которого Миронов без труда навел на разговор о Садовском, Андрей узнал, что Валериан Сергеевич приехал к старому леснику прямо от Проскурина, следующим утром после дня рождения Василия Митрофановича, и прожил неделю безвыездно. Все это время они провели вместе, вдвоем, никто больше не появлялся. Следовательно, со своей бывшей женой Валериан Сергеевич в эти дни не встречался и к ее исчезновению из Крайска причастен не был.
Последние колебания у Миронова исчезли, и в Куйбышев он вернулся, окончательно утвердившись в том, что разговаривать с Садовским можно и сделать это надо безотлагательно. В тот же вечер Андрей пригласил Валериана Сергеевича.
Беседа с Садовским не обманула ожиданий Миронова. Сдержанно, спокойно, без всякого выражения рассказывал Валериан Сергеевич об Ольге, об их отношениях. Нет-нет, а при упоминании об Ольге у Садовского прорывались нотки глубокой горечи, неизжитой обиды и тоски, но он тут же спохватывался и снова глухо и неторопливо продолжал свое повествование. Да, судя по тому, как он рассказывал, могло показаться, что все в нем перегорело. И все же рассказ Садовского с первых же минут захватил Андрея, захватил целиком.
Вопросы Миронов задавал спокойно, неторопливо, с самым невозмутимым видом, ничем не выдавая своего волнения, а взволноваться было от чего.
Валериан Сергеевич начал с истории своего знакомства с Ольгой в семье профессора Навроцкого, в первые годы войны. Туман, который висел над прошлым мнимой Величко, стал рассеиваться. Андрей не спешил, не торопил Садовского, хотя ему и не терпелось узнать, как воспитанница Навроцкого получила вдруг фамилию Величко. Садовский же, рассказывая об Ольге, об ее прошлом, фамилию ее не называл.
Когда Валериан Сергеевич перешел к появлению Ольги в Куйбышеве после возвращения из плена, волнение Андрея Ивановича возросло. Значит, она была в плену? У немцев, а потом, по-видимому, у американцев (ведь вернулась она спустя два года после окончания войны из лагерей для перемещенных лиц)? Это было новостью, и новостью важнейшей. «Вот откуда, — мгновенно мелькнула у Андрея мысль, — стала она Величко, если только тут нет совпадения».
— Простите, — безразлично вставил наконец так волновавший его вопрос Миронов, — а почему, выйдя за вас замуж, Ольга Николаевна не приняла вашу фамилию?
— Почему? — переспросил Садовский. — Сказать по совести, меня никогда не интересовал и не волновал вопрос, какую фамилию носит моя жена, но у Ольги были свои соображения, по которым она не хотела менять свою фамилию на мою.
— Что за соображения?
— Фамилия Величко была ей дорога, и она никакие хотела ее менять.
— Величко? — задал вопрос Миронов. — Это ее девичья фамилия?
— Нет, что вы, — как и прежде, бесстрастным тоном ответил Садовский. — Фамилия Ольги — Корнильева. Величко она стала на фронте. Ольга ведь была радисткой. В партизанском отряде. Дело, как вы понимаете, секретное. Ну, из соображений конспирации, как она говорила, ей и пришлось изменить фамилию. Фамилия эта была ей дорога как память фронтовых лет, поэтому Ольга и не хотела ее менять.
Дальнейший рассказ Садовского был менее интересен: почти все, что он сообщил, в частности о злосчастной поездке в Сочи и уходе от него Ольги, а также о своей поездке в Крайск, было уже известно Миронову. О судьбе Ольги после их последней встречи Садовский ничего не знал. Правда, кое-что в его рассказе об обстоятельствах ухода от него Ольги заинтересовало Миронова. Вернее, заинтересовал не сам рассказ, а те противоречия, которые Андрей заметил в словах Валериана Сергеевича и Черняева. Так, например, Черняев говорил, что «роман» с Ольгой длился у него в Сочи около двух недель, по словам же Садовского получалось, что Ольга ушла от него к Черняеву через день после знакомства с ним. А беседка на берегу моря, лунная ночь, пощечина? Ни о чем похожем в рассказе Валериана Сергеевича не было и речи. Имелись и другие расхождения между тем, что говорил Садовский, и рассказом Черняева. Кто же из двоих грешит против истины? Садовский? Зачем? Тогда — Черняев? А он с какой стати? Но сейчас не это было главным, хотя и с этим со временем предстояло разобраться.
Выслушав в тот же вечер по телефону доклад Миронова, генерал Васильев спросил:
— Значит, говорите, Садовский сказал, что его бывшая жена находилась одно время в лагерях невдалеке от Энска? Весьма любопытно… — Генерал на минуту умолк. — Кстати, Андрей Иванович, ведь этот самый «кузен» Корнильевой — как его? Рыжиков? — тоже, если я не запамятовал, из Энска. Вы об этом совпадении не задумывались?
— Как же, товарищ генерал, думал. Не исключено, что в свете новых данных следы Корнильевой надо поискать именно там, в Энске. Может, лучше бы выехать туда мне самому?..
— Пожалуй, — согласился генерал. — Поезжайте. Только сначала побывайте в Крайске, проверьте, что там делается, а затем — в Энск. Что же касается Корнильевой — такова, кажется, ее подлинная фамилия? — так мы организуем тщательную проверку. Результаты вам сообщим. Да, кстати, давно пора поинтересоваться теткой Корнильевой, Навроцкой, да как следует, поосновательнее. Не там ли скрывается Корнильева? Как вы думаете, не направить ли в Воронеж Луганова, а? Согласны?
Глава 7
Вернувшись из Куйбышева, Миронов вызвал младшего лейтенанта Савельева. Андрею не терпелось узнать, не выяснил ли тот чего-нибудь нового о Черняеве, о людях, которые окружали инженер-подполковника, с которым тот был близок.
Ничего интересного, однако, Савельев доложить не мог. Вот уже третью неделю, как он не спускал глаз е Черняева, а все без толку. Все было тихо и мирно. Где те трудности, о преодолении которых мечтал младший лейтенант Савельев? Не было ничего даже отдаленно напоминающего опасность, ничего романтического в будничном тяжком труде молодого чекистка Савельева. Черняев вел себя спокойно, скромно. Ни с кем вне работы не встречался. По вечерам сидел дома, либо одиноко бродил по городу, выбирая глухие, окраинные улицы и переулки, избегая людей. Ровно ничего примечательного, ничего настораживающего Савельев не обнаружил. Так он и доложил Миронову.
— Ничего не попишешь, — сказал майор. — И так бывает. Может, возле Черняева и нет никакой грязи. Работу, однако, продолжайте. Окончательные выводы делать рано.
После ухода Савельева Миронов встретился с Лугановым. Он передал ему указания генерала, и они обсудили план предстоящей поездки Луганова в Воронеж, к тетке Корнильевой. Андрей сообщил ему, что сам он отправляется в Энск.
Полковник Скворецкий высказал свое недовольство, когда Миронов и Луганов доложили ему свои планы. «Здорово, — говорил он, — у вас получается. То один укатил в Ленинград, то другой в Куйбышев, а теперь оба удираете. Кто же тут без вас будет заниматься делами этого самого розыска, координировать всю работу? Мне, старику, что ли, прикажете?»
Ворчал полковник, однако, больше для вида, а в конце беседы заверил Миронова и Луганова, что на время их отсутствия сам будет контролировать ход дела.
Пока Андрей, готовясь к поездке в Энск, вновь и вновь просматривал скудные материалы о Рыжикове и его встречах с мнимой Величко, из Москвы пришла справка на Корнильеву.
В справке содержались сведения как о ней самой, так и о ее родителях. Оказалось, что отец Корнильевой вырос в семье крупного помещика, был в прошлом офицером одного из привилегированных гвардейских полков царской армии. В первые годы гражданской войны Корнильев сражался в рядах белой армии против советской власти. Осенью 1919 года, после провала деникинского наступления на Москву, Корнильев, будучи раненным, застрял под Курском, где жила его жена.
Явившись в конце гражданской войны в местные органы советской власти с повинной, Корнильев был прощен. До 1929 года работал там же в Курске, в Губземотделе, а в 1929 году был арестован. Как выяснилось, он был связан с контрреволюционными заговорщиками из числа бывших белогвардейцев. В тюрьме, заболев воспалением легких, Корнильев умер.
Вскоре умерла и мать Ольги. Девочке в то время не исполнилось и шести лет.
Вместе с братом, который был старше ее на пять лет, Ольга очутилась в детском доме, но пробыла там недолго. Ее удочерил профессор Навроцкий, жена которого была родной сестрой матери Ольги Корнильевой.
Георгий, брат Ольги, уйти из детдома отказался, что с ним сталось дальше, в справке не указывалось.
Судя по справке, Ольга Корнильева осенью 1942 года, окончив среднюю школу, после ряда настойчивых просьб была зачислена в специальную радиошколу. Закончив с отличием ускоренный курс, она была сброшена с парашютом в тылу немецких войск, в расположение одного из партизанских соединений. За время пребывания в соединении характеризовалась только положительно.
В одном из боев летом 1943 года Корнильева была ранена и захвачена в плен. Сначала находилась в гитлеровском концлагере в районе Энска, где вела себя достойно, как советский человек. Затем вместе с другими пленниками Ольга была вывезена в Германию. На этом след Корнильевой терялся: она значилась пропавшей без вести. Никакого ответа на вопрос, как и почему Ольга Корнильева превратилась в Величко, справка не содержала.
Внимательно прочитав справку, Миронов задумался. Конечно, происхождение Корнильевой, судьба ее родителей несколько настораживали, но ведь сама Ольга росла, воспитывалась в советской семье, среди советских людей. А самый факт и обстоятельства ее ухода на фронт, ее поведение в партизанском отряде, в лагерях, наконец, — разве не говорили сами за себя?
Да, но — Величко! Почему Величко? Зачем, с какой целью взяла она эту фамилию? Садовскому, во всяком случае, она лгала, утверждая, будто фамилию Величко ей дали во время пребывания в партизанском отряде, «по соображениям конспирации». Лгала, по-видимому, неспроста. А записка, опять все тот же злосчастный клочок бумаги? Что значила эта записка?
Сколько этих «зачем» и «почему» подстерегают чекиста на его трудном пути к раскрытию тайны! Андрей привык к этому, и все же сейчас он испытывал чувство какой-то неудовлетворенности. С каждым днем, с каждым вновь добытым фактом таинственная история Ольги Николаевны Корнильевой-Величко-Черняевой не только не прояснялась, но становилась все сложнее, все запутаннее. Значит, работать и работать…
Следующим утром Миронов выехал в Энск, а Луганов — в Воронеж.
По прибытии в Воронеж Луганов быстро отыскал вдову профессора Навроцкого. Мария Семеновна Навроцкая сдавала иногда временным жильцам внаем одну-две комнаты своей обширной квартиры. Одна из таких комнат как раз пустовала. Василий Николаевич не замедлил этим воспользоваться. Явившись к Навроцкой, он заявил, что приехал в Воронеж на время, в командировку, а тут услышал, что Мария Семеновна сдает комнаты, ну и решил воспользоваться ее любезностью. Как, не отвергнет она одинокого странника? В гостинице-то ведь дороговато, да и с номерами трудно…
Навроцкая выслушала Луганова молча, церемонно поджав губы. Когда Василий Николаевич кончил, она заметила, что вообще-то комнат не сдает, разве кому из знакомых, но уж если такой случай… Разве что в виде исключения? На том, к обоюдному удовольствию, они и порешили.
Прошел день-два, и у Василия Николаевича установились самые дружеские отношения с суровой по виду, но в общем-то очень милой и простоватой теткой Ольги Корнильевой.
Скромность Луганова, дань восхищения, которую он искренне отдавал имени профессора Навроцкого (который, кстати, вполне того заслуживал), пришлись Марии Семеновне как нельзя по душе. Она быстро усвоила снисходительно-поощрительный тон в отношении конфузливого «командировочного», начала приглашать его разделить с ней вечерами чашечку чая и часами готова была рассказывать, рассказывать, рассказывать… Причем получалось как-то так, что о профессоре она говорила мало, о его работе, трудах не упоминала вовсе (да и знала ли она эти труды?), зато без конца предавалась воспоминаниям о своем прошлом, о прожитых годах, о своих многочисленных родственниках.
Однако о сестре — матери Ольги Николаевны Корнильевой, о ее семье, о самой Ольге Навроцкая поначалу не упоминала. По-видимому, просто не приходилось к слову. Между тем именно это, и только это интересовало Луганова.
Василий Николаевич решил ускорить события, попытаться навести разговор на интересующий его предмет, а тут вскоре и случай представился. Сидя как-то вечером у Марии Семеновны, Луганов небрежно перелистывал толстенный, в кожаном переплете альбом семейных фотографий Навроцких. Рассеянно скользя взглядом по изрядно надоевшим фотографиям, Василий Николаевич внезапно насторожился: на одном из снимков был изображен статный молодой офицер в мундире свиты его величества. Рядом сидела хрупкая миловидная женщина, чем-то напоминавшая, хотя и отдаленно, Марию Семеновну Навроцкую. И как он раньше не обратил внимание на этот снимок?
— Позвольте, позвольте! — воскликнул Луганов, кладя перед Марией Семеновной раскрытый альбом. — Неужели это вы? Но как вы тут выглядите! Наверное, снимались после тяжкой болезни, не так ли?
— Что вы! — горестно воскликнула Навроцкая. — Это не я. Я никогда не была такой слабенькой. Это — Катрин. Сестра. Бедняжка часто болела. Она умерла совсем молоденькой, и тридцати двух лет не было…
Мария Семеновна разговорилась. Вспоминая «бедную Катрин», она всячески старалась подчеркнуть, насколько была привязана к младшей сестре, и все же в ее рассказе нет-нет, а прорывались нотки, свидетельствовавшие о том, что наряду с привязанностью было и что-то другое: порой зависть, порой порицание, а пуще всего сознание собственного превосходства и этакого снисходительного сожаления. Но любить младшую сестру Навроцкая, в общем, любила. Это Василий Николаевич понял. К дочери же ее, Ольге, была глубоко и искренне привязана. Тут места для сомнений не было.
Причину некоторой двойственности в отношении Навроцкой к младшей сестре Луганов понял быстро: уж слишком по-разному сложились судьбы обеих сестер, и если одну из них судьба поначалу баловала, к другой же была мало благосклонна, то потом все изменилось, и изменилось круто.
…Катрин, по словам Марии Семеновны, была очень хороша собой и имела шумный успех «в свете». Она рано вышла замуж, сделав «блестящую партию». Муж Катрин был офицером, сыном крупных помещиков, человеком состоятельным.
Судьба Навроцкой сложилась иначе. Долгое время никто не обращал на нее внимания, не добивался ее руки. Профессор, который тогда был начинающим врачом, случайно встретил Марию Семеновну на одном из модных курортов и вскоре предложил ей руку и сердце. Мария Семеновна ухватилась за представившуюся возможность и стала женой Навроцкого. Нельзя сказать, чтобы, выходя замуж, она уж слишком страстно любила мужа, но привязаться к нему она привязалась искренне, и жизнь свою они прожили согласно.
Было время, когда она завидовала Катрин, ее успеху, положению. Но как повернулась жизнь! Блестящий гвардеец, богач превратился в нищего, мелкого служащего, а его молоденькая избалованная жена стала влачить жалкое существование. Зато ее, Марии Семеновны, муж делал головокружительную «карьеру». Известный врач в городе, потом главный врач клиники, профессор, доктор наук…
Подстрекаемая вопросами Луганова, Навроцкая рассказала и о детях Корнильевых, о своих племяннике и племяннице. Георгий, племянник, тот гордый, в отца пошел. После смерти матери забрал сестренку и пошел в детский дом, а мальчишке и одиннадцати не было! Ну, Оленьку-то (так звали дочку Катрин) Мария Семеновна с профессором забрали к себе, благо своих детей у них не было. Удочерили девочку. Как же иначе? Так Оленька и росла в их семье, как родная дочь. Хорошая девочка!..
Георгий? С тем сложнее. Георгия они тоже хотели взять к себе, но тот наотрез отказался; так и остался в детском доме. Ничего, однако, стал человеком. Воевал. Институт кончил. Теперь на научной работе. Геолог, что ли, или археолог. Только, заявила Навроцкая, мы с ним чужие. Напишет он раз в два-три года, редко когда чаще, и все. И она, Мария Семеновна, ему почти не пишет. Не о чем. И поселился-то где-то у черта на куличках — в Алма-Ате! Ведь это подумать только!
— А что с Оленькой? — не без волнения спросил Луганов. — Как у нее жизнь сложилась?
Навроцкая тяжело, часто задышала и приложила к глазам платочек:
— Что вам сказать, Василий Николаевич? Незадачливая у нас Оленька, несчастная. Не заладилась у нее жизнь, ой не заладилась…
— Но почему же? В вашей семье, у вас? Нет, нет, не понимаю! Отказываюсь понимать! — горячо произнес Луганов, подбивая Навроцкую на дальнейший рассказ.
— Видите ли, — чуть подумав, заговорила Мария Семеновна, — трудно сказать, как воспитывала свою дочку Катрин, но, когда Оленька попала в нашу семью, это была… был… Как бы вам объяснить? Ну, одним словом, enfant terrible — ужасный ребенок. (Навроцкая употребляла время от времени французские выражения.) Своевольная, взбалмошная, но в то же время очень добрая, просто очаровательная девочка. Такой она и росла — мила, ласкова, умна, послушна, а то вдруг такое выкинет, что диву даешься. Вы знаете, — Навроцкая вдруг понизила голос до таинственного шепота, — что Оленька устроила незадолго до начала войны? Ужас! Ужас! Только уговор, Василий Николаевич, никому ни слова, строго entre nous. Vous comprenez? Так вот, Ольга вступила в какое-то общество, что ли. Тайное. Что они замышляли, толком не знаю, но что-то нехорошее. Раскрылось это случайно: прибирала я однажды Оленькин стол, смотрю — бумага. Какая-то странная — клятва. «Я, мол, такой-то и такой-то, клянусь в верности старшему наставнику», ну и всякое прочее. Очень это на старые, дореволюционные скаутские штучки смахивало. «Старший наставник»! Ишь ты! Я как прочитала — так к мужу. А Оленька очень любила профессора, уважала…
Когда Оленька пришла, заперлись мы втроем в столовой — и бумагу эту на стол. Оленька поначалу было запиралась, а потом призналась во всем. Собиралось их, оказывается, несколько человек школьников, всё больше те, чьи родители были дворянами, ну и решили мстить властям. Устроил эту штуку Марковский. Серж Марковский. Вы не слышали такую фамилию? Впрочем, откуда…
Марковские, — продолжала Навроцкая, — это в прошлом крупнейшие воронежские помещики. После революции, году этак в двадцать пятом — двадцать шестом, всей семьей выехали за границу. Кажется, во Францию или в Германию. Впрочем, это неважно. Мальчик же их тут остался. Почему остался, как жил, у кого жил — не скажу. Не знаю. Только незадолго перед войной появился этот Марковский в нашей семье.
Начал он ухаживать за Оленькой, а та и рада. Было ей тогда лет шестнадцать, а тут роман с таким взрослым юношей. Ему-то уже за двадцать было. Оленьке, конечно, лестно.
Не нравилось нам с профессором все это очень, а что поделаешь? Надо сказать, человек-то он, этот Марковский, был нехороший: лживый, жестокий, властный.
Вот Марковский и был «старшим наставником». Оленька нам в тот вечер все выложила. Как оказалось, Марковский крутился среди школьников и кое-кого из них подбивал вступить в это самое «общество», которое намеревался создать. Не с хорошими, вы понимаете, целями. А девушек и совратить старался, соблазнить. Нет, каков негодяй?!
Ну, мы с профессором, — продолжала Навроцкая, — услышав ее рассказ, все поняли и за голову схватились. Оленьке и в ум не шло, что от нее нужно Марковскому, почти девочка же еще, а нам понятно. Тут еще это «общество». Что делать?
На наше счастье, приехал тут Жорж, Оленькин брат. Погостить. Юноша он был серьезный, не по годам рассудительный, решительный. Мы, конечно, все ему и выложили. Страшно он рассердился, Ольгу изругал, а сам хотел о Марковском сообщить куда следует. Только не потребовалось: тот сгинул. Как сквозь землю провалился. Видно, что-то пронюхал. Потом слух был, будто он за границу удрал, к родителям. Как он в эти годы умудрился за границу выбраться, ума не приложу. Впрочем, кто его знает?!
А Оленька многое поняла, за ум взялась. Учиться лучше стала, повзрослела девочка. Тут — война. Года не прошло, стала Оленька на фронт проситься: настойчиво, решительно. И добилась-таки своего — пошла воевать. Ушла на фронт и пропала. Мы и не чаяли, что она жива. Профессор так и умер, не дождавшись. Объявилась Ольга какое-то время спустя после окончания войны, и не здесь, не в Воронеже, а в Куйбышеве, где мы в эвакуации жили, откуда она на фронт ушла. Там, в Куйбышеве, замуж вышла. За ученика профессора — Валериана Сергеевича Садовского. Хороший человек, но годами Оленьки старше, много старше. Может, поэтому, но только и тут у нее не заладилось. Бросила она мужа. Разошлись…
— Да-а-а… — сочувственно протянул Луганов. — Не судьба, значит, не судьба!.. Скажите, любезнейшая Мария Семеновна, неужели за все эти годы, после войны, Ольга так ни разу у вас и не побывала, не навестила?
— Что вы, Василий Николаевич, что вы! Как вы могли такое подумать? Наезжала, конечно, голубка моя, наезжала. Не часто, но бывала. Как сейчас помню, приехала она последний раз года два — два с половиной назад, как раз когда Валериана Сергеевича, мужа, оставила. Плакала тогда все, горько так. Я ее спрашиваю: «Ну что ты убиваешься? Жалко тебе мужа, так не бросай его, ведь он-то тебя как любит!» А она и говорит: «Ах, тетя, тетя, ничего-то вы не знаете, ничего не понимаете». А что знать? Что тут понимать?
Уговаривала я ее в тот раз вещицы кое-какие нарядные, украшения, драгоценности, что от Катрин остались, с собой взять — так отказалась. Я кое-что потихоньку к ней в чемодан сунула перед ее отъездом. Потом она мне писала, благодарила. Ну, а как поселилась в Крайске с новым мужем, совсем писать бросила. Не сладко, видно, моей Оленьке, ой не сладко!.. Сердцем чую…
Мария Семеновна умолкла, задумалась. Луганов сидел не шелохнувшись, чуть дыша, ожидая, не скажет ли она еще чего-нибудь, не раскроет ли тайну местопребывания Ольги Корнильевой. Но Навроцкая молчала. Потом слабо, словно через силу улыбнулась и тихо сказала:
— Вы уж извините, Василий Николаевич, заболталась я, а вам все это и вовсе не интересно.
— Что вы! — горячо, с неподдельной искренностью воскликнул Луганов. — Как так — не интересно?! Все это так трогательно!..
Луганов с минуту помолчал, потом осторожно, вежливо спросил:
— А где же она теперь, ваша племянница?
— Как — где? — удивилась Навроцкая. — Я же вам говорю: в Крайске. В Крайске — где же ей еще быть?
…Утром следующего дня Луганов был в областном управлении КГБ. По его просьбе перевернули все архивы, но никаких материалов о Марковском не обнаружили, если не считать куцей справки, в которой упоминалась семья крупного в прошлом воронежского помещика Марковского, выехавшая в двадцатые годы за границу. Ничего больше в этой справке не указывалось: не было и намека на то, куда именно выехали Марковские, что с ними сталось, где находился и находится Серж Марковский. Об Ольге же Корнильевой или о каком-либо «тайном обществе», как говорила Навроцкая, в местных архивах и вовсе ничего не имелось.
Закончив проверку, Луганов так и остался в неведении, существовало ли в природе «общество», таков ли был в действительности Марковский, этот «старший наставник», каким он рисовался не очень искушенной в жизни пожилой женщине? Была ли, наконец, связь между всем этим и превращением Ольги Корнильевой в Величко, связь с таинственной запиской, что была обнаружена за подкладкой куртки.
Делать в Воронеже было больше нечего, и Луганов спустя сутки вылетел в Крайск. Что ни говори, а кое-какие результаты поездка дала: как ни неопределенны и расплывчаты были данные о прошлом Ольги, все-таки они были получены, уж не говоря о том, что одна из загадок в этом таинственном деле была разгадана, — секрет появления у Корнильевой старинных украшений был раскрыт. Да, поездка прошла не зря… Что-то в Крайске? А в Крайске Василия Николаевича поджидали неприятности, да такие серьезные, что и предвидеть было никак нельзя. Тем более серьезные, что Миронова на месте не было — он еще не вернулся из Энска, и вся тяжесть случившегося обрушилась целиком на Луганова….
Глава 8
В то время как Луганов находился в Воронеже, мирно беседовал с Навроцкой и копался в архивах, Миронов в Энске искал Корнильеву. Теперь, когда было выяснено, что ни в Куйбышеве, ни в Воронеже Корнильевой нет, а от версии с Кисловодском не осталось и следа, единственная из оставшихся в руках следствия нитей вела в Энск, к Рыжикову. Нить эта казалась тем более прочной, что в немецких лагерях Корнильева находилась именно здесь, в районе Энска. Да и Рыжиков, характер его отношений с Корнильевой выглядели весьма подозрительно. Настороженность Андрея усилилась, когда, поработав день-другой в Энске, он получил о Рыжикове более полное представление, нежели имел раньше. Правда, к облегчению Миронова, выяснилось, что работал Рыжиков не на одном из секретных заводов под Энском, а в самом Энске, на радиозаводе.
Сразу после приезда в Энск Андрей отправился на радиозавод, где, как он узнал, работал Рыжиков. Побывав в парткоме, в отделе кадров завода, побеседовав с людьми, хорошо его знавшими, Миронов выяснил, что инженер Рыжиков живет и работает в Энске не один год, но ничем особо положительным себя не зарекомендовал. Скорее наоборот: Рыжиков был хитер, не особо добросовестен, в коллективе держался особняком, тяготел к «западному образу жизни». Короче говоря, большинство отзывов были отрицательные. Но это еще было полбеды. Андрея больше насторожило другое: как удалось ему выяснить, никаких двоюродных сестер у Рыжикова не было. Следовательно, выдавая Рыжикова за своего двоюродного брата, Корнильева лгала. В который раз лгала…
Далее: из полученной Мироновым справки явствовало, что инженер Рыжиков никакой командировки в Крайск ни от кого не получал да и вообще направлялся в командировки крайне редко. Однако, проживая в крайской гостинице, Рыжиков предъявлял командировочное удостоверение, выданное заводом. Следовательно, и тут было что-то не чисто.
Прежде чем предпринимать какие-либо решительные шаги, к Рыжикову следовало присмотреться, и присмотреться попристальнее.
Не прошло и нескольких суток, как правильность принятого Мироновым решения подтвердилась: выяснилось нечто весьма любопытное. В один из вечеров у Рыжикова состоялась встреча, носившая, судя по всему, конспиративный характер. Рыжиков, выйдя после окончания работы с завода, направился в порт. Он бродил возле одного из пакгаузов, словно кого-то поджидая. Действительно, вскоре показался человек, который подошел прямо к нему, и минут пятнадцать — двадцать они прогуливались возле причалов, о чем-то беседуя вполголоса.
Вели они себя подозрительно: встретились — не поздоровались, разошлись — не попрощались, причем Рыжиков что-то передал своему собеседнику. Во время разговора то один, то другой то и дело оглядывались по сторонам, словно проверяя, не следит ли кто за ними.
Как удалось установить, собеседником Рыжикова был некто Лаптин, работавший в радиомастерских, расположенных на территории порта.
Результаты проверки Лаптина придали этой странной встрече еще больший интерес. Лаптин — пожилой человек, был опытным мастером-радистом. В период немецкой оккупации он не прекращал работы в радиомастерских, фактическим хозяином которых была в то время гитлеровская военно-морская разведка.
Миронов решил просмотреть архивы, относящиеся к деятельности германской военно-морской разведки в районе Энска в период фашистской оккупации, и, как оказалось, не зря. В одной из старых папок он обнаружил заявление, которое было подано в органы госбезопасности еще в последний год войны, но так и осталось нерасследованным.
Автор заявления, комсомолец, писал, что по ордеру городского Совета его вселили в комнату, пустовавшую после какого-то немецкого прихвостня, сбежавшего с фашистами. Знакомясь со своим жилищем, он неожиданно обнаружил замаскированную нишу, нечто вроде тайника, чуть не доверху набитую антисоветскими листовками, отпечатанными типографским способом. Судя по тексту, было ясно, что листовки печатались незадолго до поражения фашистской Германии. Отсюда автор заявления делал справедливый вывод, что мог оборудовать тайник и наполнить его листовками только тот, кто занимал комнату непосредственно перед изгнанием фашистских захватчиков из Энска.
Военная контрразведка, получившая заявление, выяснила, что ранее в этой комнате проживал некий Шуранов, сотрудник фашистской военно-морской разведки, который бежал с немцами. Имелась справка, что единственным родственником Шуранова, проживающим в Энске, является его дядя — Лаптин, мастер портовых радиомастерских. Больше в деле ничего не было.
Поскольку следов Шуранова обнаружить не удалось, а в отношении Лаптина никаких материалов не имелось, дело было сдано в архив, где и лежало без движения.
Изъяв из дела экземпляр антисоветской листовки, приложенной к заявлению, Миронов попытался выяснить, где и кем она печаталась. При помощи сотрудников Энского областного управления КГБ это удалось сделать. Тщательно изучив множество шрифтов, чекисты пришли к выводу, что листовки печатались в одной небольшой частной типографии, существующей и поныне. Правда, теперь она стала кооперативной, но бывший владелец продолжал в ней работать в качестве мастера.
Связавшись по телефону с Москвой, Миронов доложил генералу Васильеву полученные данные.
— Полагаю, — закончил Андрей свой доклад, — что линия Рыжиков — Лаптин — Шуранов заслуживает внимания, однако мне не хотелось бы на это отвлекаться. Мое дело — Корнильева, и только в этом плане — Рыжиков…
— Что же, — согласился генерал, — правильно. От розыска Корнильевой вам отвлекаться не следует, а линией Шуранов — Лаптин займутся местные товарищи. Кстати, можно подключить им в помощь, если потребуется, Елистратова. Он как раз сейчас в Энске, но свои дела по командировке вот-вот закончит.
…Следователь центрального аппарата КГБ Елистратов появился у Миронова следующим утром. Это был худощавый подвижной блондин, чуть выше среднего роста, лет сорока с небольшим. Длинные густые волосы Елистратов зачесывал назад, оставляя открытым высокий узковатый лоб. Серые глаза Елистратова смотрели на собеседника пристально, нагловато.
Бесцеремонно расположившись за столом Миронова, Елистратов быстро листал материал дела Шуранова — Лаптина. Изредка он бросал короткие, отрывистые фразы:
— Вот мерзавец, старый мерзавец… Предатель… Вражина…
Миронов, пока Елистратов знакомился с делом, сдержанно молчал.
Кончив листать дело, Елистратов с шумом захлопнул папку и повернулся к Миронову:
— Как, Андрей Иванович, какие предложения?
Миронов пожал плечами:
— Сказать по совести, у меня определенного плана нет. Меня ведь интересует не столько Лаптин или Шуранов, сколько Рыжиков, вернее, связь Рыжикова с Корнильевой, ее местонахождение. В этом направлении я и намерен поработать…
— «Поработать, поработать»! — презрительно искривил тонкие губы Елистратов. — И долго ты намерен «работать»? Я бы, например, с этим старым вражиной не чикался…
— Позволь, Николай Иванович, позволь, — сдерживая себя, возразил Миронов. — Так уж сразу и вражина? А ты убежден, что Лаптин — вражина? Это — не Шуранов. Ведь прямых доказательств вины Лаптина нету…
— Да, убежден, — отрезал Елистратов. — А доказательства? Будут и доказательства. Их надо искать, они с неба не падают. На то и следствие, чтобы находить доказательства.
Миронов задумался. На память пришло давнее столкновение с Елистратовым, что случилось еще в начале пятидесятых годов. Министром государственной безопасности был в то время разоблаченный впоследствии Абакумов. Андрей тогда только что пришел на работу в центральный аппарат МГБ. На одном из оперативных совещаний он выступил и заявил, что считает глубоко ошибочным чрезмерное увлечение некоторых работников органов следствием. По убеждению Миронова, допрос арестованного не может и не должен играть решающей, определяющей роли в установлении чьей-либо виновности. Решающая роль, говорил Миронов, принадлежит предварительному расследованию, тщательному изучению всех фактов и обстоятельств, в ходе которого только и могут быть добыты неопровержимые доказательства виновности того или иного лица. Не проведя досконально предварительного расследования, полагаясь лишь на показания арестованного или свидетелей, решать, как правило, вопроса об аресте нельзя…
Так утверждал тогда Миронов, но и досталось же ему на орехи! Досталось кое от кого из тогдашних руководителей МГБ, но пуще всего от Елистратова, который в те годы был в фаворе. В чем только не обвинил он Миронова: и в попытке опорочить следствие, подорвать его значение, и в непонимании основ чекистской работы, одним словом, во всех и всяческих смертных грехах.
Туго бы пришлось Андрею, если бы не его молодость. Вот за молодостью-то, за отсутствием чекистского опыта и простили тогда Миронову его «ошибку». Простить-то простили, но ни в чем не убедили. Андрей остался при своем мнении. В то же время он убедился, что далеко не один является сторонником высказанной им точки зрения.
…Вскоре в органах государственной безопасности произошли коренные перемены. С разоблачением преступных дел Берия, с началом пересмотра и исправления ошибок и наслоений прошлого вся деятельность органов государственной безопасности была поставлена под неослабный контроль партии, социалистическая законность была восстановлена. Изменилось и отношение к следствию. Миронов окончательно убедился, что позиция тех, кто придерживался таких же, как и он, взглядов, была единственно правильной.
А Елистратов? Елистратов перестроился одним из первых. Он громче всех кричал на каждом собрании, всюду и везде осуждал собственные прошлые заблуждения, правда виня в них как-то не столько себя, сколько прежнее руководство органов. С Мироновым Елистратов заговаривал теперь не раз, не раз вспоминал минувшее столкновение, не скупясь на критику собственных «ошибок». Все эти годы Миронову казалось, что Елистратов искренен в осуждении стиля и методов работы, практиковавшихся в прошлом, но вот теперь?..
А что, собственно говоря, теперь? Елистратов, конечно, погорячился, сболтнул глупость, но ничего предосудительного пока не сделал. Может, он, Андрей, памятуя старое, давно прошедшее, слишком к нему придирчив? Так-то оно так, но присмотреться к Елистратову надо, ведь последние годы они редко сталкивались по работе…
— Вот что, Николай Иванович, — сказал Миронов, — давай условимся: ты занимайся Лаптиным, ищи Шуранова, только не дури. Я же буду искать Корнильеву и в этом плане работать над Рыжиковым. Друг друга будем держать в курсе дела. Условились?
Елистратов молча пожал плечами и вышел из комнаты, хлопнув дверью.
На следующий день, пораньше утром, Елистратов совместно с одним из оперработников Энского областного управления КГБ вызвал на допрос бывшего владельца типографии, в которой печатались листовки, найденные в тайнике. Едва посмотрев на листовку, тот сразу подтвердил, что печаталась она у него, и принялся клятвенно заверять следователей, что он тут ни при чем, что иначе поступить он тогда не мог. Ведь это было при немцах!..
— Да вас никто и не винит! — резко оборвал вконец растерявшегося старика Елистратов. — Вы скажите-ка лучше, кто вам дал заказ на печатание этой мерзости?
Старик вспоминал с трудом. Кажется, говорил он, это был какой-то пожилой, прилично одетый господин. Но утверждать он не может… Слишком много прошло времени.
— Пожилой, говорите? — уточнил Елистратов.
Владелец типографии явно затруднялся дать ответ.
— Да что вы крутите, — повысил голос Елистратов, — говорите прямо: подтверждаете, что вы минуту назад показали, будто это был пожилой человек, или отказываетесь?
Как видно, само слово «показания» произвели на владельца типографии магическое действие.
— Подтверждаю, подтверждаю, — засуетился старик, — ваша правда, конечно же, пожилой…
— Он? — воскликнул Елистратов, выхватив из стола фотографию Лаптина и придвигая ее к самым глазам владельца типографии. — Он? Узнаёте?
Старик вновь заколебался:
— Не могу знать, господин следователь…
— Какой я вам господин! — оборвал его Елистратов. — Забыли, в какое время живете, где находитесь?
— Виноват, господин товарищ, виноват. — У старика от страха заплетался язык. — Только как же я могу узнать, сами посудите. Столько лет прошло… Вроде бы и похож. А что, если не он?..
— Но похож, все-таки похож? — настаивал Елистратов.
— Похож, — уже уверенней ответил бывший владелец типографии, поняв, что от него требуют, — определенно похож…
— Так, — удовлетворенно подвел итог Елистратов, — оформим ваши показания.
Он достал из лежавшей на столе папок бланк протокола допроса и принялся быстро и уверенно его заполнять.
— Имя? Отчество? Фамилия? Год рождения? — сыпались вопросы. — Предупреждаю, что в случае дачи ложных показаний будете привлечены к уголовной ответственности. Ясно? Так что говорить только правду. Итак, в предъявленной вам фотографии вы опознали кого? Ага, человека, который давал вам при немцах заказ на изготовление антисоветской листовки. Так. Дальше?..
Дело шло споро. Не прошло и часа, как протокол был готов. Молодой малоопытный сотрудник Энского управления КГБ, выделенный для совместной работы с Елистратовым, недоуменно поглядывал на следователя из центра, дивясь тому, как ловко и быстро тот привел к признанию, которого явно добивался, вконец растерявшегося старика, с какой легкостью он сформулировал внесенные в протокол допроса вопросы и ответы.
Между тем Елистратов, не тратя времени даром, ни с кем ничего не согласовывая, вызвал на допрос Лаптина. «Старик не отвертится, — думал Елистратов. — Рассыплется. А там… там — победителей не судят. Посмотрим, что запоет этот чистюля Миронов, когда я размотаю Лаптина. Заслуга-то будет моя, только моя!»
Сотрудника Энского управления КГБ, пытавшегося было протестовать против вызова Лаптина, Елистратов попросту третировал: молод, молоко на губах не обсохло!
Прошло около получаса, и в кабинет робко вошел Лаптин. Елистратов жестом указал на стул. Старик сел, взволнованно оглядываясь по сторонам. Несколько минут длилось молчание: Елистратов пристально приглядывался к Лаптину. Выражение лица следователя казалось сочувственным.
— Давайте познакомимся, — сказал наконец просто, почти ласково Елистратов. — Моя фамилия Елистратов. Николай Иванович Елистратов. Я — старший следователь Комитета государственной безопасности. Теперь очередь за вами: расскажите о себе, да поподробнее, не стесняясь.
Лаптин, заметно волнуясь, рассказал свою биографию. Елистратов, выслушав его, взял со стола бланк протокола допроса и помахал им в воздухе.
— Вы знаете, что это такое? — спросил он с угрозой. — Нет? Это про-то-кол. — Слово «протокол» Елистратов произнес по складам. — Про-то-кол допроса. Понятно? Я буду вас допрашивать, а ваше дело говорить правду, и только правду. Поняли?
Глаза старого мастера округлились.
— Протокол? — неуверенно переспросил он. — Допрашивать? Меня допрашивать? Но почему? В чем я виноват? Я не знаю за собой никакой вины…
Елистратов усмехнулся:
— Старая песня, Лаптин. Все с этого начинают. А потом так разговорятся, что и не остановишь. Только уж поздно бывает. Чем дольше вы будете запираться, тем хуже для вас. А как же иначе? Ведь если вы заговорите сами, сразу расскажете все, значит, вы разоружились, прекратили борьбу против советской власти. Это будет учтено. Я первый буду ходатайствовать о снисхождении. Но если будете запираться, пощады не ждите. А заговорить вы заговорите. Рано или поздно, но заговорите! И чем раньше, тем для вас же лучше.
Лаптин, однако, продолжал молчать. Елистратов начал раздражаться, тон его изменился, стал угрожающим.
— Вот часы, — проговорил он, — даю на размышления три минуты. Если за это время вы сами не заговорите, буду вас изобличать. Фактами. Документами. Но тогда на снисхождение уж не рассчитывайте…
Напрасно. Лаптин молчал.
— Хорошо, — желчно бросил Елистратов. — Придется перейти к изобличению.
Он широким жестом показал на несколько толстенных папок, лежавших на столе.
— Вы думаете, здесь что? Семечки? Нет, дорогой мой! Это, так сказать, ваше жизнеописание. Тут все ваши преступные дела записаны и описаны. Как, не плохо? Ну, теперь будем разговаривать?
Лаптин недоуменно пожал плечами:
— Вы, товарищ следователь…
— Но, но, но! — грубо перебил Елистратов. — Какой я вам товарищ? Гражданин. Гражданин следователь. Запомните.
— Понятно. Только я хотел сказать, что вам, гражданин следователь, наверно, известно обо мне куда больше, чем мне самому, — сдержанно сказал старый мастер.
Сколь ни странно, но чем больше выходил из себя Елистратов, чем ожесточеннее нападал он на Лаптина, тем спокойнее и хладнокровнее становился старый мастер. Елистратов понял это и вновь изменил тактику. Теперь он заговорил спокойно, ласковым, вкрадчивым голосом:
— Ну что вы упрямитесь, дорогой? Неужели вам непонятно, что я хочу облегчить вашу судьбу? Вашу и… — Елистратов на минуту замолк, а потом внезапно, резко, в упор, бросил: — И вашего племянника.
Удар был рассчитан точно и нанесен мастерски. Лаптин вскочил.
— Моего племянника? Но, боже правый, где мальчик? Что с ним?
— Сидите! — прикрикнул Елистратов. — Что? Зацепило?
Лаптин тяжело опустился на стул. Руки его била крупная дрожь.
— Ну как, — продолжал Елистратов, — начнем с племянника?
— Что племянник? — горестно вздохнул Лаптин. — Племянник — отрезанный ломоть. Что я могу о нем сказать? Он был хорошим мальчиком, но рано осиротел. Рос без родителей. Один я у него оставался, а что мог сделать такой старый пень? Мальчик стал дурить, связался с плохой компанией. А тут война, немцы… Ну он и покатился. Крутился все около немцев, а как их погнали — исчез. Как в воду канул… Вы знаете? — Голос Лаптина предательски дрогнул. — Он ведь один у меня был. Один…
— Ай, ай, ай, ай! — желчно усмехнулся Елистратов. — Какие нежности при нашей бедности! Какие мы чистенькие, какие невинненькие. Бросьте вилять! — внезапно изменил тон Елистратов. — Нечего мне байки рассказывать. Давайте показания о своей работе на немцев вместе с племянничком, о листовках…
— Я на немцев не работал, — нехотя сказал Лаптин. — Ни о каких листовках не знаю…
— Так-таки и не работали? И о листовках не знаете? Ну, а племянник ваш, он работал на немцев?
— Да. То есть мне так казалось.
— Как это «казалось»? Говорите точно: работал или нет?
— Ну, работал…
— Уточняю: ваш племянник был изменником Родины, предателем, сотрудником фашистской разведки. Так?
— Может, и так, почем я знаю?
— Не крутите! Повторяю вопрос: вам что, неизвестно, что ваш племянник работал в разведке? Это весь Энск знал!
— Ну, раз весь Энск… Получается, работал.
— А вы в это время связь с племянником поддерживали, встречались?
Вопросы Елистратова, четкие, отрывистые, требовавшие точного, незамедлительного ответа, сыпались пулеметной очередью, разили Лаптина. Старик был подавлен, оглушен. Он, конечно, встречался с племянником во время фашистской оккупации и не собирался этого отрицать. Лаптин хотел было рассказать, как племянник пытался ему помочь продуктами, но он с негодованием отверг эту помощь, как он пытался уговорить его порвать с немцами, но Елистратов и слушать не стал. Связь с племянником, сотрудником фашистской разведки, поддерживал? Поддерживал! Остальное Елистратова не интересовало.
Сотрудник Энского управления КГБ, молча сидевший сбоку от Елистратова, все больше терялся.
— Товарищ майор, — обратился он наконец к Елистратову, — так нельзя. Я не понимаю…
— А не понимаете, так не вмешивайтесь, — огрызнулся тот.
— В таком случае разрешите быть свободным, — поднялся с места молодой работник. — Боюсь, мое присутствие тут лишнее.
Елистратов криво усмехнулся и кивнул головой:
— Можете идти.
Дверь за оперативным работником закрылась. Елистратов с минуту посидел в задумчивости, молча, подперев подбородок руками, затем упрямо тряхнул головой и возобновил допрос:
— Когда вы начали сотрудничать с немцами, с фашистской разведкой?
— Я с немцами не сотрудничал…
— Не лгите! Вы во время оккупации работали в мастерских, в порту? В тех, кстати, где подвизался и ваш племянник?
— Да.
— Мастерские принадлежали кому? Немцам? Военной разведке? Разве не так?
— Я этого не знаю.
— Не знаете, что мастерские принадлежали немцам? Шутить изволите?!
— Нет, это, то есть, что мастерские принадлежат немцам, я, конечно, знал, а вот насчет разведки…
— Что мастерские принадлежали разведке, знаем мы. Значит, на кого же вы работали: на немцев, сотрудничали с фашистской разведкой?
Лаптин удрученно развел руками:
— По-вашему получается, что сотрудничал.
— По-моему? А по-вашему?
Лаптин молчал.
— Ну, — продолжал Елистратов, — вы и теперь будете отрицать свою измену?
— Пишите что хотите, — устало, с полным безразличием махнул рукой окончательно сломленный Лаптин. — Все подпишу.
— Что значит: «Что хотите», «Все подпишу»? Вы эти штучки бросьте! Я записываю ваши, только ваши показания. Зарубите это себе на носу. Подпишите здесь, здесь и здесь. — Следователь поочередно придвинул к Лаптину одну за другой страницы протокола допроса. Тот, не глядя, все подписал. — Так. Поехали дальше. — Елистратов с деланной бодростью потер руки. — Теперь я попрошу вас рассказать о ваших сообщниках. С кого хотите начать?
— Как вам будет угодно.
— Что ж, начнем, пожалуй, с Рыжикова. Прошу.
— Рыжикова? — с недоумением спросил Лаптин. — Но кто такой Рыжиков?
— Бросьте Ваньку валять! — повысил голос Елистратов. — Опять за прежнее принялись? Он, видите-ка, Рыжикова, инженера радиозавода, не знает! А сам какую-нибудь пару дней назад битый час болтался с ним по набережной, ведя конспиративные разговоры. Будете говорить?
Лаптин невесело усмехнулся:
— Ах, инженер! Откуда мне было знать, что его фамилия Рыжиков? Мы с ним познакомились совсем недавно, случайно, в магазине радиоизделий…
— Где вы познакомились, — резко перебил Елистратов, — следствие пока не интересует. Рассказывайте о своих шпионских делах с Рыжиковым.
— Какие шпионские дела? — изумился Лаптин. — Я делаю на досуге маленькие приемники, мастерю кое-что, а детали не всегда достанешь. Когда толкался в магазине, этот человек — Рыжиков, значит? — заговорил со мной. Узнал, чем я занимаюсь, и обещал принести кое-какие детали, дефицитные, в обмен на махонький радиоприемничек. Вот в понедельник мы с ним в порту и встретились.
Губы Елистратова искривила желчная усмешка. По всему было видно, что у него наготове новый ядовитый вопрос. Однако задать его Елистратову не удалось. Дверь внезапно распахнулась, и стремительно вошел сотрудник Энского управления КГБ, покинувший кабинет Елистратова полчаса назад.
— Товарищ майор, — произнес он, с трудом сдерживая волнение, — вас приглашает к себе полковник… — Он назвал фамилию одного из руководителей Энского областного управления КГБ. — Просил, если можно, прибыть поскорее, без задержки. И материалы просил с собой захватить.
— Но, позвольте… — начал Елистратов.
— Товарищ майор, — настойчиво повторил молодой чекист, — мне приказано передать вам просьбу полковника, настойчивую просьбу… Я только выполняю приказание руководства.
Елистратов молча передернул плечами, подчеркнуто медленно собрал в папку страницы протокола допроса, взял папку под мышку и вышел из кабинета, демонстративно хлопнув дверью.
Глава 9
Большую часть того дня, когда Елистратов допрашивал сначала бывшего владельца типографии, затем Лаптина, Миронова в Управлении КГБ не было. Он находился в городе: занимался делом Рыжикова. Чем больше Андрей присматривался к Рыжикову, чем шире становился круг сведений, собранных об этом человеке, тем тверже складывалось у Миронова убеждение, что Рыжикова надо попросту вызвать и впрямую допросить о Корнильевой. Такой мелкий и трусливый человечишка, если и солжет в официальном разговоре с представителем власти, так в мелочах. На серьезную ложь не пойдет — побоится. А если и солжет поначалу, так упорствовать в своей лжи не будет. Скрыть же свою связь с Корнильевой ему невозможно: тут у Миронова все карты в руках. Еще бы какая-нибудь зацепка, предлог, который помог бы скрыть от Рыжикова истинную причину его вызова, и можно действовать… Но такой зацепки пока не было.
Решив посоветоваться с одним из руководителей Управления КГБ, Миронов в четвертом часу дня вернулся в управление и направился к полковнику. Не успел он, однако, толком начать разговор, как появился оперативный сотрудник, работавший совместно с Елистратовым. На нем лица не было.
— Товарищ полковник, — сказал он прерывающимся от волнения голосом, — разрешите? Прошу извинить, но у меня срочное… Очень срочное…
Едва молодой чекист начал докладывать о вызове Елистратовым Лаптина и характере, который принял допрос, как Андрей понял, что опасения его были не напрасны: Елистратов «сорвался». Да еще как!..
Между тем оперативный работник, отвечая на спокойные, вдумчивые вопросы полковника, постепенно успокоился и толково, обстоятельно доложил сначала о допросе владельца типографии, а затем о том, что сейчас, в данную минуту, Елистратов недостойными методами вымогает у Лаптина признание в изменнической деятельности.
По мере того как оперативный работник докладывал, Андрея все с большей силой охватывало двойственное чувство. С одной стороны, он испытывал глубочайшее негодование против недопустимого, преступного поведения Елистратова, жгучий стыд за представителя центрального аппарата КГБ, проявившего себя так недостойно. С другой стороны, Миронову было радостно, что вот этот молодой парень, работающий в органах, по-видимому, без года неделю, понял главное, и так основательно это главное понимает, что нашел в себе мужество пойти наперекор, начать борьбу, самую решительную борьбу против старшего по званию, по опыту работы представителя центрального аппарата, едва тот посягнул на права человека, встал на путь нарушения социалистической законности. Впрочем, чего это он расфилософствовался, чему тут умиляться? Оно и естественно: такова уж теперь у нас атмосфера — в стране нашей, в партии, в органах государственной безопасности…
Андрей настолько углубился в собственные мысли, что не сразу расслышал вопрос полковника, и тому пришлось повторять его дважды. Сообразив наконец, что полковник адресуется именно к нему, Миронов сконфуженно улыбнулся:
— Прошу извинить, немножко задумался. Так вы спрашиваете, как я все это расцениваю? Но ведь двух мнений быть не может! Этот, с позволения сказать, допрос надо немедленно прекратить и передопросить Лаптина. Кому передопрашивать — вам решать. Полагаю, что необходимо передопросить и бывшего владельца типографии. Не говоря уже о том, что и при этом допросе, помимо формы, допущены и другие грубейшие нарушения законности: предъявление для опознания фотографии одного, а не нескольких лиц, — я лично ничуть не верю показаниям бывшего владельца типографии. Ну, посудите сами, разве можно так запомнить лицо случайно виденного человека, чтобы опознать его спустя пятнадцать-шестнадцать лет, да еще по фотографии? Чепуха!
— Согласен! — чуть наклонил голову полковник. — Вот что, — обратился он к своему сотруднику. — Отправляйтесь к следователю Елистратову и передайте мою просьбу: если возможно, поскорее — вы поняли? — поскорее, без всякой задержки явиться ко мне со всеми материалами. Сами побудете с Лаптиным, но ни в какие разговоры с ним не вступайте, особенно по существу дела. Ясно?
— Слушаю, товарищ полковник. Все ясно.
— Минутку, — остановил поспешно поднявшегося с места оперативного работника полковник. — Кто организовывал вызов на допрос владельца типографии? Вы? Значит, знаете, где его искать? Знаете? Тем лучше: быстренько пошлите за ним машину, пусть его подвезут сюда, к нам. Действуйте.
Когда оперативный работник вышел, полковник, не отличавшийся особой разговорчивостью, принялся молча прочищать свою трубку. Молчал и Миронов. Так прошло несколько минут, пока наконец не появился Елистратов. Он вошел в кабинет полковника быстрым, стремительным шагом, надменно вскинув голову. По всему было видно, что ничего особо хорошего от предстоящего разговора Елистратов не ждет, но и сколько-нибудь осуждать свое поведение не намерен.
— Садитесь, — пригласил Елистратова полковник. — Вы, кажется, вызывали сегодня на допрос бывшего владельца типографии, в которой печатались фашистские листовки, не так ли? Будьте любезны ознакомить нас с результатами допроса.
— Пожалуйста, — пожал плечами Елистратов, доставая ив своей папки протокол допроса и протягивая его полковнику. — Вот протокол. Допрашиваемый опознал в Лаптине того человека, который приносил ему при немцах текст листовки.
— Опознал? — не скрыл возмущения Миронов. — Как опознал? Ты расскажи прямо. Какие фотографии ты ему предъявлял, скольких лиц?
— А на ваши вопросы, товарищ Миронов, — подчеркнуто официально ответил Елистратов, переходя на «вы», — я отвечать не намерен. Думаете, мне не ясно, чьи это штучки?..
— Спокойно, товарищи, спокойно, — поморщился полковник. — А все-таки, товарищ Елистратов, как обстоит дело с фотографиями, что вы предъявляли допрашиваемому?
— Не понимаю вашего вопроса, — с обидой сказал Елистратов. — Я не маленький и знаю, что делать: предъявил те фотографии, которые счел нужным предъявить.
— А все-таки? — с невозмутимым видом повторил полковник вопрос.
— Ну, — чуть замялся Елистратов, — я предъявил фотографию Лаптина, других у меня не оказалось под рукой…
— Так, — сказал полковник. — А почему вы действовали в нарушение законов и существующих инструкций? Полагаю, вам не хуже нас известно, что при проведении опознания положено предъявлять не одну, а несколько фотографий, причем различных лиц?
— Известно, — возразил Елистратов. — Но это же формальность…
— Советские законы — формальность? — с недоумением пожал плечами полковник. — Ну, знаете ли… А согласовывать следственные действия с руководством — тоже формальность? Почему вы вызвали на допрос Лаптина, не испросив ни у кого разрешения? Прошу извинить, но я просто отказываюсь понимать ваше поведение…
— Нет, это я прошу меня извинить, товарищ полковник, — вкрадчиво, но не без издевки ответил Елистратов, — однако я полагал, что не обязан такую ерунду, как вызов человека на предварительный допрос, согласовывать с руководством Комитета. Не считал нужным звонить по пустякам в Москву. Вам же, разрешите напомнить, я не подчинен. Как-никак я работник центрального аппарата…
— Ах вон оно что! — перебил Елистратова полковник. — В таком случае уж я вам напомню, что времена, когда сотрудники центра ни в грош не ставили местные органы, давно канули в вечность. А допрос допросу рознь. Позвольте, кстати, ознакомиться с результатами допроса Лаптина.
— Но допрос еще не закончен…
— Ничего, мы с товарищем Мироновым разберемся и в том, что вы уже успели записать. Протокол при вас?
Возражать дальше Елистратов не стал, не решился. Он молча достал из папки протокол допроса и протянул полковнику. Полковниц взял протокол и принялся внимательно читать страницу за страницей, передавая затем каждую Миронову. Не успели они покончить с протоколом, как полковнику доложили, что бывший владелец типографии доставлен. Ожидает в приемной.
— Пусть войдет, — сказал полковник и добавил, обращаясь к Елистратову и Миронову: — Вас прошу присутствовать.
Как и предполагал Миронов, с этим допросом получился чистейший конфуз: из предъявленных ему фотографий пяти пожилых мужчин бывший владелец типографии не смог опознать ни одного. Он не только не мог сказать, изображен ли на фотографиях тот, кто вручал ему заказ на печатание листовки, но не узнал и Лаптина, фотографии которого не запомнил.
Закончив допрос и отпустив бывшего владельца типографии, полковник предложил Елистратову и Миронову совместно возобновить допрос Лаптина. Допрос, однако, полковник вел сам, давая понять, что чье-либо вмешательство будет нежелательно. Допрашивал он сухо, деловито, умело. Начал с вопроса, подтверждает ли Лаптин свои показания об изменнической деятельности в связи с немецкой разведкой. Лаптин, угрюмо посматривавший то на полковника, то на Елистратова, подтвердил свои показания. Елистратов торжествующе улыбнулся.
— В чем конкретно выражалась ваша работа в фашистской разведке? — спросил тогда полковник. — Перечислите, какие задания получали, от кого конкретно, как их выполняли?
— Задания? — растерялся Лаптин. — Насчет заданий не знаю… Работал я в мастерских, которые принадлежали разведке, в порту, а насчет заданий…
Полковник быстро задал новый вопрос:
— Откуда вам известно, что мастерские принадлежали разведке?
— Откуда? Так гражданин следователь мне это сам же сказал. — Лаптин кивнул в сторону Елистратова.
На этот раз Елистратов не улыбался.
— А я спрашиваю вас, а не следователя. Вы лично когда, где, каким образом узнали, что фактическим хозяином мастерских являлась разведка?
— Я узнал здесь, на допросе, — нехотя сказал Лаптин.
— Здесь? Так. Ну, а в чем все-таки выражалась ваша связь с разведкой? В том, что вы работали в мастерских, или еще в чем-либо?
— В чем же еще? Работал в мастерских слесарем, и все.
— Сколько человек работало в мастерских при немцах? — последовал новый вопрос.
— Гражданин начальник, — взмолился Лаптин, — ну откуда мне это знать? Может, двести, а может, и триста…
— Так что же, все двести или триста рабочих, мастеров, служащих сотрудничали с германской разведкой, были изменниками и предателями?
Лаптин молчал. Что он мог сказать? Этот допрос совсем не походил на прежний…
— Ну что же, Лаптин! Что же вы молчите? — настаивал полковник. — Значит, все работавшие в мастерских были шпионами?
Лаптин сокрушенно махнул рукой.
— Не знаю я, ничего не знаю.
— Сколько лет вы работаете на производстве? — неожиданно спросил полковник.
— Я? — Лаптин поднял голову. Лицо его просветлело, глаза заискрились. — Да уже около полусотни будет. Ведь работать-то я начал еще на телефонном заводе, при старых владельцах, где работал и мой отец. До революции. Сначала мальчиком, потом слесарем. Мастером стал только в последние годы…
Чем дальше ставил вопросы полковник, тем подробнее и живее отвечал Лаптин, тем очевиднее становилась вся вздорность показаний, записанных Елистратовым.
Закончив допрос, полковник распорядился отпустить Лаптина и, как только тот ушел, с горечью обратился к понуро сидевшему Елистратову:
— Как вы, опытный следователь, могли так тенденциозно вести допрос, так издеваться над человеком? Это же преступно!..
— Товарищ полковник, — бледнея, сказал Елистратов, — вы заблуждаетесь. Просто у нас разные методы ведения допроса. С вашим методом тоже можно поспорить…
Полковник с недоумением посмотрел на него. Потом сокрушенно покачал головой:
— Нет, ничего вы не поняли, ровно ничего… Я вынужден буду отстранить вас от дальнейшего ведения следствия и доложить о ваших действиях Москве. И вообще… Вообще думаю, вам бы лучше вернуться в Москву: ведь свои-то дела вы здесь закончили?
Позднее Миронов узнал, что Елистратов получил по заслугам: он был с позором изгнан из органов и исключен из партии. Но произошло это уже после того, как, закончив свои дела, Андрей уехал из Энска. Тогда же, в тот день, Миронов вызвал на допрос Рыжикова. Недостающая зацепка теперь появилась: то, что рассказал о Рыжикове Лаптин (спекуляция дефицитными радиодеталями), служило естественным предлогом для вызова Рыжикова. Деваться ему было некуда. А изобличив его в одном, легче было добиться правды и в остальном.
Едва Рыжиков вошел в кабинет, едва уселся, как Миронову стало очевидно, что Рыжиков трусит, трусит до ужаса. Его лицо то краснело, то бледнело. Он никак не мог совладать со своими руками: то складывал их на груди, то совал в карманы брюк, то клал на колени. То и дело Рыжиков непроизвольно глотал набегавшую слюну.
Миронов встал, подошел к столику, на котором стоял графин с водой, наполнил стакан до краев и протянул Рыжикову:
— Нате-ка, выпейте.
Рыжиков еще раз судорожно глотнул, взял стакан и залпом осушил его. Зубы его предательски лязгнули о край стакана.
— Что вы так волнуетесь? — спросил с усмешкой Миронов.
— Я н-н-не в-в-волнуюсь. В-в-вам кажется, — пытаясь сдержать нервную дрожь, ответил Рыжиков.
Миронов поставил стакан на место и сел за стол. Причины испуга Рыжикова были ясны. Как удалось установить, этот человек частенько встречался с фарцовщиками, спекулировавшими заграничным барахлом, которые еще не полностью перевелись в Энске, крупном портовом городе. Если к этому добавить встречу с Лаптиным, во время которой Рыжиков пытался обменять дефицитные радиодетали (не краденые ли?) на приемник, то становилось понятно, что у него были основания волноваться при встрече с представителем следственных органов. Но только ли в фарцовщиках, только ли в дефицитных радиодеталях дело?
— Ну как, Рыжиков, начнем? — спросил Миронов.
— Что начнем? — все еще полязгивая зубами, сказал Рыжиков.
— Как — что? — удивился Андрей. — Рассказ о ваших похождениях. Что же еще?
— Каких похождениях?
— Знаете что, Рыжиков, — спокойно сказал Миронов, — так дело не пойдет. Зачем играть в прятки? Если вас затрудняет, с чего начать, я подскажу, помогу вам. Можете начать хотя бы с рассказа о том, где вы добываете дефицитные детали, которые предлагали Лаптину, мастеру портовых радиомастерских, в обмен на приемник…
— Я скажу, скажу все, — шмыгнув носом и всхлипывая, заговорил Рыжиков. — Я, конечно, нехорошо поступил с этими деталями. Не надо было их брать. Но это был брак, понимаете, брак. Они все равно пошли бы на выброс.
Торопясь и захлебываясь, выпив не один стакан воды, Рыжиков рассказал Миронову, как он несколько раз брал на заводе бракованные детали и сбывал их кое-кому из местных радиолюбителей. Поторговывая деталями, Рыжиков еще года полтора-два назад столкнулся с одним из фарцовщиков. Тот делал «бизнес» на дамских нейлоновых кофточках, чулках, жевательной резинке и прочем барахле, которое по сходной цене выклянчивал у иностранных туристов, а затем сбывал втридорога всяким стилягам и модницам из числа жителей Энска и приезжих, падких на заграничное.
Этот «бизнесмен» предложил Рыжикову сногсшибательную комбинацию с радиодеталями, сулившую немалый барыш, но Рыжиков, по его словам, на это не пошел. Однако кое-что из вещичек у этого своего приятеля он приобрел, тем более что тот, не теряя надежды сделать с Рыжиковым «бизнес», уступал ему «товар» чуть ли не по себестоимости. Через него Рыжиков познакомился и с другими фарцовщиками, у которых тоже изредка приобретал отдельные вещи. Рыжиков говорил и говорил, называя все новых и новых людей, спеша сообщить их имена, приметы, адреса…
Наконец он закончил свой рассказ, смущенно, как-то заискивающе улыбнулся и робко сказал:
— Вот, пожалуй, и все.
— Все? — Тон, которым был задан вопрос, не сулил Рыжикову ничего хорошего. — Нет, не все. А про ваши дальние вояжи, ваши поездки вы забыли?
— Дальние вояжи? — удивился Рыжиков. — Какие вояжи?
— Ну, хотя бы в Крайск. Туда вы зачем ездили? Надеюсь, вы не станете утверждать, что по делам службы?
Рыжиков начал медленно, густо, до самых корней волос краснеть.
— Нет, — пролепетал он. — В Крайск я ездил не по делам службы. Там… там… одна женщина.
— Кто?
— Простите, но это чисто личное. Мне не хотелось бы называть ее имени…
— Может, мне прикажете его назвать?
— Вам?.. Вы?..
— Да, я. Если будет угодно — Ольга Николаевна?
Рыжиков подскочил на месте. На лице его появилось выражение такого неподдельного изумления, такого испуга, что Миронов чуть не расхохотался.
— Бога ради! — вскричал Рыжиков. — Бога ради! Я сам все скажу, сам.
По словам Рыжикова, с Ольгой Николаевной Величко (он так ее назвал) они познакомились летом прошлого года в Кисловодске. Рыжиков вскоре после знакомства начал за ней ухаживать. Ольга Николаевна ухаживания принимала, но вела себя сдержанно, ничего лишнего не позволяла. Может быть, именно поэтому Рыжиков увлекся не на шутку, увлекся так, что потерял голову. А она? Она только подшучивала над ним, и все. Так они и расстались.
Вернувшись в Энск, Рыжиков и дня не мог прожить, чтобы не вспомнить Ольгу Николаевну, не думать о ней. Тогда он решил съездить в Крайск, где, как он узнал перед отъездом из Кисловодска, жила Ольга Николаевна. Рыжиков пытался уговорить себя, что, увидев силу его чувств, его постоянство, она будет к нему более снисходительна, чем была на курорте, но ошибся. В Крайске Ольга Николаевна была еще сдержаннее, нежели в Кисловодске.
Пробыв в Крайске несколько дней, Рыжиков вернулся в Энск несолоно хлебавши.
Прошло месяца три, и он снова поехал в Крайск. Как устраивались эти поездки? Очень просто. Рыжиков брал отпуск за свой счет, а приятель из заводоуправления доставал ему бланки командировочных удостоверений.
На этот раз Рыжиков решил действовать иначе. Через знакомых фарцовщиков он приобрел набор наимоднейших заграничных кофточек, кое-что из дамского белья, разные заграничные безделушки и отправился в Крайск не с пустыми руками. Далеко не с пустыми! Однако и его щедрые подношения ничуть не заинтересовали Ольгу Николаевну. Она попросту их не приняла. Все получилось ужасно глупо: Рыжиков разлетелся к ней с подарками, а Ольга Николаевна выбрала, что ей понравилось, расплатилась наличными, как с продавцом, и, даже не поблагодарив, выставила его за дверь.
— Теперь, кажется, все, — закончил свой рассказ Рыжиков. — Больше, как вы понимаете, я туда не ездил и Ольгу Николаевну не видел.
Однако следователь задал новый вопрос, который привел Рыжикова в полное недоумение. Протянув ему лист бумаги, Миронов попросил составить самую подробную и точную опись тех вещей, которые Рыжиков отвез в Крайск Величко.
С удивлением поглядывая на Миронова, Рыжиков принялся составлять список. Когда он закончил, Андрей взял список и внимательно его прочел. По мере того как он читал, на лице его выражалось все большее и большее удовлетворение.
— Отлично, — сказал Миронов, заканчивая чтение и убирая список в лежавшую на столе папку, — теперь, пожалуй, действительно все.
Рыжиков робко кашлянул:
— Скажите, что со мной будет? Меня… меня не арестуют?
— А это уже не мне решать. Вот сообщим на завод насчет проделок с деталями, дружбы с фарцовщиками, — там вас знают и рассудят по справедливости, как с вами быть. О фарцовщиках не беспокойтесь — ими займемся…
Едва Рыжиков ушел, Миронов заказал по телефону Крайск. Ему не терпелось сличить полученный список со списком тех вещей, которые Черняев передал для продажи Самойловской. Впрочем, теперь было более или менее ясно, каким путем попали к Корнильевой заграничные вещи. Эту часть задачи можно было считать решенной. Но где сама Корнильева, мнимая Величко? На этот вопрос ответа опять не было.
С Крайском соединили необычно быстро. Миронов удивился, услышав в трубке голос Луганова.
— Василий Николаевич, ты? Когда вернулся из Воронежа? Как успехи? Как это ты оказался у аппарата?
— Что значит «оказался у аппарата»? Я же тебя вызываю, поэтому и у аппарата. — Сами того не замечая, они перешли на «ты». — Ты когда намерен вернуться в Крайск?
— Ты меня вызывал? Ничего не понимаю. Это я звонил в Крайск. А в чем дело, что стряслось?
— Беда, Андрей Иванович. Тяжело ранен Савельев. Говорят, при смерти…
С первым же самолетом Миронов вылетел в Крайск.
Глава 10
Дела Сергея Савельева были плохи, очень плохи. За те трое суток, что Сергей находился в больнице, сознание не возвращалось к нему ни разу. Жизнь едва теплилась. По мнению врачей, надежды не было почти никакой. Если чему и можно было удивляться, так только тому, что он все еще был жив. Каждая из двух страшных ран, полученных Савельевым, могла привести к смертельному исходу. А сколько он потерял крови? Трудно было точно определить, когда именно он был ранен, сколько часов пролежал под проливным дождем, истекая кровью.
Нашел Сергея дежурный милиционер, старшина, на одной из окраин города. Дело было под утро. Шедший всю ночь дождь перестал. Начало светать. Хмурое осеннее небо посерело. Старшина заканчивал ночной обход своего района. Напоследок он решил заглянуть в узенький, глухой переулок, выходивший на обширный пустырь, который круто сбегал к реке.
Не успел старшина сделать по переулку и нескольких шагов, как его наметанный глаз приметил в призрачных предутренних сумерках фигуру, лежавшую лицом вниз в глубокой водосточной канаве. «Ну вот, — с тоской подумал старшина, — опять пьяный. И что я за везучий такой? Как мое дежурство, так возись с пьяницами, таскай их в вытрезвитель».
Неспешной походкой направился старшина к лежащему без движения человеку, но едва он к нему приблизился, как тихо присвистнул и ускорил шаги. Нет, это был не пьяный, тут было что-то не то. Неестественная поза человека, выкинутая вперед рука, сжимавшая в судорожно скрюченных пальцах куст чертополоха, вызвали у старшины чувство глубокой тревоги. Присев на корточки, он отвел в сторону густо разросшийся в канаве бурьян, наполовину скрывавший лежащего, и внимательно вгляделся в распростертое тело. Сомнения не было: перед ним была жертва преступления. Затылок лежащего был размозжен. Кровь на ране запеклась. Судя по тому, что рубашка на спине убитого (а старшина ни минуты не сомневался, что перед ним был труп) была разорвана и залита кровью, еще одна рана была нанесена в спину.
Через мгновение чуткую предутреннюю тишину погруженного в сон переулка пронзила звонкая трель милицейского свистка. Еще свисток, еще, и вот послышался топот сапог. К старшине спешил его товарищ, другой милиционер. Минут пятнадцать — двадцать спустя появилась оперативная группа уголовного розыска со служебной собакой. Почти одновременно с оперативной группой прибыла и машина «скорой помощи». Милицейский врач и врач «скорой помощи» внимательно осмотрели и выслушали лежащего. По тому как по мере осмотра прояснялись поначалу сумрачные, угрюмые лица врачей, стало понятно: лежавший в канаве человек жив. Санитары быстро подхватили бесчувственное тело на носилки, и машина «скорой помощи» умчалась. Оперативная группа приступила к работе.
Сантиметр за сантиметром был исследован участок канавы, где старшина обнаружил раненого. Шагах в десяти — пятнадцати от места происшествия нашли пустой, вывернутый наизнанку бумажник, а чуть подальше сначала комсомольский билет, затем удостоверение сотрудника Крайского управления КГБ на имя младшего лейтенанта Сергея Савельева. Больше обнаружить ничего не удалось. Не помогла и собака: она не смогла взять след преступника (он был смыт шедшим всю ночь дождем, затоптан толпой).
Закончив осмотр, работники оперативной группы отправились в больницу, куда отвезли Савельева. Там уже находились заместитель начальника Управления КГБ (Скворецкого в Крайске не было, он находился в отъезде, в командировке) и дежурный по управлению, которых известили по телефону о происшествии. Здесь, в больнице, тщательно осмотрели одежду Сергея. Ничего, что могло бы помочь раскрытию преступления, осмотр не дал. В карманах брюк Савельева было пусто, если не считать небольшой записочки, найденной в карманчике для часов. Записка была какая-то странная. На небольшом клочке бумаги рукой Савельева было написано:
Строительной организации требуются кульманы и чертежные столы. С предложением обращаться по адресу: почтовый ящик № 12 487.
Что означала эта записка? Зачем, кому писал ее Сергей? Ответить на эти вопросы мог только сам Савельев, но как раз он-то и не мог сейчас дать никакого ответа.
За то время, что работники Управления КГБ и уголовного розыска исследовали вещи Сергея, консилиум врачей закончил осмотр и составил свое заключение. Все участники консилиума сошлись на том, что нападение на Савельева было совершено за несколько часов до того, как старшина нашел его тело в канаве, вероятнее всего, между десятью и двенадцатью часами ночи. Действовал нападавший исподтишка, сзади. Сначала он нанес удар каким-то тяжелым предметом по затылку, оглушив Сергея, затем ударил ножом, скорее всего финкой, в спину. Судя по характеру этой последней раны, нападавший был левша. Ничего больше сообщить оперативным работникам врачи не могли.
Состояние раненого врачи считали крайне тяжелым. Все, на что способна медицина, конечно, делается, и все же надежды было мало. Правда, у медицины есть союзники: возраст раненого, его крепкий, молодой организм.
Выслушав заключение врачей и сопоставив все данные, работники КГБ и уголовного розыска пришли к выводу, что Савельев стал жертвой ограбления. Об этом, в частности, говорило исчезновение пальто, пиджака, часов и, конечно, вывороченный бумажник, из которого были похищены все деньги, тогда как документы преступник выбросил.
Тут же, не теряя ни минуты, все силы были брошены на розыск преступника, но результатов не было…
Прошел день, второй, третий… Так обстояло дело, когда из Энска вернулся Миронов.
Внимательно выслушав Луганова, поспешившего ввести его в курс дела, Миронов задумался. Ограбление? Нет, тут не ограблением пахло, хотя все внешние признаки и подтверждали такую версию. Но разве можно упускать из виду, чем занимался Савельев, когда на него было совершено нападение? Исключить возможность связи между нападением на Савельева и той работой, которую он вел, нельзя. Да, исключить такую возможность нельзя. И все же… Все же это только возможность. Не больше. Вот и пойди разберись, была она, эта связь, или нет? Новая загадка, и опять не из легких…
— Хорошо, — рассуждал вслух Миронов. — Допустим, такая связь была. Тогда кому помешал Савельев, кто решил его убрать? Те, кому нужен Черняев, кто опутывает его все новыми и новыми сетями или… или сам Черняев? Как, Василий Николаевич, что скажешь?
Луганов пожал плечами:
— Не знаю, Андрей Иванович, сложная история. Однако согласиться с тем, что это дело рук Черняева, не могу. Ну, посуди сам: надо же быть круглым идиотом, чтобы позволить безнаказанно напасть на тебя человеку, который сам находится в поле твоего зрения. Сергей отнюдь не из дураков, да и силой, ловкостью не обижен.
Спортсмен, самбист. Нет, что-то тут не то. Разве что у Черняева были сообщники? Но уж это, знаешь ли, ни в какие рамки не укладывается: Черняев коммунист, крупный работник и вдруг — сообщник убийц. Сам убийца. Нет, не может этого быть. Ты меня извини, но такая версия больше чем сомнительна — она абсурдна.
Миронов вздохнул:
— Да, в логике тебе не откажешь. А все же я бы не прочь и эту версию, как ты говоришь, проверить.
— Проверить, конечно, следует, — согласился Луганов. — Лишняя проверка никогда не помешает. Только как тут проверишь?
Миронов с минуту помолчал, потом задумчиво сказал:
— Вот если бы узнать, как вел себя Черняев в этот день, в этот вечер, следующим утром, тогда кое-что можно было бы определить. Если он хоть как-то причастен к нападению на Савельева, тогда это не могло хоть чем-нибудь не сказаться на его поведении. Но попробуй узнай, как он себя вел?
— Что ж, — неторопливо сказал Луганов, — это, пожалуй, можно попытаться узнать. Ольга Зеленко…
— Зеленко? — встрепенулся Андрей. — Что ж, это мысль! Можно потолковать и с Зеленко. Если она видела Черняева в тот вечер, то кое-что могла и заметить, если было, конечно, что замечать… Ладно! Попытка — не пытка, попробуем побеседовать с Зеленко. Одно плохо: вряд ли вся эта возня приблизит нас к Корнильевой, а главное — Корнильева…
Луганов, угрюмо уставившись в пол, молчал. Не дождавшись от него ни слова, Миронов предложил:
— Давай сделаем так: ты организуй сейчас вызов Зеленко, а как с ней побеседуем, сядем с тобой и пораскинем мозгами, что же нам дальше делать. Должна же, в конце концов, где-то находиться эта несчастная Корнильева. Есть, между прочим, у меня одно соображение, но я тебе выскажу его потом, позже…
Луганов оживился:
— Давай, давай, Андрей Иванович, если что надумал, выкладывай. Зачем темнить?
— Я и не темню. Просто мысль пока еще незрелая, надо обдумать.
— А все-таки?
Миронов видел, что его недомолвка задела Луганова, и все же сказал:
— После, Василий Николаевич, после. Вызывай Зеленко, а там и потолкуем.
Когда Луганов ушел, Андрей связался по телефону с начальником Крайского уголовного розыска и, получив согласие полковника, направился к нему.
В кабинете начальника угрозыска он не пробыл и десяти минут, затем вернулся к себе и стал изучать рапорты, которые Савельев составлял ежедневно, вплоть до дня своего ранения.
Миронову важно было узнать, что выяснил за время его отсутствия Савельев, но не только это, — сейчас больше всего занимало Андрея другое: он надеялся найти в рапортах ответ, обнаружил ли Черняев, что возле него постоянно кто-то находится. Если Черняев что-либо обнаружил, то Сергей должен был это заметить и отразить в рапорте, а такой факт был чрезвычайно важен для Андрея. Однако, сколько Миронов ни читал, сколько ни перечитывал рапорты, в них не было ни слова, ни намека, которые дали бы основание предположить, что Черняев что-либо обнаружил.
Андрей задумался. Что же все-таки произошло в ту ночь с Савельевым? Кто на него напал? С какой целью? Мысли Миронова прервал телефонный звонок. Звонил Луганов. Зеленко была уже у него.
Убрав документы в сейф, Андрей поспешил к Луганову. Зеленко встретила его как доброго знакомого.
— Ну, как дела, — поздоровался Андрей, — как поживает Виктор?
Ольга чуть покраснела.
— Я как раз об этом рассказываю Василию Николаевичу. — Она кивком указала на Луганова. — Он тоже первым делом спросил про Кузнецова. Никогда бы не поверила, что органы государственной безопасности… — Зеленко на мгновение смешалась, но тут же поправилась: — Что вот вы с Василием Николаевичем занимаетесь урегулированием конфликтов между такими, как мы с Виктором. Вы меня затем и пригласили, чтобы узнать, чем кончилось у нас недоразумение? Так вот: мы помирились…
— Отлично, — сказал Миронов. — Отлично. Рад за вас… Только вот побеспокоили мы вас совсем по другому поводу. Нам нужна ваша помощь. Видите ли, нам очень важно знать, как ведет себя последние дни Капитон Илларионович: не нервничает ли, не проявляет ли излишнего возбуждения? Скажите, пожалуйста, вы ничего не замечали? Ничто вам не бросилось в глаза?
Ольга с недоумением пожала плечами:
— Да ведь я его если и видела, так мельком, ну что я могла заметить? Нет, по-моему, в его поведении ничто не изменилось. Ручаться я, конечно, не могу, но, как мне кажется, ведет он себя как всегда, как обычно.
— А вы вспомните получше, пообстоятельнее, — попросил Луганов.
Слегка наморщив лоб, Зеленко задумалась, но зря: ровно ничего интересного припомнить она не могла.
— Нет, — сказала она наконец, — ничего, ну решительно ничего не могу вспомнить. Капитон Илларионович вел себя как всегда. Да и вообще не только последние дни он ведет себя спокойно — похоже, что и не вспоминает Ольгу Николаевну. Странное? Необычное? Нет, ничего такого я не замечала. Вот разве тогда, когда уехала Ольга Николаевна, разве тогда… — Зеленко запнулась и на мгновение замолкла. — Я вам не рассказывала?..
— О чем? Что вы имеете в виду? — спросили в один голос Луганов и Миронов.
— В прошлый раз я уже говорила, — начала Зеленко, — что первое время после отъезда Ольги Николаевны Капитон Илларионович был спокоен. Месяца полтора-два прошло, не меньше, пока он не сказал, что она уехала навсегда, что они разошлись. К поведению Капитона Илларионовича я, как вы понимаете, не присматривалась. Но вот теперь, когда вы спрашиваете, вспомнилась мне одна странная история. Примерно через день или два, после того как уехала Ольга Николаевна, я вечером зашла к Капитону Илларионовичу — вернуть журнал, который брала еще у Ольги Николаевны. Так вот, стучала я к нему, стучала (а я видела, что Капитон Илларионович вернулся домой), пока он наконец открыл дверь. А когда открыл, смотрю, лицо у него какое-то странное, глаза сердитое, взгляд настороженный. Я даже чуть струхнула. Увидел он меня, улыбнулся, словно бы с облегчением. «Ах, говорит, это вы, Оленька? А я что-то прихворнул. Знобит».
Я, конечно, спросила, не надо ли ему чем помочь, но он поблагодарил: сказал, что ничего не надо. Лягу, мол, сейчас, отлежусь, и все пройдет…
А я, как к нему вошла, вижу — печка топится, а ведь июнь на носу, жарища. Зачем печку топить? Но спрашивать Капитона Илларионовича не стала, уж больно он в тот вечер неприветлив был. Вот, собственно говоря, и все. На следующий день Капитон Илларионович вроде был уже здоров — уехал на работу. Но печка? Придет же человеку блажь в такую пору печку топить? Хотя, правда, болен был.
— Да, конечно, конечно, болен… болен… — задумчиво проговорил Миронов. — Вы уж извините, Ольга Ивановна, что отняли у вас время! Приходится иногда в нашем деле беспокоить людей… Всего хорошего. Василий Николаевич вас проводит.
Когда Луганов, проводив Зеленко до выхода из управления, вернулся, он застал Миронова взволнованно расхаживающим из угла в угол.
— Понимаешь, — сказал, продолжая ходить, Андрей, — не выходит у меня Черняев из головы. Вот не выходит, и все тут. Ничего с собой не могу поделать. Дело не в нападении на Савельева — к этому он вряд ли причастен, но все же странностей вокруг него накапливается все больше и больше. Подумай сам: сначала эта малообъяснимая история с письмом Кузнецова. Тебе она ясна? Нет? Признаюсь, мне тоже. В самом деле: ну зачем, с какой целью понадобилось Корнильевой выдавать чужое письмо за свое? Зачем она подсунула его своему мужу? Почему, для чего Черняев хранил это письмо? Почему, наконец, так не хотел оставить его у нас? Сплошной туман!
— Да, — согласился Луганов. — История с письмом и мне не нравится. Странная история.
— Вот видишь! — подхватил Миронов. — Но если бы этим и кончались странности вокруг Черняева, а это ведь начало, только начало…
— То есть? — спросил Луганов.
— Вспомни рассказ Черняева об обстоятельствах его знакомства с Корнильевой в Сочи и сопоставь с рассказом Садовского о том же. Тут что ни факт, то сплошные противоречия. Кто же говорит правду — Садовский или Черняев, Черняев или Садовский? Кто из двух путает? С какой целью? Если хочешь знать мое мнение, я больше верю Садовскому.
— Ну, а если я скажу, что отдаю предпочтение Черняеву, что считаю его рассказ более достоверным, ты найдешь, что возразить? — усмехнулся Луганов. — Не найдешь? То-то. Уж очень тут все зыбко.
— Зыбко, согласен, — сказал Миронов. — И все же столь значительные расхождения в изложении Черняевым и Садовским одних и тех же событий — странность, и странность немалая, что ты там ни говори. Проходить мимо нее мы просто не имеем права. Но это еще не все. Вернемся к эпопее с распродажей вещей Корнильевой. Ведь Черняев клянется и божится, будто безумно любил свою жену, будто продолжает любить ее и поныне, а сам спокойно, хладнокровно вручает все ее вещи, все, что от нее осталось, какой-то случайной спекулянтке для перепродажи. И не только для продажи. Помнишь его слова: «Я, мол, вещей своей бывшей жены не разбирал, этим занималась Самойловская. Что можно было продать, она должна была продать, остальное я ей отдал в качестве вознаграждения». Это вещи-то любимой женщины! Разве не странно?
Какие, между прочим, вещи? Одни — кофточки, бельишко — куплены у Рыжикова; другие — украшения — получены от Навроцкой. Заметь, ни Рыжикова, ни Навроцкую Черняев не упоминает. Знать, мол, не знаю, откуда у моей бывшей жены взялись эти вещи. Действительно не знает? Никогда не пытался узнать? Ты ему веришь? Нет, что ни говори, опять странность. А теперь еще эта печка!..
— Сдаюсь! — шутливо поднял обе руки вверх Луганов. — Уговорил. Странностей вокруг Черняева полно. Только хотелось бы знать, какие ты отсюда делаешь выводы, куда клонишь? Что, наконец, из всего этого следует?
— А то и следует, — сердито сказал Андрей, — что, занявшись розыском Корнильевой, разъезжая в Куйбышев, Воронеж, к черту на кулички, мы, боюсь, не вполне правильно оценили Черняева, не достаточно активно им занимались. Я далек от того, чтобы предположить, что Черняев сам в чем-нибудь замешан, но…
— Что значит «не достаточно активно»? — с раздражением возразил Луганов. — А что еще можно было сделать? Что? Да и на каком основании? Не говоря уж о задании Савельеву. Что, в конце концов, ты предлагаешь? Может, прикажешь бросить розыск Корнильевой и начать плясать вокруг Черняева?
Миронов поморщился:
— Зря ты так, Василий Николаевич. Я говорю всерьез. Корнильева, конечно, главное. Розыск ее — первоочередная задача, однако наряду с розыском пора и Черняевым заняться всерьез. На, например, полюбуйся.
Миронов взял со стола папку с рапортами Савельева, раскрыл ее на одной из сделанных им ранее закладок и протянул Луганову. Василий Николаевич внимательно прочитал отчеркнутые красным карандашом строки рапорта за воскресенье — последний день, за который Савельев представил рапорт. Там говорилось, что часа в три пополудни Черняев отправился на вокзал и сдал там в камеру хранения объемистый коричневый чемодан.
— Н-да, — процедил сквозь зубы Луганов. — Новая история! И зачем ему понадобилось сдавать собственный чемодан на хранение? А может, это чужой чемодан?
— Не знаю, — сказал Миронов. — Не знаю. Но как прочитал рапорт, так не выходит у меня этот чемодан из головы. Думаю, неспроста отнес его Черняев в камеру хранения. Следовало бы, пожалуй, выяснить, на чье имя он сдал чемодан?
— А ты предполагаешь, что не на свое?
— Все может быть, Василий Николаевич. Поведение Черняева день ото дня кажется мне все более странным. Я ничего не исключаю.
— Но зачем, ради какого дьявола, ему сдавать свой чемодан, если только это его вещь, на чужое имя?
— Представь себе на минутку, что человек хочет избавиться от каких-то вещей…
— Понял. Ну, так я съезжу на вокзал и все выясню: на свое, на чужое…
— Вот и договорились. Но это еще не все.
Миронов поднялся из-за стола, достал из сейфа записочку, что была найдена в кармане Савельева, и зачитал вслух:
Строительной организации требуются кульманы и чертежные столы. С предложением обращаться по адресу: почтовый ящик № 12 487.
— Как по-твоему, — спросил он Луганова, — что бы это могло значить?
Тот в задумчивости поскреб подбородок:
— Пожалуй, по тексту похоже на объявление…
— Объявление, — подхватил Миронов. — Конечно же, объявление. И я так считаю. Но вот почему, зачем Савельев его записал, с какой стати оно ему понадобилось? Думаю, объяснение тут может быть только одно: это объявление как-то связано с Черняевым. Но как? Хорошо бы узнать, кто и когда сдавал это объявление, где? Как, сможешь выяснить?
— Что ж, — сказал Луганов, — это задача не из трудных. Можно провести проверку по всем бюро объявлений, по редакциям газет, не сдавал ли кто объявления с таким текстом. Время, конечно, потребуется, но, глядишь, что-нибудь и выясним.
— Правильно, — согласился Андрей. — Теперь вернемся к началу нашего разговора, к Корнильевой. Так вот: где мы до сих пор искали Корнильеву? Везде, кроме как в Крайске. А что, если она из Крайска не уезжала?
— Как — не уезжала? — вскинулся Луганов. — Да ты, Андрей Иванович, в уме?
— Пока еще да, — усмехнулся Миронов. — Так мне, во всяком случае, кажется. Думаю, ты со мной сейчас согласишься. Поставим вопрос так: а можно ли исключить возможность несчастного случая? На вокзале, в поезде после отъезда, не знаю где? Раньше, согласен, такая мысль не могла прийти нам в голову: не было оснований. И действительно, почему было усомниться в ее отъезде? Имелся ряд вариантов касательно места, куда она могла уехать. Но теперь, когда все варианты проверены, когда все отпали… Одним словом, теперь такая мысль пришла мне в голову, и, полагая, что проверка этой версии нам не повредит, я не позже как сегодня связался с начальником Крайского уголовного розыска и просил подготовить нам справку обо всех несчастных случаях, имевших место в городе, на железнодорожных путях, в поездах в последних числах мая сего года, жертвами которых были женщины тридцати — тридцати пяти лет…
Миронова прервал телефонный звонок. Он снял трубку. По его коротким репликам Луганов понял, что звонит начальник уголовного розыска.
— Так, — говорил в трубку Миронов, и брови его хмурились. — Так… Ясно, товарищ полковник… Хорошо, сейчас зайдем… Ну, Василий Николаевич, вот тебе и ответ, — сказал Миронов, кладя трубку и поднимаясь из-за стола. — Пошли в уголовный розыск.
Глава 11
Начальник Крайского уголовного розыска полковник Петров ждал Миронова и Луганова. Едва они вошли, едва уселись, как он приступил к делу.
— Вот, — отрывисто произнес полковник, протягивая Миронову тощую папку в серой ледериновой обложке. — Убийство. Убита женщина лет этак тридцати — тридцати пяти. Личность не установлена. Двадцать восьмого мая. Вас, помнится, интересовала именно эта дата?
Миронов быстро перелистал подшитые в папку документы и зачитал вслух имевшуюся в деле справку. В ней говорилось, что двадцать девятого мая, в шестом часу утра, на пустыре на окраине города был обнаружен женский труп, завернутый в клеенку, обернутую сверху мешковиной.
— Полюбуйтесь, — сказал полковник, когда Андрей кончил читать справку, — убийство, да еще какое! Мы в Крайске и забыли, когда такое случалось. Там, дальше, заключение экспертизы. Ознакомьтесь.
В акте судебно-медицинской экспертизы указывалось, что причиной смерти убитой послужил удар, нанесенный каким-то тупым орудием. Смерть наступила мгновенно. Произошло это часов за семь до обнаружения трупа, то есть около десяти часов вечера двадцать восьмого мая. По заключению экспертов, убитой было от роду лет тридцать — тридцать пять. Больше ничего существенного в акте экспертизы не было.
Из дальнейших материалов следовало, что труп убитой был помещен в городской морг для опознания. Находился там неделю, но без результатов, после чего был захоронен на пригородном кладбище. Убитую никто не опознал. Впрочем, странного в этом ничего не было: лицо ее было настолько изуродовано, что складывалось впечатление, будто преступники преднамеренно уничтожили малейшие признаки, по которым можно было бы опознать их жертву. Странно было другое — ни в те дни, пока труп был выставлен в морге, ни позднее не поступало ни одного заявления об исчезновении кого-либо из жительниц Крайска. Отсюда милиция сделала вывод, что убитая оказалась в Крайске случайно, проездом. Но кем она была, зачем сюда приезжала, кто, наконец, были ее убийцы и почему, по какой причине было совершено столь жуткое преступление, установить так и не удалось.
— Вот где сидит у меня это дело, — угрюмо сказал полковник, с раздражением хлопнув себя по шее возле затылка, — вот где сидит. Судите сами: такое преступление — и по сию пору не раскрыто. У нас, в нашем городе, вообще нераскрытых преступлений почти нет, а тут не раскрыто, да еще такое…
— Что же, — спросил Миронов, — и следов никаких? Ничего не обнаружили?
— Никаких. Ничего, — отрубил полковник. — На место с оперативной группой выезжал я сам. Без толку. Труп нашел дворник. Поднял шум. Сбежались любопытные. Мы приехали — толпа. Все затоптано, захватано. Какие тут следы, какие отпечатки пальцев?! Ничего. Организовали розыск. Вот уже месяца четыре ищем, даже с лишком, а толку чуть…
В разговор вмешался Луганов:
— Разрешите, товарищ полковник? Андрей Иванович, ты что же, полагаешь, что… что это Корнильева?
— Какая еще Корнильева? — встрепенулся полковник.
— Ольга Николаевна Корнильева, — сказал Миронов, — это бывшая жена Черняева.
— Жена Черняева? — живо переспросил полковник. — Черт побери! Это мысль! Насколько мне известно, ваш розыск пока ничего не дал. Я не ошибся? А что, если… — Полковник умолк, не закончив фразы.
— Право, затрудняюсь сказать что-либо определенное, — задумчиво проговорил Миронов. — Я предполагал возможность несчастного случая. Мысль об убийстве мне в голову не приходила. А тут убийство, да еще такое. Корнильева? Но кому нужно было уничтожать Корнильеву? Кому она мешала? Не возьму в толк. Нет, не думаю, чтобы это была Ольга Николаевна. Однако проверку этой версии провести все же следует, даты-то совпадают. Только как? Лицо изуродовано, труп захоронен. Прошло несколько месяцев… Как тут определишь, Корнильева это или нет? Разве что эксгумация?
Полковник задумался.
— Эксгумация? Ну, сама-то по себе она ничего не даст. Вот если портретная реконструкция… Впрочем, это дело сложное, применяется один раз на тысячу, но тут, как кажется, игра стоит свеч. Кстати, у нас в Крайске работает кое-кто из последователей профессора Герасимова. А Герасимов — знаете, конечно? — тот восстанавливал лица тех, кто умер не то что полгода, год назад, а тысячелетия. Да что вам говорить, он же по черепу восстановил черты лица Ярослава Мудрого, а это начало одиннадцатого века, без малого тысячу лет назад; Тимура — тысяча четырехсотые годы; адмирала Ушакова — умер в одна тысяча восемьсот семнадцатом году!.. Значит, так, — решил, возвращаясь к делу, полковник, — извлечем тело убитой из земли (где оно захоронено, нам известно), по лобным костям, скулам, подбородку восстановим ее лицо, — ничего не поделаешь, придется повозиться, а там дело за малым. Возьмем фотографии Черняевой и сличим с реконструированным портретом. Надеюсь, все станет ясно.
Миронов не успел сказать ни слова — да и что мог он сказать? — как начальник уголовного розыска уже вызывал людей, отдавал распоряжения.
…Эксгумация была проведена на следующее утро. Помимо специалиста-врача с помощниками, в ней участвовал представитель городской прокуратуры. Присутствовал и Миронов. Луганова не было. Он с утра уехал на вокзал в камеру хранения — проверить, на чье имя сдал чемодан Черняев, там ли еще, на месте, этот чемодан?
Когда труп был извлечен из могилы и отправлен в анатомический театр при городской клинике, где должна была вестись работа по восстановлению лица убитой, на которую требовался не один день, Андрей вернулся в управление. Там его ждала новость: оказывается, вернулся из командировки Скворецкий. Миронов поспешил к полковнику.
В кабинете Скворецкого находился Луганов, успевший возвратиться с вокзала. Он как раз заканчивал доклад о тех событиях, которые произошли в Крайске за время отсутствия начальника управления.
По угрюмому, сосредоточенному выражению лица Кирилла Петровича Андрей понял, что полковник чем-то рассержен, недоволен. Чем — Миронову было ясно. И он не ошибся: не успел Андрей войти, не успел поздороваться, как Скворецкий спросил:
— Что с Сергеем, с Савельевым? Какой парень — и на тебе! — такая история! Что там стряслось, что врачи говорят?
По отдельным коротким репликам, которые бросал Скворецкий, пока Миронов докладывал, Андрей понял, что полковнику и так все известно. Рассказ Миронова нужен был ему для того чтобы узнать какие-то частности, детали, возможно упущенные другими. Эту манеру Скворецкого — расспрашивать нескольких работников об одном и том же событии, происшествии — Андрей знал издавна, еще со времени работы в партизанской разведке. Полковник дорожил мнением каждого из своих помощников, полагался на их наблюдательность; по крупицам, частностям уточнял общую картину.
На сей раз Миронов ничего нового, по-видимому, не сказал. Да и что мог сказать Андрей? Сергей был плох, очень плох. Розыск виновников преступления ничего пока не дал. Похвастать было нечем.
— Ну ладно, — тяжело вздохнув, сказал полковник. — Рассказывай, что на кладбище, как эксгумация?
Миронов подробно доложил, как прошла эксгумация, и заметил, что останки убитой в таком состоянии, что он не уверен, удастся ли провести опознание.
— Сомневаешься? — прищурил глаза полковник. — Плохо ты нашего бога, от угрозыска знаешь. Если он взялся — сделает. А насчет того, Корнильева это или не Корнильева, гадать не будем. Подождем результатов. Кстати, послушай-ка, что вот он, — Скворецкий кивнул в сторону Луганова, — откопал. Повторите, пожалуйста, Василий Николаевич.
Рассказ Луганова явился для Миронова полной неожиданностью. Чемодан, сданный Черняевым на хранение, Луганов нашел: он находился на месте, в камере хранения. Сдан он был на имя Черняева. Опасения Андрея не подтвердились. Но дело обстояло не так просто. Надо же случиться такой истории: передвигая вещи, нерасторопный кладовщик уронил чемодан, а сверху свалился еще и сундук. Крышка у чемодана в сторону, а там… Там женские вещи, платье, белье. Пойди тут пойми что-нибудь! Что за вещи? Не успела разъясниться история с Самойловской, с ее попыткой сбыть по спекулятивной цене вещи жены Черняева, как у Черняева опять женские вещи! А он ведь говорил — да что там говорил! — категорически утверждал, что вещей жены у него больше не осталось. Так чьи же это вещи, как попали к Черняеву? Зачем Черняев понес эти вещи на вокзал, зачем сдал в камеру хранения? Новая загадка.
Миронова вдруг взяла оторопь от внезапно мелькнувшей догадки. Он открыл было рот, собираясь высказать свои соображения, но Скворецкий решительно поднял руку:
— Не спеши, Андрей, не спеши. Знаю, что хочешь сказать, все знаю, но спешить не следует. Прежде всего нужно точно установить, — полковник подчеркнул слово «точно», — чьи это вещи, а потом будем делать выводы. Только так. Мы тут как раз перед твоим приходом советовались с Василием Николаевичем, как это лучше сделать.
— Зеленко? — спросил Миронов. — Пригласить Зеленко и показать вещи ей?
— Нет, — решительно возразил полковник, — не Зеленко. Левкович. Надо ее вызвать. Левкович издавна убирает квартиру Черняева, являлась чем-то вроде домашней работницы в семье Черняевых. Вещи Черняева, а кстати и его бывшей жены, она знает лучше, чем Зеленко. Вот ее и нужно привлечь к этому делу. Только осторожно, предупредив строго-настрого, чтобы до Черняева не дошло. Беседовать с Левкович лучше, пожалуй, Луганову. Ты-то ведь с ней уже встречался. Что ты — сотрудник органов госбезопасности, она не знает, и раскрывать это перед ней не следует. Так что — Луганов. Ну как, согласны?
Выслушав указания полковника, Луганов с Мироновым было поднялись и направились к двери, но Скворецкий внезапно задержал Андрея. Выйдя из-за стола, Кирилл Петрович прошелся по кабинету и остановился против Миронова, пристально глянув ему в лицо.
— Что-то ты, брат, последнее время мне не нравишься: вон как осунулся. Нервничаешь? Да и ешь небось из рук вон. Обедаешь-то хоть каждый день или бывает и всухомятку? На ходу?
Миронов смутился.
— Есть грех, Кирилл Петрович, обедать успеваю не всегда: ведь столовая «от» и «до»… А насчет нервов? Приятного, конечно, мало, когда одно за другим сыплется: сначала эта история с Савельевым, теперь — убийство… Но на нервы не жалуюсь, не приходится жаловаться — такая уж наша должность!
— То-то, — наставительно сказал Скворецкий. — Ты мне смотри… И обедать надо, и спать…
— Постараюсь, — улыбнулся Андрей. — Можно идти?
— Идти, конечно, можешь, только вот что: обеды обедами, а ты докладную в Москву о результатах поездки Луганова в Воронеж, к тетке Корнильевой — как ее? Навроцкая? — послал? Нет? Напрасно. Ну что ж, что меня не было: мог и сам послать, без меня. Тут Василий Николаевич мне рассказывал — есть кое-что любопытное. Надо доложить Москве, обязательно надо. Одним словом, берись и пиши.
— Слушаю, Кирилл Петрович, сделаю. Вот пойду пообедаю, — Миронов рассмеялся, — и тут же напишу.
Скворецкий расхохотался в ответ и погрозил Миронову пальцем. Андрей направился к выходу, но, когда он уже брался за ручку двери, полковник внезапно его окликнул:
— Знаешь, Андрей, говоря по совести, меня эта история с убийством здорово заинтересовала. Вдруг действительно окажется, что это Корнильева, а? Ну, иди, иди…
Андрея этот вопрос волновал не меньше, чем Кирилла Петровича, но ответа пока не было. Хочешь не хочешь, а надо было набраться терпения и ждать заключения специалистов. Ждать — это тоже надо уметь…
Выйдя от Скворецкого, Андрей направился к Луганову. Почти одновременно с ним в кабинет вошел оперативный работник, которому было поручено проверить в городских бюро объявлений, не давал ли кто заявки на объявление, текст которого совпадал бы с текстом записки, найденной у Савельева. По выражению его лица было видно, что время он потратил не зря. Так оно и оказалось. Объявление, где речь шла о кульманах и чертежных досках, было обнаружено в городском бюро объявлений. Текст был идентичен тексту записки.
Лейтенант выяснил, что заявка была подана на прошлой неделе Черняевым.
— Когда вывешено объявление, где? — быстро спросил Миронов.
— Оно еще не вывешено, товарищ майор. Там же очередь. Собираются вывесить завтра. А вывешивают они возле бюро, на специальном щите. Улица Петровского, двадцать три.
— Черняев, когда делал заявку, не просил вывесить объявление поскорее, не торопил их? Вам удалось это выяснить? — поинтересовался Миронов.
— Выяснил. Он их не торопил. Наоборот. Сам насчет завтрашнего числа договорился. Знал, очевидно, что есть очередь.
— Скажите, — продолжал расспрашивать Миронов, — а раньше в этом бюро Черняев не бывал, не сдавал объявлений?
— Трудно сказать. Я пытался выяснить — осторожненько, конечно, — но там столько народу бывает, что сотрудники бюро если кого и запомнят, так разве того, кто уж очень оригинальное объявление подает. А тут что? Столы. Строительная организация. Ничего особенного. Таких объявлений сотня на неделе бывает. Не запомнил там никто Черняева. Одни говорят — бывал, другие — наоборот: впервой, мол, приходил. Вот и разбери тут, как оно на самом деле было.
— Чудно, — заметил Луганов, когда лейтенант вышел. — Объявление-то самое обычное, любой курьер, любой посыльный может такое подать, а подает один из руководителей крупного строительства. Нет, право слово, чудно!
— Знаешь что, — решил вдруг Миронов, — пойду-ка я к начальнику управления, к Кириллу Петровичу, и договорюсь, чтобы с завтрашнего утра — ведь объявление завтра вывесят? — кто-нибудь присмотрел за доской. Глядишь, и увидим того, кто поинтересуется этим объявлением. Может, не так все это просто. Как считаешь?
Миронов тут же направился к начальнику Управления КГБ и доложил ему историю с объявлением. Кирилл Петрович, выслушав Андрея, одобрил его предложение и выделил оперативного работника, поручив ему присматривать за доской объявлений.
Вернувшись к себе, Миронов начал писать докладную записку в Москву. Посидеть над запиской ему пришлось основательно, и докладная была закончена только к вечеру. Андрей собрался было нести ее на машинку, как дверь внезапно распахнулась и на пороге появился Луганов.
— Ну, Андрей Иванович, не знаю, что тебе и сказать, — возбужденно заговорил Василий Николаевич, падая в кресло и тяжело отдуваясь. — Черняев-то!..
— Что такое? — спросил Миронов, невольно заражаясь волнением Луганова. — Что там еще стряслось? Чего ты пыхтишь как паровоз?
— Запыхтишь тут… Рысью к тебе бежал, да оно того и стоило. Сейчас все выложу, дай дух переведу. Так вот: были мы с Левкович на вокзале, в камере хранения. Я прямо сейчас оттуда. Ну, этот самый черняевский чемодан она опознала. И вещи тоже. Всё опознала…
— Что значит — опознала? Как опознала?
— Да очень просто. Едва я ей показал чемодан, как она за голову схватилась: «Откуда, говорит, здесь этот чемодан, вещи? Как сюда попали?» А сама вся трясется.
Я, естественно, спрашиваю: «Чего, мол, здесь такого, что этот чемодан на вокзале, почему вы так волнуетесь?» — «Да как же мне не волноваться, — отвечает Левкович, — чемодан-то это Ольги Николаевны, хозяйки моей! Она с ним еще весной на курорт уехала. И вещи ее. Никак, с ней что приключилось?» И в слезы.
— Василий Николаевич! — вскочил с места Миронов. — Василий Николаевич, да ты понимаешь, что говоришь? Понимаешь?
— Превосходно понимаю, Андрей Иванович, еще как понимаю. Ты дальше слушай. А дальше так: принялся я расспрашивать Левкович: как, мол, и что, не ошиблись ли вы, часом? Может, просто похож чемодан и вещи похожи? Ну, она даже обиделась. «Помилуйте, говорит, да как я могу ошибиться, когда сама помогала Ольге Николаевне вещи в чемодан укладывать? В этот самый. Коли сомневаетесь, могу хоть сейчас сказать, что лежит в чемодане».
— Ну?
— Что — ну? Сказала. Не разбирая чемодана, не глядя, чуть не все вещички перечислила. До последней.
— Ведь это… — глухо проговорил Миронов. — Это же… А мы-то еще о безопасности этого мерзавца думали, оберегать его собирались. — Он взялся за телефон и набрал номер начальника угрозыска: — Товарищ полковник? Миронов говорит. Из КГБ… Так… Понятно… Спасибо большое.
— Завтра к вечеру портрет будет готов, — сказал он, кладя трубку. — Но я теперь, пожалуй, могу и сам предсказать результат…
Луганов кивнул головой:
— Пожалуй, я тоже.
С минуту они помолчали, затем Миронов поднялся:
— Ну что ж, Василий Николаевич, дело нешуточное. Пошли к Кириллу Петровичу»
— Минутку, Андрей Иванович. Еще не все. Левкович сообщила кое-что дополнительно…
— А именно?
— Капитон Илларионович собирается на днях в командировку, и, по-видимому, в длительную. Во всяком случае, по словам Левкович, разбирает все свои вещи и откладывает самые лучшие, отбирает самое ценное.
— Так, так… — задумчиво проговорил Миронов. — Тем более пошли к начальству.
Вопрос о чемодане был решен быстро: чемодан необходимо было изъять как улику. Теперь оснований к этому было больше, чем достаточно. Зато, когда перешли к главному, разговор затянулся.
…У начальника управления засиделись допоздна. Миронову изменили его обычное самообладание и выдержка. Излишне горячась и срываясь, он доказывал, что выпускать Черняева из Крайска никак нельзя. Забываясь, Андрей ежеминутно выхватывал папиросы, намереваясь курить, но под строгим взглядом полковника так и не закуривал, клал их в карман, потом снова выхватывал и снова прятал: Кирилл Петрович около года назад бросил курить, бросил сразу, решительно и никому с тех пор не разрешал дымить в его кабинете.
Луганов, всего несколько дней назад и мысли не допускавший о причастности Черняева к какому-либо преступлению, под влиянием последних событий круто изменил свою точку зрения и теперь всецело поддерживал Миронова: он тоже считал, что выпускать Черняева из Крайска нельзя.
Однако начальник управления был непреклонен.
— Не выпускать Черняева из Крайска, — говорил он, — но как? Как его не выпустишь? Ну, допустим отменят командировку, — это, пожалуй, можно сделать, а он возьмет да и поедет без всякой командировки. Что тогда?
— Брать, брать его надо! — взорвался Миронов. — Получить у Москвы санкцию, и брать…
— «Брать»?! Ишь ты какой! — недобро усмехнулся Скворецкий. — Тебе что, лавры Елистратова покоя не дают? (Вернувшись из Энска, Миронов не замедлил проинформировать Скворецкого обо всем, что там произошло, не скрыв и похождений Елистратова.)
— Кирилл Петрович! — возмутился Андрей. — Это… это удар ниже пояса. Ну как вы можете сравнивать меня с Елистратовым?! Там же была липа, а тут…
— Что — тут? — жестко перебил Скворецкий. — Что? Чемодан? Объявление? Этого для ареста мало. Брать его сейчас, пока не закончена работа над портретом убитой, нельзя. Разве всплывет что новое. Да и тогда вообще брать его здесь, в Крайске, нельзя, если даже твои предположения подтвердятся. Возьми здесь — что получится? Об аресте станет известно, и, если он действовал не один (а этого исключать нельзя), сообщники скроются, заметут следы. Ищи их потом.
Последний довод начальника управления подействовал на Миронова и Луганова: они примолкли. Андрей снова полез было за папиросой, но, взглянув с тоской на Кирилла Петровича, сунул пачку обратно.
— Да ладно уж, ладно, кури… — с раздражением сказал Скворецкий. — Только иди к форточке, чтобы тут табачищем не пахло.
— А что, Кирилл Петрович, — с ехидцей спросил Миронов, — тянет все-таки?
— «Тянет, тянет»! — проворчал Скворецкий. — Тянет не тянет, а тряпкой не буду. Бросил — и точка. Ну, давай к делу. Значит, так: брать Черняева пока не будем. Если действительно выедет из Крайска, тогда решим, что делать. Пока будем действовать, как было намечено раньше. Вопросы есть?
Вопросов не было, и Миронов с Лугановым покинули кабинет полковника.
Глава 12
С утра, по дороге в управление, Миронов зашел в больницу навести справки о состоянии Савельева, как он делал это все последние дни. Андрею повезло: он застал на месте лечащего врача, который сообщил ему последние новости. Как ни осторожно говорил врач, из его рассказа можно было понять, что в состоянии Сергея наступило улучшение. Врач сказал даже, что у больного замечаются некоторые проблески сознания.
Андрей настолько обрадовался, что тут же потребовал свидания: «Вы представить себе не можете, доктор, — настаивал он, — насколько это важно». Но врач в ответ раздраженно фыркнул и замахал руками:
— Увольте, голубчик, увольте. Ни о каком свидании пока и речи быть не может. Ваших дел я не знаю и знать не хочу, но волновать больного нельзя.
Так и пришлось Андрею уйти из больницы, ничего не добившись.
…Первую половину дня все шло более или менее спокойно: Луганов в управлении строительства выяснил, что Черняев действительно через день или два должен выехать в командировку, но не такую уж длительную — на неделю-полторы. Тем больший интерес представляло вчерашнее сообщение Левкович о сборах Черняева. Сам Капитон Илларионович, однако, вел себя как ни в чем не бывало: совершенно так же, как и все предыдущие дни. Единственным отступлением от обычного для него распорядка было то, что по пути на работу он завернул в бюро объявлений и проверил, вывешена ли его заявка. Убедившись, что объявление вывешено, Черняев отправился на строительство, где и находился все время.
Неожиданности начались к вечеру. По телефону позвонил сотрудник, находившийся поблизости от доски объявлений на улице Петровского. Не пытаясь скрыть своего смущения, он доложил, что совсем недавно к витрине подошла молодая женщина, которая, как он заметил, бегло просмотрев другие объявления, на черняевском задержалась. До нее этим объявлением никто не интересовался. Других объявлений женщина смотреть не стала, круто повернулась и… затерялась в толпе. Сотрудник кинулся было за ней вслед, но без толку: она как в воду канула.
Чертыхаясь про себя, Миронов спросил сотрудника, не заметил ли он во внешнем облике этой женщины чего-либо приметного, каких-нибудь характерных черт. Оказалось, тот многое заметил, запомнил. Миронов предложил сотруднику составить подробнейшее описание внешности женщины, которую он упустил. Хочешь не хочешь, а пока приходилось довольствоваться этим.
Андрей собрался было позвонить Луганову, чтобы сообщить новость, но тот сам появился на пороге.
— Как, Андрей Иванович, ты один? — спросил он, входя. — У меня срочное сообщение. Только что звонили со строительства. Черняев уезжает завтра…
— Завтра? — нахмурился Миронов. — Это меняет дело.
Андрей тут же попытался связаться с начальником управления, но его не застал. Полковник был в обкоме партии.
Тогда Миронов позвонил начальнику уголовного розыска: как, мол, там с портретной реконструкцией? Но тоже без результата: работа еще не была закончена. Однако полковник Петров сказал, что дело идет к концу и, если Миронов будет на месте, он ему позвонит. Оставалось одно: набраться терпения и ждать. И они ждали — Миронов и Луганов. Сидели вдвоем в полумраке кабинета, освещаемого лишь настольной лампой. Курили. Изредка перебрасывались отдельными фразами. То один, то другой невольно бросали взгляды на телефонный аппарат, будто от того зависело, когда раздастся звонок. Ждали…
Было уже около девяти часов вечера, когда телефон наконец зазвонил. Андрей поспешно схватил трубку:
— Слушаю… Да, Управление КГБ… — В его голосе послышалось недоумение. — Да, я майор Миронов… Что?.. Не может быть!.. Вот за это спасибо, большущее спасибо… Да, конечно, сейчас будем.
Луганов, как ни прислушивался к отрывистым, односложным ответам, никак не мог понять, кто звонит, о чем идет разговор. Ясно было одно: звонок не из уголовного розыска. И Луганов не ошибся…
— Василий Николаевич, — воскликнул Миронов, закончив разговор, — знаешь кто звонил? Врач! Врач, который лечит Савельева. Сергей пришел в себя, заговорил и требует немедленного свидания с нами. Поехали?
— Поедем, — сразу согласился Луганов, — но как быть с экспертизой, с портретной реконструкцией? Ведь вот-вот должны позвонить?
— А мы вот что сделаем, — решил Миронов. — Сообщим дежурному по угрозыску, что ненадолго выехали. Как вернемся, пройдем прямо к полковнику Петрову. Идет?
Договорившись с дежурным, они поспешили в больницу.
Попасть к Савельеву, однако, оказалось далеко не так просто. Старая раздражительная привратница не то что впустить их в больницу, но и слушать не хотела. Ни просьбы, ни угрозы на нее не действовали. На служебные удостоверения, которые пытались ей предъявить Миронов и Луганов, она и смотреть не хотела. Положение спас дежурный врач. Он был предупрежден об их посещении и провел Миронова и Луганова прямо в то отделение, в котором лежал Савельев. Там их ожидал лечащий врач.
— Присаживайтесь, — сказал он, пропуская Миронова и Луганова в ординаторскую, — располагайтесь. Дело обстоит так. Савельев пришел в себя часа полтора назад. Обнаружила это дежурная сестра, и сразу — за мной. Едва я вошел, вижу: смотрит он прямо на меня, пристально, пытливо. «Где я, спрашивает, почему?»
Ну, я принялся ему растолковывать: вы, мол, голубчик, были больны, тяжко больны, а это — больница. Только волноваться не к чему, теперь дела у вас пошли на лад…
Савельев, однако, и слушать не стал. «Доктор, говорит, прошу позвонить майору Миронову. Пусть придет. Немедленно». И телефон ваш назвал. Я пытался было возражать, просил отложить хоть до завтра — куда там! «Доктор, — сказал мне Савельев, — я чекист. Чекист. Вы понимаете? Надо. Тянуть нельзя…» Вижу, дело серьезное, да и разволновался больной, как бы хуже не стало, вот я вам и позвонил…
— Спасибо, — сказал Миронов. — Еще раз спасибо, товарищ доктор. Так как, пойдем?
— Хорошо, — сказал врач. — Только еще два слова: волновать больного нельзя. Он еще слаб, очень слаб, так что я попрошу покороче. От силы минут пять. Больше разрешить никак не могу. Нельзя.
— Учтем, — кивнул Андрей. — Только… только у нас просьба: нам бы желательно, просто необходимо без свидетелей. Я понимаю, доктор, все понимаю — больница, но… но вы уж нас извините, такие у нас дела…
Врач молча кивнул и поднялся со своего места, приглашая Миронова и Луганова следовать за собой. Они прошли длинным, полутемным в эти поздние часы коридором и остановились возле одной из палат.
Приложив палец к губам, врач приоткрыл дверь, задержался на пороге и шепотом повторил:
— Помните, пять минут, не больше.
В первый момент ни Миронов, ни Луганов не разглядели Савельева. Палату освещал лишь слабый свет полупритененного ночника, стоявшего на тумбочке в изголовье кровати. Углы комнаты тонули во мраке. В тени оставалось и лицо Сергея, чуть выделявшееся на белизне подушки. Свет падал только на его руки, неподвижно лежавшие поверх одеяла, да на ночной коврик возле кровати.
Казалось, Сергей спит или находится в забытьи. Но это только казалось. Прошло несколько секунд, и с койки послышался слабый, прерывающийся голос:
— Товарищ майор, пришли… Спасибо… А я, видите, не оправдал… — В голосе Сергея прозвучала глубокая горечь.
— Ну, ну, хватит ерунду говорить! — с подчеркнутой бодростью сказал Миронов.
Он взял стоявший невдалеке от кровати стул, сел, придвинувшись поближе, и взял в свою руку безжизненную руку Сергея. Луганов остался стоять чуть в стороне. С мгновение в палате царила мертвая тишина.
— Нет, товарищ майор, не оправдал… — снова заговорил Савельев. — Провалил такое серьезное дело…
— Сергей, как не стыдно! — возмутился Миронов. — «Провалил»! Почему провалил? В нашем деле всякое бывает. И успехи, и неудачи. Ты лучше скажи, тебе ничего не нужно? Все сделаем…
— Товарищ майор, — перебил Савельев, — я ведь не так, я — по делу…
— Может, с делом отложим? До завтра? — неуверенно спросил Миронов.
Но Савельев отрицательно качнул головой:
— Нельзя… До завтра нельзя. Боюсь, и теперь уже поздно… Черняев в тот день был в бюро объявлений. Я текст переписал. Он у меня в кармане…
— Знаем, записку нашли, — успокоил его Миронов. — Все в порядке.
— Нашли? Это хорошо… А труба… труба?
— Какая труба?
— Водосточная. На заброшенном лабазе, на пустыре, возле Федосьевской рощи.
— Федосьевская роща? — переспросил Луганов. — Это как раз около того переулка, где с тобой все стряслось?
— Да, там.
— Позвольте, — вмешался Миронов, — что еще за труба? Какая роща? Ты о чем, Сережа?
— Это очень важно, товарищ майор, — слабеющим голосом проговорил Савельев. — В тот самый вечер Черняев отправился в пригород, к Федосьевской роще… Прошелся он рощей, вышел на пустырь. Тут луна взошла… Там, на пустыре, лабаз… С той стены, что обращена к роще, водосточная труба… Черняев походил возле лабаза — и к трубе. Нагнулся, достал что-то из трубы и сунул в карман.
— Достал или положил в трубу? — уточнил Миронов.
— Достал. Я хорошо видел… В карман положил. Потом пошел в переулок. Я перебежал пустырь и тоже в переулок. Дошел до середины… и все. Вроде что грохнуло. Что дальше было, не знаю…
Силы окончательно изменили Савельеву. Последние слова он произнес чуть слышно, шепотом.
— Сережа, Сережа, — сжал ему руку Миронов, — а когда «грохнуло», Черняева ты видел? Он где был: впереди тебя или сзади?
— Впереди, — прошептал Савельев, — он впереди был… Но труба, труба… Там… Надо…
— Сделаем! — воскликнул Миронов. — Все сделаем! Ты не волнуйся. Мы прямо из больницы — туда. Только ты держись, поправляйся скорее.
— Ничего… я ничего… Теперь поправлюсь.
Дверь тихо приоткрылась, и на пороге появился врач:
— Как, товарищи, кончили? Время…
Миронов и Луганов простились с Савельевым и, ступая на цыпочках, вышли из палаты. Едва очутившись в коридоре и распрощавшись с врачом, они переглянулись.
— Ну, — спросил Андрей, — что скажешь?
— А чего тут говорить? — удивился Луганов. — Тут не говорить, а действовать надо, да поживее. Сергей прав, и так сколько времени упущено.
— То-то и оно, — задумчиво проговорил Миронов, — времени прошло много. Трубу следует, конечно, осмотреть, хотя вряд ли что там найдем. А вот глаз с этой трубы спускать теперь нельзя. Может, тот, кто оставил там то, ради чего приходил Черняев, явится еще раз? Но каков Черняев? Это тебе уже не чемодан с дамскими вещичками.
— Да ладно тебе, — поморщился Луганов. — Сам вижу. Что же, однако, делать будем?
Они уже вышли из больницы и стояли на тротуаре под моросящим дождем. Ночь была темная, безлунная. Порывами налетал ветер, швыряя в лицо холодную водяную пыль.
— Бррр, — поежился Миронов, — ну и погодка! Промокнем, брат, мы с тобой, как собаки. Ну да ладно — не привыкать стать. Как далеко эта самая Федоскина роща?
— Не Федоскина, а Федосьевская, — методично уточнил Луганов.
— Товарищ Луганов! Что за тон? Я вас не узнаю. Вам, мне сдается, начинает изменять чувство юмора. Кстати, я так и не слышу, где она, эта самая Федосьевская роща?
— Далековато, — вздохнул Луганов.
— Тогда так. Едем сейчас в управление. Свяжемся с полковником и доложим обстановку. Все равно без его разрешения ничего не сделаешь. Заодно выясним, как там дела в уголовном розыске. Может, они кончили наконец реконструкцию. Затем двинем на пустырь, к трубе. Возражения имеются?
Быстро дойдя до Управления КГБ, они первым делом позвонили в уголовный розыск. Но там ничего утешительного не узнали — работа еще не была закончена. Затем от дежурного по Управлению КГБ они узнали, что полковник Скворецкий с полчаса назад поехал домой. Миронов набрал номер телефона его квартиры. Трубку снял сам Кирилл Петрович. Андрей коротко доложил о разговоре с Савельевым и сказал, что намеревается выехать вместе с Лугановым на пустырь к лабазу. Надо, мол, посмотреть, что там делается.
— Правильно, — сразу согласился Скворецкий, — надо ехать. С собой возьмите двух сотрудников. Думаю, двоих хватит. Я распоряжусь. Они там останутся и поглядят, не придет ли кто к трубе. Вернешься — позвони.
Глава 13
Когда Миронов, Луганов и двое выделенных им в помощь сотрудников вышли на улицу, дождь заметно усилился.
— Вот, черт, зарядил! — выругался Миронов, садясь в машину. — Того и гляди, насморк подхватишь.
Луганов рассмеялся:
— А не кажется вам, товарищ майор, что кое-кому изменило чувство юмора?
— Ладно, смейся, смейся, — огрызнулся Андрей. — Вот начнешь чихать, посмотрим, как тогда будешь смеяться.
— Между прочим, не расчихаюсь. Да и ты тоже, Андрей Иванович, зря прибедняешься. У меня по этому поводу есть целая теория. Наш брат, оперативный работник, что солдат на фронте, в бою, не болеет. Не боится ни дождя, ни снега, ни жары, ни холода. Ничто его не берет. Вот пройдет еще годков пятнадцать — двадцать, останусь цел, выйду на пенсию и напишу научный трактат на сию тему. Диссертацию!
— Ишь ты, теоретик! — усмехнулся Миронов.
— А что? — не сдавался Луганов. — Ведь в каких только переделках не приходилось бывать! И мокли, и мерзли, и парились, и жарились, а хоть бы что! Ни тебе насморка, ни кашля. Не до этого. Знаешь, был у меня такой случай, я тогда еще в угрозыске работал. Было такое дело. Брали мы бандита. Матерого. Брать его нужно было тихо, без шума и поначалу одного. А он, как назло, с дружками гуляет. Выследить-то мы его выследили, обложили, а дальше что? Пока в квартире сидит — не возьмешь. Ждать надо. Гуляют же они, надо тебе сказать, в одиноком домике, на окраине. Рядом ни здания, ни сараюшки — укрыться негде. Один заборчик, и то штакетник. Ну, пока светло было, мы издали наблюдали, все ждали, не выйдет ли. Только напрасно: гуляют они и гуляют — конца не видно. Стало смеркаться. Ну, думаем, дело труба. В темноте издали немного увидишь, упустишь, за милую душу. Надо подтягиваться поближе. А укрыться, повторяю, негде — голо. Между прочим, днем, пока мы за домом наблюдали, заметил я возле заборчика лужу. Здоровенную. Грузовик прошел, так нырнул по самые ступицы. Мигнул я своим ребятам, лег на землю и пополз к этой самой луже. По-пластунски. Забрался в лужу и лежу, не шевелюсь, снаружи только глаза и нос. Наблюдаю. Пролежал, чтобы не соврать, часа три, а дело было осенью, холодище, погодка вроде вот как сейчас, разве что дождь послабее. И что, думаешь, зачихал? Закашлял? Дудки! Вот оно как с нашим братом бывает, а ты говоришь — насморк.
— Ну, а его, бандита-то этого, взяли? — с интересом спросил Миронов.
— А как же, — равнодушно ответил Луганов. — Конечно, взяли. В тот же вечер. Однако стоп. Дальше ехать нам не с руки, придется пешком.
Машина остановилась квартала за четыре до того переулка, что вел к пустырю, на котором находился лабаз. Место было глухое, пустынное. Маленькие одноэтажные домики прятались за высокими изгородями. Машина была здесь редкостью. Если бы поблизости невзначай оказался человек, пришедший к трубе, появление машины могло его насторожить, спугнуть. Невдалеке же от того места, где они остановились, находился переулок, где и решено было укрыть машину.
План действий был намечен заранее, и сейчас все действовали четко, согласованно, без лишней суеты. К счастью, Луганов хорошо знал местность, поэтому была предусмотрена каждая мелочь. Выйдя из машины, они разделились: Миронов и Луганов зашагали прямо к переулку, что вел на пустырь, а ехавшие с ними сотрудники, поотстав, шли один за другим, шагах в двадцати — тридцати друг от друга. Шли все быстро, но осторожно, внимательно осматриваясь по сторонам. А дождь все лил и лил…
Едва Миронов и Луганов свернули в переулок, один из сотрудников резко ускорил шаг, догнал их, с независимым видом прошел мимо, первым вышел на пустырь, пристально огляделся, а затем быстро пересек пустырь, дошел до рощи и укрылся на ее опушке, под одним из деревьев.
Миронов и Луганов, миновав переулок, направились прямо к лабазу. Подойдя вплотную, они внимательно осмотрели лабаз. Солидное, построенное на года приземистое здание еще держалось, хотя, судя по виду, было уже давно заброшено. Узкие, забранные толстыми железными прутьями окна ушли в землю. Стекол не было. Черепица, которой когда-то была выложена кровля, пообвалилась. Однако крыша еще держалась, разве кое-где прохудилась.
С той стороны лабаза, где остановились Миронов и Луганов, никаких водосточных труб не было. Впрочем, Савельев ведь и говорил о трубе, расположенной на противоположной стороне, на той, что обращена к роще.
Постояв с минуту, они обогнули лабаз, задержались возле дверного проема и перешагнули через порог. Воздух внутри лабаза был сырой, почти как на улице, но сверху не текло и луж на земляном, плотно утрамбованном полу не было. Луганов зажег электрический фонарик, бросавший острый, как жало, сноп яркого света, прикрыв сверху фонарик ладонью, как козырьком. Луч света прошелся по всему полу, вырывая из мрака разбросанный тут и там мусор и грязь. Ничего достойного внимания не было.
Погасив фонарь, Луганов вышел наружу. Андрей — за ним. Работали они молча, сосредоточенно, не обмениваясь ни словом. Завернули за угол. Там, как и говорил Савельев, со стены, что против Федосьевской рощи, свисала ветхая, проржавевшая водосточная труба. Подходя к трубе, Миронов заметил, что вода из нее не текла: труба, по-видимому, настолько засорилась, что не пропускала воды, а может, была кем-то предусмотрительно заткнута? Во всяком случае, это обстоятельство насторожило Миронова. Чем черт не шутит?!
Луганов присел на корточки возле самой трубы, а Андрей, чертыхаясь в душе, скинул свой плащ и плотно прикрыл им Луганова на манер того, как это делали в старину профессиональные фотографы, укрывавшие свою голову и фотоаппарат предназначенным для того покрывалом. Теперь, казалось Миронову, наружу не прорвется ни лучика света, но, когда Луганов включил свой фонарь, кое-какие щелки обнаружились. Однако свет, проникавший через них, был настолько слаб, что рассмотреть его можно было только вблизи, так что оснований для волнения не было.
Прошла секунда, другая, и из-под плаща послышался сдержанный, глухой голос Луганова: «Есть». В то же мгновение свет погас.
— Что есть? — свистящим шепотом спросил Миронов. — Ты это всерьез, Василий Николаевич?
— А ты как думаешь, шучу? — ответил тот, выпрямляясь и пряча что-то в карман. — Бери скорее плащ, а то промок небось. Идем в лабаз, там разберемся.
Натягивая на ходу плащ, Андрей чуть не бегом кинулся в лабаз. Едва они успели очутиться под крышей, как Миронов заторопил:
— Ну, давай выкладывай, что ты там такое нашел?
Луганов не спеша сунул руку в карман, но что он оттуда вытянул, Миронов в кромешной тьме не видел. А Луганов не торопился: он нарочито медленно, спокойно присел на корточки и потянул за собой Андрея. Когда тот тоже пригнулся, Луганов включил свой фонарик. Луч света упал на его плотно сжатый кулак. Медленно, очень медленно Луганов разжал кулак, и Миронов увидел спичечный коробок. Обыкновенный спичечный коробок, изрядно замусоленный.
Осторожно, будто это было нечто чрезвычайно хрупкое, Миронов взял коробок, тщательно осмотрел его со всех сторон и, наконец, раскрыл. Василий Николаевич светил ему фонариком. Внутри коробка лежало нечто продолговатое, твердое, обернутое в небольшой листок бумаги. Развернув бумагу, они увидели плоский металлический ключик от висячего замка или от чемодана. Впрочем, тут же стало ясно, что ключ именно от чемодана: внимательно рассмотрев бумагу, в которую он был завернут, Миронов убедился, что это — багажная квитанция, выданная камерой хранения Крайского аэропорта на ручной саквояж гражданке А. К. Войцеховской. Квитанция была датирована минувшим днем.
— Войцеховская… — пробормотал Миронов. — Войцеховская? Тебе, Василий Николаевич, эта фамилия ничего не говорит?
— Впервые слышу, — отозвался Луганов.
— Ну ладно, Войцеховская так Войцеховская. Там видно будет.
Миронов вынул из внутреннего кармана предусмотрительно захваченный миниатюрный фотоаппарат и сделал несколько снимков, запечатлев во всех положениях и ракурсах спичечный коробок, ключ и квитанцию. Покончив с этим делом, он убрал аппарат в карман, завернул ключ в квитанцию и вложил в коробок, как он лежал прежде. Поместив коробок на прежнее место, в трубу, Миронов и Луганов направились к опушке рощи, где их поджидал один из сотрудников. Условным свистом они подозвали второго сотрудника, который дежурил в переулке, у входа на пустырь.
Когда все собрались, Миронов рассказал о находке. Как он полагал (Луганов был с ним согласен), за коробком должны были прийти этой же ночью, самое позднее — на следующий день. Такие «посылки» долго в тайниках не держат. (Что труба служила тайником, сомнений не было.) Оперативные работники (один — в роще, другой — в переулке) должны были не спускать глаз с каждого, кто приблизится к лабазу. На них, сказал Миронов, возлагается задача: выяснить личность того, кто явится за коробком.
— Только смотрите на этот раз не упустите, — строго заметил одному из работников Миронов.
Тот вспыхнул. Это был тот самый сотрудник, который дежурил у витрины на улице Петровского и потерял женщину, проявившую повышенный интерес к объявлению Черняева.
— Не сомневайтесь, товарищ майор, — сказал он, и голос его чуть дрогнул, — не упустим. Со мной это не так часто случается…
Закончив инструктаж, Миронов и Луганов направились к машине. По пути они обсуждали план дальнейших действий. Оба сошлись на том, что, коль скоро дело так далеко зашло, следует немедленно съездить в аэропорт и проверить содержимое саквояжа, сданного на хранение на имя Войцеховской (и тот и другой полагали, что сдавала его не Войцеховская: зачем было ей прятать ключ и квитанцию на собственноручно сданный на хранение саквояж где-то у черта на куличках, в водосточной трубе?!). Луганов настаивал, что ехать на аэродром следует ему, так как он знает Крайский аэродром как свои пять пальцев, да и его там знают, чего про Миронова сказать нельзя. Возражать Луганову было трудно, и Андрей согласился. Василий Николаевич завез его в управление, а сам поехал в аэропорт, расположенный километрах в тридцати от города.
На прощание Миронов сказал:
— Ты, Василий Николаевич, позвони все-таки о результатах. Может, меня что задержит…
— Ладно, ладно, позвоню. Но лучше бы ты не задерживался, шел бы спать…
Войдя в управление, Миронов непроизвольно посмотрел на часы, висевшие в вестибюле против входа. Шел второй час ночи. Во всем здании стояла тишина, не было видно ни души. Миронов вспомнил те времена, когда началась его работа в органах государственной безопасности. Тогда, в начале пятидесятых годов, нужно это было или не нужно, все сотрудники министерства да и областных управлений просиживали ночи напролет. Впрочем, почти так же работали в те годы не только в органах государственной безопасности… Трудно сейчас даже поверить, что было такое!..
Миронов усмехнулся: нашел что вспоминать! Он прекрасно сознавал, что и сейчас чекистам, да и не только чекистам, приходится порой работать по ночам, работать сутками, без отдыха, без сна, но это только тогда, когда действительно необходимо, и только тому, чья работа непременно требуется; вот как сегодня ночью ему с Лугановым. Но насколько это отлично, в корне отлично от того ненужного, нелепого бдения, на которое раньше обрекали тысячи и тысячи людей.
«Нет, — сделал неожиданный вывод Миронов, — не буду звонить Кириллу Петровичу. Чего зря будить? Ничего не изменится, если доложу завтра. С утра».
Не заходя к себе, Миронов прошел прямо к дежурному по управлению: как он ни устал, ему не терпелось узнать, нет ли каких новостей из уголовного розыска, как там с портретной реконструкцией.
— Товарищ майор, наконец-то, — встретил Андрея дежурный по управлению. — Вас уже битый час разыскивает начальник уголовного розыска полковник Петров. Все телефоны оборвал. Давайте к нему. Быстренько.
Усталость с Андрея как рукой сняло: чуть не бегом он кинулся в уголовный розыск. Увидев, в каком виде явился Миронов — промокший насквозь, посиневший, полковник участливо спросил:
— Что, досталось?
— Ничего, — ответил Миронов, — не то чтобы досталось, но вымокнуть пришлось изрядно.
Андрей рассказал начальнику уголовного розыска о ночной поездке на пустырь и о находке.
Полковник слушал внимательно, не перебивая. Изредка вставлял вопросы, уточнял подробности. Когда Миронов кончил, он сказал только одно слово:
— Любопытно.
Помолчал с минуту и снова повторил:
— Весьма любопытно.
Прошло еще с полминуты, затем полковник не спеша придвинул к себе лежавшую на столе папку и так же не спеша достал из нее два объемистых пакета. Приоткрыв один из пакетов, он заглянул в него, заглянул в другой пакет и только тогда обратился к Миронову:
— Ничего не скажу, рассказанная вами история представляет большой интерес, но и у меня тоже есть для вас кое-что. Вот, полюбуйтесь.
Начальник уголовного розыска взял оба пакета со стола, повертел их в руках и один из них молча протянул Миронову. Андрей, стараясь ничем не выдать своего волнения, открыл пакет и вынул из него пачку фотографий. Просмотрев их, он с недоумением взглянул на полковника: это были фотографии Корнильевой, большинство которых Андрей уже не раз видел.
Тогда полковник, все так же не произнося ни слова, протянул Миронову другой пакет. В нем, как и в первом, лежали фотографии. Едва Миронов взглянул на первую, как ахнул. Он стал лихорадочно перебирать фотографии, и чем дольше их рассматривал, тем явственнее на его лице проступало выражение неподдельного изумления и ужаса.
С каждой из фотографий на Андрея смотрело лицо… Корнильевой. Оно, безусловно, отличалось от того лица, которое было изображено на снимках, лежавших в первом пакете: выглядело это лицо чуть постарше, было оно безжизненным, напоминало маску. И все же сомнений не было: перед Андреем были фотографии одного и того же человека.
Миронов глубоко, судорожно вздохнул и протянул пакет полковнику. Лицо у того, в противоположность Миронову, светилось торжеством. Было видно, что полковник искренне, от души наслаждается результатами предпринятого по его предложению эксперимента, что он доволен произведенным впечатлением.
— Так-то оно, голубчик вы мой, — добродушно проворчал полковник, — вот что она за штука такая, эта самая портретная реконструкция. Так-то. Учтите: специалисты, которые занимались восстановлением лица убитой, фотографий Черняевой не видали. Вплоть до конца работы. Не полагается. Фотографию мы им показали только тогда, когда работа была закончена. Впрочем, не совсем закончена. По фотографии восстановили прическу: тут уж ничего не поделаешь. Ну, а затем сделали ряд снимков в разных ракурсах и сличили с фотографиями живой. Результаты перед вами. Как, не плохо?
— Знаете, — сказал Миронов, рассеянно вертя в руках карандаш, — если бы я не знал, что все это портретная реконструкция, никогда бы не подумал… Да что там не подумал? Уверять бы стали, не поверил, что снимки сделаны не с живого человека. Поразительно!
— Вот, вот, — подхватил полковник, — вот именно. А представьте себе, батенька, что такие вот снимочки мы предъявим человеку, который ни о какой реконструкции и понятия не имеет. Представляете? То-то!
Полковник глянул на часы, крепко потер себе лоб и, внимательно посмотрев на Андрея, сказал:
— Однако мы с вами засиделись, а время позднее, спать пора. Давайте уж с утра свяжемся и решим, что делать дальше. Картина-то ясная. Убийцу брать надо…
«Убийца! — подумал Миронов. — Но ведь имя-то убийцы пока не названо? Ну ничего, подождем до завтра».
Миронов было поднялся, прощаясь с полковником, но в этот момент раздался телефонный звонок. Начальник угрозыска снял трубку:
— Слушаю… Да, я… Так… Так… Миронов? У меня… Передаю. — Он протянул трубку Андрею. — Луганов ваш звонит. Из аэропорта.
Миронов подошел к телефону. Как бы извиняясь, Луганов сказал, что звонил дежурному по Управлению КГБ, тот и направил его сюда, сообщив, что Миронова вызвал начальник уголовного розыска.
— Что там нового? — спросил Луганов.
— Она, — коротко сказал Андрей. — Она самая. Подробности завтра. Что у тебя?
— Саквояж нашел. Там женское платье, две пары белья, несколько книг. Ничего интересного.
— Постукал, двойного дна нет?
— Не беспокойся: ни двойных стенок, ни дна. Проверил.
— Ладно. Тогда поезжай домой отдыхать. Я тоже иду спать. Иду, иду, не беспокойся…
Положив трубку, Миронов повернулся к начальнику уголовного розыска:
— Значит, до завтра, товарищ полковник?
— До завтра, — ответил полковник, энергично пожимая ему руку и провожая до двери, — утро вечера мудренее.
Глава 14
Полковник Скворецкий был раздражен до крайности.
— Нет, почему, ты скажи, почему не позвонил ночью? — гневно выговаривал он понуро стоявшему Миронову. — Почему не доложил с утра? Не соизволил себя утруждать, ждал особого приглашения? А я, старый дурак, узнаю о важнейших происшествиях последним. И от кого? От своих сотрудников? Черта с два! Из уголовного розыска, из милиции! Нет, каково?! Да ты что, в конце концов, воды в рот набрал, что ли?
Андрей упорно молчал. Что мог он сказать? Сослаться на секретаря полковника, виновного во всем этом недоразумении? Глупо. Глупо и несолидно. Как все получилось? Расставшись минувшей ночью с начальником уголовного розыска, Андрей решил не звонить Скворецкому, не тревожить его, отложить до утра. Было как-никак около трех пополуночи. Да и какая была нужда поднимать полковника с постели? И так все необходимое было сделано: люди в Федосьевской роще, вблизи от лабаза с водосточной трубой, дежурили; саквояж в аэропорту был проверен; фотографии портретной реконструкции изготовлены. Что еще ночью сделаешь?
Прямо от начальника уголовного розыска, не заходя в управление, Миронов отправился к себе в гостиницу. С облегчением скинув одежду, которая все еще не просохла, он с головой забрался под одеяло, надеясь, что тут же уснет. Андрей намеревался встать пораньше, чтобы быть в управлении еще до прихода Скворецкого и сразу же, как тот появится, доложить ему о событиях минувшей ночи во всех подробностях. Сон, однако, не шел. То и дело перед глазами вставала Корнильева, такая, какой она была изображена на фотографиях реконструкции. Страшная штука!..
В управление Миронов пришел, когда не было и девяти часов. Скворецкий еще не появлялся. Строго-настрого наказав секретарю, чтобы тот сразу же соединил его с полковником, как только тот приедет, Андрей прошел к себе. Там его уже ждал Луганов, явившийся тоже пораньше.
Время шло, близилось уже десять часов, а звонка от полковника все не было. «Где может быть Кирилл Петрович, — думал Миронов, — почему задерживается? Ведь он собирался быть у себя с утра».
Наконец телефон зазвонил. Миронов, сдерживая нетерпение, не спеша поднял трубку.
— Товарищ майор? — послышался голос секретаря начальника управления. — Вас полковник вызывает, срочно.
— Вызывает? — с недоумением переспросил Андрей. — Так он что, давно у себя?
— Да так с полчаса, минут сорок.
— Послушайте, — возмутился Миронов, — я же вас русским языком просил соединить меня с полковником, как только он придет…
— Мало что просили, — невозмутимо возразил секретарь, — полковник был занят. С утра у него был начальник уголовного розыска, полковник Петров…
«Все ясно, — подумал Миронов, с ожесточением кладя трубку на рычаг. — Ну и удружил же мне этот самый секретарь, будь он неладен!» Луганов, который все понял, смотрел на него сочувственно.
— Ладно, Василий Николаевич, ты посиди тут, подожди. Пойду-ка я к полковнику один, так лучше будет. Чую — быть грозе!..
Он не ошибся. Вот теперь, стоя перед разбушевавшимся полковником, Андрей понимал, насколько тому было горько. Миронов живо представил себе, как начальник уголовного розыска, хитровато посмеиваясь, информировал о происшедших событиях начальника Управления КГБ, находившегося по его, Андрея, вине в полном неведении.
— Нет, ты только подумай, — продолжал бушевать Скворецкий, — каково мне было сидеть и хлопать ушами, пока начальник угрозыска с этаким невинным видом рассказывал о твоих похождениях! И все с подковыркой… «Ты, мол, Кирилл Петрович, конечно, в курсе дела, тебе, конечно, уже доложили, проинформировали». «Доложили»! «Проинформировали»! Черта с два! Никто и слова не сказал. Ну почему, в самом деле, ночью, как этот коробок нашли, не позвонили? Почему?
Миронов решил, что пора вставить слово:
— Кирилл Петрович, так ведь поздно было, далеко за полночь, будить вас не хотел. И в мыслях не было вас подводить. Думал все с утра доложить, как приедете. Сам вижу, получилось нескладно…
— Да, удружил, ничего не скажешь, — махнул рукой Скворецкий. — Ну ладно. Луганов где? У тебя? Давай его сюда, будем соображать, что дальше делать.
Пока ждали Луганова, Миронов успел коротко доложить полковнику о событиях минувшей ночи. Фотографии спичечного коробка, ключа и квитанции были готовы, и он показал их Скворецкому. Особенно заинтересовала Кирилла Петровича фотография багажной квитанции.
— Войцеховская? — вслух рассуждал Скворецкий. — Войцеховская? Это что еще за птица такая, откуда взялась? Что ты на это скажешь?
Андрей пожал плечами:
— Пока ничего. Ни мне, ни Луганову это имя ничего не говорит.
— Ну ладно, — сказал полковник. — Разберемся. Дай срок… Что у тебя дальше?
Миронов перешел к рассказу о результатах портретной реконструкции, но Скворецкий резко оборвал его:
— Хватит. Об этой самой реконструкции можешь не докладывать. Уволь, все равно ничего нового не скажешь. И так наслышан. Мне начальник уголовного розыска все уши прожужжал. Фотографии — вот они…
Скворецкий приподнял лежавшую на столе газету, под которой Миронов увидел знакомые пакеты.
Тем временем подошел Луганов. Полковник вышел из-за своего стола, уселся в кресло напротив Миронова и Луганова и спросил, обращаясь к обоим:
— Ну-с, так что вы надумали? Какие будут предложения?
— Разрешите, Кирилл Петрович, — начал Миронов. — Прежде всего о главном: Черняева надо брать. Теперь пора. Вопрос с Корнильевой ясен. Вот доказательства, — Миронов сделал жест в сторону фотографий. — Убийца известен. Это не кто иной, как ее бывший муж — Черняев.
Наступила короткая пауза. Миронов, ожидая вопросов, остановился и посмотрел на Скворецкого, но тот молча кивнул головой: давай, мол, продолжай. Послушаем, что-то ты дальше скажешь?
— Достаточно ли оснований утверждать, что убийцей является именно Черняев? — задал сам себе вопрос Миронов и тут же твердо, решительно ответил: — Да. Достаточно. Корнильева, как свидетельствует экспертиза, была убита около десяти часов вечера двадцать восьмого мая, то есть примерно через час после того, как она вышла из своей квартиры и отправилась на вокзал. Что нам известно об этом часе, последнем в жизни Корнильевой? Из квартиры она вышла не одна, а вместе с Черняевым, который, между прочим, нес ее чемодан. Это видела Зеленко. (Заметим, кстати, чемодан — деталь существенная. К нему мы еще вернемся.) Затем Корнильева села в машину. Опять вместе с Черняевым. Шофер Кругляков довез их до вокзала, он рассказал об этом. Значит, и тут все ясно. Показания Зеленко и Круглякова полностью совпадают, да и сам Черняев рассказал то же самое.
Таким образом, можно считать установленным, что за полчаса-час до убийства Корнильева находилась вместе с Черняевым, с ним не разлучалась, что на вокзал ее отвез не кто другой, как Черняев, что и на вокзале какое-то время (по словам Черняева, вплоть до отхода московского поезда) она снова была с Черняевым. Все это можно считать установленным.
Что же было потом, позже? Тут фактов у нас не так много, но попробуем аналитически воссоздать весь ход событий. Данных для этого куда как достаточно. Итак, Кругляков высадил Корнильеву и Черняева у вокзала примерно в пятнадцать — двадцать минут десятого. Не позже. Это нам известно. Московский поезд отходит в двадцать один пятьдесят пять — тоже известно. Черняев утверждает, что он посадил Ольгу Николаевну в этот поезд и она уехала. Но вот это как раз и не так. Ни в московский, ни в какой другой поезд Корнильева не села — сесть не могла. Не выходит по времени, не получается: в то самое время, когда отошел московский поезд, Корнильева была убита. Ну, может быть, не совсем в то время — полчаса или час спустя, не больше. Как видите, я учитываю возможность ошибки экспертов на один-два часа. В данном случае это роли не играет, ибо первую остановку после Крайска московский поезд делает через два часа десять минут по отправлении, в ноль часов пять минут, то есть тогда, когда Корнильевой уже не было в живых…
— Логично, — заметил Скворецкий. — Вполне логично. Какой же вывод отсюда следует?
— Вывод? — переспросил Миронов. — Так вывод же очевиден! Черняев лжет, утверждая, будто Корнильева уехала. Лжет сознательно. Он находился все время вместе с Корнильевой и не мог не знать, что на поезд она не села. Зачем же ему понадобилась эта ложь? Объяснение может быть только одно: Черняев знает об убийстве Корнильевой и, стремясь скрыть это убийство, создал версию об ее отъезде. Таков, по-моему, единственный вывод, такова логика.
— Вот видишь, — с затаенной усмешкой возразил Скворецкий, — из области фактов ты перешел к логике, к умозаключениям, а для того чтобы обвинить человека в убийстве, чтобы ставить вопрос об аресте, этого мало — нужны факты. Что скажешь?
— Согласен! — воскликнул Андрей. — Нужны факты. Но разве фактов, разве доказательств не достаточно? А письмо Кузнецова Зеленко, подсунутое нам Черняевым, — не факт? Факт. Попробуем его объяснить. Совершенно очевидно, что письмо это попало к Черняеву не от Корнильевой. Ей-то зачем оно могло понадобиться? Письмо похитил Черняев, он сам и использовал это письмо в качестве доказательства, подтверждающего созданную им версию отъезда Ольги Николаевны. Именно поэтому, сознавая шаткость этого доказательства измены его бывшей жены, Черняев, показав нам письмо, так не хотел его у нас оставить. Ну, да не в письме дело. А чемодан? Чемодан с вещами якобы уехавшей Корнильевой? Тот самый чемодан, который Черняев собственной персоной отвез на вокзал и, если верить его словам, погрузил в поезд, провожая жену. Как этот чемодан оказался вновь у него, каким путем вернулся к нему? Вот уж это факт, весьма и весьма весомый. Этот факт замыкает цепь доказательств, служит неопровержимой уликой, изобличающей Черняева в том, что он явился по меньшей мере соучастником убийства, если не прямым убийцей Ольги Николаевны Корнильевой.
— М-да, — согласился Скворецкий. — В фактах ты разобрался. Картина ясная. Но меня, по совести говоря, волнует другое. Что Черняев убийца — это очевидно. Если не как прямого убийцу, то по меньшей мере как соучастника убийства его можно арестовать хоть сейчас, сию минуту. Ну, а как быть с объявлением, что он сдавал в бюро, с нападением на Савельева? Признаться, теперь я почти уверен, что и в этом последнем случае не обошлось без Черняева. Знать же об этом мы пока ничего не знаем. Вот и представьте себе: арестуем мы Черняева, изобличим в убийстве Корнильевой, он признается (тут деваться ему некуда), а дальше что? Ни тпру ни ну. Что будем делать? А водосточная труба, а Войцеховская — кто такая, откуда взялась? Вот и рассудите, как вести следствие? Нет, рано, ребятки, надо бы еще поработать над Черняевым…
— Надо, ой как надо! — подхватил Миронов. — Сам понимаю. Останься Черняев в Крайске, я бы, возможно, первым возражал против немедленного ареста. Но что делать, если он уезжает, и, судя по сообщению Левкович (вспомните его сборы), не очень-то будет торопиться с возвращением. Да и вернется ли вообще? Сомнительно. Нет, Кирилл Петрович, как хотите, но сам Черняев не оставляет нам выбора: предоставить ему возможность уехать, скрыться мы не вправе…
— И это верно, — согласился Скворецкий. — Брать его необходимо, то-то и оно, хоть и надо бы еще поработать. Ну, да ничего не попишешь, рассуждать больше нечего. Будем брать. Только вот что: здесь, в городе, как мы уже говорили, брать Черняева нельзя. Вы это учли?
Миронов и Луганов кивнули, как по команде.
— Учли, товарищ полковник, — сказал молчавший до этого Луганов. — Разрешите доложить план операции?
— Ну что ж, давайте послушаем.
Обсуждение плана не заняло много времени: начальник управления, уточнив некоторые детали и внеся кое-какие коррективы, одобрил план, намеченный Мироновым и Лугановым.
— Ты вот что, Андрей Иванович, — заметил Скворецкий, когда разговор был окончен и Миронов с Лугановым собрались уходить, — подготовь материалы на Черняева. Поеду в горком, доложу. Надо секретаря горкома поставить в известность, что из себя представляет этот самый инженер-подполковник, и получить санкцию на арест.
— Готово, Кирилл Петрович, — ответил Миронов. — Справка печатается.
— Ну и добро. Как закончат, заноси.
В то время как Миронов и Луганов находились у полковника Скворецкого, события на пустыре возле Федосьевской рощи разворачивались своим чередом. Переулок, пустынный ночью, начал оживать. То там, то здесь хлопали двери, появлялись первые пешеходы. Потом стало и вовсе людно. Однако в сторону пустыря никто не сворачивал, и сотрудники Управления КГБ ничего подозрительного не замечали. Часов около одиннадцати тот из сотрудников, который замаскировался в полуразрушенной сторожке в конце переулка, у входа на пустырь, увидел, как мимо него прошмыгнул мальчонка лет девяти-десяти. Вероятно, он не обратил бы на мальчугана внимания, если бы тот, направляясь к лабазу, не петлял из стороны в сторону, не оглядывался бы то и дело воровато по сторонам.
«Что за чертовщина, — подумал оперативный работник, — чего этот парнишка так странно себя ведет?» Теперь он уже не спускал с него глаз.
Между тем мальчишка, добравшись до лабаза, еще раз осмотрелся вокруг и нырнул за угол, мгновенно пропав из виду. Однако не прошло и минуты, как он вновь появился. На этот раз он стремительно мчался через пустырь напрямик, держа правый кулак прижатым к груди. Почти одновременно на опушке рощи, откуда была видна стена лабаза с водосточной трубой, появился второй оперативный работник, подававший условный знак.
«Ясно, — сообразил оперативный работник, находившийся в сторожке, — значит, вот кто пришел за спичечным коробком, Хитро придумано», Не теряя времени, он вышел из своего укрытия и с независимым видом, чуть вразвалку зашагал по переулку. Как оно и должно было быть, мальчишка рысью промчался мимо него, направляясь к противоположному концу переулка. Оперативный работник ускорил шаг. За спиной у себя он услышал чье-то учащенное дыхание и, на мгновение обернувшись, увидел второго работника, который, перебежав пустырь, шел теперь за ним следом. Мальчишка был в нескольких десятках шагов впереди. Миновав переулок, он выскочил на улицу и повернул направо, сбавив шаг. Невдалеке от угла спокойно прогуливалась молодая, хорошо одетая женщина. Мальчишка направился прямо к ней и передал ей тот предмет, который принес с пустыря. Она быстро опустила его в сумочку, потрепала паренька по щеке, протянула ему что-то (Деньги? Шоколадку?) и быстро зашагала по улице, к центру города.
— Она! Она самая… — прошептал сотрудник, ранее дежуривший у доски объявлений.
— Кто — она? — не понял его товарищ. — Ты о чем?
— Женщина. Которая вчера была у витрины.
— Ясно. Ты давай беги в управление к майору Миронову, а я останусь…
Выслушав оперативного работника, Миронов сразу же принял решение:
— Василий Николаевич, берите машину и быстро в аэропорт. Надо полагать, это и есть Войцеховская, и, конечно же, она не замедлит явиться за саквояжем. Где мы найдем лучшую возможность разузнать, кто она такая, как не там?..
Андрей оказался прав. Едва Луганов и оперативный работник успели приехать в аэропорт, как возле камеры хранения появилась женщина, которая час тому назад была возле переулка, а за день до этого — у витрины объявлений.
Сразу же, как только обладательница квитанции получила саквояж, Луганов в камере хранения выяснил, что фамилия ее Войцеховская, зовут Анна Казимировна. Прямо из аэропорта Луганов направился в городской адресный стол и вскоре получил справку: Войцеховская, Анна Казимировна, украинка, 1926 года рождения, беспартийная, незамужняя, работает преподавателем английского языка в средней школе. В Крайск прибыла из Харькова около двух лет назад.
Теперь Луганову не составило труда раздобыть биографию Войцеховской. Биография была не из заурядных, кое над чем можно было задуматься, но ничего порочащего она не содержала. Не было, судя по всему, у Войцеховской и никаких точек соприкосновения с Черняевым. Впрочем, в этот день ни Миронов, ни Луганов не были расположены ломать голову над ее прошлым, над ее биографией. Им просто было не до того. Оба они были по горло заняты подготовкой предстоящей операции.
Сдав полковнику Скворецкому материалы, изобличающие Черняева в убийстве своей бывшей жены, с которыми начальник управления отправился в горком партии, Миронов стал инструктировать сотрудников, выделенных ему и Луганову в помощь для проведения операции.
Как было известно, Капитон Илларионович в этот день задержался дома дольше обычного, поехал на строительство только в двенадцатом часу. Очевидно, готовясь к отъезду, он закончил основные дела еще вчера и сейчас заехал на строительство ненадолго, оформить командировку и дать последние распоряжения. Пробыв на работе час-полтора, вернулся домой.
Часов около четырех пополудни к подъезду лихо подкатил Кругляков и, оставив машину, поднялся в квартиру Черняева. К этому времени группа оперативных работников, возглавляемая Лугановым, выехала на вокзал. До отхода поезда, с которым должен был уехать Черняев, оставалось менее часа.
Дождавшись, когда Черняев приехал на вокзал и вошел в вагон, оперативные работники поспешили занять свои места: двое расположились в вагонах, соседних с тем, в котором ехал Черняев, а Луганов вошел в тот же вагон, но остался в тамбуре.
Настала очередь и Миронова. Он вышел из управления, сел в ожидавшую его машину и на предельной скорости помчался к той станции, где поезд делал первую после Крайска остановку. Несколько раньше на ту же станцию ушла другая машина, оперативная.
Приехав на станцию минут за десять до прибытия поезда, Андрей вышел на перрон и занял удобную для наблюдения позицию, возле газетного киоска. Он не должен был, согласно плану, непосредственно вмешиваться в ход операции.
Мысленно Миронов вновь перебрал все детали операции, которую предстояло провести: все ли продумано? Предусмотрено? Учтено? Да, пожалуй, все. Даже больше, чем все. Ведь, говоря по совести, задержать Черняева мог и он сам, один, мог Луганов. Но бывают случайности, могут возникнуть непредвиденные осложнения, и тогда одному-двум справиться с задачей будет трудно. А рисковать нельзя… Теперь же предусмотрено все: в поезде трое, а в резерве еще он, Миронов. Нет, все должно пройти гладко, без сучка и задоринки! Да и дело-то не хитрое, не впервой!..
Вдалеке послышался низкий протяжный гудок электровоза. Андрей машинально взглянул на часы: восемнадцать тридцать пять. Пока все вроде бы идет по расписанию, все идет правильно…
Миронов не ошибся. Все действительно шло как по расписанию. Минут за пятнадцать до прибытия поезда на станцию Луганов, находившийся уже в коридоре вагона, в котором ехал Черняев, увидел, как дверь купе открылась и Капитон Илларионович вышел в коридор. Расположившись у окна, он не спеша стал закуривать.
Спокойно, улыбаясь самым приветливым образом, Луганов направился к Черняеву (с обоих концов коридора появились оперативные работники, они перекрыли оба выхода).
— Капитон Илларионович, здравствуйте. Рад вас видеть в добром здравии.
Черняев чуть приметно вздрогнул и быстро, исподлобья взглянул на подошедшего Луганова.
— Товарищ Луганов, насколько я запомнил вашу фамилию? Какими судьбами? Выходит, попутчики? — Черняев изобразил на своей физиономии подобие улыбки.
— Никак нет, Капитон Илларионович, не совсем. Я — за вами, — доверительным тоном, будто сообщая нечто весьма приятное, сказал Луганов.
— За мной? — вскинулся Черняев. — Что вы еще городите? Что за ерунда?
— Нет, почему же ерунда? Совсем не ерунда. Просто возникла неотложная необходимость с вами побеседовать, вот мне и поручили предложить вам прервать поездку и вернуться в Крайск. Безотлагательно…
— Это что, — спокойно спросил Черняев, — арест? Будьте любезны в таком случае предъявить ордер, иначе я с вами никуда не поеду.
— Я, кажется, об аресте не говорил, — возразил Луганов. — Повторяю, нам необходимо выяснить с вами некоторые вопросы. Без вас никак нельзя. Что же касается ордера, то, смею вас заверить, если потребуется, предъявим и ордер. Во всяком случае, вопрос о вашем задержании — можете мое предложение вернуться в Крайск рассматривать пока так — согласован и с горкомом партии, и во всех надлежащих инстанциях. Уж можете мне поверить.
В ту же секунду Черняев чуть пригнулся, напружился, словно изготовившись к прыжку. Не будь у Луганова его опыта, он, пожалуй, ничего бы и не заметил. Но Луганов все видел, все понимал, был настороже. Зорко следя за малейшим движением Черняева, за каждым его жестом, внутренне подобравшись, Луганов пристально посмотрел ему в глаза и спокойно, не повышая голоса, произнес:
— Не надо, Капитон Илларионович, не устраивайте спектакля, не стоит. Ничего хорошего из этого для вас не получится, ручаюсь вам.
В тот же момент, бросив по сторонам быстрый взгляд и угадав в приближающихся к нему по коридору людях оперативных работников, Черняев выпрямился, расправил плечи и презрительно сказал:
— Эт-то безобразие, произвол. Зарубите себе на носу, так это вам не пройдет. Я подчиняюсь силе, но буду жаловаться. Вы еще меня попомните…
Поезд, замедляя ход, как раз подходил к станции. Андрей из-за своего киоска отлично видел, как в тот момент, когда поезд остановился, со ступенек одного из вагонов спрыгнул оперативный работник, за ним не спеша сошел Черняев в сопровождении Луганова, следом еще один оперативный работник. Миновав станционное здание, они вышли на привокзальную площадь, где их ждала оперативная машина, сразу рванувшаяся с места, как только Черняев и его спутники уселись. Минуту спустя сел в свою машину и Миронов, дав знак шоферу следовать за оперативной машиной.
Глава 15
В пути машина Миронова обогнала, как было условлено заранее, оперативную машину, и он вернулся в Крайск раньше, чем Луганов с Черняевым. Первый допрос было решено провести в управлении милиции, поскольку ранее с Черняевым беседовали именно там, в милиции. Ждать пришлось недолго. Прошло каких-нибудь десять — пятнадцать минут, и на пороге появился Черняев в сопровождении Луганова.
Пристально вглядываясь в его лицо, Миронов не заметил на нем ни тени волнения, никакой растерянности. Черняев вел себя самоуверенно, вызывающе. Каждый его жест, каждое движение свидетельствовали, что ничего иного, кроме возмущения тем произволом, который допустили в отношении его работники милиции, Черняев не испытывает. Твердой, решительной походкой подошел он к креслу, стоявшему против стола, за которым сидел Миронов, грузно уселся, ни у кого не спрашивая разрешения, и, уставившись тяжелым взглядом прямо в лицо расположившегося напротив Луганова, резко спросил:
— Может быть, теперь вы потрудитесь объяснить свои действия?
Миронов, на которого Черняев не обращал внимания, будто того и не было в комнате, каким-то будничным тоном, как нечто само собой разумеющееся, сказал:
— Капитон Илларионович, прошу запомнить, отныне вопросы будем задавать мы, и только мы, а ваше дело отвечать.
— Что-о? — круто повернулся к нему Черняев. — Эт-то еще что такое?
Бросив на Миронова пренебрежительный взгляд, Черняев вновь обратился к Луганову:
— Я, кажется, вас, товарищ Луганов, да, да, именно вас спрашиваю и вовсе не намерен выслушивать замечания вашего помощника.
Луганов чуть повел плечами: дескать, я тут вмешиваться никак не могу, а Миронов все так же спокойно, ничуть не меняя тона, заметил;
— Прошу вас запомнить: мы с товарищем Лугановым поменялись ролями: теперь он будет мне помогать, и отвечать вам придется прежде всего на мои вопросы, независимо от того, нравится вам это или нет.
— Ах так! — воскликнул Черняев, шутовски кланяясь Миронову. — Может быть, тогда вы — не изволю знать, как вас звать-величать, — потрудитесь мне объяснить, что здесь происходит?
— Зовут меня Андрей Иванович, если это вас интересует, а что здесь происходит, думаю, вам понятно. Впрочем, могу пояснить — допрос. Самый обыкновенный допрос. Надеюсь, вы знаете, что это такое?
— Как же! — усмехнулся Черняев. — Наслышан. Итак, что вам от меня угодно и на каком основании, по какому праву вы сначала меня задержали, а теперь еще и допрашиваете? Повторяю, за свои незаконные действия вы ответите.
— Что касается до оснований, которые послужили причиной вашего приглашения сюда, — возразил Миронов, — так их больше чем достаточно. Вам это превосходно известно. Ну, а право на ваш допрос нам дает закон, советский закон, представителями которого мы являемся. Это вам тоже известно. Надеюсь, мы превосходно понимаем друг друга. Так что не будем терять времени и перейдем к делу. Попрошу вас еще раз рассказать, как, при каких обстоятельствах выехала из Крайска ваша бывшая жена Ольга Николаевна. Только точно. Предупреждаю: малейшее уклонение от истины сослужит вам плохую службу.
Черняев, рассеянно слушавший Миронова, небрежно развалился в кресле, опять-таки никого не спрашивая, закурил и неторопливо, как бы нехотя ответил:
— Я вас не понимаю. Все, что связано с отъездом моей бывшей жены из Крайска, — мое личное дело. Кроме того, я всю эту историю уже рассказывал здесь же, в этой комнате. Дважды. Что вам еще надо?
— Гражданин Черняев, — сухо и отрывисто бросил Миронов, — прежде всего, потрудитесь сесть, как следует. Будьте любезны отвечать на вопросы, которые вам ставят, и в первую очередь на вопрос: как и при каких обстоятельствах выехала из Крайска ваша бывшая жена Ольга Николаевна?.. — Миронов на мгновение запнулся, а затем внезапно, в упор спросил: — Как, кстати, ее фамилия?
Черняев, услышав, как изменился тон Миронова, с иронической ухмылкой изменил свою позу, но, когда прозвучал последний вопрос, чуть заметно вздрогнул.
— Фамилия моей бывшей жены? — переспросил он. — Ее фамилия Величко. Вам это отлично известно.
— Величко? А еще какую фамилию она носила?
— Я вас не понимаю. Никакой другой фамилии у Ольги Николаевны не было. Во всяком случае, мне об этом ничего не известно.
— А точнее? Другой фамилии не было или, возможно, была, но вы этого не знаете?
С секунду поколебавшись, Черняев ответил:
— Утверждать я, конечно, не берусь. Ведь прошлым Ольги я никогда не интересовался. Насколько мне известно, ее фамилия Величко. Другой я не знаю. Разве она что от меня скрывала? Но зачем, с какой целью?
— Ну что ж. Так и запишем. Василий Николаевич, — обратился Миронов к Луганову, — окажите любезность, ведите, пожалуйста, протокол допроса… Итак, Капитон Илларионович, — вновь повернулся Миронов к Черняеву, — я повторяю свой вопрос: что вы можете сообщить об обстоятельствах отъезда Ольги Николаевны… Величко из Крайска? Только поточнее.
Надменно вздернув голову и подчеркивая всем своим видом, что он говорит только потому, что его к этому принуждают, Черняев коротко, без подробностей повторил то, что рассказывал при предыдущей встрече.
Так, мол, и так: когда он, Черняев, узнал, что его бывшая жена ему изменяет, дальнейшая совместная жизнь стала невозможной. По обоюдному согласию они решили не поднимать шума, и под предлогом поездки на курорт Ольга Николаевна уехала, уехала навсегда. Кто он, этот человек, к которому уехала Ольга, Черняев не знает и знать не желает. Вот, собственно говоря, и все, больше добавить ему нечего.
Говорил Черняев спокойно, не спеша, с насмешливой улыбкой, не скрывая своего пренебрежения.
— Значит, насколько я вас понял, вы местопребыванием вашей бывшей жены после ее, как вы говорите, отъезда из Крайска не интересовались?
— Нет, не интересовался.
— Хорошо. И это запишем. Успеваете, Василий Николаевич? Попрошу теперь уточнить некоторые детали. Прежде всего попрошу разъяснить, откуда вам стало известно, что у вашей бывшей жены появился, как вы говорите, другой человек, что она вам изменяет? Только точно…
— Ну знаете ли, — возмутился Черняев, — уж это вас не касается. Впрочем, если вас так донимает любопытство, могу пояснить: надо быть круглым идиотом, чтобы такого не заметить. Кроме того, у меня были доказательства, прямые доказательства.
— Вы имеете в виду письмо? — быстро спросил Миронов, нисколько не терявший самообладания, как ни пытался Черняев вывести его из себя.
— Письмо? Да, конечно, и письмо. Именно оно, это письмо, и открыло мне глаза…
— Это письмо? — Миронов вынул из стола письмо Кузнецова Зеленко и показал его Черняеву.
Тот утвердительно кивнул головой.
— Кстати, — спросил Миронов, — почему в прошлый раз вы так не хотели его у нас оставить? Может, тому были причины? Вас не затруднит их сообщить?
— Не хотел оставить у вас письмо? Разве? — пренебрежительно повел плечами Черняев и снисходительно усмехнулся. — Вы в этом твердо уверены? Я, например, что-то ничего такого не припоминаю.
По-прежнему Черняев говорил с открытой издевкой, словно провоцируя следователей, преднамеренно пытаясь вывести их из себя, но они оставались невозмутимыми, нисколько не отступая от намеченного плана допроса.
— Значит, не припоминаете? — все так же спокойно, ничуть не повышая голоса, спросил Миронов. — А если мы вас попросим припомнить?
На этот раз Черняев ухмыльнулся с откровенной наглостью:
— Я вам сказал, что не помню, значит, не помню. Да и что вам далось это письмо? Хотел я его оставить у вас или нет — это мое дело, да и роли никакой не играет. Не так ли?
— Нет, не так, — отрезал Миронов. — Роль это играет, и немалую. Вам это превосходно известно. Нам — тоже. И что вы не хотели оставить письмо — факт, от которого вам не уйти. Но не об этом сейчас разговор. Вас не затруднит сообщить, кому адресовано это письмо?
— То есть как — кому? — взорвался Черняев. — Да что это, в конце концов, такое, игра в бирюльки? Письмо адресовано Ольге. Там же ясно сказано, моей жене.
Глядя на Черняева со стороны, можно было подумать, что возмущен он самым искренним образом.
— Адресовано-то оно действительно Ольге, — спокойно сказал Миронов, — только Ольге Зеленко, а не Величко; вашей соседке, а не жене. Какое же это доказательство? Да и вообще не ясно, как это письмо очутилось у вас. Пора бы вам и об этом рассказать.
— Зеленко? — повторил Черняев, в недоумении потирая лоб. — Зеленко? Ничего не понимаю. При чем здесь Зеленко? Письмо же адресовано Ольге, моей жене…
— Ладно, — перебил его Миронов, — продолжаете настаивать на том, что говорили раньше? Пожалуйста. И это запишем. Смотрите только, чтобы потом каяться не пришлось, — поздно будет. Так как?
— Чего вы мне угрожаете? — грубо сказал Черняев. — «Каяться»! В чем каяться? Вы эти штучки бросьте!
— Дело ваше. Ответ ваш уже записан. А угрозы — какая же это угроза? Просто совет: говорите правду. Пойдем, однако, дальше. Как я понял из вашего рассказа, вы проводили Ольгу Николаевну… Величко на вокзал и сами, лично, посадили ее в московский поезд, который отправляется из Крайска в двадцать один пятьдесят пять по местному времени. Так?
— Да, так. Я уже говорил об этом…
— Хорошо. Записано. Еще вопрос: на вокзале вы оставались до отхода поезда, до двадцати одного часа пятидесяти пяти минут, или уехали раньше, сразу, как только ваша жена вошла в вагон? Только попрошу точно.
— Нет… То есть да. Я был возле вагона до конца, до отхода поезда. Даже потом, когда поезд ушел, я не сразу уехал с вокзала.
— Который был час, когда вы уехали с вокзала? Не припомните?
— Не знаю. На часы я не смотрел.
— Ас вокзала вы отправились прямо домой или куда по пути заезжали?
— Какие уж тут заезды? — с раздражением сказал Черняев. — Конечно, домой. Куда еще?
— Как вы добирались до дома? На машине?
Вопросы сыпались один за другим, без передышки, и каждый требовал точного, ясного ответа. Нервы Черняева начали сдавать, выдержка изменяла ему.
— Да, — ответил Черняев, мгновение подумав. — На машине. Точно, на машине.
— На какой машине?
— Как — на какой? Я вас не понимаю… — попытался выиграть время и собраться с мыслями Черняев.
Но Миронов не давал ему передышки:
— Бросьте, Черняев, прекрасно вы меня поняли. Повторяю вопрос: на какой машине вы уехали с вокзала?
— На какой? Да на своей…
— Нет, Капитон Илларионович, не выйдет. Свою машину вы отпустили, как только приехали на вокзал. Так, во всяком случае, вы говорили. Или и от этого будете отпираться?
— Нет, зачем же, я действительно запамятовал. Ехал с вокзала я на такси. Какая разница?
— Представьте себе, — заметил Миронов, — разница есть, и довольно существенная. Вряд ли вам это неизвестно. Но об этом позже, а сейчас вернемся к отъезду Ольги Николаевны. Значит, вы утверждаете, что дождались отправления поезда? Иными словами, Ольга Николаевна покинула Крайск, что называется, у вас на глазах, и вы можете свидетельствовать, что она уехала из города? Правильно я вас понял?
— Да, совершенно правильно.
— И с тех пор в Крайск не возвращалась?
— Нет, не возвращалась.
— Вы это утверждаете, настаиваете на этом?
— Конечно, утверждаю.
— Та-а-ак, — с расстановкой сказал Миронов. — Ну, а что, если я вам не поверю и скажу, что ваша бывшая жена в настоящее время находится здесь, в Крайске? И это вам превосходно известно. Что вы на это скажете?
— Да ничего. Я просто позволю себе заметить, что ни место, ни обстоятельства нашей беседы не вызывают у меня желания выслушивать ваши несуразные шутки.
— А я и не шучу, — резко и твердо сказал Миронов. — Ольга Николаевна… Величко, ваша бывшая жена, действительно находится в Крайске. Больше того: в тот день, двадцать восьмого мая, когда вы, как вами было заявлено и записано в протоколе, проводили ее на вокзал и дождались отхода поезда, она никуда не уехала. Ни с московским поездом, который отправляется в двадцать один час пятьдесят пять минут, ни с каким-либо другим. И вообще она из Крайска не уезжала, что вам тоже известно. Не пора ли кончить ломать комедию и начать говорить правду?
На лице Черняева не дрогнул ни единый мускул. Он вновь был собран, вновь обрел утраченную было уверенность. Вопрос Миронова он оставил без ответа, только пренебрежительно пожал плечами да взялся за новую папиросу.
— Как вас понимать, Капитон Илларионович? — требовательно спросил Миронов. — Вы что, не намерены отвечать?
— Нет, почему же? На разумные вопросы я отвечал и готов отвечать, но заниматься разгадкой ребусов у меня нет никакого желания.
— А это что, тоже ребус? — воскликнул Миронов и, быстро вынув из стола фотографии Корнильевой — результат портретной реконструкции, — веером развернул их перед Черняевым.
На этот раз выдержка изменила Черняеву окончательно. Едва взглянув на фотографии, он попытался было приподняться с кресла, но тут же тяжело рухнул обратно.
— Чт-т-то… чт-то это? Кто это? — глухо забормотал Черняев, поднимая руку, как бы стремясь отгородиться от страшного лица.
— Не узнаёте? — с иронией спросил Миронов. — Не желаете узнавать? А ведь это ваша бывшая жена, Ольга Николаевна, и снимок сделан… впрочем, не все ли равно когда? Во всяком случае, позже той даты, которую вы упорно называете датой ее отъезда. И здесь. В Крайске.
— Разрешите? — прерывающимся голосом попросил Черняев. — Разрешите взглянуть поближе?..
— Пожалуйста, — ответил Миронов, протягивая фотографии. — Смотрите.
Осторожно, точно они жгли ему руки, взял Черняев снимки. Руки его тряслись, лицо судорожно подергивалось.
Прошло не меньше двух-трех минут, пока Черняев в молчании рассматривал фотографии. Молчал и Миронов. Молчал Луганов. Наконец, с тяжелым хриплым вздохом Черняев положил снимки на стол и откинулся на спинку кресла.
— Да, — глухо, каким-то сдавленным голосом, проговорил Черняев. — Это она, Ольга. Но до чего изменилась!.. Ничего не понимаю.
— Не понимаете? Полноте! Будто вам неизвестно, что ваша бывшая жена, Ольга Николаевна Величко, как вы ее называете, убита. Убита здесь, в Крайске, двадцать восьмого мая около десяти часов вечера, то есть как раз в то время, когда вы, Черняев, находились, по вашим словам, вместе с ней, — Миронов подчеркнул эти слова, — на вокзале и усаживали ее в московский поезд. Снимок сделан с лица убитой…
С того момента, когда прозвучало слово «убита», Черняев, казалось, перестал слушать Миронова. Он как-то неестественно выпрямился, взгляд его утратил всякое выражение, глаза начали стекленеть. Не успел Миронов произнести до конца последнюю фразу, как Черняев упал грудью на стол, обхватил обеими руками голову и горько зарыдал.
— Убита… Оля, Оленька… За что?.. Зачем?.. — прорывались отдельные восклицания, перемежавшиеся с истерическими рыданиями.
Миронов и Луганов переглянулись. Андрей встал из-за стола, налил из графина воду в стакан и протянул Черняеву.
— Выпейте, Капитон Илларионович, и перестаньте дурачиться. Мы не дети.
Но Черняев оттолкнул стакан, так что вода расплескалась, и продолжал горестно всхлипывать, не отнимая рук от лица.
— Прекратите, Черняев! — резко, с раздражением произнес Луганов. — Противно. От ответа вам все равно не уйти. Потрудитесь объяснить, что произошло на самом деле двадцать восьмого мая вечером?
— Я… я… был на вокзале… Про-провожал Ольгу… Она уехала…
— Гражданин Черняев, — сурово сказал Миронов, — басня с проводами лопнула. Вы выдали себя с головой, утверждая, будто находились на вокзале вплоть до отхода поезда и видели своими глазами, что Ольга Николаевна уехала. Как вы могли это видеть, когда она никуда не уезжала и именно в эти часы была убита? Ложь, сплошная ложь. Мы требуем, чтобы вы прекратили запирательство и рассказали следствию всю правду об убийстве Ольги Николаевны… Величко. Деваться-то ведь некуда, вы изобличены.
— Я?.. Мне?.. Вы с ума сошли! — сквозь слезы воскликнул Черняев. — Вы что же, меня подозреваете в убийстве? Меня…
— Я полагал, — с невозмутимым видом сказал Миронов, — что вы будете вести себя умнее, что перед лицом очевидных фактов добровольно, чистосердечно расскажете все, как оно было. Но раз вам угодно избрать иной путь, продолжать бессмысленное запирательство, мы вынуждены изобличать вас дальше.
Миронов нажал кнопку звонка. Дверь в кабинет раскрылась, и на пороге появился заранее проинструктированный лейтенант милиции. Луганов кивнул, тот вышел и сразу же вернулся, неся чемодан Корнильевой, сданный за несколько дней до того Черняевым в камеру хранения. Положив чемодан на стул, лейтенант вышел.
Луганов неторопливо поднялся, подошел к чемодану и откинул крышку. Черняев пристально наблюдал за ним. Плакать он перестал, выражение его лица изменилось.
— Ладно, — с усилием произнес он, когда чемодан был раскрыт. — Я расскажу все. Только, если можно, дайте еще воды. Знаете, — он криво усмехнулся, — это не так-то просто, не легко…
Сделав несколько крупных глотков, Черняев выпрямился, провел рукой по лбу и заговорил. Говорил он через силу, голос у него прерывался.
— Да, вы правы: Ольгу убил я, я сам, вот этими руками. — Он вытянул вперед кулаки, разжал пальцы и как бы с недоумением посмотрел на них. — Если бы вы знали, как я терзался все эти месяцы, что прошли с того страшного дня!.. Я жил в беспросветном мраке, в постоянном ужасе. Днем и ночью Ольга стояла перед моими глазами. Живая… Мертвая… — Черняев сжал виски ладонями и глухо застонал.
— Еще воды? — не пытаясь скрыть сарказма, спросил Луганов.
— Нет, спасибо. Вы думаете, я боялся ответственности, думаете, меня преследовал страх наказания? Нет! Я считал себя вправе судить Ольгу и собственноручно привести приговор в исполнение. Так я и сделал. Но потом, когда все это произошло, когда Ольги не стало, на меня навалился такой ужас, что жить стало невмоготу…
— Почему же в таком случае, — перебил его Луганов, — вы не пришли сюда, к нам, не признались во всем? Почему лгали и изворачивались до последней минуты? Почему, наконец, преспокойно распродавали вещи вашей бывшей жены, пытались спрятать ее чемодан? Какой уж тут «мрак», какой «ужас»! Да у вас каждый шаг рассчитан, все продумано. Нет, Капитон Илларионович, не сходятся у вас концы с концами, никак не сходятся.
— Понимаю. Вам, конечно, трудно мне поверить, слишком глупо я себя вел. Но я считал все это своим личным делом, своим горем, которое нес и хотел нести сам, ни с кем не разделяя. Клянусь вам, я говорю правду.
— Ну, на правду-то это не очень похоже, — заметил Миронов. — Будто вы не знали, что убийство есть убийство и сурово карается законом. Оставим, однако, пока в стороне ваши рассуждения. Вы до сих пор не потрудились объяснить причин, толкнувших вас на убийство.
— Боже мой, да это же ясно! Ольга измучила меня, истерзала. Она третировала меня, измывалась над моим достоинством, предпочла мне другого. Вы представить себе не можете, что такое ревность, дикая ревность…
— Значит, вы убили свою жену из ревности, так вас надо понимать?
— Да, из ревности.
— А поводом к ревности послужило все то же письмо? — В голосе Миронова послышалась неприкрытая насмешка.
— Да при чем здесь письмо?.. Хотя, конечно, и письмо сыграло свою роль, оно переполнило чашу.
— Опять не кругло, Черняев. Ведь мы с вами уже установили, что письмо было адресовано не вашей жене, а соседке по квартире. Какую же чашу оно переполнило?
— Но я-то, я-то ведь этого не знал, уверяю вас. Я нашел письмо у Ольги, у своей жены, а она сказала, что это ее письмо, ей адресовано. Мог ли я в этом усомниться? Да и не в письме дело. Вы бы только знали, как последний год Ольга обращалась со мной, как разговаривала, как глядела на меня!.. Нет, я не в силах даже вспоминать о тех страданиях, тех муках, которые терпел от нее ежечасно, ежеминутно… И ведь я ее любил, любил, — это вы можете понять? Не мог я смириться с той мыслью, что она уйдет к другому. Не мне — так никому, так я рассуждал. Убить, уничтожить — об ином я и не помышлял. Когда я подумал об этом впервые, то ужаснулся, но день ото дня, час от часу решение зрело, крепло. И вот результат…
Черняев замолк. Он опустил голову, поник.
— Как же вы осуществили свое решение? — задал вопрос Луганов. — Только попрошу рассказывать точно. Для следствия это необходимо. И правду.
— Как осуществил? О, я долго вынашивал разные планы. Путь, сама того не ведая, подсказала Ольга. Когда она сообщила о своем намерении уехать, решение пришло мгновенно. Мы с ней договорились, что во избежание огласки представим дело так, будто она едет на курорт. Лечиться. Достать путевку и билет на поезд было моей заботой. Сделал я это без труда. Но, вручив Ольге путевку, билет попридержал, взял его не на двадцать восьмое — день отъезда, а на двадцать девятое мая, никому не сказав об этом ни слова. Дальнейшее было просто. Двадцать восьмого мая мы отправились на вокзал, и все: соседка наша, Зеленко, работница, шофер, знакомые, у меня на работе, словом, все были уверены, что Ольга Николаевна уехала. На вокзале же в момент посадки на поезд обнаружилась «ошибка». Билет был недействителен. Ольге пришлось вернуться домой, в пустую квартиру: Зеленко ушла на дежурство, — я это знал заранее. У меня оставался последний шанс: я просил Ольгу выбросить из сердца того, другого, умолял ее, угрожал… Все было тщетно. Она и слушать меня не хотела. Тогда… тогда я ее ударил, сбил с ног… — Черняев всхлипнул и закрыл лицо руками. — Надо ли говорить дальше? — тихо спросил он.
— Знал кто-нибудь о совершенном вами преступлении? — задал вопрос Луганов.
— Нет, что вы, кто же мог знать?
— Ударили вы левой или правой рукой? — внезапно спросил Миронов.
— Я? Конечно, правой. Я же не левша.
— А есть среди ваших знакомых, друзей левша? — продолжал спрашивать Миронов.
Черняев смотрел на него с недоумением.
— Нет, как будто бы нету. Не знаю. Я как-то не задумывался над этим. А какую это играет роль?
— По-видимому, кое-какую играет. Впрочем, раз нет, так нет. Вернемся к делу. Что вы можете еще добавить к своим показаниям?
— Я сказал все. Судите меня, расстреляйте — один конец. Жизнь кончена.
Миронов усмехнулся, не спеша закурил, глубоко затянулся и задумчиво заговорил:
— Смотрю я на вас, Черняев, и диву даюсь. Кто вы такой? Советский человек, офицер, не один год в партии, а как рассуждаете? «Я приговорил», «я привел приговор в исполнение», «мое личное дело», «я», «мне», «мое». Да кто вам дал право распоряжаться человеческой жизнью? Где вы такого набрались? Я уже не говорю о советских законах, которые вы попираете на каждом шагу, но ведь есть общеизвестные нормы поведения, правила человеческого общежития. Вам и на них наплевать. Сначала вы собственными руками расправились со своей женой — совершили убийство, и не считаете себя преступником. Теперь вы так же легко решаете, какой мере наказания вас подвергнуть, как распорядиться вашей судьбой. Странно как-то все это у вас получается. Странно и… не вполне понятно. Да и декларациям вашим грош цена. «Все сказал!», «Во всем признался», «Судите», «Расстреляйте!» Какое там все?! Вы еще и не начали говорить…
Черняев было попытался заговорить, но Миронов решительным и властным жестом оборвал его:
— Да, да. Вы еще и не начали говорить, следствие только начинается. Ну, что вы рассказали? В чем признались? Разве что убили Ольгу… Величко?
— А этого вам мало? — вскочил Черняев. — Этого мало?! Да я… я… вы…
Черняев упал в кресло и схватился за голову.
— Да понимаете ли вы, — процедил он сквозь стиснутые зубы, — какой ценой далось мне это признание? Чистосердечное признание… Можете вы это понять? Можете?..
— Понять-то я могу, — усмехнулся Миронов. — Было бы что понимать. Так что давайте без трагедий. Ну, о каком признании вы говорите, да еще чистосердечном? В чем это вы сами, добровольно, чистосердечно признались? Да ни в чем, ну ровно ни в чем. Сообщили обстоятельства убийства Ольги Николаевны… Величко? Так нам это и без вашего «признания» было известно, и вы заговорили только тогда, когда это поняли. Какова цена вашего «признания»? Да, да, вы признались под тяжестью неопровержимых улик, рассказывали лишь о том, в чем были изобличены. Не больше. Нет, Черняев, разговор у нас далеко не кончен, он только начинается…
— Но что, что вы от меня хотите? В чем еще я должен признаться? Вас послушать — так мало, что я рассказал, как сам, своими руками убил Ольгу, самого дорогого мне человека на земле? Вам этого мало? — Голос у Черняева сорвался и перешел в истерический вопль.
— Не надо, Черняев, хватит, — с брезгливой миной сказал Миронов. — Не устраивайте спектакля. Все равно вам никто здесь не верит. А о чем надо еще рассказывать следствию, вы превосходно знаете. Превосходно! Начать хотя бы с того, что вы ни слова не сказали о том, что делала ваша бывшая жена в фашистской неволе, в американских лагерях для перемещенных лиц. Почему и как она приняла чужую фамилию — Величко? Что же, вы думаете, мы поверим вашим нелепым россказням, будто вы этого не знали? Пустое!
— Ольга была в плену, в американских лагерях? Ее фамилия не Величко? Нет, это невероятно, этого не могло быть. Вы это выдумали… Зачем вы надо мной издеваетесь?
— Ну знаете ли, всякому терпению бывает конец! — впервые за все время допроса повысил голос Миронов. — Я самым категорическим образом требую, чтобы вы начали говорить правду. Мы ждем, Черняев! Или вы предпочитаете, чтобы вас изобличали и дальше?
— Больше сказать мне нечего, — угрюмо пробормотал Черняев. — Я сказал все… Все…
— Да-а, — задумчиво протянул Миронов, — вам, Черняев, надо, очевидно, еще серьезно подумать, прежде чем вы поймете, как надлежит себя вести. Кстати, Василий Николаевич, — обратился Миронов к Луганову, — гражданин Черняев интересовался ордером на арест, так предъяви ему ордер.
Луганов молча протянул ордер.
— Зачем? — безразличным тоном сказал Черняев. — У меня претензий нет…
— А вы все-таки ознакомьтесь, — потребовал Луганов. — Таков порядок.
Черняев с явной неохотой взял ордер из рук Луганова, бегло просмотрел его, вздрогнул, затем перечитал еще раз, внимательно вглядываясь в каждое слово, в каждую букву.
— Та-а-ак, — сказал он протяжно, и губы его нервно искривились. — Та-а-ак. Значит, я арестован не милицией, а органами КГБ. И как я этого раньше не понял?..
Глава 16
Сразу, как только арестованного увели, Андрей поспешил к Скворецкому. Протокол допроса он захватил с собой.
— Ну как, — спросил полковник, — как там Черняев? Разговаривает?
— Да не очень, — признался Миронов. — Через час по чайной ложке. И то лишь когда приперли к стенке, когда видит, что деваться некуда.
— Что же все-таки показывает Черняев? — поинтересовался Скворецкий, бегло просматривая протокол допроса.
— Пока только одно: сознался, что убил свою бывшую жену.
— Насчет объявления, насчет водосточной трубы, надеюсь, вы его не спрашивали?
— Что вы, Кирилл Петрович, разве можно? Рано еще перед ним карты выкладывать, да и не так уж их у нас тут много.
— Да, — вздохнул Скворецкий. — Козырей тут у нас и вовсе маловато. Спешить не следует. Однако насчет Войцеховской у Черняева надо как-то узнать. Осторожненько. Ты подумай, как это лучше сделать. С этим тянуть нельзя.
— Хорошо, Кирилл Петрович. Попытаемся что-нибудь придумать, хотя нелегко… Ведь прямых данных о связи Черняева с Войцеховской нет.
— Н-да-а, что верно, то верно… Кстати, как с обыском на квартире Черняева? Когда думаешь ехать: сейчас или завтра с утра?
— Если не возражаете, Кирилл Петрович, поедем сейчас. Луганов ждет. Времени еще немного. Чего на завтра откладывать?
— Что ж, сейчас так сейчас. Действуйте.
Захватив себе в помощь опытного криминалиста и лаборантку, Миронов и Луганов отправились на квартиру Черняева. В качестве понятых они пригласили домоуправа — тучного, пожилого мужчину, который беспрестанно жаловался на зубную боль, то и дело хватаясь за щеку, — и Ольгу Зеленко.
Растолковав домоуправу и Зеленко, в чем заключается роль понятых, Миронов попросил их до поры до времени никому не рассказывать, что на квартире Черняева проводился обыск.
— Излишняя огласка, — сказал Миронов, — может повредить следствию.
— Я понимаю! — торжественно воскликнул домоуправ, забыв даже о своей зубной боли. — Все понимаю. Порядочек будет полный. Ни гугу! — Он многозначительно поднял указательный палец.
Зеленко не произнесла ни слова. Она просто кивнула головой.
По рассказам Левкович и Зеленко Миронов хорошо представлял себе расположение квартиры, в которой жил Черняев. В просторный коридор, служивший прихожей, выходило несколько дверей. Одна из них, слева, вела в узенький коридорчик, к кухне, другая, рядом, — в комнату Зеленко, находившуюся в стороне.
Напротив, справа по коридору, были две двери, ведущие в столовую и спальню Черняевых. Эти комнаты, особенно столовая, были значительно больше той, что занимала Зеленко. Между ними была дверь, и, по существу, это была отдельная квартира в квартире. Обе комнаты были обставлены добротной, массивной мебелью, пол столовой устлан большим, во всю комнату, ковром.
Обыск начали со столовой. Понятые — домоуправ и Зеленко — робко уселись на краешки стульев, не без любопытства поглядывая на уверенные, неторопливые действия оперативных работников. Сотрудник милиции — криминалист вел протокол обыска, фиксируя общую обстановку квартиры и отдельно каждую находку.
Пока Миронов тщательно осматривал каждый из предметов, находившихся в комнате: стол, стулья, тахту, сервант, Луганов, присев на корточки перед дверцей печки, выложенной изразцами, принялся кочергой выгребать золу на разостланную им газету. Выгребал он не спеша, аккуратно, внимательно разглядывая и вороша каждую вновь появлявшуюся на газете кучку золы. Зола сыпалась на бумагу с мягким шуршанием, как вдруг что-то внезапно звякнуло. На лице Луганова появилось то выражение, какое бывает у охотника, когда он завидит дичь, по следу которой долго и упорно шел. Василий Николаевич начал разгребать эту кучку золы с особой тщательностью, просеивая горсть за горстью. Наконец его пальцы нащупали нечто твердое. Луганов осторожно сдунул пепел со своей находки, и оказалось, что у него на ладони лежит слегка подпалившаяся большая пуговица странной, ромбовидной формы, сделанная из пластмассы.
— Так, — сказал Луганов, выпрямляясь во весь рост. — Что и следовало ожидать. Вот зачем Черняев топил печку в мае. Помните, Ольга Ивановна, вы нам об этом рассказывали? Между прочим, сия вещица вам знакома?
Луганов протянул Ольге найденную им в печке пуговицу. Вконец обескураженная Зеленко с недоумением глядела то на пуговицу, то в лицо Луганову.
— Это… — чуть внятно произнесла она. — Это… Такие пуговицы были у Ольги Николаевны. На пальто. В котором… в котором она уехала.
— Вы уверены в этом, не ошибаетесь? — спросил Миронов, отходя от тахты, осмотром которой занимался.
— Нет, — заявила Зеленко. — Нет, я не ошибаюсь. Такие пуговицы были пришиты на пальто Ольги Николаевны… Но здесь, в печке?..
— Ничего, Ольга Ивановна, не волнуйтесь, — успокоил ее Миронов. — Все со временем выяснится. Для того мы и работаем, для того тут и находимся. Между прочим, уж раз вы запомнили эти пуговицы, не скажете, сколько их было пришито на пальто? Две, три? Может быть, больше?
— Не помню, — ответила Зеленко. — Не обратила внимания.
— Но не одна, во всяком случае?
— Да, конечно, не одна. Несколько было снаружи, а одна, помнится, с изнанки. Я, когда рассматривала пальто, еще спросила Ольгу Николаевну, зачем ей пуговица, а она говорит: «Про запас. Вдруг какая оторвется, потеряется, а у меня запасная под руками… Пуговицы-то редкие, такие не всегда найдешь…»
— Все ясно, — сказал Луганов, кончивший выгребать золу. (Больше он в печке ничего не обнаружил.) — Вот эта одна тут и оказалась, прошла незамеченной. Остальные были срезаны…
— Как — срезаны? Кем? — с волнением спросила Зеленко.
— Все в свое время, — повторил Миронов. — Все, Ольга Ивановна, в свое время.
Закончив осмотр мебели, находившейся в столовой, Миронов и Луганов, сдвинув стол и стулья к стене, взялись за ковер. Не успели они, однако, скатать его и до половины, как на открывшемся их взору паркете явственно проступило расплывчатое буроватое пятно.
— Товарищ лейтенант, — обратился Луганов к лаборантке, — займитесь. Это по вашей части. Тут есть над чем поработать. Ольга Ивановна, — повернулся он к Зеленко, — вы, случаем, не знаете, когда именно приобрел Черняев этот ковер? Как давно?
— Мне помнится, — робко сказала Зеленко, — не очень давно. Месяца три тому назад. Может, четыре.
— Попробуем уточнить, — сказал Миронов. — До… отъезда Ольги Николаевны или позже?
— Нет, что вы, конечно, позже. Как раз когда Ольга Николаевна уехала, вскоре после ее отъезда Капитон Илларионович и привез этот ковер. Это-то я хорошо помню. Купил где-то. Показывал мне. Говорил, в комиссионном.
— И это ясно, — задумчиво заметил Луганов. — Грубая работа. Дешевка!
— Ты думаешь… — осторожно начал Миронов. — Ты полагаешь, что этот ковер…
— А что тут думать, чего полагать? — огрызнулся Луганов. — Тут и слепому видно. Я тебе заранее предскажу результаты анализа… — Он кивнул на лаборантку, кончавшую свою работу.
— Да, — согласился Миронов. — Тут картина ясная. Ковер появился неспроста. Ты, конечно, прав… Одно досадно: и это, — Миронов кивнул на ковер и пятно на полу, — и пуговица — все к тому же, известному. А вот новое… Нового ничего.
— Ну и ну! — развел руками Луганов. — Уж больно, Андрей Иванович, ты привередлив. Это же улики, прямые улики, ты понимаешь? А чего ты еще хотел?
— Да что ты затвердил: «Улики, улики»! Без тебя не знаю? Цену уликам я и сам понимаю. А насчет того, чего бы мне хотелось… Ждать, конечно, ничего особого я не жду, но и надежду не теряю: вдруг да обнаружится что-нибудь, что даст следствию хоть какую дополнительную ниточку…
— Ладно, — буркнул Луганов. — Найдем что или не найдем, видно будет. А искать надо…
Тем временем обыск в столовой был закончен, ничего примечательного здесь больше не обнаружили, и оперативные работники вместе с понятыми перешли в спальню. Луганов начал с осмотра громоздкого гардероба, стоявшего возле одной из стен, против окна, а Миронов занялся широкими, дорогого дерева кроватями, стоявшими в полутора-двух метрах одна от другой, и того же дерева ночными тумбочками.
Поиски Луганова были тщетными, сколь ни внимательно вел он осмотр. Гардероб оказался больше чем на половину пустым. В нем сиротливо висело на плечиках несколько поношенных мужских костюмов, штатских и военных. Женской одежды, которая, по-видимому, занимала ранее значительное место, не было никакой. Почти пусто было и в большинстве ящиков для белья: несколько пар верхних мужских рубашек, белье.
Придирчиво осмотрев и прощупав каждый из предметов, находившихся внутри гардероба, Луганов взялся за самый гардероб.
Приставив стул, он осмотрел гардероб сверху, простучал стенки: боковые, верхнюю, нижнюю. Ничего подозрительного. Закончив с гардеробом, Луганов перешел к трельяжу. Тем временем Миронов продолжал возиться с ночными тумбочками, чем-то привлекшими его внимание. Сначала он исследовал ту тумбочку, которая, как он определил, принадлежала Черняеву. В ее нижнем отделении находились стоптанные мужские домашние туфли, несколько пар носков, пустая коробка из-под папирос. В верхнем выдвижном ящике — всякая мелочь: скомканный носовой платок, футляр из-под очков, несколько пакетиков и коробочек с лекарствами.
Выложив все, что обнаружил, на кровать, Миронов исследовал самую тумбочку: осмотрел ее ножки, стенки, дверцу. То же, что и у Луганова: ничего подозрительного.
Закончив осмотр и сложив вещи обратно, как они лежали раньше, Миронов перешел ко второй тумбочке, которая, как надо было полагать, принадлежала прежде Ольге Николаевне. Эта тумбочка была сейчас пуста. Тем не менее Миронов и ее осмотрел внимательнейшим образом. Тоже как будто все в порядке, тоже ничего, что могло бы внушить подозрение. Однако когда Миронов вынул из тумбочки верхний ящик, ему бросилось в глаза, что он чуть короче, чем ящик в тумбочке Черняева. Тогда Миронов взял оба ящика и положил их рядом. Да, так и есть, он не ошибся: ящик в тумбочке Корнильевой был короче, чем в черняевской. Это было странно: ведь тумбочки были совершенно одинаковыми.
Чтобы проверить возникшее у него подозрение, Миронов взял ящик из тумбочки Черняева и вставил его в тумбочку Корнильевой: ящик до конца не вошел. Сантиметра два с половиной — три остались снаружи. Миронов вынул ящик и приложил его к тумбочке сбоку: размеры совпали. Ящик должен был закрыться. А он… он не закрывался.
«Так, — с удовлетворением подумал Миронов, — тут-то, по-видимому, и зарыта собака».
Заметив возню Миронова с ящиками, Луганов оставил трельяж и вопросительно посмотрел на Андрея.
— Кажется, что-то нащупал, — сдержанно сказал Миронов. — Сейчас проверим.
По просьбе Андрея Зеленко принесла молоток и отвертку, и Миронов с Лугановым принялись за работу. Медленно, осторожно они сняли с тумбочки верхнюю крышку. Неожиданно крышка отделилась очень легко, но под ней ничего интересного не оказалось.
Тогда они перешли к другой тумбочке, черняевской. Там крышка не снималась, и им пришлось изрядно повозиться, пока они ее не подняли. Миронову и Луганову сразу бросилось в глаза, что задняя стенка тумбочки Черняева была значительно тоньше, чем такая же в тумбочке Корнильевой. Миронов измерил — сомнения не было: задняя стенка второй, корнильевской тумбочки была почти на два сантиметра толще, чем черняевская.
Они перевернули тумбочки и измерили их задние стенки снизу: тут толщина стенок обеих тумбочек была одинакова.
Теперь задача была ясна: Миронов и Луганов принялись тщательно прощупывать и выстукивать заднюю стенку тумбочки Корнильевой. Прошло несколько минут, и Андрей обнаружил незаметную сначала, плотно пригнанную дощечку, которая закрывала верх задней стенки тумбочки. Своим устройством она напоминала крышку детского пенала для карандашей. Когда крышка была выдвинута, под ней оказалось полое пространство, нечто вроде узкого продолговатого ящичка. Сверху этот ящичек был прикрыт ватой, а под тонким слоем ваты…
— Тайник. Вот он. В натуральную величину, — громко, с нескрываемым торжеством провозгласил Миронов.
— Да-а, — усмехнулся Луганов, — упаковочка аккуратная, как в аптеке!
Домоуправ и Зеленко («Ближе, ближе, — сказал им Миронов, — смотрите внимательно. Тут ваше свидетельство особо важно».) затаив дыхание рассматривали тайник.
— Что же, — пролепетал вконец растерянный, вновь забывший о своих зубах домоуправ, — золото они тут хоронили? Камни какие?
— Зачем золото? Тут, думаю, кое-что поинтереснее. Сейчас разберемся, — ответил Миронов и уверенным движением извлек из тайника небольшой темный предмет, напоминавший продолговатую плоскую коробочку. — Вот это, например, миниатюрный фотографический аппарат вполне современной конструкции. Прошу обратить внимание: при сравнительно малых размерах светосила вполне приличная. Годится для съемок в сумерках, при плохом освещении.
Вслед за аппаратом был извлечен среднего размера флакончик с плотно завинченной крышкой.
— Так, — продолжал пояснять Миронов, — это, по-видимому, средство для тайнописи. Экспертиза разберется. Ага! Вот и карандаш для тайнописи. Это-то видно и невооруженным глазом. А это что? Авторучка? С ней прошу поосторожнее: может статься, она стреляет.
Затем из тайника были извлечены непривычной формы блокнот и какие-то записи, являвшиеся, как определил Миронов, шифром и кодом, Так перед глазами присутствующих появлялся предмет за предметом — целый арсенал шпионского снаряжения.
Обыск был закончен. Понятые скрепили своими подписями протокол, в котором были перечислены и подробно описаны все найденные при обыске предметы, все, что было обнаружено, после чего Миронов, Луганов и их товарищи простились с домоуправом и Зеленко и, захватив свои находки, отправились в управление. Двери, ведущие в комнаты Черняева, они тщательно опечатали.
Было далеко за полночь, однако Миронов и Луганов поехали домой не сразу. Они просто не могли сейчас расстаться, настолько оба были возбуждены, настолько им не терпелось обменяться впечатлениями, мыслями.
— Занятная история, — говорил Луганов, расхаживая взад и вперед по кабинету, тогда как Миронов, блаженно развалившись в кресле, пускал в потолок густые клубы дыма. — Чертовски занятная. Что же? Черняев, получается, не знал об этом тайнике? Так ведь выходит. Будь иначе, не оставил бы он его в целости, когда уезжал, уж это точно. Уничтожил бы! Ведь возвращаться-то он не собирался. А Корнильева? Ай да Ольга Николаевна! Хороша штучка! Вот тебе и Величко!
— Да-а, — задумчиво сказал Миронов. — Сложное дело. Только торопишься ты, Василий Николаевич, ох и торопишься. Боюсь, неспроста оставил Черняев этот тайник…
— То есть как неспроста? Значит, ты полагаешь, как следует из твоих слов, что Черняев знал о тайнике и сознательно, преднамеренно его не уничтожил? Так, что ли?
Миронов поморщился.
— Ничего я пока не полагаю, просто рассуждаю вслух. В нашем деле нужны факты. Факты, факты и еще раз факты. И, для того чтобы полагать, тоже требуются факты. Есть они у нас? Да, есть. Но пока их настолько мало, что делать какие-либо выводы рано… Скажу по совести, если бы не водосточная труба, не история с Савельевым, я, может, и стал бы на твою точку зрения, согласился бы, что тайник — дело рук Корнильевой и Черняев тут ни при чем. Но сейчас — уволь. Не могу. Ни трубу, ни нападение на Савельева, ни Войцеховскую, наконец, забывать нельзя. Уж слишком много тумана вокруг Черняева. Тумана много, а фактов мало — вот я и не хотел бы спешить с выводами.
— Ну знаешь, Андрей Иванович, ты меня просто удивляешь. По-твоему, мало фактов? А пребывание Корнильевой в фашистском плену, в американских лагерях для перемещенных лиц? Это тебе не факт? Превращение ее из Корнильевой в Величко? Тоже не факт? А тайник, тайник, черт побери, обнаруженный не где-нибудь, а именно у Корнильевой, в ее тумбочке? Я уж не говорю о ее прошлом, в котором тоже кое-что есть… Нет, уволь, фактов куда как изрядно! Предостаточно.
— Ах, Василий Николаевич, говорю тебе — спешишь. Есть ведь и другие факты. Хотя бы уход Корнильевой добровольно на фронт. Это ведь тоже факт. А характеристика, которую дает ей Садовский? Ты про нее забыл? Да мало ли что. Боюсь, твоя уверенность окажется на руку не кому иному, как Черняеву.
— Черняеву? Да ты что? — опешил Луганов. — При чем здесь Черняев?
— А ты не догадываешься при чем? При том самом. Представь себе на минуту, что Черняев возьмет да и заявит на допросе, что не имел о тайнике ни малейшего понятия. Я, мол, не я, и лошадь не моя. Следуя твоей версии, мы должны будем с ним согласиться. Так, что ли?
Луганов возразил:
— Ну, допустим, не совсем так. Следствие есть следствие. Будем работать. Верить Черняеву на слово не приходится. Да и надо еще посмотреть, что покажет исследование фотоаппарата и других предметов из тайника.
— Вот это другой разговор, — сказал Миронов. — Пока же спешить с выводами не следует. Никак нельзя.
— А я и не спешу, — сказал Луганов, — но что ясно, то ясно. Тумбочка-то корнильевская, от этого никуда не денешься…
К единой точке зрения Миронов и Луганов на этот раз так и не пришли, а наутро спор вспыхнул с новой силой, теперь уже в кабинете Скворецкого. Внимательно выслушав обе стороны, полковник задумался. Он сознавал, что факты в своем большинстве на стороне Луганова. Взять хотя бы историю с тайником. Ну, действительно, какой был смысл Черняеву оставлять тайник, если он знал о его существовании? Но и с доводами Миронова Скворецкий не мог не считаться. Кроме того, зная Андрея много лет, Кирилл Петрович верил в его чекистский «нюх», в хватку.
— Знаете что? — после длительного раздумья сказал Скворецкий. — Арбитром в вашем споре я не буду. Воздержусь. Все равно, что бы я ни сказал, каждый из вас останется при своей точке зрения. Уж лучше пусть вас жизнь рассудит. Давайте-ка за дело: беритесь за Черняева, приступайте к допросу. А кто из вас прав, выяснится. Со временем, но обязательно выяснится.
Глава 17
На этот раз Черняева вызвали на допрос уже не в милицию, а в Управление КГБ. Когда конвоир ввел Черняева, Миронов и Луганов невольно переглянулись. За какие-нибудь сутки Черняев изменился неузнаваемо: куда девалась прежняя выправка, уверенные, властные манеры? Он вошел в кабинет следователя понурясь, сгорбившись, устало волоча ноги. Глаза его потухли, на небритых щеках и подбородке выступила поблескивающая сединой неопрятная щетина.
— Садитесь, — сказал Миронов, указывая рукой на стул, стоявший в углу комнаты за маленьким столиком, покрытым зеленым сукном. — Начнем разговор.
Черняев, ни на кого не глядя, вяло потащился к указанному ему месту и тяжело опустился на стул.
— Как дела, Капитон Илларионович? — спросил Миронов. — Что надумали? Может, решили прекратить бессмысленное запирательство и говорить начистоту?
Черняев бросил на него сумрачный взгляд и, ничего не ответив, снова уставился в пол.
— Так как, Капитон Илларионович, — настойчиво повторил Миронов, — начнем разговор?
— О чем? — уныло спросил Черняев. — О чем? Ведь все сказано. Добавить мне нечего…
— Так-таки и нечего? — не скрывая иронии, заметил Миронов. — Что ж, придется вам помочь. Может, поговорим о назначении арсенала шпионских принадлежностей, хранившегося на вашей квартире?
— Арсенал? Шпионские принадлежности? — криво усмехнулся Черняев. — Мне, знаете ли, не до шуток.
— А я шутить и не собираюсь…
Миронов поднялся со своего места, подошел к сейфу, открыл его и выложил на стол сначала флакон со средством для тайнописи, потом специальный карандаш, затем все остальные предметы, что минувшей ночью были обнаружены в тайнике на квартире Черняева.
Извлекая на свет фотоаппарат, Андрей самым равнодушным тоном как бы невзначай обронил:
— Между прочим, дактилоскопическое исследование обнаружило на этой штучке, — он чуть приподнял фотоаппарат, — отпечатки пальцев. Ваших пальцев, Черняев…
Черняев закусил губу и нахмурился.
— Ладно, — сказал он внезапно охрипшим голосом, — Хватит. Я — я все скажу. Пишите!..
— Не складно, Капитон Илларионович, у нас с вами получается, — с подчеркнутой укоризной сказал Миронов. — Во всем, ну буквально во всем приходится вас изобличать. Чего было проще сразу сказать правду?
— Но… — начал было Черняев, и голос его пресекся. — Но я не хотел об этом говорить ради Ольги. Ее нет, она все равно мертва. Я хотел, чтобы хоть память о ней осталась чистой… — Черняев на секунду умолк, затем безнадежно махнул рукой. — Вижу — ошибся. Все напрасно. Шило в мешке не утаишь…
— Рассказывайте, — потребовал Миронов.
— К чему скрывать? — судорожно всхлипнул Черняев. — Я вижу, вы и так все знаете… Да, вы вчера правильно усомнились в тех мотивах, которые я назвал, объясняя, почему убил Ольгу. Была, конечно, и ревность, но не это главное, нет, не это! Ольга… Ольга была… Да, да, моя бывшая жена оказалась… шпионкой!.. Как я об этом узнал? Слушайте.
Я, — начал свой рассказ Черняев, — говорил правду, что прошлого Ольги Николаевны не знал. Никогда я ее прошлым не интересовался. К чему? Не знал я и ее настоящей фамилии. Можете мне верить. Кем она была на самом деле, раскрылось не сразу. Первый год нашей супружеской жизни был безоблачным. Я был счастлив. Да, да, счастлив. Счастье было настолько полным, что я как-то не замечал некоторых странностей в поведении Ольги. Вернее, замечал, не обнаружить их было трудно, но рассматривал эти странности как все новые и новые проявления ее любви, ее заботы обо мне…
— О каких странностях Ольги Николаевны вы говорите? — спросил Миронов. — Нельзя ли поконкретнее?
— Конкретнее? — откликнулся Черняев. — Но я и говорю самым конкретным образом. Минуту терпения, и вам все станет ясно. Я, как вам известно, военный инженер, строитель. Правда, последние годы вышел в запас, но все равно продолжал работать на стройках оборонного значения, и немаловажных. Ну, знаете, ракетодромы, всякое такое… Думаю, даже здесь в детали вдаваться не следует.
Миронов утвердительно кивнул. Черняев продолжал:
— Так вот. Дело свое я люблю и, смею утверждать, знаю. На стройках, в которых я участвовал, мне доверяли не последние посты. Раньше, до встречи с Ольгой, до женитьбы, я готов был работать шестнадцать — восемнадцать часов в сутки. Да и что мне было делать, кроме работы? Пить я не пью, картами не увлекаюсь. Работа была для меня всем: радостью, счастьем… Так было, пока в мою жизнь не вошла Ольга. Тут все переменилось. Мысли мои были заняты только ею. Даже в разгар работы, разговаривая с инженерами, прорабами, разбираясь в чертежах, схемах, я постоянно мыслями возвращался к Ольге. Не успев переделать за день и половины дел, с которыми так легко справлялся раньше, я бросал все и мчался домой, к жене…
Что? Я слишком пространно говорю о своих чувствах, своих переживаниях? Но иначе нельзя, иначе вы не поймете. Вы уж меня не перебивайте… Ольга! Да, она замечала, не могла не заметить, что на работе у меня начали возникать трудности, что многое я не успеваю сделать своевременно. Не говоря уже о научной работе: ведь раньше, до женитьбы, я хоть и не часто, но выступал со статьями в специальных журналах, теперь же все забросил.
И вот, видя, что дела мои идут все хуже и хуже, Ольга Николаевна сама пришла мне на помощь. И как мягко, как деликатно! Оказалось, что она умеет печатать на машинке, да и чертежи читает совсем не плохо. По совету, нет — по просьбе Ольги Николаевны я стал захватывать кое-какие материалы домой, работал над ними по вечерам. Ну, всякие там сводки, отчеты, записки, кое-что из чертежей. Она мне помогала: терпеливо, старательно. Какое это было счастье! Я часами был с Ольгой, мы были вместе, и с делами я опять начал справляться.
Сам не знаю, как это получилось, но через какое-то время Ольга Николаевна стала разбираться в делах руководимого мною строительства чуть ли не лучше меня. Впрочем, оно и понятно. Если я вначале носил домой только общие материалы, ну, кое-что из расчетов, отдельные схемы, не представляющие особой тайны, то постепенно стал работать дома и над секретными материалами, самыми секретными… Мне, как одному из руководителей строительства, не так уж трудно было уносить их с работы. Хранились они в моем служебном сейфе, к которому никто, кроме меня, доступа не имел. И все это Ольга видела, читала…
Вы говорите, я совершал служебное преступление, нарушал правила обращения с секретными документами? Да, конечно. Но я в то время так не думал. Ни на миг не отделял я Ольгу от себя, ничто из того, что знал я, не было для нее секретом. Я был слеп, абсолютно слеп, не видел, не замечал ее повышенного интереса к наиболее секретным материалам, который становился все явственнее и явственнее.
Но это еще не все! Радуясь тому интересу, который Ольга Николаевна постоянно проявляла к моей работе, к моим заботам, я делился с ней всем: подробно рассказывал о совещаниях, на которых обсуждались секретнейшие вопросы, далеко выходившие за рамки того строительства, где я работал, давая характеристики своим сослуживцам, начальникам, кое-кому из руководящих работников. Знал-то я многих и обо всех рассказывал жене: об их недостатках, слабостях, промахах…
Так прошел год, может быть, больше, пока не наступил конец. Все раскрылось, раскрылось внезапно, страшно…
Черняев вдруг судорожно, со всхлипом вздохнул и умолк. В комнате наступила тишина, слышно было только, как скрипит по бумаге перо Луганова, без устали записывавшего показания. Прошла минута, другая. Миронов не торопил Черняева. Тот сидел, безвольно кинув руки на колени, опустив голову. Наконец, словно собравшись с силами, он возобновил свой рассказ:
— Однажды я принес домой секретный документ, над которым мне нужно было основательно поработать. Документ был особо важный и особо секретный. Руки в тот вечер у меня до него не дошли: много было других материалов и я провозился до полуночи. Когда я кончил, Ольга уже спала. Сославшись на головную боль, она легла раньше обычного. Утром, когда я проснулся, Ольга Николаевна была уже на ногах. Она встала раньше меня, что случалось не часто.
Собираясь на работу, я взялся за папку, где лежал документ, намереваясь просмотреть его хотя бы наскоро. К моему ужасу, в папке документа не оказалось. Я принялся лихорадочно перелистывать все бумаги, лежавшие в папке, но документа как не бывало. Мне казалось, что я схожу с ума. Я твердо помнил, что перед сном положил документ именно в эту папку, и все же его не было. Я перерыл все бумаги, старые рукописи, перевернул все на столе, смотрел под столом, в книжном шкафу, за шкафом — все было напрасно. Я был настолько ошеломлен, что в первый момент не обратил внимания на поведение Ольги Николаевны, которая с трудно объяснимым равнодушием безучастно наблюдала за моими поисками. Да, как я ни волновался, она оставалась безучастной. В какое-то мгновение я внезапно обернулся, и вдруг мне показалось, что на ее губах змеится какая-то странная, ядовитая улыбка. Впрочем, это впечатление было мимолетным. Тут же выражение лица Ольги изменилось, стало озабоченным, и она стала спрашивать, что со мной, какая еще стряслась беда? Мне почему-то не захотелось говорить правду. Это было впервые. Почему? Сам не знаю. Преодолев себя, я спросил в упор, не брала ли Ольга из папки какие-либо документы, не перекладывала ли их куда-нибудь?
«Ты в своем уме?» — холодно сказала она и отвернулась. Так, таким тоном она со мной никогда еще не разговаривала. Однако в тот момент мне было не до ее тона — я об этом просто не думал. Со всей отчетливостью мне представлялись последствия пропажи документа. Да что там пропажи? Самый факт, что я позволил себе взять такой документ на дом, стань он известен, привел бы к самым тяжелым для меня последствиям.
В голове мелькнула спасительная мысль: а что, если я перепутал, не брал этого документа домой и он преспокойно лежит в сейфе в моем служебном кабинете? Мысль была несуразной, но утопающий хватается за соломинку. Не желая терять более ни минуты, я кинулся на строительство.
В сейфе документа, конечно, не было. Меня охватил какой-то тупой, леденящий кровь ужас. Все вдруг стало безразлично. Не сказав никому ни слова, я поехал обратно, домой. Зачем? Мне трудно в этом дать себе отчет.
Совершенно разбитый, раздавленный, я вошел в квартиру. Ольги не было. На столе лежала злосчастная папка. Без мыслей, без сил я присел к столу, раскрыл папку и принялся машинально перебирать лежавшие в ней бумаги. Что это? Бред? Нет! Документ лежал на месте, в папке, среди других бумаг, там, куда я его положил.
Кажется, все страшное осталось позади, надо бы радоваться, однако радоваться я не мог. Меня охватило какое-то странное оцепенение, но мозг лихорадочно работал. Вот тут-то я вспомнил и улыбку Ольги, которую она от меня прятала, и тон, каким она ответила на мой вопрос. Вспомнил я не только это: мне было над чем подумать. Раньше я не обращал внимания на расходы Ольги, отдавал ей все, что зарабатывал, не думая о деньгах. А теперь подумал. Подумал, и на лбу у меня выступил холодный пот. Словно пелена спала с глаз: откуда у нее такие деньги? Бесконечные покупки, все новые и новые вещи, одна дороже другой — на это же надо уйму денег…
— С балансом у вас действительно было не все в порядке, — вставил Миронов. — Мы тут прикинули: получилось, что тратили вы значительно больше, чем зарабатывали…
— А я о чем говорю? — подхватил Черняев. — Подсчетами; правда, я не занимался, но в то злосчастное утро мне стало ясно, что расходы наши заметно превосходят размеры моего заработка. Как я мог не обратить на это внимание раньше, уму непостижимо. Недаром говорят: любовь слепа.
— Нда-а, — задумчиво проговорил Миронов, — действительно, как вы раньше этого не замечали? Скажите, — внезапно спросил он, — а покупки всегда делала ваша бывшая жена, только она, или бывало, что кое-что из вещей и вы покупали?
Черняев смешался:
— Да как вам сказать? Больше-то покупала она. Я не любитель бегать по магазинам, но кое-что, случалось, мы покупали и вместе. Ну, мебель там, сервант…
— А ковер, который у вас в столовой, вы тоже вместе купили? Сколько он, кстати, стоил? Хороший ковер!
— Ковер? Что-то не помню. Кажется, вместе…
— Ну, а цена-то, цена его какова? Дорогой небось. Я толк в коврах знаю.
— И цены не помню, — угрюмо ответил Черняев.
Андрей почувствовал, как Черняев, говоривший до этого сравнительно свободно, почти без запинок, весь напрягся, ушел в себя. Перехватив его настороженный, исподлобья взгляд, Миронов беспечно махнул рукой:
— Ну, не помните, и не надо. Это, в конце концов, не суть важно. Рассказывайте дальше.
Каким-то особым чутьем, выработанным богатой практикой, Андрей почувствовал, что после его жеста и реплики, брошенной безразличным тоном, скованность, охватившая Черняева, когда речь зашла о ковре, исчезла.
Между тем Черняев продолжал:
— Долго сидел я в то утро один в пустой квартире, пытаясь осознать, осмыслить случившееся. «Не может быть, — думал я, — неужели Ольга, которую я так любил, которой так доверял, совсем не та, за кого себя выдает?! Кто же она? Шпионка? Нет! Только не это. Чтобы Ольга предала Родину, предала все, что есть святого на земле, связалась с иностранной разведкой — поверить в такое было невозможно. Да, но откуда тогда повышенный интерес к моим служебным делам, откуда деньги, эти проклятые деньги? Как, наконец, объяснить таинственную историю с документом, который сейчас опять лежал передо мной?» И все же поверить в то, что Ольга — шпионка, я не мог. Не мог, и все. Не может быть, думалось мне, чтобы она была таким чудовищем, так надругалась надо мной, над моей любовью, над всем, что свято, над своей любовью ко мне… Да, но была ли эта любовь? Любила ли она меня? Теперь я и в этом усомнился. На ум пришло ее безразличие в момент пропажи документа, пришло многое другое, десятки мелочей, которые ранее я оставлял без внимания. Было от чего потерять голову! Трудно сказать, сколько времени просидел бы я вот так, раздираемый мучительными противоречиями, то окончательно утверждаясь в мысли, что Ольга — шпионка, то выискивая ей оправдания и казня себя за чудовищную подозрительность. Вывела меня из этого состояния Ольга Николаевна, она сама. Я услышал, как открылась входная дверь и раздались ее шаги. Не зная, что я дома, что слышу ее, она весело напевала, снимая в прихожей пальто. Меня словно током ударило. Всякие сомнения и колебания исчезли. Судите сами: Ольга поет, она весела, зная, какая беда стряслась со мной, что мне грозит. Что это? Равнодушие? Беспечность? Нет! Просто ей нечего опасаться за мою, за свою судьбу. Ведь она-то знает, что документ вновь на месте, пропажи нет. А раз нет пропажи, не будет, не может быть и последствий.
Все это пронеслось в моей голове за считанные секунды, пока Ольга находилась в прихожей. Я понял все и принял решение. Когда Ольга, войдя в комнату, с изумлением увидела, что я нахожусь здесь, дома, у меня хватило сил подняться ей навстречу с самой милой улыбкой. «Оленька, — сказал я, — мне тут пришлось на минутку заехать домой, и, ты знаешь, заглянул я мимоходом в папку, а документ, который, как мне казалось, пропал, здесь, на месте. Так в папке и лежит. Затерялся, по-видимому, между бумагами, а я сгоряча и не заметил. Зря давеча панику поднял».
«Ну вот, — улыбнулась она, — вот видишь? А ты волновался, чуть скандал не устроил…»
Ее спокойствие, ее умение владеть собой были поразительны, но обмануть меня теперь уже ничто не могло. Наоборот: чем лучше Ольга владела собой, думал я, чем искуснее играет свою роль, тем она опаснее. Надо и мне ничем не выдать, что я ее раскусил, а там разберемся, уж теперь-то разберемся!
Вернувшись в тот день на строительство, я работать не мог. Мной владела одна мысль: надо разоблачить Ольгу, поймать ее с поличным. Но как? Сославшись на необходимость подготовить срочный доклад, я заперся у себя в кабинете и думал, думал, думал… План, наконец, созрел…
Прошло не меньше недели, пока я решил, что пришла пора действовать. Все это время Ольга Николаевна вела себя, как никогда, хорошо: была мила, внимательна, заботлива. Однако теперь за каждым ее словом, каждым жестом мне чудилась ложь, сплошная ложь… Впрочем, если я так и думал, то мыслей своих не выдавал ничем. Как ни хорошо играла роль Ольга, я играл не хуже, не уступал ей ни в чем. Но как это было тяжело! Ведь, невзирая ни на что, я продолжал любить Ольгу: да, да, избавиться от своего чувства я был не в силах. Представьте себя хоть минуту в моей шкуре, и вы поймете, через какие муки ада я прошел…
Что? Я опять отвлекаюсь? Возможно. Но если бы вы знали… если бы пережили хоть что-нибудь похожее на то, что довелось пережить мне…
Черняев опять замолк. Снова с минуту молчал, затем продолжал свою исповедь:
— Прошла, как я уже сказал, примерно неделя, и я, направляясь с работы домой, захватил с собой чертеж, который подобрал заранее. Ничего секретного этот чертеж не представлял. Но Ольга-то знать этого не могла.
Явившись домой, я сказал Ольге, что вечером мне придется поработать, так как к следующему дню я должен подготовить замечания по очень важному проекту. Само собой разумеется, я дал понять Ольге, что речь идет о самых что ни на есть секретнейших вещах.
Расстелив чертеж на столе, я сделал вид, что целиком погрузился в изучение объяснительной записки. Ольга Николаевна расположилась на тахте с каким-то пухлым романом. Так прошел час, может быть, полтора. Затем она поднялась, раз-другой прошлась по комнате и встала у меня за спиной. Облокотившись на мое плечо, она принялась рассматривать чертеж. Я откинулся на спинку стула, тяжело вздохнув.
«Что, — спросила Ольга, — устал? Может, я могу чем тебе помочь?»
«Да нет, — ответил я, — чем же ты поможешь? Вот если замечания на машинке перепечатать, так они еще не готовы. Ты ложись, Оленька, а я еще поработаю».
Ольга на этот раз не стала навязывать свою помощь. Когда она уже ложилась, я сказал, что было бы все же очень хорошо, если бы она отпечатала мои замечания. На ее вопрос, когда ей этим заняться, если замечания не написаны, я ответил, что часа через два-три кончу, а печатать она сможет утром. «Мне все равно с утра надо ехать в горком партии, — пояснил я, — где придется на какое-то время задержаться». Вот это время и будет в ее распоряжении.
Так мы и договорились.
Хочешь не хочешь, а пришлось полночи просидеть над этими бессмысленными замечаниями. Однако они были необходимы для осуществления моего плана. Утром я повторил Ольге, что еду в горком, и попросил ее отпечатать замечания, за которыми обещал вернуться. Папку с чертежом и объяснительной запиской я оставил на столе — не брать же ее было в горком?!
Ни в какой горком я, конечно, ехать и не собирался. Едва машина свернула за угол, как я велел шоферу остановиться, вышел и, побродив минут десять — пятнадцать по улице, вернулся назад, в свою квартиру. Бесшумно отперев дверь, я на цыпочках пересек прихожую и внезапно, рывком распахнул дверь своей комнаты. Ольга стояла ко мне спиной, наклонившись над столом, на котором кнопками был укреплен оставленный мною чертеж. Обернувшись на стук распахнутой двери, она увидела меня, и лицо ее исказилось ужасом и ненавистью. В тот же момент она отпрянула от стола, пряча что-то за спину. Но я действовал еще быстрее: кинувшись к Ольге, я вывернул ей руки и выхватил у нее аппарат, вот этот самый фотоаппарат, что лежит сейчас перед вами…
Как я ни был подготовлен к чему-либо подобному, происшедшее меня ошеломило. Одно дело подозревать, предполагать, даже быть уверенным, что близкий, любимый тобою человек оказался предателем, преступником, и совсем другое — схватить его собственными руками, схватить с поличным на месте преступления.
Крепко сжимая аппарат, я был не в состоянии произнести хотя бы слово, не мог перевести дух. Ольга первая пришла в себя: «Ну, — сказала она с вызовом, — чего же ты стоишь? Беги, спеши, куда следует. В КГБ. Доложи: так, мол, и так, поймал, разоблачил. Беги, говорят тебе!..»
— Очень разумное предложение. Почему же вы им тогда не воспользовались? — с легкой иронией сказал Миронов.
— Но как я мог им воспользоваться! — воскликнул Черняев. — Поймите мое состояние. Я ждал слез, оправданий, истерики, мольбы, чего угодно, только не этого. «Ольга, Оленька, — пролепетал я в полном смятении, — что ты говоришь, что все это значит?» Она зло усмехнулась и спокойно села к столу. Надо отдать ей должное: она владела собой куда лучше меня.
«Знаешь, дорогой мой, — процедила она сквозь зубы, — я не такая уж дура, чтобы поверить, будто ты ничего не понимаешь: уж слишком ловко все разыграно. Право, не ждала от тебя такой прыти. А теперь иди сообщай… Только, голубчик, помни, что сядем мы с тобой вместе и болтаться будем на одной веревке. Шпион и шпионка — чудесная парочка!»
«Ольга, помилуй! — воскликнул я. — Что ты городишь? Какой же я шпион?»
«А кто же ты такой? — прищурилась Ольга. — Смешно! Самый первостатейный шпион. Агент одной иностранной державы, как пишут в газетах».
То, что говорила Ольга, было непереносимо, но у меня не было сил возражать. А меня она не щадила. О, вынашивая свой план, я был наивен, наивен, как младенец. Я и понятия не имел, с кем имел дело, кем была Ольга. Нет, Ольга была не простой шпионкой. Это был матерый, опытный хищник, изощренный в тонкостях своего гнусного ремесла. Небрежно облокотившись на спинку стула, она медленно, с презрением цедила слово за словом, и с каждым новым словом мне становилось все очевиднее, что я погиб, погиб безвозвратно, что выхода для меня нет. Ольга издевалась надо мной, а я вынужден был безропотно слушать и… молчать. Что я мог возразить? Она напомнила мне, что вот уже год с лишним я «снабжаю» одну иностранную разведку секретнейшими документами о наших оборонных объектах. Точно, без ошибок Ольга перечислила те чертежи и документы, которые благодаря моей слепоте, моему преступному отношению к хранению государственной тайны прошли через ее руки и стали достоянием иностранной разведки. Вспомнила Ольга, конечно, и тот документ, пропажа которого неделю назад открыла мне глаза. И он тоже был сфотографирован Ольгой, а фотокопия вручена «шефу».
«Вот и прикинь, — говорила она, — что получается. Я? Моя роль маленькая. Я — связник, через которого передавалась секретная информация. Сведения добывал ты, ты и вручал их иностранной разведке. Через кого — это вопрос второстепенный. Попробуй доказать, что это не так. Думаешь, в КГБ сидят круглые идиоты, которые поверят твоему лепету? Как бы не так! Ты, голубчик, главный виновник, ты — шпион. С тебя и первый спрос».
Все, что говорила Ольга, было ложью, но в то же время и истиной, опровергнуть которую я был не в силах. Ну кто, кто в самом деле поверил бы мне, что я и понятия не имел, чем занимается моя жена? Да один факт самовольного выноса секретных материалов с территории строительства изобличал меня целиком.
— Да, — согласился Миронов, — положение ваше было не из завидных. Но кого, кроме себя, вам в этом винить?
— А я никого и не виню. Сам виноват, виноват кругом…
— Какой же вы нашли выход?
— Честно сказать, я выхода тогда и не искал. Ольга не давала мне к тому возможности, не давала передышки. Она открыто издевалась надо мной, издевалась со злорадством, я бы сказал, с упоением.
«А деньги, деньги, — усмехалась она. — Деньги, на которые приобреталось все, все вот это. — Она указала на роскошную обстановку столовой, сделала широкий жест в сторону спальни. — А изысканные наряды, драгоценности, которые ты подносил мне день за днем? На какие средства это приобреталось? На твое жалованье? Так называемую зарплату? Смешно!»
«Никаких денег мне никто не давал, — попытался я возразить. — Ты это превосходно знаешь».
«Не говори глупостей, — недовольно поморщилась Ольга, — не все ли равно, вручались эти деньги прямо тебе из рук в руки или передавались через меня? И запомни, там, — Ольга подняла вверх указательный палец, отчетливо выговорив слово „там“, — там все учтено. До последней копейки. Так что в случае нужды эти данные окажутся, где им и следует быть. В КГБ. Вот так-то, мой милый. А теперь подумай, надо ли тебе торопиться совать собственную шею в петлю».
Я был разбит, уничтожен. Тупо уставившись на Ольгу, я молчал. Молчал — и все!.. Так прошло несколько минут. Молчание прервала Ольга: «Ну что же ты не идешь заявлять, каяться в грехах?» — резко спросила она.
«Оленька, — сказал я и сам почувствовал, как мерзко дрожит мой голос, — о чем ты? Куда идти? Зачем? Я — я не знаю, что делать. Это ужасно…»
Да, мне стыдно в этом признаться, но это была капитуляция, полная капитуляция. Ольга сразу это поняла. Быстро поднявшись со стула, она подошла ко мне, потрепала по щеке как маленького ребенка и как ни в чем не бывало заговорила: «А что, собственно говоря, случилось? Что ты впадаешь в истерику? Ну, выяснили отношения, так это к лучшему. Теперь, по крайней мере, ты будешь работать осмысленно, будешь приносить то, что действительно заслуживает внимания. Дальнейшее — моя забота».
Вот тут-то, в этот самый момент, я и понял, что убью ее, убью сам, своими руками, что иного выхода у меня нет. Пойти сообщить о ней я не мог — боялся. Нет, я должен убить, разрубить этот узел. И в то же время… да… мне жалко было Ольгу. Повторяю, я продолжал, несмотря ни на что, любить ее…
— Вам жалко было Ольгу Николаевну? Только ее? Вы за ее судьбу опасались? — чуть усмехнулся Миронов. — Так ли, Капитон Илларионович?
— К чему кривить душой? — потупился Черняев. — Думал я не только об Ольге Николаевне. Собственная участь, если все откроется, страшила меня не меньше. Нет, мне не хотелось лезть в петлю. Да, признаюсь, я проявил малодушие, трусость, но уж слишком глубоко я увяз…
— Вот так-то лучше, — заметил Миронов. — Во всяком случае, честнее. Кстати, вы так и не сказали, когда все это произошло. Нельзя ли уточнить?
— В январе, — уверенно ответил Черняев. — В конце января этого года.
— Так. Ну, а что было дальше? Вы начали выполнять шпионские задания вашей жены?
Черняев отрицательно покачал головой.
— Нет. Никаких заданий я не выполнял. То есть я приносил домой кое-какие материалы, но подбирал такие, в которых не содержалось ничего секретного, никакого намека на государственную тайну. Больше Ольга, как она к этому ни стремилась, ничего существенного от меня не узнала.
— И она, что же, не поняла, что вы пытаетесь ее провести, мирилась с таким положением?
— Да как вам сказать? Думаю, что поняла. Скорее всего, поняла. Во всяком случае, требования ее возрастали и возрастали чуть не с каждым днем. Но не в этом дело. Жизнь-то наладить было уже нельзя: все пошло наперекос, стало невыносимым. Ольга откровенно третировала меня, помыкала мной. Она стала пропадать целыми днями, бывало, что не являлась домой и по ночам. Вскоре мне стало ясно, что у нее есть кто-то другой, да она этого теперь особенно и не скрывала: я был полностью в ее руках. С каждым днем подтверждалась моя догадка, крепла уверенность, что меня-то Ольга никогда не любила. Ей нужен был мой пост, мое положение, мой доступ к секретным данным, чтобы использовать все в преступных целях, но не я, не моя любовь. Любовь?! Да что там говорить: любовь, нежность — все это было игрой, подлой, мерзкой игрой. Чем больше я в этом убеждался, тем сильнее крепло решение убить, уничтожить это чудовище. Вчера о последних месяцах нашей совместной жизни я рассказал правду: это был ад, сущий ад…
Что я могу сказать еще? — продолжал Черняев. — Все, что произошло потом, позже, было так, как я рассказывал вчера. Умолчал я лишь об одном: не назвал истинной причины, побудившей меня убить Ольгу, умолчал, что она была шпионкой, оберегал ее память…
— Только ли ее память оберегали? — вставил вопрос Миронов.
— Да, клянусь вам, прежде всего ее память.
— Что же было дальше? Продолжайте!
— Продолжать? Но что я могу еще сказать? Все остальное — ну, поездка на курорт, история с билетом, — все так и было, как я рассказывал. Добавить мне нечего.
Черняев глубоко, судорожно вздохнул и бессильно откинулся на спинку стула.
— Ну вот, — с трудом произнес он, — теперь я сказал все, можете меня судить…
Миронов посмотрел на него с усмешкой:
— Так-таки сразу и судить? Что вы все торопитесь, Черняев? До суда еще далеко. Скажите, после исчезновения вашей бывшей жены с вами никто не пытался установить связь? Я имею в виду сообщников Ольги Николаевны.
— Нет, никто.
— Допустим, так. Ну, а сами вы кого-нибудь из ее окружения, друзей, близких, знали? Еще при ее жизни?
— Никого не знал. Не пришлось.
— Что ж, никто из знакомых, из родственников, наконец, вашей бывшей жены не бывал у вас в доме, ни с кем она не встречалась? Ни у кого сама не бывала? Неужели так?
— Нет, почему, родственники у нее были. Какая-то тетя, по-моему. Ольга к ней как-то ездила. Да вот, кстати, как раз тогда, когда говорила, что уезжала оформлять развод.
— Ездила к ней, к тете? Вы в этом уверены? — спросил Луганов. Он вспомнил, что, по словам Навроцкой, Ольга Николаевна после переезда в Крайск у нее не бывала.
— Ручаться я не могу, — возразил Черняев, — но так она тогда говорила…
— Хорошо, — сказал Миронов. — А как насчет знакомых, друзей Ольги Николаевны? Кого из них вы знали, кого можете назвать?
— Никого, — твердо ответил Черняев. — Знакомых Ольги Николаевны я не знал.
Миронов взял из лежавшей у него на столе папки заранее подготовленные фотографии, среди которых были снимки Левкович, самой Корнильевой и Войцеховской, поднялся со своего места, подошел к столику, за которым сидел Черняев, и разложил на нем фотографии.
— Среди изображенных на этих снимках лиц есть кто-либо, кого бы вы лично знали или, возможно, встречали. Встречали сами или в обществе вашей жены?
Пока Черняев перебирал фотографии, Миронов встал несколько в стороне, пристально наблюдая за ним.
— Вот это, — сказал Черняев, откладывая на край стола снимок Корнильевой, — моя бывшая жена, Ольга Николаевна Величко. Это, по-моему, Левкович. Стефа Левкович. Наша домашняя работница. А остальные… — Он еще раз бегло просмотрел фотографии. — Нет, остальных я не знаю.
Андрей, однако, заметил, что в тот момент, как в руках Черняева оказалась фотография Войцеховской, тот метнул в его сторону из-под приспущенных ресниц настороженный взгляд.
— Хорошо, — сказал Миронов, забирая фотографии. — Не знаете так не знаете. Еще вопрос: о тайнике вы действительно ничего не знали? Это как — правда?
— Нет, не знал. Можете мне верить. Фотоаппарат Ольге Николаевне я вернул, но где она его хранила, понятия не имел. Пытался искать, не нашел. Остальное вижу впервые. Да и подумайте сами: знай я, где упрятана эта мерзость, уж наверное поспешил бы от нее избавиться.
Черняев невесело усмехнулся. Миронов мгновенно переглянулся с Лугановым.
— Ладно, — сказал он, — и это запишем. Имеете ли вы еще что-либо сообщить следствию?
— Извините, — приложил ладони к вискам Черняев, — но я очень устал, очень… Голова раскалывается…
— Ну что ж, — согласился Миронов, — тогда сегодня допрос прервем. Может, вам врача прислать, что-нибудь дать от головной боли?
— Нет, спасибо. Мне просто надо побыть одному, прийти в себя…
Хотя Черняев и ссылался на усталость, на головную боль, протокол допроса он читал внимательнейшим образом. И не только читал: подписывая страницу за страницей, вычеркивал отдельные фразы, кое-что редактировал, кое-где вносил дополнения. Прошло не меньше часа, пока он перечитывал и правил протокол. Наконец его увели. Луганов блаженно потянулся и потряс в воздухе кистью правой руки.
— Уф! Аж рука затекла от этого писания. Но сегодня писал не зря. Что ты теперь скажешь, Андрей Иванович, насчет Корнильевой?
— А то и скажу, что раньше говорил. Послушать Черняева, так оно и получается: я не я и лошадь не моя. Корнильева, конечно, как ты выражаешься, штучка. Но и с ней еще много неясного. Мы так до сих пор и не знаем, как она превратилась в Величко, по чьему заданию работала, с кем была связана. Тут еще работать и работать. Что же касается до Черняева, так туман вокруг него, по-моему, не только не рассеялся, а стал еще гуще.
— Ну, Андрей Иванович, уволь, — не без иронии развел руками Луганов. — Насчет Корнильевой я с тобой согласен. Поработать придется еще немало, хотя, сказать по совести, пока не вижу, как мы сможем с ней разобраться. А вот к Черняеву, по-моему, ты просто придираешься. Главное-то он выложил… Знаю, знаю! — Луганов даже поднял обе, руки, как бы отгораживаясь от возражений Миронова, хотя тот слушал его молча. — Все знаю. Ты опять заговоришь об объявлении, о водосточной трубе, о Савельеве… А если Савельев ошибся? Если ему просто показалось, что Черняев возился возле водосточной трубы? Это не исключено. А тогда… тогда тут просто совпадение, роковое совпадение, и больше ничего. Ведь связи-то между Черняевым и Войцеховской мы не нащупали. Есть ли она? Ну, а причастность Черняева к нападению на Савельева и вовсе маловероятна. А поведение Черняева сегодня? Нет, что ни говори, сегодня он вел себя искренне. Повторяю, главное он, по-моему, сказал.
— Ой ли, Василий Николаевич? Главное ли? Показания Черняев дал серьезные, спору нет, но до конца ли они искренни, судить не берусь. Что же до водосточной трубы, до нападения на Савельева, Войцеховской, наконец, так ты меня ни в чем не убедил. Совпадение? Сомневаюсь, обязан сомневаться. Не имею права иначе. Все это — факты, реальные, весомые факты, и, пока мы не найдем им объяснения, сбрасывать их со счетов, объяснять случайностью, совпадением нельзя. Никак нельзя. Да и в сегодняшнем поведении Черняева не все гладко…
— Например? — с интересом спросил Луганов. — Что-то я ничего особо интересного не обнаружил.
— А оно и понятно. Тебе пришлось возиться с протоколом, и ты не мог заметить некоторых деталей в ходе допроса, над которыми следует задуматься.
— Что ты имеешь в виду, если не секрет?
— Какой же секрет? Охотно скажу. Первое — его странное поведение, когда речь зашла о ковре. Он явно насторожился и уклонился от ответа на простой, казалось бы, вопрос. Между тем он не мог забыть, что ковер был куплен после убийства Корнильевой. Он и куплен-то был, вернее всего, чтобы скрыть следы крови, которые мы обнаружили. Почему же Черняев обошел этот вопрос, не сказал правды? Ведь по сравнению с тем, в чем он уже признался, это — мелочь. И все же он скрыл. Повторяю: почему? Да очень просто. Скажи он правду, пришлось бы тогда признать, что вещи приобретала не только одна Корнильева, не только они совместно, но и он сам после ее исчезновения. Вот об этом-то, по-видимому, Черняев и не хотел говорить. Опять-таки почему? Почему не в интересах Черняева признать, что ковер им куплен после устранения Корнильевой? Полагаю, и это ясно. Сделай он такое признание, и у следствия сразу возникнет законный вопрос: а откуда, голубчик, появились у тебя средства на такое приобретение? Ведь если брать его показания за чистую монету, с исчезновением Корнильевой иссяк источник, из которого щедро поступали деньги, дававшие чете Черняевых возможность приобретать все, что их душе было угодно, а такой ковер, знаешь, стоит немало. Уж можешь мне поверить, я в этом толк знаю.
— Занятно, — сказал Луганов. — Я действительно завяз в этом несчастном протоколе и ровно ничего не заметил.
— Это еще не все, — продолжал Миронов. — Есть и еще кое-что весьма занятное. Когда Черняев рассматривал фотографии — ну, те самые, что мы с тобой подобрали перед допросом, — я за ним наблюдал самым внимательнейшим образом…
— И что?
— А то, что фотография Войцеховской не оставила его безразличным. Черняев Войцеховскую знает, голову даю на отсечение. Это же, как ты понимаешь, не мелочь. Тут уж о совпадении речи быть не может. Отсюда мораль: не успокаиваться на показаниях Черняева, не считать, что он выложил все, что мог, — это раз, а второе — Войцеховская…
— Да-а-а, — неуверенно протянул Луганов, — резон в твоих словах есть, но, понимаешь ли, опять ничего конкретного. Детали, предположения, не за что ухватиться… И Войцеховская… Тоже ничего определенного.
Миронов молча пожал плечами. Что тут можно было возразить? Да и продолжать спор Андрею не хотелось, было не до того: надо было спешить к начальнику управления — доложить результаты допроса, да и с Москвой связаться.
Глава 18
Не успели Миронов и Луганов толком рассказать Кириллу Петровичу о последнем допросе Черняева, как дали Москву. У аппарата был генерал Васильев. Трубку взял Миронов.
Разговор получился неожиданно долгим. Генерал не только выслушал доклад Миронова о последних показаниях Черняева, но и тщательно вникал во весь ход расследования, придирчиво расспрашивал об отдельных фактах, интересовался деталями. К показаниям Черняева он отнесся со всей серьезностью, однако, как и Миронов, считал, что брать их целиком на веру нельзя.
— Корнильева, — говорил Семен Фаддеевич. — Корнильева… Роль ее до конца далеко не выяснена. Куда там! Уж больно противоречивая фигура получается: с одной стороны, самые лестные характеристики от Садовского, других, той же Навроцкой, безупречное поведение в партизанском отряде, наконец. А с другой — таинственное превращение в Величко, записка, а теперь шпионаж. И не просто шпионаж, а еще и попытка вербовать Черняева. Такое рядовым шпионам не поручают. И запутала она Черняева ловко, поймала мастерски. Нет, сложная фигура Корнильева, тут работы еще непочатый край. Между прочим, — задал вопрос генерал, — в своей докладной записке вы указывали, что Луганов, будучи у Навроцкой, выяснил, будто у Корнильевой есть брат. Как, разыскали этого брата? Где он находится?
— Разыскали, — ответил Миронов. — Он живет в Алма-Ате. Только вот беседовать с ним не беседовали, как-то руки не дошли. Да и есть ли смысл? Ведь, судя по всему, он не виделся с Корнильевой много лет, почти не поддерживал связи. Отношения у них были самые прохладные…
— Ну и что, — перебил генерал. — Брат есть брат. Самый близкий из оставшихся в живых родственников. Можете ли вы дать гарантию, что, после того как брат Корнильевой уехал из Воронежа, они не встречались, не переписывались? Последние годы, в частности? Не можете. Значит, надо попытаться выяснить, что ему известно о сестре. Одним словом, каждой зацепкой надо воспользоваться, ничего не упускать из виду, искать, искать и искать, чтобы до конца разобраться с Корнильевой…
Теперь о Черняеве, — продолжал генерал. — Я далеко не уверен, что он сказал о себе все, что мог сказать. Думаю, тут вы правы. Мне лично сдается, что свою роль он весьма и весьма преуменьшил. Думаю, Корнильева не только пыталась привлечь, но и привлекла его к шпионской работе и действовал Черняев вполне сознательно и куда более активно, нежели он пока говорит. Больше того: отнюдь не исключено, что Корнильева связала его со своим «шефом» или с кем-либо из его представителей, что и после убийства Корнильевой он продолжал свое дело. В самом деле: стоит стать на такую точку зрения и многое приобретает смысл, становится понятным. Та же история с объявлением, с водосточной трубой, попытка убрать Савельева, история с ковром — вот они откуда, денежки-то!.. Да и Корнильеву он мог убить и не по собственной инициативе: она им дала Черняева, свою миссию выполнила, вот ее и вывели из игры, как лишнее звено. У них — американской, английской и прочих разведок — это в обычае, часто случается. Человека-то они ни во что не ставят. Все это, конечно, пока еще только версия, но весьма правдоподобная. Отсюда вывод — над Черняевым работать и работать, допрашивать его настойчиво, вдумчиво, добиваясь полного признания. Надежды, что он сам покается, мало. Да, чуть не забыл: прошлое Черняева вы досконально исследовали? Разобрались в нем полностью? Нет ли там, в его прошлом, какого-нибудь сучка или задоринки, которые могли бы объяснить, почему Черняев пошел на вербовку, если только он был завербован?
— Как вам сказать, товарищ генерал, — замялся Миронов. — Прошлым Черняева мы занимались: изучили личные дела, автобиографии, собрали характеристики с тех мест, где он ранее работал, сделали ряд запросов. Ответы сплошь благоприятные: все говорит в пользу Черняева. Сучков и задоринок, выражаясь вашими словами, нет…
— «Запросы», «личные дела»! — сердито перебил генерал, и Миронов живо себе представил, какую частую дробь выбивают в эту минуту пальцы Семена Фаддеевича. — А люди, люди, которые знали Черняева пять, десять лет тому назад, в годы войны, до начала войны, наконец, таких людей вы нашли? С ними беседовали?
— Нет, Семен Фаддеевич, — чистосердечно признался Андрей. — Этого не сделали. Не успели.
— Вот вам и еще задача, — сказал генерал. — Найти таких людей, обстоятельно расспросить их, получить не бумажную, а живую характеристику Черняева, проследить весь его жизненный путь самым дотошным образом. Впрочем, в решении этой задачи мы вам, пожалуй, поможем, людей, знавших Черняева, поищем. Нам, в Москве, это легче. Кстати, как давно находится Черняев в Крайске? Два года?
— Около того, — подтвердил Миронов. — Чуть побольше. До Крайска он работал в Саратове. Тоже около двух лет. А еще раньше — на Урале, в Средней Азии, на Украине. Как кончилась война, так все время кочевал. Такая уж у него профессия — строитель.
— Строитель? Да, строитель, строитель… — Семен Фаддеевич с секунду помолчал. — А вы не находите, что это любопытно: кочует и кочует. Строитель, конечно, а все-таки: нигде больше года-двух не задерживается? Любопытно, а? В Сибири, кстати, Черняев после войны не бывал, не работал? Ведь он, помнится, родом откуда-то из тех мест?
— Работать Черняев в Сибири после войны не работал, — ответил Миронов, — ну, а бывать, может, и бывал: в отпуску, в командировке. Мы этого не знаем, не проверяли.
— Вот видите, — заметил генерал, — и с этим надо разобраться. Значит, решим так: я поручу разыскать людей, с которыми Черняев был в прошлом близок. Когда необходимые данные будут собраны, вы с этими людьми повстречаетесь и потолкуете… Дальше, — продолжал генерал, — Войцеховская. Надо ею заняться вплотную. Как знать, может, это не последняя спица в их колеснице. Что предпринять, с чего начинать — вот в чем вопрос? А что, если вам самому познакомиться с нею, лично? Конечно, подыскав какой-нибудь благовидный, подходящий предлог. Подумайте над этим и доложите свои соображения. Вот так. У меня пока все.
— Будет сделано, Семен Фаддеевич, — сказал Миронов и, попрощавшись с генералом, положил трубку.
По репликам и ответам Миронова Скворецкий и Луганов следили за ходом разговора, но этого, конечно, было недостаточно. Андрей не замедлил передать им все указания и замечания генерала подробнейшим образом.
— Корнильева, — вздохнул Скворецкий, выслушав Миронова. — С Корнильевой дело темное. Как и что тут установишь? Брат? Что-то я не думаю, чтобы он знал о ней особо много, но в одном генерал прав: брат — это ближайший родственник… Где он, кстати, находится? В Алма-Ате?
— Совершенно верно, — подтвердил Луганов, — там. Когда я был в Воронеже, выяснил. Алма-Ату мы запрашивали. Они подтвердили. Работает в Казахской Академии наук. Там, в Алма-Ате, и проживает.
— Значит, придется тебе отправиться в Алма-Ату, — сказал Скворецкий. — Беседовать лучше самим. Да и времени уйдет немного. Самолетом.
— Слушаю, товарищ полковник, — ответил Луганов. — Попытка не пытка. Когда разрешите вылетать?
— Ты как, — обратился Скворецкий к Миронову, — обойдешься эти дни без Василия Николаевича? Думаю, тянуть нечего, завтра бы можно и выехать.
— Я не возражаю, — после короткого колебания согласился Миронов. — Вот только как быть с Черняевым? Его надо допрашивать и допрашивать, а одному мне бы не хотелось…
— День-два особой роли не играют, — возразил Скворецкий, — а больше Василий Николаевич не задержится. Да и за это время можно будет Черняева допросить: вместе это сделаем. Что же касается его прошлого, так тут толковать пока не о чем. Подождем, пока Москва разыщет его прежних знакомых, друзей, тогда и начнем действовать. Так я понял указания генерала?
— Совершенно правильно, Кирилл Петрович.
— Тогда перейдем к Войцеховской, — продолжал полковник. — Должен признаться, что я тут кое-что предпринял, пока вы возились с Черняевым. — Скворецкий раскрыл одну из лежавших на столе папок и принялся перебирать находившиеся в ней документы. — Новостей почти никаких. Существенных, во всяком случае. А вот вопрос у меня к тебе есть: ты с биографией Войцеховской знакомился?
Миронов удивился:
— Само собой разумеется. Как же я мог с ней не ознакомиться?
— Так, так. Ну, а какие же выводы ты сделал, что предпринял? Биография-то, скажем прямо, любопытная.
— Согласен, биография интересная. Но предпринять я ничего не успел. Не до того было…
— Положим, это так. Тогда возьми биографию и перечитай еще раз, да повнимательнее. Она того заслуживает.
Миронов взял протянутые ему листки бумаги и углубился в чтение. В прошлый раз, когда биография Войцеховской попала к нему впервые, он просмотрел ее бегло, поэтому сейчас внимательно все перечитал вновь.
Полковник Скворецкий был прав. Войцеховская описывала жизнь довольно пространно, и биография у нее была действительно весьма любопытна. Она писала, что родилась в 1926 году в Польше, в небольшом городке Яворове, невдалеке от Львова, где отец ее, по национальности полуполяк, полуукраинец, работал учителем. Мать украинка. Тоже учительница. Жила семья плохо, трудно, еле сводя концы с концами. Отца за прогрессивные взгляды и за то, что он был не «чистый» поляк, не раз выгоняли с работы. Семье то и дело приходилось переезжать с места на место. Жили они в Самборе и в Раве-Русской, все там же, вблизи Львова, затем в Побьянице, под Лодзью — одним словом, постоянно кочевали. Война застала Войцеховскую и ее родителей в Збоншине, на западе от Познани, вблизи от польско-германской границы. Немцы, писала Войцеховская, вторглись на территорию Познаньского воеводства в первые же дни после своего разбойничьего нападения на Польшу. Семья Войцеховских не успела бежать, да и некуда было. Начались годы фашистской оккупации.
В 1942 году удалось перебраться в Плоньск, поближе к Варшаве. Отец участвовал в движении Сопротивления. Войцеховская, тогда еще совсем юная девушка, активно ему помогала.
В 1943 году отец погиб. Вскоре умерла и мать. Оставшись одна, без родителей, Войцеховская перебралась в Варшаву, к друзьям отца по антифашистскому подполью. Это было в конце 1943 года. Там она активно включилась в борьбу против гитлеровцев. В августе 1944 года вместе со своими товарищами по борьбе — варшавскими комсомольцами — она участвовала в Варшавском восстании, которое было организовано польскими реакционерами из так называемой Армии крайовой. Войцеховская, подобно подавляющему большинству рядовых участников восстания, не знала истинных причин и подоплеки этой преступной авантюры. Она, как и тысячи других варшавян, как и сотни польских коммунистов и комсомольцев, сражалась на улицах обреченной Варшавы до последнего. В двадцатых числах сентября Войцеховская с группой бойцов Польской народной армии людовой, вопреки предательскому приказу генерала Бур-Коморовского, стоявшего во главе восстания, пробилась из Варшавы для соединения с частями 1-й армии Войска Польского, сражавшегося в рядах Советской Армии. Во время переправы через Вислу была ранена и оказалась в советском госпитале.
Надо отдать должное, биография была написана подробно, указывались даты, конкретные факты, имена людей, с которыми она сражалась плечом к плечу.
В госпитале, еще не успев как следует оправиться после ранения, Войцеховская начала оказывать помощь сестрам в уходе за ранеными. Ведь в период подполья она познакомилась с медициной и могла потягаться с любой медсестрой.
Среди раненых находился командир одного из танковых соединений Советской Армии, полковник Васюков. Он обратил внимание на Войцеховскую. В свою очередь, и ей приглянулся бравый полковник, хотя и был он лет на двадцать с лишним старше ее. Да и льстило ее самолюбию, что с таким вниманием относится к ней заслуженный, боевой командир. Кончилось дело тем, что, когда Васюков выписался из госпиталя, Войцеховская уехала с ним, в его часть. Она стала его фактической женой, хотя брак Васюков никак не хотел оформлять.
Кончилась война. Летом 1946 года Васюков, остававшийся до этого в Германии, получил назначение в Москву, и Войцеховская поехала с ним. Поселились они вместе, как муж и жена. В 1947 году полковник помог Войцеховской устроиться на учебу: она поступила в Институт иностранных языков.
Все, казалось бы, шло хорошо, как вдруг разразился скандал. Впрочем, рано или поздно он должен был произойти. На Дальнем Востоке, где перед войной служил полковник, у него была семья: жена и трое детей. Окончательно с семьей он так и не порывал, всячески скрывая от жены свою связь с Войцеховской. В свою очередь, и Войцеховской он не говорил всей правды. Но, как ни таился полковник, как ни изворачивался, все раскрылось, Васюкова понизили по должности и откомандировали из Москвы. Еще до отъезда полковника, как только начался скандал и она поняла, что Васюков все эти годы ее обманывал, Войцеховская ушла от него, переселилась в студенческое общежитие. Успешно закончив институт, она получила специальность преподавателя английского языка и уехала работать в Харьков. Проработав там несколько лет, перебралась в Крайск.
— Как, — спросил Скворецкий, увидев, что Андрей кончил читать, — занятно?
— Да уж куда занятнее, — неуверенно произнес Миронов, по привычке теребя свою шевелюру. — Прочитаешь такое и задумаешься. Куда ни кинь — героическая женщина. И — несчастная. Подлец этот Васюков. Исковеркал человеку жизнь ни за понюх табаку. Я как-то тогда, когда в первый раз знакомился с автобиографией, больше интересовался польским периодом ее жизни. Хотя, если вдуматься, он-то, этот период, как раз хоть куда. Если, конечно… если то, что она пишет, — правда.
— Вот в том-то и дело, — подхватил Скворецкий, — что правда. Если и не все, то главное из описываемого Войцеховской — участие в Армии людовой, в Варшавском восстании, выход в группе коммунистов и комсомольцев с боями из Варшавы, ранение и все прочее — чистая правда.
Миронов скептически хмыкнул. На лице его проступило выражение недоверия. Скворецкий, внимательно наблюдавший за ним, самодовольно усмехнулся.
— Что, брат, сомневаешься? Думаешь, откуда мне знать, что правда, что нет? — не без торжества спросил Кирилл Петрович. — Очень просто: пока вы с Василием Николаевичем возились с Черняевым, я решил заняться Войцеховской. С кем мог, созвонился, разослал запросы, кое-кого нашел, кое-что выяснил. Отсюда и знаю.
Как рассказал Скворецкий, он связался с Московским управлением КГБ, с тем городом, где служил теперь Васюков, запросил архивы, направил запросы в Польскую Народную Республику. Не все ответы были еще получены, но многое уже стало ясным. Так удалось разыскать кое-кого из тех лиц, которых Войцеховская называла в качестве своих товарищей по участию в Варшавском восстании. Двое из них находились в Москве, работали в польском посольстве. Они подтвердили от слова до слова то, что писала Войцеховская о своей боевой деятельности в Варшаве в дни восстания, о выходе из Варшавы, соединении с частями Войска Польского, переправе через Вислу.
Подтвердилось также, что после ранения Войцеховская была направлена в госпиталь, где и встретилась с полковником Васюковым. Правильно она описывала и историю своих отношений с Васюковым, и все последующее. Из Московского управления КГБ, в частности, поступило сообщение, подтверждавшее, что Войцеховская действительно училась в Институте иностранных языков, во время пребывания на втором курсе перешла жить в общежитие, по окончании института была направлена на работу в Харьков. Этот последний из полученных документов и протянул Скворецкий Миронову, заканчивая свой рассказ.
Рассеянно просматривая сообщение Московского управления КГБ, Миронов вдруг насторожился. Внимание его привлекла одна фраза.
— Минутку, Кирилл Петрович, минутку. Обратите-ка внимание вот на это: «При поступлении в институт, — вслух зачитал Миронов, — Войцеховская сообщила, что более или менее владеет английским языком, который изучала в семье и в школе на родине. Однако кое-кто из преподавателей, занимавшихся с ней в годы ее учебы в институте, высказывал мнение, что язык она знает почти в совершенстве, а ее произношение напоминает лондонское».
— Да ты что, за дурака меня считаешь! — вспылил Скворецкий. — Думаешь, я такую вещь без внимания оставлю? Не раз думал: не все тут гладко. Трудно предположить, чтобы в семье захудалого польского учителя превосходно знали английский язык. Трудно. Только ломай не ломай голову, толку что? Говоря по совести, мы пока о Войцеховской знаем слишком мало, фактически ничего, если не считать этой биографии. И подходов к ней никаких… Так что давай берись за дело, а там, глядишь, и с этим самым произношением разберемся.
— Это-то понятно, — вздохнул Миронов, — только как, с какого конца к ней подступиться, с чего начать? Судя по биографии, прошла она огонь, и воду, и медные трубы. Голыми руками ее не возьмешь. Да и вообще…
— Что «вообще»? — спросил Скворецкий.
— Что? Да то, что чудно все это.
— А что, собственно говоря, чудно? — заинтересовался Луганов.
— Все, — вздохнул Миронов. — Все с этой самой Войцеховской чудно, никакой ясности. Вот читал я ее биографию и думал: какая славная, героическая жизнь! Хороший, должно быть, она человек. И такая женщина связана со шпионами? Нет, не верится!.. Что ж, допустить, что ее так глубоко обидел этот мерзавец, этот Васюков, что она свою обиду на одного подлеца перенесла на всех нас, на нашу страну и на этом ее подловила какая-либо разведка? Маловероятно. Нет, слишком все это чудно, не та у нее биография…
— Постой, постой, — вмешался Скворецкий, — а Черняев?
— Что — Черняев? — не сразу понял Андрей. — При чем здесь Черняев? С чего это вы его вспомнили?
— А очень просто: у Черняева-то биография никак не хуже, чем у Войцеховской. На мой взгляд, даже куда как лучше, надежнее: коммунист, советский офицер, доблестно воевал. Ну, чего еще желать? А на поверку что вышло? Вот тебе и биография!
— Нет, Кирилл Петрович, не согласен, — возразил Миронов. — Что — Черняев? С Черняевым еще разбираться и разбираться. Да и в прошлом его, в биографии, предстоит еще покопаться. Тут генерал прав.
— А прошлое Войцеховской тебе уже ясно? — начал сердиться Скворецкий. — Ты в нем до конца разобрался? Ишь какой прыткий! Что касается Войцеховской, так мы тут стоим еще в начале пути. Все еще впереди. Тут проверять и проверять, разбираться и разбираться, а ты хочешь одним махом, по одной биографии да нескольким справкам делать выводы. Так нельзя! Давай, однако, к делу. Я думаю так: самый короткий путь — личное знакомство. Тут Семен Фаддеевич прав. Познакомишься — глядишь, и найдешь, с какой стороны к ней подступиться. Ты, помнится, изучал английский язык?
— Изучал, — ответил Миронов. — Читаю довольно свободно, без словаря, да и говорю немного.
— Вот и отлично! Пригодится. Знакомство, пожалуй, следует осуществить таким образом: придется тебе выступить в роли инспектора наробраза, что ли, пойдешь знакомиться с постановкой преподавания языка в той школе, где работает Войцеховская. Вот тебе и завязка. А уж дальнейшее от тебя будет зависеть. Как, подойдет?
Андрей недоуменно повел плечами: чего тут спрашивать? Ведь иного решения-то нет. На этом и остановились; план действий был принят: Луганов должен был выехать в Алма-Ату, Скворецкий с Мироновым — вызвать на допрос Черняева, а Миронов на следующий день направится в школу знакомиться с Войцеховской.
Дело шло к вечеру, времени для вызова арестованного оставалось в обрез, и Кирилл Петрович с Андреем решили приступить к допросу тотчас, не откладывая.
Когда Черняева, доставленного по распоряжению Скворецкого из тюрьмы, ввели в кабинет, Миронов не заметил особых изменений в его внешнем облике. Разве что сутулился он чуть больше да взгляд был чуть сумрачнее. Все так же, как и в прошлый раз, волоча ноги, Черняев протащился к указанному ему стулу и молча сел, уронив руки на колени. Сидел он понурясь, опустив подбородок на грудь, не глядя ни на Скворецкого, ни на Миронова. Казалось, он и не замечал их присутствия.
Полковник приступил к допросу. Миронов, расположившийся рядом со Скворецким, достал бланк протокола допроса и поудобнее разместил чернильный прибор, приготовившись записывать показания Черняева. Приготовления его, однако, оказались напрасными. Писать не пришлось. Черняев… молчал. Молчал тупо, упорно. Что ни говорил Скворецкий, какие ни ставил вопросы Миронов, как ни пытались они расшевелить Черняева, все было тщетно. Прошло пятнадцать минут, двадцать, полчаса — Черняев был нем и, казалось, глух. Ничуть не меняя позы, все так же безучастно уставившись в пол, он никак не реагировал на сыпавшиеся вопросы, не обращал внимания на следователей.
«Что это, — думал Миронов, — игра? Очередной трюк, заготовленный исподволь Черняевым? Или всерьез — следствие тяжелого нервного шока?»
Скворецкий, видя бесцельность дальнейшего допроса, решил махнуть рукой:
— Не желаете разговаривать, Черняев? Дело ваше. Только не возьму я в толк, на что вы рассчитываете? Рано или поздно, а говорить придется. До конца. Пока всю правду не выложите. И никакие фокусы вам не помогут. Ну, а терять время на ваши капризы мы не будем, учесть же ваше поведение учтем. И суд учтет. Имейте это в виду. Идите в камеру, подумайте…
Полковник нажал кнопку звонка, и Черняева увели. Он выходил из кабинета, все так же волоча ноги, потупясь, не глядя на окружающих, все такой же безучастный и ко всему равнодушный.
— Ну, что скажешь? — спросил Скворецкий, когда дверь закрылась. — Как это все понять?
— Ума не приложу, — развел руками Миронов. — На предыдущих допросах он вел себя иначе. Чтобы молчать как пень, такого не бывало.
— Н-да, — задумчиво потер подбородок Кирилл Петрович, — ну и тип этот самый Черняев. Что ни день, то новые номера откалывает. Как он в камере себя ведет, тебе начальник тюрьмы не докладывал?
— Ничего особенного. Я интересовался. Сидит, как вы знаете, в одиночке. Ведет себя нормально, порядок не нарушает. В первые дни, говорят, метался по камере из угла в угол, а теперь все больше на койке сидит, Читать не читает. Спит по ночам спокойно. Что еще можно сказать? Разговаривать-то он там не разговаривает, не с кем. Черт его разберет…
— Ладно, — сказал полковник, — денек-два подождем, а там опять вызовем, поглядим, как оно получится.
Глава 19
Никто из сотрудников отдела народного образования Крайского горисполкома, если не считать заведующего, не знал подлинной профессии Миронова, рода его занятий. Впрочем, и заведующий мало что знал. Ему было только известно, что одному из сотрудников КГБ необходимо побывать в некоторых средних школах города. Узнав, что Миронова, в частности, интересуют вопросы преподавания английского языка, которым он более или менее владеет, заведующий отделом посоветовал ему выступить в роли инспектора республиканского министерства, приехавшего в Крайск для знакомства с постановкой преподавания языка. Миронова это вполне устраивало. В тот же день, послушавшись совета завнаробразом, он отправился в обход по школам, чтобы свыкнуться с этой ролью. Сначала Андрей зашел в одну школу, познакомился с ее директором, с преподавателями английского языка, посидел на уроке. Потом отправился в другую и лишь в первом часу дня добрался до той школы, где работала Войцеховская.
Директора школы Миронов не застал. В учительской было тоже почти пусто: шли уроки. Только за одним столом сидела пожилая женщина и просматривала лежавшую перед ней стопку ученических тетрадей. Как выяснилось, это была заведующая учебной частью школы. Миронов представился: так, мол, и так, инспектор из республиканского центра, явился к вам, в Крайск, познакомиться с постановкой преподавания английского языка.
— Ну что ж, хорошо, — неожиданно басом сказала заведующая учебной частью, приглашая Миронова присаживаться. — Так как обстоит у нас дело с английским языком? Да как вам сказать? Преподавательница у нас хорошая. Можно сказать, даже отличная, но вот успеваемость… Успеваемость средняя. Анна Казимировна Войцеховская, она-то и преподает в нашей школе английский, языком владеет блестяще, дело знает. Московский институт кончила. Этим, знаете, не всякий может похвастаться. Москвичи у нас наперечет. Уроки она ведет гладко, грамотно. Еще бы — квалификация! Но вот контакта, контакта с классом у нее нет. Не любят ее дети. Понимаете?..
Что? В чем это проявляется? Да на первый взгляд, может, и ни в чем. Но ведь я скоро сорок лет как работаю в школе, так что кое-что понимаю. В том-то и сложность, что прямых претензий предъявить Анне Казимировне нельзя — нет повода; говорить же с ней, особенно когда нет повода, трудно, ох как трудно! Она, знаете ли, гордая, самолюбивая. И, боюсь, сама не очень жалует своих учеников да и нас, товарищей по работе. Держится замкнуто, ни с кем не дружит. Обязанности свои исполняет исправно, несет общественные нагрузки, но душа у нее на замке. Да, да, вот именно — на замке. А как ее судить? Женщина молодая, интересная, а живет одна — ни тебе родных, ни близких, никого. Родителей в войну потеряла, а потом подвернулся какой-то негодяй, обидел ее, вот она и замкнулась… Впрочем, как поговаривают, вне школы знакомые у нее есть… Среди мужчин.„ Позвольте, однако, позвольте, — внезапно болезненно поморщилась заведующая учебной частью, — и чего это я разболталась?! Вот ведь баба, старая баба. Это ни к чему, и совсем вам не интересно…
Протестующий жест Миронова был таков, что его, скорее, можно было принять за выражение элементарной вежливости: «Нет, мол, почему? Если вам хочется перемывать косточки вашей сотрудницы, пожалуйста, воля ваша. Не могу же я быть настолько неучтивым, чтобы не оказать внимание пожилому, заслуженному человеку, хотя, говоря по совести, все это к делу не относится». Именно так и поняла его заведующая учебной частью школы. Ей никак не могло прийти в голову, насколько на самом деле был благодарен ей так называемый инспектор за пространный рассказ о Войцеховской. Пытаясь сгладить неблагоприятное впечатление, которое, как ей думалось, произвела ее «болтовня», заведующая учебной частью принялась деловито перебирать лежавшие перед ней тетради. Она заговорила сухо, официально:
— Сделаем так. Через пять минут перемена. Преподаватели соберутся здесь, в учительской. Я представлю вас коллективу, познакомлю с Войцеховской, а затем вы отправитесь к ней на урок. Не возражаете?
Миронов протестующим жестом вскинул руки:
— Прошу извинить, но зачем представлять меня коллективу? Ведь я не собираюсь проверять работу школы, даже знакомиться с ней. Круг моих задач куда уже. Меня интересует постановка преподавания английского языка, и только английского. В других школах мы делали так… — Миронов перечислил школы, в которых предусмотрительно побывал с утра. — Директор или заведующий учебной частью знакомил меня с преподавателем английского языка без всяких церемоний, и я шел на урок. Если вы не против, то будем и у вас придерживаться такого порядка.
— Как вам будет угодно, — согласилась заведующая учебной частью. — Если что потребуется, прошу обращаться прямо ко мне без стеснения. А вот и звонок!
Учительская начала заполняться преподавателями. Были тут люди разного возраста, разного обличья: молодежь, как видно, только-только со студенческой скамьи; люди средних лет (таких было большинство); появилось и несколько пожилых, убеленных сединами педагогов. Миронов, скромно усевшийся в сторонке на потертом клеенчатом диване, глядел на таких с особым уважением. Он с юных лет ценил благородную, многотрудную профессию учителя…
Внимательно поглядывая по сторонам, присматриваясь к шумевшим в учительской педагогам, Миронов, однако, ни на минуту не забывал о цели своего прихода.
«Войцеховская, — думал он, — Войцеховская… Кто-то она такая? По праву ли занимает место в славной семье советского учительства? Каково ее подлинное нутро?»
Размышляя, Миронов то и дело поглядывал на дверь, которая почти не закрывалась, пропуская все новых и новых учителей, собиравшихся на перемену в учительской.
«Она! — мгновенно решил Миронов, когда на пороге появилась красивая женщина. — Она». И Андрей не ошибся. Это действительно была Войцеховская.
Заведующая учебной частью сказала правду: вошедшая была очень хороша собой. Золотистые с рыжинкой волосы чуть вились, открывая высокий чистый лоб. Цвет лица казался таким свежим, что, если бы не паутинка чуть приметных морщинок возле глаз, ей никак нельзя было бы дать и тридцати лет.
— Анна Казимировна, — окликнула Войцеховскую заведующая учебной частью, — попрошу на минуточку. Знакомьтесь, пожалуйста. Товарищ из республиканского министерства. Проверяет постановку преподавания английского языка в школах в Крайске. Вот и к нам пожаловал.
— Войцеховская, — сказала женщина, протягивая Миронову руку и пристально глядя ему в глаза. Рука у нее была горячая, сухая, рукопожатие энергичное.
— Миронов, — представился Андрей, делая вид, что смущен. — Андрей Иванович. Только товарищ завуч выразилась не совсем точно. Ничего я не проверяю, а просто знакомлюсь с методикой преподавания…
— Какая разница? — усмехнулась Войцеховская. — Когда «знакомится», как вы выражаетесь, товарищ из центра, это — проверка.
Голос у Войцеховской был мягкий, грудной, с едва приметным акцентом. Украинским? Польским?
Учительская начала пустеть. Перемена вот-вот должна была кончиться, учителя расходились по классам. Направилась к выходу и Войцеховская, жестом пригласив Миронова следовать за собой.
— Начинается последний урок, — сказала она. — У меня занятия в седьмом «Б». Вы, наверное, хотели бы присутствовать? А потолкуем уж потом, после урока. Не возражаете?
— Помилуйте, Анна Казимировна, — ответил Миронов, — как я могу возражать? Я именно этого и хотел: побывать у вас на уроке. Ну, и конечно, побеседовать с вами. Потом, попозже. Если разрешите…
— Ого! — воскликнула Войцеховская. — «Если разрешу»? Как прикажете вас понимать? С каких это пор представители центра стали у нас, скромных школьных работников, спрашивать разрешения задавать те вопросы, ради выяснения которых они приезжают? Смешно!
— Вы не так меня поняли, — поспешил возразить Миронов. — Ведь рабочий день кончается, и я не вправе покушаться на ваше внеслужебное время, будь хоть трижды инспектор…
— Значит, на внеслужебное время покушаться не будете? — с легкой усмешкой бросила Войцеховская, на мгновение задерживаясь у двери, за которой гудел класс седьмой «Б». — Так и запишем.
Сказать что-либо в ответ Миронов не успел. Войцеховская распахнула дверь настежь и уверенной походкой вошла в класс.
Занятия пошли своим чередом. В течение всего урока Войцеховская не обращала на Миронова ровно никакого внимания, словно того и не было в классе. Занятия она вела спокойно, твердо, уверенно. Вызывала, как понял Андрей по ответам, не только лучших учеников, но и отстающих. Товар лицом показать не старалась. Всем своим видом, поведением Войцеховская, казалось, подчеркивала: «Вот я какая и иной быть не намереваюсь. Нравлюсь, не нравлюсь, а такая есть».
Сколь ни мало был искушен Миронов в педагогике, но и ему начало казаться, что, говоря о натянутых отношениях Войцеховской с классом, заведующая учебной частью вряд ли ошибалась. Правда, с дисциплиной все было в порядке. В классе стояла тишина, но тишина эта была какой-то напряженной, гнетущей. Миронов заметил, как вздрагивали некоторые ребята, когда их вызывали к доске, как неуверенно, боязливо они поглядывали на учительницу, отвечая на ее вопросы. За время урока Войцеховская ни разу не допустила резкости, не повысила голоса, но, когда она спокойно, со знанием дела отчитывала кого-либо из нерадивых учеников, тон ее нет-нет, а делался язвительным, в нем прорывались нотки презрения, заставлявшие ежиться не только провинившегося, но и его товарищей по классу. Да, Войцеховская, по-видимому, не любила ребят, и ученики платили ей тем же. Хорошего, доброго контакта между педагогом и классом не было.
В то же время Миронов не мог не отметить, что урок Войцеховская вела хорошо, что языком владела она превосходно и произношение было у нее отличное. Лондонское или нет, судить ему было не по силам.
Целиком отдавшись наблюдениям, Андрей не заметил, как урок подошел к концу. Войцеховская кончала диктовать домашнее задание, когда прозвенел звонок. Все у нее было продумано, рассчитано и последняя фраза задания совпала со звонком. Она захлопнула лежавший перед ней классный журнал, убрала его в портфельчик и не спеша поднялась со своего места. Чуть кивнув ребятам на прощание, она улыбнулась Миронову и направилась к выходу.
Ни в коридоре, ни в учительской поговорить им поначалу не удалось: слишком там было людно и шумно. Прошло не менее получаса, пока учительская начала пустеть. Войцеховская, закончив свои дела, подошла к ожидавшему ее Миронову и опустилась на стоявший поблизости стул, скромно сложив руки на коленях. Миронов, однако, готов был поклясться, что, когда Войцеховская взглянула на него, в глазах у нее скакали чертики.
— Итак, — сказала она, чуть заметно усмехаясь, — жду ваших замечаний, выводов, может быть, вопросов?
— Что я могу сказать, — неуверенно заговорил Миронов. — Как вы ведете урок, мне понравилось. Очень понравилось. Есть, конечно, и кое-какие вопросы. Но — как бы это лучше выразиться? — вопросы еще не совсем созрели: слишком мало я наблюдал. Я бы предпочел сейчас их не задавать, отложить разговор дня на два, на три… За это время я успею не раз побывать на ваших уроках, наберусь впечатлений, вот тогда и побеседуем. Согласны?
— А какую роль играет, согласна я или нет? Так и так будет по-вашему. Впрочем, мне все равно: сегодня, завтра, через неделю…
Войцеховская встала и, пристально глядя в глаза Миронову, протянула ему руку:
— Значит, до завтра? — Она опять усмехнулась.
— До завтра? — переспросил Миронов, задерживая ее руку. — А разве вы уже уходите?.. Фу ты, однако… Что же это я говорю? — На лице Миронова появилась смущенная улыбка. — Конечно, конечно, Уроки-то кончились. И мне пора…
— Может, вы все-таки отпустите мою руку?.. — потупилась Войцеховская.
Миронов смутился, поспешно отпустил ее руку и даже отступил на шаг. Все это было проделано так естественно, что даже самый придирчивый наблюдатель не заметил бы и тени притворства ни в едином его жесте, ни в едином слове. Между тем Миронов взвешивал и рассчитывал каждое свое выражение, каждую фразу.
В раздевалку они спустились вместе. Помогая Войцеховской надеть пальто, Андрей робко спросил:
— Вам в какую сторону, Анна Казимировна? Случайно, нам не по пути?
— Ой, ой, ой! — рассмеялась Войцеховская и погрозила Миронову пальцем. — Кажется, вы все-таки решили покуситься на мое «внеслужебное время». А наш уговор? Ну ладно, ладно, я же смеюсь. Может, нам и действительно окажется по пути. Почему бы нет?
Когда они вышли на улицу, Войцеховская сама взяла Андрея под руку:
— Ну, товарищ инспектор, не сердитесь. Расскажите-ка лучше что-нибудь.
— При одном условии: если вы перестанете именовать меня «товарищем инспектором». У меня, между прочим, есть имя и отчество…
— В самом деле? Я как-то упустила это из виду. Но вы должны меня извинить: когда мне приходится встречаться с официальными лицами, особенно начальством, я как-то забываю, что у них… что они…
— Что они тоже люди?
— Вот именно, — снова рассмеялась Войцеховская. — Но для вас я готова сделать исключение: отныне буду величать вас только по имени и отчеству, без званий. Вы довольны?
— Больше чем доволен, — с шутливой торжественностью ответил Миронов. — Я счастлив, Так о чем же вам рассказать?
— Ах, да о чем угодно, только чтобы интересно. Хуже нет, как скучный собеседник.
— А вам и с такими приходилось иметь дело? — осведомился Миронов.
— Сколько хотите, — махнула рукой Войцеховская. — Это, увы, явление не редкое. Скучными людьми хоть пруд пруди. Интересные собеседники — редкость…
Беседа постепенно становилась все более оживленной, непринужденной. Миронов не мог не отдать должного Войцеховской: уж ее-то никак нельзя было отнести к числу «скучных собеседников». Она была остра на язык, развита, умна, основательно начитанна. Круг ее интересов был столь обширен, что Андрей так и не смог определить, чем она увлекается больше всего, что вызывает у нее особенную приязнь.
Беседуя о литературе, о последних научных открытиях, о кино, театре, они давно миновали дом, в котором, как сказала Войцеховская, она жила, побродили по городскому парку и возвращались теперь обратно, к квартире Анны Казимировны. Миронову казалось, что если бы он стал настаивать, то Войцеховская пригласила бы его к себе, но надо ли настаивать? Как бы не сорваться. Войцеховская, однако, решила за него: едва они подошли к подъезду, Анна Казимировна протянула Миронову руку и решительно сказала:
— К себе я вас не приглашаю. Мне еще поработать надо, да и беспорядок у меня… Одним словом, обстановка не для приема. Как-нибудь в следующий раз…
Миронов не успел толком ничего ответить, как она застучала каблучками вверх по лестнице.
Постояв с минуту в раздумье, Андрей повернулся и направился в управление. «Итак, — думал он, не спеша шагая по улице, — первая встреча состоялась. Что же она дала, эта первая встреча, каков итог?» Этот же вопрос задал ему и полковник Скворецкий, как только Миронов перешагнул порог его кабинета. Выслушав обстоятельный доклад Миронова, Кирилл Петрович сказал:
— Ну что ж, для первого раза неплохо. Теперь ты должен закрепить знакомство, получше присмотреться к Войцеховской, найти к ней пути подхода. Пути подхода — главное. Долго тянуть этот «роман» нельзя: неделю, полторы — не больше. И этот срок куда как достаточен. Ведь инспектор — он что? Приехал, посмотрел, уехал.
— Да вы что, Кирилл Петрович, — с недоумением спросил Миронов, — никак, меня агитируете? Слушая вас, можно подумать, что я сплю и во сне вижу, как бы затянуть этот, говоря вашими словами, «роман». Ошибаетесь! По мне, чем скорее мое знакомство с Войцеховской кончится, тем лучше. Шутки шутками, а от всей этой игры я устал как собака. Легче десять раз допросить Черняева, чем профлиртовать один вечер с Анной Казимировной. Вы что? Чего смеетесь?
Глава 20
На протяжении всех последующих дней «роман» с Войцеховской отнимал у Андрея массу времени: то Андрей сидел на ее уроках, то провожал из школы домой, часами гуляя с ней по улицам Крайска, то коротал вечера в уютной, со вкусом обставленной комнате Анны Казимировны, куда, в конце концов, был допущен.
Шел день за днем. Срок, назначенный полковником Скворецким для пребывания «инспектора» в «командировке», близился к концу. Миронов и сам сознавал, что вот-вот и ему пора будет «уезжать» из Крайска, распрощаться с ролью «инспектора». Сознавал, а… «уезжать», кончать игру с Войцеховской не хотелось! Не потому, конечно, что он втянулся в эту игру, не прочь был продлить «роман» подольше. Отнюдь нет. В глубине души Андрей проклинал и Войцеховскую, и ее явную благосклонность к нему, которая день ото дня становилась все очевиднее, все откровеннее. Что толку от этой благосклонности, когда он ровно ни в чем не преуспел для достижения той цели, ради которой встретился с Войцеховской, не нашел никаких путей подхода? В самом деле, как мог он выйти из игры, когда, потратив столько времени и нервов, столько сил, почти ничего не узнал о Войцеховской. Вернее, кое-что узнал, но все это было не то. Да, он получил некоторое представление о ее характере, вкусах, привычках, интересах. Он понял, что она очень горда, безусловно развращена, а если кого по-настоящему и любит, так скорее всего самое себя. Он, пожалуй, с уверенностью мог сказать, что к своей профессии педагога она совершенно равнодушна, а учительский коллектив, равно как и учеников, ни во что не ставит.
Это было кое-что — и ничего. Кое-что, ибо давало основания для общей характеристики Войцеховской: по меньшей мере, обывательница и, судя по всему, человек озлобленный. Но ведь озлобление могло являться следствием того оскорбления, той обиды, которую нанес ей так называемый муж — полковник Васюков.
Да и не в этом дело: ну, допустим, озлоблена. Даже и не из-за Васюкова. А что из того? От озлобленности, презрения к коллективу, злой иронии по поводу различных неполадок в нашем быту до связи со шпионами очень и очень далеко.
Факты, нужны были факты. Конкретные, весомые факты. Однако и тени какого-нибудь фактика, который приблизил бы его хоть на шаг к разгадке странной и таинственной истории с объявлением, с водосточной трубой, с саквояжем в аэропорту, Миронов не добыл. А Черняев? Знала ли его Войцеховская? Была ли между ними связь? И тут ровно ничего выяснить не удалось. Ни словом, ни намеком этой стороны своей жизни Войцеховская не касалась. Андрей же не мог прямо спрашивать — ничего, кроме провала, это бы не дало.
Одним словом, если в жизни Войцеховской и была какая-нибудь тайна, то Миронову нисколько не удалось хоть чуточку поднять над ней завесу.
Правда, беря на себя принятую им роль, идя на «роман» с Войцеховской, Андрей и не рассчитывал так вот, сразу, собственными силами выявить какие-то значительные факты, разобраться до конца во всем. Нет, личное знакомство с Войцеховской преследовало иную цель: найти пути подхода к ней. А чем он мог тут похвастать? В самом деле, что он узнал, что нашел? Вот, завтра-послезавтра «командировка» кончится, Миронов «уедет», и Войцеховская опять останется одна, вне поля зрения. «Что же делать? — думал Андрей. — Как быть?» Думал и ничего не находил. Не мог дать совета и Скворецкий.
Сидя как-то вдвоем с полковником и анализируя шаг за шагом события последних дней, Миронов вдруг поймал себя на такой мысли: а ведь в поведении Анны Казимировны есть одна странность, пусть малюсенькая, но странность. Охотно проводя с «инспектором» чуть не целые дни, приглашая его к себе на квартиру, откровенно пытаясь его соблазнить, она неизменно отклоняла все его предложения провести хоть один вечер в ресторане, В чем была тут загвоздка?
Миронов поделился своими наблюдениями с полковником. Скворецкий задумался.
— А знаешь, — решил Кирилл Петрович, — попытайся все-таки добиться своего, залучить Войцеховскую в ресторан. Веди себя понастойчивее. Так, мол, и так, скоро уезжаю, проведем весело хоть один вечерок, ну и всякое там такое. Одним словом, не отступай, пока своего не добьешься. Вдруг в ресторане и выскочит какая-нибудь зацепка? Неспроста милейшая Анна Казимировна так упорно отказывается. Может, за этим что и кроется, кто знает?
— Попытаюсь, — нехотя сказал Андрей, не очень-то веривший в возможность возникновения «зацепки» в ресторане. Впрочем, он и сам был не прочь выяснить, почему Войцеховская так боится ресторана.
Миронов спросил, нет ли каких новостей от Луганова. Василий Николаевич вылетел в Алма-Ату несколько дней назад и по прибытии на место подтвердил, что Георгий Николаевич Корнильев действительно живет с семьей в Алма-Ате, работает в геологическом отделении Казахской Академии наук. Данные КГБ Казахстана были правильными. Считается Корнильев одним из ведущих геологов. Вот и все, что было известно Миронову о результатах поездки Луганова.
Как прошла встреча с Корнильевым, смог ли тот сообщить что-либо новое, заслуживающее внимания, Андрей пока еще не знал.
— Какие новости? — спросил Скворецкий. — Новости есть, только интересного мало. Там, в Алма-Ате, пока ничего не получилось. Звонил мне Василий Николаевич. Зря, выходит, посылали мы его в Алма-Ату, поторопились. Правда, нас подвели местные товарищи.
— То есть как — зря? — не понял Андрей. — Почему? Ведь он же нашел Корнильева? Кто кого подвел? Что за загадки вы мне загадываете?
— Да какие там загадки, — махнул рукой Скворецкий. — Брата Корнильевой Василий Николаевич считай что нашел, да что толку? Его не оказалось на месте, в Алма-Ате. Уехал. Понимаешь, уехал, и концов не найдешь.
— Как — уехал? — окончательно изумился Миронов. — И этот скрылся? Что за чертовщина!
— «Скрылся»! — рассмеялся Кирилл Петрович. — Вот именно — скрылся. Он же геолог — соображаешь? — геолог. Ну вот и скрылся… во главе геологической экспедиции Казахской Академии наук. С самого мая. Бродит где-то в горах, у черта на куличках. Местные товарищи ошиблись, полагая, что он вернулся, ан нет. И нас в заблуждение ввели. А связь с экспедицией только по радио, и то открытая, и не регулярная. Добраться же до экспедиции не доберешься: и опыт нужен, и сноровка. Не простое это дело, ох не простое!..
— Как же быть? — не скрывая разочарования, спросил Андрей. — Что решили?
— А что тут решать? Еще две-три недели, и экспедиция сворачивает работу, возвращается в Алма-Ату. Зима ведь на носу, деваться им некуда. Не в горах же зимовать?! До той поры придется подождать. Луганов, конечно, вернется. А там, как этот самый братец объявится, снова отправится в Алма-Ату. Ничего не попишешь!
Миронов сокрушенно вздохнул. Хотя он и не возлагал особых надежд на беседу с братом Корнильевой, но было досадно, что и здесь задержка, и здесь не ладится. А тут еще Черняев… Да, с Черняевым получилось совсем скверно, куда как скверно! И кто только мог ожидать такого?
За эти дни Скворецкий и Миронов вызывали Черняева только один раз, и опять без толку: Черняев молчал. Снова пришлось отправить его в камеру, ничего не добившись.
Встревожившись не на шутку, Скворецкий сам беседовал с начальником тюрьмы, с врачом, который по его распоряжению осмотрел Черняева. Ничего из ряда вон выходящего те не обнаружили: Черняев вел себя в камере нормально, спокойно. Разве что молчал — так это бывает, да и с кем ему там, в одиночке, разговаривать?
Сегодня Скворецкий с Мироновым решили возобновить допрос. Как только Черняев явился и уселся на свое место, полковник резко, в самой решительной форме потребовал, чтобы он прекратил нелепую игру в молчанку.
Впервые за то время, что он допрашивал Черняева, Скворецкий заговорил так властно, так требовательно. И тут произошло непредвиденное. Черняев ответил. Но как? К вящему изумлению Миронова, Черняев вдруг начал сползать со стула и грузно опустился на пол. Посидев с мгновение, он встал на четвереньки и неожиданно произнес: «Рррр! Ррргав! Гав, гав!» И загавкал он отнюдь не угрожающе, напротив, вполне миролюбиво, даже заискивающе.
— Вы что, — вскакивая со своего места, вскричал Миронов, — с ума сошли? Сейчас же встаньте…
Но Черняев и не подумал вставать. Напротив. Он поспешно перевернулся на спину, заболтал в воздухе руками и ногами и жалобно завизжал.
— Дайте ему воды, — сухо распорядился Скворецкий, испытующе глядя на барахтавшегося на полу Черняева.
Миронов попытался дать Черняеву воды, однако тщетно. Тот продолжал барахтаться и пронзительно скулить.
О дальнейшем допросе не могло быть и речи. Черняева тут же отправили в тюрьму, и Скворецкий приказал срочно доставить в камеру врача, да не терапевта, а психиатра. Специалиста.
В ожидании заключения психиатра Скворецкий и Миронов сидели молча, не глядя друг на друга. Настроение у обоих было не из радужных…
Наконец появился психиатр, приехавший прямо из тюрьмы после осмотра Черняева. Ничего утешительного сказать он не мог, По мнению психиатра, налицо были явные признаки помешательства.
— Вот чертовщина! — не скрывая раздражения, сказал Скворецкий. — Прошу извинить, товарищ доктор, нельзя ли поподробнее? Понимаете, ужасно это досадно!..
Психиатр пожал плечами:
— Какие же я могу сообщить подробности? Да и выводы… Для того точного и безошибочного диагноза, как вам, полагаю, известно, требуется время и соответствующие условия. Я имею в виду клинические условия, больницу. Только там ставят в подобных случаях окончательный диагноз. Иначе нельзя…
— Что ты скажешь? — мрачно спросил Скворецкий, когда психиатр, вежливо распростившись, ушел. — Как тебе все это нравится? «Явные признаки»! Уж не слишком ли они явные, эти признаки? Как полагаешь?
Миронов удрученно молчал. Говорить ему не хотелось: слишком он был выбит из колеи всем происшедшим. В его практике такое случалось впервые. Правда, встревожился Андрей еще раньше, во время предыдущих допросов. Упорное молчание Черняева, его тупой, ничего не выражающий взгляд взволновали Андрея не на шутку. Но ведь начальник тюрьмы, который усилил наблюдение за поведением Черняева в камере, и тюремный врач никаких отклонений от нормы не обнаружили, заверяли Миронова, что поводов для тревоги нет. Да, заверять-то заверяли, а тут садись и пиши постановление о помещении Черняева в больницу и проведении судебно-психиатрической экспертизы. А это значит, что придется следствие по делу Черняева приостановить. Ничего не скажешь, удар был тяжелым!
Получив разрешение полковника, Миронов ушел к себе и начал писать злосчастное постановление о производстве судебно-психиатрической экспертизы. Составив постановление, он с невольном вздохом убрал следственное дело Черняева в сейф (надолго ли?) и вновь отправился к Скворецкому.
Когда Андрей вошел к полковнику, тот, склонившись над столом, внимательно просматривал какие-то документы.
— A-a, это ты? — рассеянно протянул Скворецкий, не отрываясь от бумаг. — Готово постановление?
— Так точно, вот оно.
— Положи сюда, — отрывисто сказал полковник. — Присаживайся. Есть, кажется, кое-что интересное.
— Что именно? — оживился Миронов.
— Минуточку, Сейчас кончу. — Полковник дочитал документ, лежавший перед ним, и выпрямился. — Что такое, спрашиваешь? Ответ, братец, ответ. Из Львова. На наш запрос об Анне Казимировне Войцеховской.
— Что же в нем интересного?
— А вот держи, почитай сам. — Кирилл Петрович протянул Андрею бумагу, которую он только что читал.
Ответ Львовского управления КГБ был весьма обстоятелен. Львовские чекисты провели большую работу: они побывали и в Яворове, и в Самборе, и в Раве-Русской, одним словом, во всех пунктах Львовской области, которые упоминались в автобиографии Войцеховской. Работа была не из легких: ведь с того времени, как жила в этих местах семья Войцеховских, прошло свыше двух десятков лет, и каких лет! Война, гитлеровцы, оккупация, украинские националисты, так называемые бендеровцы… Тяжко досталось Львовщине…
Мало кто в Самборе, Яворове, Раве-Русской уцелел из учителей, работавших в тамошних школах в середине двадцатых — начале тридцатых годов, а кто и остался, тот много не знал, да и не все помнил. Вот и пойди разберись, где и когда жил учитель Войцеховский, полуукраинец-полуполяк, какая была у него семья? Все эти мысли мгновенно пронеслись в голове Миронова, пока он внимательно читал сообщение Львовского управления КГБ.
Но что же тут, в этом сообщении, заинтересовало Кирилла Петровича, что привлекло его внимание? Вот сообщение по Яворову: списков учителей тех лет нет. Опрошены многие старожилы-учителя, бывшие и настоящие, школьные сторожа, кое-кто из врачей. Никто не мог толком сказать, жил ли, работал ли когда в Яворове учитель, по фамилии Войцеховский, с женой-украинкой и маленькой дочкой. Одни говорили: мы такого не знали. Может, был, а может, и не был, кто его разберет? Другие говорили: похоже, был. Что-то помнится: не то Войцеховский, не то Центоховский, но кто-то был. С женой. С дочерью. Впрочем, разве можно поручиться? Запамятовали.
Та же картина и по Раве-Русской. Как тут определишь, что из себя представляли родители Войцеховской, в каком духе воспитывали свою дочь?
Остается Самбор. Что есть по Самбору? Ага! Вот что имел в виду Кирилл Петрович. Все ясно! В Самборе сотрудникам Львовского управления КГБ удалось разыскать некоего пенсионера, славившегося на весь город феноменальной памятью. Этот пенсионер как раз в те годы, когда Войцеховская, как она указывала в автобиографии, жила с родителями в Самборе, работал инспектором тамошних школ. Он клялся и божился, что всех самборских учителей знал наперечет и никогда никакого Войцеховского среди них не было.
Мало того, что клялся: дотошный пенсионер представил доказательства: он, оказывается, за то время, что был инспектором (а пробыл он им недолго — прогнали), завел себе лично своеобразный учет всех школьных работников Самбора. Была у него такая конторская книга, в которую он вписывал сведения о всех учителях, работавших в Самборе. Продолжал он вести такую запись и после того, как перестал быть инспектором. «Для памяти, — говорил он, — для интереса».
Вот эту-то самую книжицу старичок пенсионер и представил сотрудникам КГБ.
Записи бывшего инспектора сомнений не вызывали: учитель, по фамилии Войцеховский, полуукраинец-полуполяк, в Самборе в указанные Войцеховской годы не проживал.
Отложив документ в сторону, Миронов задумался.
— Вот так, — сказал Скворецкий. — Плетет что-то милейшая Анна Казимировна, а это неспроста.
Андрей молчал. Ему в голову пришла внезапно одна мысль, но она была столь неожиданной, что Андрей не торопился ее высказывать. Он вновь взялся за сообщение Львовского управления КГБ и еще раз самым внимательным образом просмотрел то место, где речь шла о Самборе.
— Что, — спросил Скворецкий, — дошло? Какие будут предложения? Вижу, ты уже что-то надумал.
— А вы, Кирилл Петрович, — задал, в свою очередь, вопрос Миронов, — вы ничего не скажете? Сдается мне, что у вас тоже возникли кое-какие соображения?..
— Ты мне дипломатию не разводи, — оборвал Скворецкий. — Коли что надумал — выкладывай. Нечего в прятки играть.
Миронов вздохнул и осторожно начал:
— Тут, понимаете, весьма любопытная история получается. С одной стороны, родители Войцеховской, а следовательно, и она сама, Анна Казимировна, в Самборе, судя по всему, не проживали…
— «Судя по всему»! — перебил Скворецкий. — Ты что, сомневаешься в достоверности полученных сведений? А какие к тому основания?
— Не то чтобы сомневаюсь, но, знаете, всякое бывает. Так что пока будем говорить предположительно. Впрочем, в данном случае это и не суть важно. Достаточно того, что сообщение Львовского управления КГБ (весьма толковое и обстоятельное, должен заметить) дает основание полагать, что, указывая в своей биографии, будто она жила в Самборе, Войцеховская писала неправду. Теперь вопрос: был ли учитель Войцеховский под Лодзью, в Збоншине, Плоньске? Существовал ли вообще такой учитель? Из Польши пока ответа нет, его надо дождаться, но удастся ли польским товарищам обнаружить следы учителя Войцеховского? Боюсь, что нет. Больше того, можно предположить, что такого человека, каким рисует своего отца Войцеховская, ни в Польше, ни где-либо в другом месте вовсе не было.
— Так, так, — одобрительно кивал Скворецкий, внимательно слушая рассуждения Миронова. — Согласен. Но тут возникает вопрос: ведь значительная, причем, пожалуй, главная часть биографии Войцеховской проверена полностью, подтверждена. Проверка показала, что там все правда. Что ты на это скажешь? — Полковник испытующе взглянул на Миронова.
— Вопрос законный, — откликнулся тот. — Вы правы: значительная часть того, что пишет Войцеховская в своей автобиографии, подтвердилась. Значительная, но главная ли? Что в ее биографии главное, что нет, судить пока трудно. Любопытно другое: что именно подтвердилось, что оказалось правдой? Все… начиная с Варшавского восстания. А до этого, до сентября 1944 года? Ровно ничего. Причем, обратите внимание, если свое участие в Варшавском восстании, как и все последующее, Войцеховская описывает так, что лучше не надо — даты, факты, люди, — то все предыдущее — сплошной туман: общие слова, и ничего больше. Ни одного конкретного факта, ни одного имени: «Уехала в Варшаву к друзьям отца». К кому, к каким друзьям? Иди догадывайся. «Связалась с подпольем» — и точка. А с кем в подполье связалась, с кем? Имена? Ни слова. Вот и проверяй тут… А Войцеховской, кстати, если даже верить ей на слово, шел в момент восстания девятнадцатый год. Это уже не ребенок, не девочка, особенно в те годы. Ведь в дни войны — дни тяжких испытаний — люди взрослели быстро…
— Все это очень хорошо, — вмешался Скворецкий. — Рассуждаешь ты дельно, но выводы, где выводы?
— Вам нужны выводы? Извольте. Как раз к выводам я и подошел. Итак, происхождение Войцеховской, ее прошлое вряд ли полностью соответствуют тому, что она пишет в автобиографии. Думаю, правильнее считать, что ни происхождение, ни прошлое Войцеховской, вплоть до Варшавского восстания, нам неизвестны. Следовательно, неясно, что она делала, где была почти всю войну, до сентября 1944 года. Если мы подойдем к делу с такой оценкой, то неплохо бы вспомнить…
— Лондонское произношение? — быстро спросил Скворецкий.
— Да, лондонское произношение, — твердо, решительно сказал Миронов.
— Гм, — процедил сквозь зубы полковник, задумчиво потирая бритую голову. — Лондонское произношение… Вот и я, как прочел львовское сообщение, об этом подумал… Только уж слишком этого мало, так мало…
— Не согласен, Кирилл Петрович, не так уж мало, особенно если к этому кое-что добавить.
— Например? — живо заинтересовался полковник.
— Отношение Войцеховской к польской литературе, польским писателям.
— Не понимаю. Какое отношение? Что-то ты мне об этом ничего не докладывал.
— Да, — сдержанно ответил Миронов, — не докладывал. Это моя вина. Но до сегодняшнего дня, до получения данных из Львова, я и сам над этим не очень задумывался. Поэтому и не доложил.
— «Доложил», «не доложил», «не задумывался»! — начал сердиться Скворецкий. — Что ты на одном месте топчешься? Скажи толком, о чем речь, при чем здесь польские писатели?
— Польские писатели, конечно, ни при чем, зато отношение к ним Войцеховской весьма любопытно. Должен признаться, я в польской литературе не очень силен, но кое-что читал. Во всяком случае, мне ясно, что Войцеховская знает и любит писателей старой Польши: Жеромского, Пруса, Крашевского, не говоря уж о Сенкевиче. Этот, последний, ее кумир. Зато современных польских писателей она не ставит ни во что. Не знает и не хочет знать. Случайно ли это?
— Допустим, не случайно, — согласился Скворецкий. — Но опять-таки где выводы? Какие ты делаешь отсюда выводы и какая тут связь с ее произношением?
— Связь, по-моему, такая… — осторожно начал Андрей. — Речь идет о том, где, в какой стране, в каких условиях росла Войцеховская, как складывалось ее мировоззрение, взгляды, убеждения…
— Ну, ну? — торопил полковник.
— Короче: проверку прошлого Войцеховской надо начинать наново, круто повернуть, проводить под иным углом зрения, чем мы проводили до сих пор.
По выражению лица Скворецкого было видно, что именно такого ответа он и ожидал.
— Конкретно? Что ты предлагаешь конкретно? — спросил полковник, пытливо поглядывая на Миронова.
— Мне кажется, что фокус проверки надо направить на Лондон, точнее — на польскую эмиграцию в Лондоне в годы войны. Полагаю, что у польских товарищей есть в этом отношении возможности. Следует, как я думаю, направить в Польшу новый запрос с просьбой покопаться среди тех, кто окружал Сосновского, Андерса, Миколайчика и прочих воротил польской эмиграции в Лондоне в годы войны. Не исключаю, что именно там и обреталось семейство Войцеховских. Отсюда у Анны Казимировны и лондонское произношение и — как бы это выразиться? — ну, своеобразный, что ли, подход к польской литературе.
— Так. Это все?
— Нет, Кирилл Петрович, не все. Считаю, что надо исследовать материалы всяких там Народовы силы збройны, «Неподлеглость», или «Не», как она называлась, — одним словом, националистических реакционно-террористических организаций, орудовавших на территории Польши в годы войны. Хорошо бы поинтересоваться так же и тем, кто окружал главарей польского националистического подполья. Я имею в виду, в первую очередь, окружение таких лиц, как генерал Бур-Коморовский, Окулицкий. Вдруг да там и обнаружатся следы «милейшей», выражаясь вашими словами, Анны Казимировны. Тут нам могут помочь опять-таки польские товарищи: есть же у них какие-то архивы да и из людей, наверное, кое-кто уцелел, а также Москва. Ведь судили-то Окулицкого в Москве. Вот теперь, пожалуй, все.
— Так, — сказал Скворецкий, поднимаясь со своего места. — Так. — Он вышел из-за стола и, заложив руки за спину, несколько раз прошелся взад-вперед по комнате, взвешивая и обдумывая слова Андрея. — Ну что ж, — махнул наконец полковник рукой, — игра стоит свеч! Готовь запросы. И в Польшу, и в Москву. Авось те, кому придется их исполнять, нас не осудят. Только фотографию Войцеховской приложи. Хоть и много лет прошло, но, может, ее кто из бывших андерсовцев или приспешников Бур-Коморовского и опознает. Выглядит-то она еще молодо — не очень, видать, изменилась.
Миронов встал и направился было к двери.
— Обожди, — остановил его Скворецкий. — Запросы запросами, а как насчет ресторана? «Роман» твой с Анной Казимировной пока не окончен. Тем более, что даже если что из прошлого Войцеховской и прояснится, то вопрос о связи ее с Черняевым по-прежнему остается открытым. Учитываешь?
— Учитываю, — вздохнул Андрей и вышел из кабинета начальника управления.
Глава 21
В этот вечер, гуляя с Войцеховской по опустевшим аллеям городского парка, Миронов повел на Анну Казимировну такое решительное наступление, подобного которому не предпринимал еще ни разу.
— Анна Казимировна, дорогая, — говорил Андрей, — вы только подумайте! Какой-нибудь день-два — и мы расстанемся! Больше задерживаться в Крайске я не могу, мне и так давно пора уезжать. Если бы не вы… А, да что об этом говорить! Так вот: я не хочу, не могу подумать, что мы больше не встретимся. Мы должны, обязательно должны встретиться. Когда это будет — не знаю, но будет, будет непременно. Неужели вы в это не верите? Неужели будете настолько жестоки, что не захотите закрепить наши отношения, побывать вместе со мной в ресторане? А расставание? Разве его не надо отметить? Нет, нет, не отказывайте мне на этот раз…
Войцеховская, однако, не соглашалась.
— Почему бы, — возразила она, — нам не провести эти проводы у меня дома? Или вам наскучила моя тихая комната, мое общество? Вам милее ресторанный шум, толпа?
— Помилуйте, — воскликнул Миронов, — как мне могло наскучить ваше общество! Опомнитесь! Я ведь с вами, именно с вами хочу провести вечер. Но так нельзя: все вечера я ваш гость, и опять ваш гость, вы же моей гостьей не были ни разу. Я хочу, наконец, и сам быть хозяином. Хозяином, а не гостем! Неужели вы не понимаете?
Войцеховская весело рассмеялась:
— Ой, ой, ой, Андрей Иванович, как вы заговорили! Хозяином хотите стать? Хозяином? А как это понимать? Да и всерьез ли вы хотите хоть на один вечер стать хозяином? Если это шутка, то скверная.
— А если не шутка, если всерьез? — тихо, строго, пристально глядя Войцеховской прямо в глаза, сказал Андрей. — Если всерьез?
Про себя он подумал: «Да будь ты неладна, чертова кукла, пропади ты пропадом!»
Войцеховская заметно колебалась. Действительно, что, в конце концов, могла она возразить против приглашения Андрея? Разве в этом приглашении было что-либо необычное, ставящее ее в неудобное положение, как-то компрометирующее? Нет. Ровно ничего такого в предложении Андрея не было. Исчерпав все малоубедительные доводы, которые она все еще пыталась выдвинуть против посещения ресторана, Анна Казимировна вынуждена была в конце концов уступить. Да, говоря по совести, и портить отношения с инспектором ей не хотелось: как-никак инспектор! Фигура. Глядишь, и пригодится.
— Хорошо, Андрей Иванович, — сказала наконец Войцеховская, — будь по-вашему. Только уговор: ненадолго. Ну, час-полтора. А потом ко мне… Согласны?
Миронов поспешил изобразить на своем лице выражение полнейшего восторга:
— Еще бы не согласен, Анна Казимировна! Ненадолго так ненадолго. Итак, разрешите быть вашим кавалером. Прошу следовать за мной.
— Ого! — кокетливо усмехнулась Войцеховская. — Однако вы, оказывается, не намерены терять времени даром. Только так не годится. Ну куда, в какой ресторан я пойду в таком виде? Нет уж, если идти — так по-человечески. Я должна как следует одеться, собраться. Давайте завтра, а? Часиков этак в семь, в полвосьмого? Не возражаете?
Миронову ничего не оставалось другого, как согласиться.
Провожая Войцеховскую до ее дома, Андрей сказал, что сегодня к ней в гости он не напрашивается: ему придется весь вечер, а то и ночь посидеть в гостинице, поработать — хочешь не хочешь, а отчет о постановке преподавания английского языка в средних школах Крайска писать надо. Но зато завтра… Ах, поскорее бы наступило это желанное завтра!
Следующим утром Миронов пришел в школу, где преподавала Войцеховская, пораньше, до начала уроков. Перехватив ее в коридоре, Андрей сказал, что целый день будет бегать по другим школам и освободится только к вечеру. Они условились, что часов около семи он зайдет за ней прямо на квартиру, и Анна Казимировна отправилась на урок, а Миронов действительно пустился в обход других школ: нужно было доиграть роль инспектора до конца.
Только во второй половине дня, худо ли, хорошо покончив дела в школах, Миронов попал в управление. Первым, кого он встретил, был Луганов.
— Василий Николаевич, — обрадовался Андрей, крепко пожимая ему руку, — вернулся? Только что с аэродрома? Вот молодец! Пойдем ко мне. Расскажешь, как съездил, а я введу тебя в курс наших дел.
Луганов, тоже обрадованный встречей, ответил, однако, категорическим отказом:
— Нет, Андрей Иванович, не могу. И рад бы к тебе, да никак не могу. Спешу к начальнику управления. Звонил ему из аэропорта, так полковник приказал прямо к нему, не задерживаясь. Ты, кстати, не знаешь, с чего бы такая спешка?
Миронов отрицательно покачал головой:
— Нет, я не в курсе дела.
— А что, Андрей Иванович, — сказал Луганов, — может, вместе пойдем к полковнику?
Миронов согласился. Он и сам собирался к нему.
Доклад Луганова начальнику Управления КГБ был кратким: к тому, что Василий Николаевич уже сообщил по телефону, добавить было почти нечего. Разве что перед самым отъездом из Алма-Аты он заручился обещанием тамошних работников КГБ поставить Крайск в известность, как только Корнильев появится в Алма-Ате.
Выслушав доклад, Скворецкий повернулся к Миронову:
— Ну, а ты с чем пришел? Как с рестораном?
— Все в порядке, — ответил Андрей. — Сегодня. В девятнадцать тридцать. Намереваюсь «кутнуть» в «Дарьяле».
Луганов с недоумением посматривал то на Андрея, то на начальника управления: Миронов — и вдруг собирается кутить в ресторане? Что за оказия?
— Фу ты, — сообразил Андрей. — Извини, пожалуйста, Василий Николаевич. Я совсем упустил из виду, что ты отстал от наших дел. Сейчас я все растолкую. Разрешите, Кирилл Петрович?
Однако Скворецкий внезапно ответил отказом.
— Потом, — сказал полковник. — Вот отпущу вас, тогда все и расскажешь. А сейчас прошу извинить. Времени у меня в обрез…
— Разрешите идти? — в один голос спросили Миронов и Луганов, поднимаясь со своих мест.
— Минуточку, — задержал их Скворецкий, — может, я до вечера не освобожусь, так слушайте. Я тебя почему торопил, Василий Николаевич, с аэродрома? Есть дело. Сегодня Андрей Иванович дает прощальный ужин Войцеховской. В «Дарьяле». Ты уже слышал. Подробности он тебе расскажет. Твоя задача: с семи вечера быть в ресторане и смотреть в оба. С собой захватишь двух-трех сотрудников милиции. Можно в форме. Только чтобы оделись рядовыми милиционерами. С милицейским начальством я договорился — помогут. Когда Миронов с Войцеховской уйдут из ресторана, глаз с них все равно не спускать. Находиться невдалеке от Миронова до самого конца, пока он не вернется в гостиницу. Благополучно вернется. — Слово «благополучно» полковник подчеркнул. — Ясно?
Андрей во все глаза смотрел на полковника.
— Кирилл Петрович, в чем дело? Зачем? Думаете, если случится что непредвиденное, так я сам не справлюсь? — В его голосе послышалась обида.
— Ну, ну, ты свое геройство брось! — прикрикнул полковник. — Мы тут не шутки шутим, страховка в таком деле необходима. Итак… — Полковник запнулся. — Одним словом, с меня и одного Савельева хватит. Кроме того, ресторан есть ресторан, там всякое может случиться. Иметь в случае чего подмогу не помешает. Короче говоря, товарищ Луганов, вам задача ясна?
— Так точно, товарищ полковник. Все ясно. Разрешите быть свободным?..
— Да. Желаю успеха.
Миронов и Луганов пошли в кабинет Андрея, где задержались до вечера, обсуждая дела.
Соображения Миронова о новом направлении проверки Войцеховской Луганову понравились.
— А что? — говорил он. — Вдруг Войцеховская действительно никакая не украинка, а… полька! Да, да, полька, и не просто полька, а из лондонских. Что скажешь? Смотри, окажется еще эта самая Войцеховская штучкой почище Корнильевой!
Одно огорчало Луганова: каков бы ни был результат проверки, ничего нового о взаимоотношениях Войцеховской с Черняевым он не даст, следовательно, ниточка, которая находилась в руках следствия, так и останется оборванной, тем более если учесть сумасшествие Черняева.
— Кстати, Андрей Иванович, уже пять часов, — спохватился Луганов. — Ты учти, «Дарьял» — ты ведь туда собираешься? — самый модный из ресторанов Крайска. Попасть туда вечером не так-то просто — очередь. Лучше всего подъехать заранее, подобрать столики: тебе и мне. Остальное — моя забота…
Не теряя больше времени, Луганов вызвал оперативных работников угрозыска, которые по просьбе Скворецкого уже были выделены ему в помощь, и все они вместе отправились в «Дарьял», «сориентироваться на месте», как выразился Миронов.
Когда все дела в ресторане были закончены, время подходило к семи, Луганов вместе с одним из сотрудников угрозыска в штатском занял место за столиком в углу. Двое других оперработников уголовного розыска, одетых в милицейскую форму, расположились один в вестибюле, другой на улице, невдалеке от входа в ресторан. Миронов отправился к Войцеховской.
Анна Казимировна не собиралась нарушать данное ею слово и ждала Андрея.
В этот вечер она была особенно хороша. Когда она об руку с Мироновым пересекала, направляясь к «забронированному» столику, заполненный до отказа зал «Дарьяла», многие на нее оборачивались: кто — с восхищением, кто — с трудом скрывая зависть.
Судя по тому, с какой быстротой Войцеховская ориентировалась в сложном ресторанном меню, как уверенно разговаривала с официантом, Миронов понял, что рестораны ей не в диковинку. В то же время, как подметил Андрей, Анна Казимировна держалась настороже, словно чего-то опасаясь. Правда, неискушенным глазом заметить это было трудно. Ну, кажется, что особенного было в том, что она излишне часто смотрелась в зеркальце, то поправляя прическу, то чуть прикасаясь к разрумянившемуся лицу пуховкой, которую доставала из миниатюрной пудреницы. (Поди определи, что в этот момент она внимательно вглядывалась в то, что происходило у нее за спиной.) Не было ничего странного и в том, что она нет-нет, а бросала испытующие взгляды вокруг, присматриваясь к тому, что делалось за другими столиками. Но если малоискушенный человек и не заметил бы в ее поведении ничего странного, то для такого опытного разведчика, каким был Миронов, нервных жестов Войцеховской и мимолетных взглядов по сторонам было достаточно. Диагноз он поставил без труда: Анна Казимировна чего-то ждет, чего-то или кого-то опасается…
Пригубляя терпкое, чуть вяжущее саперави, ведя с Анной Казимировной легкий, игривый разговор, Андрей исподтишка следил за выражением ее лица, за каждым ее жестом, каждым движением. Одновременно он ухитрялся не упускать из поля зрения и всего зала: что тут кроется, что может произойти?
На какое-то мгновение Андрей утратил контроль над собой и слишком пристально, слишком откровенно и испытующе взглянул на Войцеховскую, которая в этот момент — какой уже раз! — смотрелась в зеркальце. В своей неосторожности ему пришлось тут же раскаяться.
— Что с вами, — в упор спросила Войцеховская, быстро убирая зеркальце и чуть заметно щурясь, — что вы на меня так смотрите?
— Как, — не сразу нашелся Андрей, — как смотрю?
— А вот так: словно на подопытного кролика.
Миронов деланно рассмеялся.
— На подопытного кролика?! И придет же такое в голову! Чего доброго, вы еще скажете, что я смотрю так, как будто собираюсь вас проглотить!
— Проглотить? А вы знаете, что сталось с ослом, который проглотил ежа, приняв его за куст чертополоха?
— Нет, не знаю, хотя и догадываюсь. Но… неужели я похож на осла?
— Как сказать? Думаю, столько же, сколько я на ежа. — Анна Казимировна расхохоталась.
«Уф, кажется, на этот раз пронесло, — с облегчением подумал Миронов. — Однако ухо надо держать востро, ей пальца в рот не клади».
Внезапно выражение лица Войцеховской изменилось: губы искривились, глаза сузились, на лоб набежали морщинки. Никогда еще Миронов не видел, чтобы ее лицо было таким холодным, таким злобно-презрительным. Но смотрела она не на него, а куда-то в сторону, чуть правее его плеча. Проследив за направлением ее взгляда, Андрей заметил коренастого, крепко сбитого молодого человека в форме военного летчика, но без погон, который, пристально глядя на него, Миронова, упорно прокладывал себе дорогу к их столику.
«Так, — молниеносно пронеслось в мозгу Миронова, — начинается. Кажется, сейчас я узнаю, чего она опасалась, но не без скандала. Этого еще не хватало!»
В тот же момент Андрей заметил, как Луганов и его помощник быстро поднялись со своих мест. Луганов направился к их столику, а помощник к выходу из зала. «Ну, что за старик! — подумал Миронов о Скворецком. — Предусмотрел самое непредвиденное. Нет, пожалуй, обойдется без скандала».
Между тем летчик наконец пробрался к своей цели. Он уперся обеими руками в край стола и, тяжело дыша, глядел то на Андрея, то на Анну Казимировну. Его курносое мальчишеское лицо исказилось злобой.
Войцеховская и бровью не повела, только губы ее искривились еще больше, еще глубже стали морщинки.
— Степан, ты почему здесь? — процедила она сквозь зубы ледяным тоном. — Тебе что было сказано? Вон отсюда! Убирайся…
Летчик съежился, словно под ударом хлыста, вобрал голову в плечи, но не уходил.
— Ну! Чего стоишь? — чуть повысила голос Войцеховская. — Слышишь, что тебе сказано? Пошевеливайся…
— Я уйду, — сиплым баском пробубнил летчик. — Уйду. Только вот он, этот самый… — летчик ткнул пальцем в сторону Миронова, — пусть пойдет со мной. Да, да, мы вместе уйдем. Вот именно. Вместе…
— Хорошо, — спокойно сказал Андрей, медленно поднимаясь, — пойдемте.
— Нет! — Войцеховская цепко ухватила его за рукав пиджака. — Вы никуда не пойдете. А ты… ты… — яростно повернулась она к летчику, — ты немедленно уберешься. Слышал?
Но летчик и не думал уходить: он, пытаясь не глядеть в глаза Войцеховской, топтался на месте, с пьяным упрямством твердя свое. Скандал становился неизбежным: минута-другая — и он разразится. Сидевшие за соседними столиками уже смотрели на них во все глаза; те, кто был подальше, поворачивали головы. Краешком глаза Миронов заметил Луганова, решительно шагнувшего к летчику, в дверях показались оперработники: один в штатском, другой в форме милиционера. Но их вмешательство казалось Миронову нежелательным: что может подумать Войцеховская? Медлить было нельзя.
Мягким, но решительным жестом Андрей освободил свою руку, которую все еще держала Войцеховская.
— Не волнуйтесь, Анна Казимировна, — сказал он с улыбкой. — Ничего страшного не случится. Я провожу этого гражданина и сейчас же вернусь.
— Ну, это мы посмотрим, как ты вернешься! — злобно прошипел летчик.
— Если так, — вскочила Войцеховская, — я иду с вами. И не вздумайте спорить!..
— Никоим образом, — твердо сказал Андрей. — Это было бы просто глупо. Заверяю вас, я тотчас вернусь. Пошли, — бросил он летчику, жестко беря его за локоть.
Летчик и не подумал сопротивляться. Все так же тяжело сопя, он направился бок о бок с Мироновым к выходу, и со стороны могло казаться, что это идут добрые друзья. Скандал в зале был предотвращен.
Едва Миронов вывел летчика в вестибюль, как тот яростно вырвал у него свой локоть и круто повернулся.
— Ну, ты, как там тебя?.. — дохнул он на Андрея водочным перегаром и грязно выругался. — Что тебе нужно от Анны Казимировны? Пшел отсюда, а то так изуродую, что мама родная не узнает.
— Вот что, гражданин хороший, — с невозмутимым видом сказал Миронов, — считайте, что я вас не слышал. Шагайте-ка отсюда подобру-поздорову. Так будет лучше. Вы сейчас не в себе, вам следует выспаться.
— Т-ты… т-ты еще учить меня вздумал! — взревел летчик, и его тугой кулак молниеносно мелькнул в воздухе снизу вверх, целясь в челюсть Миронова.
Но, как ни стремителен был удар, он не достиг цели. Миронов действовал еще быстрее. Мгновение — и рука летчика, схваченная на лету Андреем, была вывернута за спину и сжата железной хваткой. Лицо летчика исказилось от бессильной ярости и боли.
— Ну как? — спокойно спросил Миронов, не выпуская его руки. — Сами пойдете или вас проводить?
Летчик не отвечал. Он бешено рвался из рук Миронова, стараясь освободиться. Видя, что ему не урезонить вконец потерявшего голову человека, Миронов чуть повернул его руку так, что тот взвыл от боли, и толкнул его к выходу из ресторана. В этот момент около них выросли фигуры оперативных работников уголовного розыска, появился Луганов.
— Ай, ай, ай, — укоризненно сказал, обращаясь к летчику, тот, что был в милицейской форме. — Нехорошо, гражданин Савин, нехорошо. Опять безобразничаете? — Этот работник постоянно имел дело с «Дарьялом» и знал его завсегдатаев. — Придется проследовать в отделение.
— Что, старшина, — уныло спросил летчик, буйство с которого при появлении милиционера как рукой сняло, — опять пятнадцать суток припаяешь?
— Сколько положено, столько и припаяют, — миролюбиво ответил сотрудник уголовного розыска, выступавший в роли старшины милиции, — давайте пройдем…
Летчик, руку которого Миронов выпустил, как только появился «милиционер», направился было к выходу, но у самой двери внезапно заартачился:
— Позволь, старшина, позволь. А его? — Он указал на Миронова. — Его тоже бери. Ехать в отделение, так вместе. Веселее будет…
— А уж это, гражданин Савин, мы сами разберемся, кому куда ехать, — непреклонно сказал «старшина», легонько подталкивая летчика к выходу. — Вас, гражданин, — обернулся он к Миронову, — попрошу задержаться.
Как только входная дверь за летчиком и «старшиной» захлопнулась, Миронов поспешил в зал, к Войцеховской. Проходя мимо стоявшего со скучающим видом Луганова, он чуть замедлил шаги и тихо обронил:
— Надо немедленно выяснить, что представляет собой этот самый Савин, собрать о нем все данные.
Луганов усмехнулся и чуть заметно кивнул: сам, мол, знаю — не маленький.
Войцеховская сидела на своем месте, внешне сохраняя спокойствие. Только приглядевшись к ней и заметив, как она нервно покусывает губы, можно было определить, что Анна Казимировна взволнована. Быстрое возвращение инспектора ее заметно обрадовало, но и, по-видимому, удивило. Очевидно, она не рассчитывала, что инспектору удастся так быстро и, судя по его виду, по выражению лица, так легко отделаться от пьяного скандалиста.
— Андрей Иванович, дорогой! — радостно воскликнула она, едва Миронов уселся на свое место. — Вы избавились от него, от этого ужасного типа? Как я боялась за вас, как волновалась! Но он сюда больше не вернется?
— Думаю, не вернется, — пожал плечами Миронов. — Его забрал милиционер. Там, в вестибюле. Кто он такой, кстати, откуда взялся?
— Ах, не спрашивайте, Андрей Иванович. Это ужасный человек! Я же говорила вам, говорила, что незачем идти в ресторан. Видите, что получилось.
— Ну, допустим, ничего особо страшного не произошло, могло быть хуже. Представьте себе, поднял бы он скандал, затеял драку — что с пьяного возьмешь? А там шум, огласка… Однако что же это все-таки за ужасный человек, откуда вас знает?
— Знает меня? Нисколько. И я его не знаю… Вернее, почти не знаю. Но почему вы спрашиваете? Воображаю, что он там наговорил вам спьяну! — Войцеховская бросила на Андрея испытующий взгляд.
— Наговорить-то он ничего не наговорил. Не успел. Но вы же сами сказали, что это «ужасный человек», поэтому я и решил, что он вам известен. Да и он, судя по всему, вас знает. Иначе зачем ему было затевать этот скандал? Впрочем, если я ошибся, прошу извинить, — сухо сказал Миронов.
— Андрей Иванович, ну зачем же так? — жалобно сказала Войцеховская. — Ведь все проще простого. Этот человек — Савин его фамилия, он летчик — преследует меня уже целый год, если не больше. Но я-то при чем? Чем я виновата? Прошлой осенью он привязался ко мне на улице, когда я возвращалась домой из школы. Был он тогда трезв и вел себя вполне прилично. Он сказал, что уже месяц, как ходит за мной по пятам, но все не решается подойти, заговорить. А вот теперь решился. Заявил, что я — его судьба, что без меня он не может жить, одним словом, наговорил целый короб глупостей. Я не стала его слушать и потребовала, чтобы он оставил меня в покое. Он ушел, но через день-два все повторилось. С тех пор он беспрестанно преследует меня, хотя я не давала ему к этому никакого повода. Повторяю, в чем же моя вина? Судите меня, если находите нужным, но будьте же хоть чуточку справедливы…
Глаза Войцеховской налились слезами. В этот момент она была до того хороша, выражение ее лица было столь искренним, что Андрей невольно подумал: «А может, это все и правда? Из-за такой женщины потерять голову нетрудно».
— Милый, хороший, — внезапно понизила голос до шепота Анна Казимировна, завладевая рукой Андрея, — спасите меня. Помогите. Помогите отсюда уехать… Вы можете…
— Как — уехать? — растерялся Миронов. — Куда? Что-то я не возьму в толк…
— Господи, неужели так трудно понять? Я не могу здесь больше оставаться. Савин не даст мне житья. Вы же видите, до чего он дошел? Из Крайска мне надо уехать, иначе я погибла. Да и вообще, что я здесь вижу хорошего, кому нужна? — В ее голосе прорвалось сдержанное рыдание.
— Куда же, куда вы хотите уезжать? Чем я могу помочь? — с недоумением спросил Миронов.
— Ну, это же совсем просто, — улыбнулась сквозь слезы Войцеховская. — Устройте мне перевод в центр. Что вам стоит? Хотите… хотите я… я поеду с вами… совсем…
«Да, — подумал про себя Андрей, — это ход!»
— Как же так, сразу… — всем своим видом изображая полную растерянность, начал Миронов. — Перевод? Как его организовать? Со мной могут и не посчитаться, не такая уж я персона. Да и как вы устроитесь?.. Нет, нет, это совсем не просто. Тут все надо обдумать, взвесить…
— Ах, какая ерунда! — воскликнула Войцеховская. — Что тут взвешивать! Мне надо уехать, вот и все. А жить?.. Жить я могла бы… у вас. Вы же говорили, что живете один?..
Андрей был снова поставлен в тупик. Он, конечно, мог ответить решительным отказом, но не вызовет ли это подозрений? Ведь хотя и робко, но он так настойчиво ухаживал все это время за Войцеховской… А быть может, все это тонко рассчитанный шаг, ловушка, цель которой — проверить, кто он, Миронов, такой на самом деле? Правдив ли в своем к ней отношении? Могло быть и так.
— Анна Казимировна, дорогая, — глухо проговорил он, — это… Это так неожиданно. Я сделаю все, как вы хотите. Но только дайте срок. Так сразу нельзя. Я съезжу к себе, все организую, устрою и тогда вернусь, приеду за вами. Но уговор: никому ни слова… Иначе все провалится.
— Хорошо, — сникла Войцеховская. — Я… я подожду. Вам виднее… А теперь, — она вымученно улыбнулась, — теперь проводите меня домой. Я так устала…
Всю дорогу они шли почти молча, разве изредка обмениваясь ничего не значащими фразами. Когда подошли к ее дому, Войцеховская внезапно сказала:
— Андрей Иванович, вы не обидитесь, если я нарушу свое слово, не приглашу вас сегодня к себе? Мне лучше побыть одной. А условимся мы обо всем завтра…
— Да, конечно, — поспешно согласился Миронов.
Анна Казимировна быстро пожала руку Андрея и скрылась в подъезде. Миронов осмотрелся по сторонам и, не заметив ничего подозрительного, двинулся к центру города. Час был уже поздний, но он решил зайти в управление. Чем черт не шутит! Вдруг полковник Скворецкий задержался на работе?
Возле самого управления из темноты внезапно вынырнул Луганов.
— Василий Николаевич, — изумился Андрей, — ты откуда? Неужели так-таки и топал за мной? Я же во все глаза глядел и, грешным делом, никого не заметил. Думал, ты прямо из ресторана отправился восвояси.
— Зря думал, — невозмутимо ответил Луганов. — А распоряжение полковника? Мне же было приказано обеспечить твои тылы… Вот и обеспечивал как мог.
Подшучивая друг над другом, они вошли в управление и поднялись в приемную Скворецкого. Полковника, однако, в управлении не оказалось, он давно уехал домой. Зато на следующий день Миронов и Луганов поспешили к нему с утра, пораньше.
Выслушав Андрея, Кирилл Петрович задумался.
— Да, — сказал он наконец, — история… А не кажется ли тебе, что всю эту сцену с летчиком она специально подстроила и учинила тебе нечто вроде экзамена. Хочется думать, что ты его выдержал.
— Насчет экзамена я согласен, — сказал Миронов. — А вот что касается летчика, тут, думаю, вы ошибаетесь. Не похоже, чтобы он участвовал в этой игре. Его появление не входило в планы Войцеховской, такое у меня сложилось впечатление. Больше того, полагаю, что именно из-за летчика и отказывалась она идти в ресторан. Кто его знает, каковы ее отношения с этим Савиным? Что это вообще за фрукт? Но надо отдать должное Анне Казимировне: всю эту историю она быстро повернула в нужную ей сторону и устроила мне экзамен по всем статьям.
Молчавший до этого Луганов подал голос:
— Разрешите, товарищ полковник? А что, если все это не игра, никакой не экзамен? Я за Войцеховской наблюдал во все глаза. Вела она себя очень естественно, переживала, видимо, здорово. Может, ей действительно стало здесь невмоготу, и она готова на все, лишь бы вырваться из Крайска. Вы это исключаете?
— Да, — согласился Андрей, — вела она себя блестяще. Если это и игра, то самого высокого класса. И все же я склонен думать, что она меня проверяла. Впрочем, я согласен с Василием Николаевичем, что отъезд из Крайска действительно может входить в ее планы. Одно другому не мешает.
— Исключать, конечно, ничего нельзя, — заметил полковник. — Пищи для размышления мы получили предостаточно. Но и новые ходы появились — Савин. А это уже хорошо. Где он, кстати? Удалось насчет него что-нибудь выяснить?
— Сейчас он в отделении, — ответил Луганов, — его можно засадить суток на пятнадцать за мелкое хулиганство. Заслужил. Тем временем соберем необходимые данные. Пока известно одно: сам он военный летчик. Бывший. Около месяца назад уволен вчистую, демобилизован. Причины пока не выяснены. Сейчас без определенных занятий. Холост. Вот пока и все.
— Не густо, — покачал головой Скворецкий. — Вот что, Василий Николаевич, на пятнадцать суток ты не рассчитывай. И думать брось. Сутки — вот тебе окончательный срок. Чтобы завтра о Савине было все, что только можно узнать. Все, и даже больше. Понял?
— Куда как понятно, товарищ полковник, — вздохнул Луганов. — Постараемся…
— Теперь, — повернулся Скворецкий к Миронову, — твоя задача: навести Войцеховскую, заверь ее, что попытаешься сделать все, как она хочет, что ты рад, счастлив, ну и всякое там такое. На этом ты с ней простишься, «уедешь» из Крайска. Думаю, что «роман» с Войцеховской возобновлять тебе не придется. Не мне тебе говорить, но все же напомню: в общественных местах — в кино, там, в театре — смотри не появляйся да и на улицах веди себя поосмотрительнее, чтобы ненароком с ней не столкнуться. Не то все провалишь. Что до остального, так решим завтра.
Глава 22
Василий Николаевич Луганов на этот раз превзошел самого себя. К следующему утру, когда они с Мироновым должны были явиться к полковнику, он уже располагал более или менее исчерпывающими сведениями о Савине.
Савин Степан Сергеевич, двадцати шести лет, родился в Киеве, в семье ответственного партийного работника. Его отец в начале войны ушел на фронт. Летом 1943 года Сергей Иванович Савин, член Военного Совета одной из армий, стоявших на Курской дуге, погиб в боях с фашистскими захватчиками. Мать Степана и поныне работала в одном из райкомов партии в Киеве…
Детство Степана изуродовала война: бомбежки, эвакуация, тяжкие лишения, гибель отца… Степан лютой ненавистью возненавидел фашистов, возненавидел, всех, кто грозил свободе и независимости нашей Родины.
Окончив среднюю школу, Степан Савин пошел в военное летное училище, стал летчиком. Года полтора назад та воинская часть, в которой служил старший лейтенант Савин, была передислоцирована в район Крайска.
В части о Савине говорили по-разному: одни хвалили его как смелого, мужественного, прямого человека, надежного товарища, другие ругали. Ругали за недисциплинированность, за ухарство, за дерзость, за распущенность, которой он особенно отличался последнее время. Но все сходились на том, что летчик Степан отличный, летчик, что называется, «божьей милостью». Тем тяжелее для товарищей, для командования было то, что произошло со старшим лейтенантом в последнее время. Впрочем, теперь он уже не был старшим лейтенантом…
С дисциплиной Степан, по-видимому, был давно не в ладах. Его послужной список наряду с благодарностями и поощрениями за отлично выполненные полеты, учебные стрельбы, сложные задания командования пестрел дисциплинарными взысканиями. Савин не раз нарушал режим полетов, дерзил непосредственным начальникам, вступал в пререкания. Однако до перебазирования части в Крайск все проступки Степана Савина были в пределах допустимого. Больше того, нарушений становилось все меньше и меньше. Степан взрослел, становился серьезнее. Ничто, казалось, не предвещало беды, и все же она стряслась.
В первое время, после того как часть, в которой служил Савин, обосновалась под Крайском, все у Степана шло хорошо. Но вот весной этого года Савин сорвался: он не явился на очередной полет. Это был серьезный проступок, подобных которому он никогда до этого не совершал. Вина его усугублялась тем, что он отказался представить какие-либо объяснения. Пришлось Степану несколько суток отсидеть на гарнизонной гауптвахте.
Однако суровое наказание нисколько не образумило свихнувшегося летчика: проступки, граничащие с прямым нарушением воинского долга, начали следовать один за другим. Савин опаздывал на полеты, несколько раз появлялся в расположении части в нетрезвом виде. С ним неоднократно говорил командир соединения, беседовал замполит. Его поведение обсуждали на комсомольском собрании — все напрасно. Савин молчал. Вину свою он признавал, но никакого объяснения своему поведению дать не хотел. Главное же — день ото дня вел себя все хуже. Товарищи поговаривали, что тут замешана женщина, но толком никто ничего не знал.
Вопрос о его поведении встал со всей остротой: речь шла об откомандировании из части. И тут события ускорил сам Степан. Примерно за месяц до того вечера, когда Савин поскандалил с Мироновым в «Дарьяле», его недисциплинированность переросла в прямое преступление. Случилось так, что в тот день один из самолетов соединения находился в городском аэропорту. В том, что Савин об этом знал, ничего странного не было: в частности, об этом знали многие. Но как Савин пробрался на летное поле аэропорта, как он умудрился очутиться в кабине самолета, да еще не один, а с женщиной, было загадкой. Работники аэродромной службы захватили Степана в тот момент, когда он запускал двигатели, намереваясь вырулить боевой самолет на взлетную площадку.
Происшествие было столь невероятным, случай столь беспрецедентным, что работники аэропорта растерялись: Савина они задержали (тот, впрочем, и не пытался скрыться), а его спутница, воспользовавшись суматохой, ускользнула. Кто она, выяснить не удалось. Савин наотрез отказался назвать ее имя, взял всю вину на себя. Не представил он и никакого, хоть сколько-нибудь вразумительного объяснения своему дикому поступку, «Так просто, — говорил Савин, — решил полетать. Мне долгое время не давали вылетов, соскучился по воздуху, А тут — машина…»
Больше он не сказал ни слова. Не пытался оправдываться и тогда, когда понял, что дело оборачивается плохо, что ему грозит военный трибунал.
Действительно, Степана сначала хотели отдать под суд трибунала, но передумали. О происшедшем было доложено высшему командованию, и в уважение к памяти, к славному имени отца Савина до трибунала решили не доводить. Степан Савин был лишен офицерского звания и изгнан из рядов Советской Армии. Тем и ограничились.
После демобилизации с Савиным вновь пытались говорить командир части и товарищи. Взывали к его совести, говорили о будущем — все было напрасно. Савин никого не хотел слушать, ни с кем не желал разговаривать. Он жил в Крайске, пьянствовал в «Дарьяле», добывая средства на попойки игрой на бильярде, а гонять бильярдные шары он был великий мастер.
Таковы были данные о Степане Савине, бывшем военном летчике, которые смог собрать и доложить полковнику Скворецкому Луганов.
В самом начале доклада, когда Луганов упомянул имя и отчество отца Савина и указал, что он был членом Военного Совета армии, погиб на Курской дуге, Андрей заметил, как вдруг вздрогнул полковник Скворецкий, как изменилось его лицо.
«Что с ним? — подумал Миронов. — Что случилось?» Но Кирилл Петрович слушал молча, и, если что его и взволновало, в дальнейшем он этого ничем не выдал. Андрей, с тревогой следивший за полковником, постепенно успокоился.
После того как Луганов кончил, некоторое время все молчали.
— Да, — наконец выдавил из себя полковник, силясь подавить горестный вздох, — сын солдата, солдата революции. Сын бойца и командира… У меня, пожалуй, сейчас мог быть такой же…
Луганов, удивленный внезапным порывом полковника, с недоумением поглядывал то на вновь умолкнувшего Скворецкого, то на Миронова. Андрей незаметно кивнул ему головой: молчи, мол, не вздумай приставать с расспросами. Он-то знал, что сын полковника Скворецкого, талантливый летчик-истребитель, в двадцать два года командовавший эскадрильей, погиб под Берлином.
— Как, Андрей Иванович, — прервал тягостное молчание Скворецкий, — тебе имя Сергея Савина ничего не говорит? Впрочем, откуда? Ведь тебе тогда не было и пятнадцати…
— Вы о чем? — не понял Миронов. — Когда — тогда?
— Брянские леса помнишь? — спросил полковник. — Мы туда пробивались с боями весной сорок второго. Как раз в это время ты и пристал к отряду.
— Ну, помню, — неуверенно сказал Андрей. — Так что из этого следует?
— А как к нам, в расположение отряда, прилетал с Большой земли представитель командования Красной Армии «товарищ Сергей» — помнишь?
— Помню, — начиная догадываться, тихо, вполголоса произнес Андрей.
— Так вот: фамилия «товарища Сергея» была Савин. Сергей Иванович Савин. Теперь понял?
— Вы полагаете, — в раздумье спросил Миронов, — что тот Савин, «товарищ Сергей», — отец Степана Савина? А может, просто совпадение?
— Какое там совпадение, — горько усмехнулся Скворецкий. — Сергей Иванович Савин, «товарищ Сергей», член Военного Совета армии, погиб под Курском. Это я знал всегда. А вот насчет сына… Насчет сына не знал…
— Н-да, положеньице… — мрачно сказал Миронов. — Что же делать?
— «Что делать, что делать»! — внезапно впадая в бешенство, сдавленным голосом воскликнул Скворецкий. — А ты не знаешь? Мальчишка, щенок! Так надругаться над светлым именем отца? С него, подлеца, шкуру спустить мало…
С трудом подавив вспышку охватившей его ярости, полковник продолжал уже спокойнее:
— Списывать этому мальчишке грехи в память о его отце не будем. Сам нашкодил, сам и отвечай. Но вот поверить, что комсомолец, сын Сергея Савина, спутался с врагами Советского государства, не могу. Хоть убейте — не могу. Окрутила его, как видно, эта Войцеховская. Окрутила и заморочила голову. Он небось и сам не понимает, в какую пропасть свалился. Кстати, где он сейчас, все еще в милиции?
— Так точно, — сказал Луганов. — Сидит в отделении. После вытрезвителя.
— Знаете что? Доставьте-ка его сюда, ко мне. Я сам с ним побеседую.
— Кирилл Петрович, — вмешался Миронов, — стоит ли? Ведь вы же будете с ним и о Войцеховской разговаривать, а это рискованно. Чего доброго, он возьмет да ей же и выложит, что КГБ заинтересовалось ее персоной. Тогда пиши пропало. Может, вам лучше в отделение поехать, там поговорить? На нейтральной, так сказать, почве.
— Нет, — отрезал Скворецкий, — толковать с ним буду здесь, именно здесь. Ты что думаешь, попытка угнать боевой самолет — шутка? А уж как с ним разговаривать, я соображу. Не беспокойся. Только вот что: сам-то ты сиди у себя и не высовывай носа, не то столкнешься с ним где-нибудь в коридоре, вот тогда действительно пиши пропало…
Через полчаса Луганов ввел в кабинет Скворецкого небритого, с опухшими после попойки глазами Савина.
— Хорош! — с мрачной иронией, глядя на него в упор, сказал полковник, как только дверь за Лугановым закрылась и они остались с Савиным в кабинете с глазу на глаз. — Хорош! Ты только полюбуйся на себя, на кого стал похож. И это — боевой офицер Советской Армии. Летчик. Стыд! Срам!
— Позвольте, — надменно вскинул голову Савин, — а вам-то до этого какое дело? Выпил — лепите пятнадцать суток, а мораль читать нечего. Обойдусь. Да и вообще, кто вы такой, по какому праву таким тоном со мной разговариваете?
— По какому праву? — переспросил Скворецкий, и, хотя голос его звучал сурово, в нем слышались нотки горечи. — А по такому, что я коммунист и поставлен сюда, на этот пост, партией, чтобы охранять безопасность советского народа, советских людей, не давать таким вот, как ты, если они споткнулись, лететь вниз головой в яму. По такому праву, что в отцы тебе гожусь, что с твоим отцом Сергеем Савиным воевал бок о бок… — Голос полковника дрогнул.
— Вы, — уставился на Скворецкого Степан, — вы знали моего отца? Встречались с ним?
— Встречался? Твой отец, Сергей Савин, был моим другом, боевым товарищем. Имя твоего отца, память о нем для меня святы. А ты? Ты, паршивец, что делаешь? Какую дорожку выбрал? Видел бы сейчас тебя отец.
Степан, угрюмо потупившись, вобрав голову в плечи, молчал.
— Нет, ты мне скажи, — сурово продолжал Скворецкий, — ты, сын Сергея Савина, большевика, кто ты такой? Зачем, для чего живешь на свете? Во имя чего? Ну? Чего молчишь? Отвечай! Или храбрости не хватает сказать правду?!
Савин сидел в полной растерянности. Нет! Так с ним еще никто не разговаривал. Командир части, замполит говорили вроде и о том же, но они говорили не так. Нет, не так. Он им не отвечал. Не хотел отвечать — и не отвечал, А как не ответить этому суровому, требовательному полковнику, другу его отца? Как не ответить на его вопросы, заданные с такой болью?
Кто он, Степан Савин, такой? Чем и для чего живет? Он, Степан, летчик. Да, летчик. Советский летчик. Его стихия — воздух. И он хороший — да что там хороший! — отличный летчик. Пусть кто-нибудь попробует это опровергнуть! Да, но разве теперь он летчик? Нет. Теперь он никто. Никто и ничто. Лишен офицерского звания, изгнан из армии…
Позвольте! Подождите минуту. Он, Степан Савин, — и вдруг больше не летчик? Почему? Как это произошло? Впервые за эти последние месяцы, когда все крушилось и летело кувырком, Степан вспомнил день за днем все, что произошло, как произошло, почему… Слово за словом раскрывал он перед полковником свою душу, не жалея себя, рисовал картину собственного падения. В Скворецком он внезапно почувствовал друга — старшего и мудрого друга, которому хочется сказать все, поделиться всем, что исковеркало его жизнь.
Как, с чего началось? Где, когда он покатился под откос? Да здесь, в Крайске! Что? Нарушения дисциплины, проступки ранее, до Крайска? Ну, это не в счет. Молодость. Порой лихачество. Впрочем, не совсем лихачество. В воздухе он лихачом не был. Тут другое. Он, Степан Савин, владел машиной безукоризненно. Каким-то особым чутьем он чувствовал силу, возможности новых боевых машин. Из этих машин он пытался выжать все, найти новые формы ведения боя, а кое-кто из командиров, привыкших к определенным канонам, воспринимал это как лихачество. Отсюда столкновения, обвинение в неуважении к старшим по званию, по летному стажу. Однако не об этом сейчас речь. Если бы только это!..
Здесь, в Крайске, этой весной на одном из вечеров в Доме офицеров он, Степан Савин, встретил женщину… Была она не одна, с каким-то тучным, страдающим одышкой майором, с которым держалась фамильярно, как близкий человек. Впрочем, когда старший лейтенант Савин пригласил ее танцевать, согласие она дала охотно… Вот тогда-то, с того вечера, все и началось.
Кто эта женщина?! Она учительница английского языка, Фамилия ее Войцеховская, Зовут Анна Казимировна. Что он о ней может сказать еще? Да, пожалуй, почти ничего. Разве что она чертовски умна, хитра, лжива, изворотлива и очень хороша. Как бы то ни было, но с первой же встречи он потерял голову.
Еще во время танцев, между делом, она выяснила, что Савин — летчик, летает на новых машинах. Зачем он ей об этом сказал? А что здесь такого? Что он летчик, видно было по его форме; что же касается машин, боевых самолетов, так он сказал только одно — что они новые. Не думает же товарищ полковник, что Степан Савин способен выболтать первому встречному характеристику боевой машины, данные о ее конструкции, вооружении, летных качествах?
Что было потом, позже, когда эта женщина перестала быть «первой встречной» (да, он и не отрицает, она уже давно для него не первая встречная), что тогда он ей рассказывал? И тогда почти ничего. Очень мало, во всяком случае. Но все это очень сложно, запутанно; лучше будет, если товарищ полковник разрешит ему все рассказать по порядку.
В тот вечер, когда он, Степан, познакомился с Войцеховской, ему без труда удалось договориться с ней о свидании. Встретились они через день, и тут пошло, покатилось… Одна встреча следовала за другой, и с каждой встречей он чувствовал, что все больше теряет голову, власть над собой. Полюбил ли он Войцеховскую, любит ли ее? Трудно сказать… Это похоже на какое-то наваждение. Все эти месяцы он живет словно в угаре. Временами ему кажется, что она — все в его жизни, что жить без нее он не может. Скажи в такую минуту она слово — и он с радостью пойдет на смерть, на преступление, лишь бы выполнить любую ее прихоть, любой каприз.
Временами… Временами она ему ненавистна. Да, ненавистна. Какая же это любовь, когда, кроме беспросветной муки и страданий, она ничего в его жизнь не внесла? А она-то, она? Разве она его любит? Да что там говорить! Когда он с Войцеховской, она неприступна, но Савин знает, что на самом деле это далеко не так.
Что? Откуда знает? Очень просто: у него есть факты. Он ловил ее, ловил не раз, с другими. Ну, начать хотя бы со вчерашней встречи в ресторане. Кто он, этот человек, с которым она там была? Ясно, он был зачем-то ей нужен, и она соблазняла его, пустив в ход все, чем так щедро оделила ее природа. Так вот: этого человека она обольщала. Уж кто-кто, а он, Савин, настолько ее изучил, что ошибиться не мог. Ну, а уж за кого она возьмется, тот не устоит… Да, между прочим, если это не так, зачем она за день до этой истории в ресторане вызвала его, Степана, и строго-настрого запретила ему являться следующим вечером в «Дарьял»? Зачем?
Вы говорите, это не доказательство? Мало фактов? Согласен. А тот майор, с которым он, Степан Савин, видел Анну Казимировну в Доме офицеров в тот злосчастный вечер. Думаете, она была с ним просто знакома? Как же! Держи карман шире. А потом, когда у нее начался роман с Савиным, думаете, она с этим майором порвала? Ничего подобного! Встречалась! И по сию пору встречается. А вы говорите…
Но и это не все. Майором дело не кончается. Есть у нее и еще один, какой-то урод. Просто страшилище. Рожа препротивная. Без малого двух метров ростом, ручищи — что твои лапы. Работает проводником поездов дальнего следования на Крайской железной дороге. Фамилия Семенов. Иван Петрович Семенов. Откуда он, Савин, это знает? Опять-таки просто: выследил. Да, он нередко следил за Войцеховской. Однажды, когда она отказала ему в свидании, он притаился возле ее подъезда. И не зря. Под вечер она вышла из дома и начала петлять по улицам. Он — за ней. Тогда ему показалось странным, чего она петляет, а потом понял. Действительно, бежать на свидание к такому типу, как этот Семенов, просто срам. Вот она и скрывает эту связь. Как же, зазорно!
Встретилась она с этим Семеновым в глухом переулке, недалеко от вокзала. Они вместе прошли переулок и юркнули в какой-то домишко. Прямо хибарка. Он, Степан, хотел было ворваться, поймать ее с поличным, но удержался. Сколько времени провела там Войцеховская, сказать не может, не до часов было. А она вышла как ни в чем не бывало, оглянулась по сторонам, словно проверяя, не следит ли кто, и ходу. Только Савин на этот раз за ней не пошел. Он остался. Уж больно хотелось ему узнать, к кому это она бегала, кто здесь живет.
Ждал-ждал и дождался. Вышел этот самый, длинный. Тоже, как и Войцеховская, осмотрелся (а он-то зачем?) и пошел к вокзалу. Степан — за ним. Так и узнал место его работы, имя, фамилию. Ну и типа выбрала Анна Казимировна! Урод! Какой-то чудной, дылда, а ко всему еще и левша…
— Как, как, говоришь? — перебил его Скворецкий — Левша? А ты откуда знаешь?
— Сам видел. Видел, как он закуривает, какой рукой спички берет. Все видел…
Полковник вырвал из блокнота листок бумаги, быстро набросал несколько слов и, вызвав секретаря, приказал немедленно вручить записку майору Миронову. В ней значилось: «Иван Петрович Семенов. Проводник поездов дальнего следования Крайской железной дороги. Связь Войцеховской. Немедленно разыскать, собрать все данные».
— Что же выходит? — повернулся Скворецкий к Савину. — Войцеховская всех жалует, кроме тебя. Почему? Как ты это объясняешь? Да и тебя я что-то не пойму. Как ты, в конце концов, к ней относишься? Какую роль она играет в твоей жизни? Ведь в аэропорту, когда ты пытался поднять боевой самолет, она с тобой была?
— Она, — уныло сказал Степан, — Анна Казимировна…
— Ну-ка, как это все случилось? Выкладывай, — потребовал Скворецкий.
— Можно, я по порядку? — робко спросил Савин и, уловив знак согласия, продолжал свой рассказ.
Да, говорил он, действительно, Войцеховская его не балует своим отношением. Почему? Он и сам не знает. Нет, порой она бывает с ним ласкова, нежна, он уже говорил об этом, но не больше. Временами ему кажется, что чем-то она в нем заинтересована, что-то ей от него надо. Поэтому и ведет себя так: держит его на коротком поводке. И гнать не гонит, и приближать не приближает.
Зачем он может быть ей нужен? Он и сам не раз ломал над этим голову. Бывало, у него возникали глухие, страшные подозрения: а что, если ей нужен вовсе не он, а его работа, его знание современной военной техники, самого секретного из секретов? Нет, никогда прямо она его ни о чем не расспрашивала, но наводить разговоры на разные темы, связанные с его полетами, с оснащением боевых самолетов, их летными качествами, наводила. И если он что начинал рассказывать, слушала внимательно, хотя, казалось, ей-то это к чему? Вот в такие минуты она и не скупилась на авансы. Но он, если он и начинал говорить, так больше о своих личных ощущениях в воздухе. Когда же он замолкал, она не приставала с расспросами. Поэтому он и гнал от себя подозрения, старался не думать. Тогда, в тот злосчастный вечер, он пришел к ней чуть под хмельком и между делом сболтнул, что одна из боевых машин их части очутилась в гражданском аэропорту. «Шляпы, — со злостью говорил он, — тюфяки! Посадить боевую машину на гражданский аэродром! И что смотрит командование?»
Что? Почему он был под хмельком? Почему болтал с Войцеховской о боевом самолете, почему вообще ходил к ней, не портил отношений, если все складывалось так неладно? В этом-то и загвоздка! Он же и говорит, что она его словно приворожила. Когда он с ней, то порой готов задушить ее собственными руками, а стоит пробыть без нее — нет жизни: она кажется такой желанной, такой хорошей… Опять возникает надежда, и он мчится к ней…
Да, об этой истории в аэропорту… Так вот, едва он рассказал Анне Казимировне о самолете, как она загорелась: «Степочка, Степанчик, в жизни не летала на военных самолетах. Милый, хороший, полетим? Что тебе стоит? Знаю я там порядки, в этом аэропорту. Никто толком ничего и не узнает. Покрутимся над Крайском, ты мне покажешь этот самый, как его, высший пилотаж, и обратно. А?» При этом она на него так смотрела, так говорила, что он понял: сделай по ее и она ему ни в чем не откажет… Будь он, конечно, трезвый, может, ничего бы и не случилось, но ведь хмель… В голову ударило…
Да, хмель!.. И пить-то он из-за нее начал, с горя… Интересно, между прочим, судите сами, она, Анна Казимировна, ругала ведь его за пьянки, и как! Даже стала избегать, как он начал выпивать: все требовала, чтобы вел себя образцово, не перечил начальству. Вроде бы заботилась о нем, а сама с ним никуда. Все у нее дома и дома, разговоры и разговоры. Вот и пойди разберись в ней…
Как? Что было в тот вечер дальше? А вот дальше и стряслась беда. Он дал согласие. Как они пробрались на летное поле, как очутились в кабине самолета, он не помнит. Действовал как в тумане. Ну конечно, и охрана там — из рук вон. Лопухи! Пришел он в себя только в тот момент, когда, запустив двигатели, увидел за стеклами кабины перекошенное ужасом лицо пожилого дяди из аэродромной службы. Молнией мелькнула мысль: «Что же это я делаю?»
Ну конечно, двигатели выключил — и на землю. Помог ей из кабины выбраться. А она шипит: «Трус, слизняк, подлец…» Почему слизняк? Почему подлец? Нет, он не подлец. Он, Степан Савин, немножко пошумел, чтобы охрана в него вцепилась, принял, как говорится, огонь на себя и этим помог ей скрыться. Потом, конечно, когда началось расследование, имени ее не называл. Зачем? Ведь вина-то его, его. При чем она здесь? Что она без него могла сделать? Вот, собственно говоря, и вся история.
— Эх, ты, — покачал головой Скворецкий. — Герой! Значит, и при расследовании опять «взял огонь на себя»? Н-да, герой…
Степан, потупив глаза, сокрушенно молчал.
— А ты о том подумал, — жестко сказал полковник, — что мог явиться слепым орудием в руках Войцеховской, простым исполнителем ее воли? Подумал? А туда же — «моя вина», «беру огонь на себя»! Тоже мне рыцарь, черт бы тебя побрал.
— Позвольте, товарищ полковник, — робко спросил Савин, — что значит «орудие»? Какой это воли я исполнитель? Вам что, что-нибудь известно… об Анне Казимировне?
— Мне? Допустим, ничего не известно, если не считать того, что ты сам рассказал. А этого, по-твоему, мало? Боюсь, неспроста оберегала тебя Войцеховская от пьянок, требовала хороших отношений с начальством, старалась не афишировать своих с тобой отношений. Ох, неспроста!.. Но не об этом речь. «Известно», «неизвестно»!.. Ты о другом подумай: в какое положение ты поставил расследование? Ведь ты не только ничем не мог, но запутал все на свете. «Взял огонь на себя»! Ишь ты! Это-то тебе ясно?
— Я… я об этом как-то не думал, — смущенно сказал Степан. — Как же теперь быть, что делать?
— А вообще-то что ты собираешься делать, как думаешь жить дальше? — вопросом на вопрос ответил Скворецкий.
— Право, не знаю, — махнул рукой Савин. — Совсем запутался. Один конец…
— Что, может, пулю в лоб пустишь? — зло, с издевкой спросил полковник.
— Вы не смейтесь, — взмолился Савин, — но я действительно не вижу выхода.
— Да уж какой тут смех! Только винить-то тебе некого: сама себя раба бьет, что нечисто жнет. Ты вот что скажи: только честно — понял? — что такое эта самая Войцеховская? Понял? Или опять к ней побежишь?
— Нет, — твердо указал Савин, — теперь уж не побегу. Если надо — не побегу!
— То есть как это «если надо»? — взорвался полковник. — А сам ты как считаешь, сам? Это уж, брат, тебе решать. Нечего за чужую спину прятаться.
Савин встал.
— Товарищ полковник… памятью отца… — На глазах его выступили слезы. — Разрешите идти?
— Постой, постой. Куда ты?
— В часть, конечно, к командованию. Расскажу все, как было. Ну… ну… и буду проситься на какую-нибудь работу… — Голос Степана дрогнул. — На аэродром. Хоть грузчиком, вольнонаемным…
— Опять геройствуешь? — сурово сказал Скворецкий. — Смотрите, мол, какой я несчастненький. Каюсь. Готов в чернорабочие.
— Зачем вы так? Куда же мне, кроме аэродрома? Ведь если не в воздухе, то рядом, там мое место. Я с вами, как… как с отцом, а вы…
— Дурак, право дурак, — перебил его полковник. — Садись. Держи бумагу. Пиши.
— Что писать, — робко спросил Степан, усаживаясь на место. — Куда?
— Первое: пиши подробное объяснение, как все произошло в аэропорту. Что и почему ты утаивал раньше, при расследовании. Пиши мне, на мое имя: начальнику Крайского управления КГБ.
— А вы… вы начальник Управления КГБ?
— Да, именно так. Второе — главному командованию Военно-Воздушных Сил. Рапорт. Пиши, что вину свою осознал полностью, ну и всякое такое. Одним словом, пиши так, как находишь нужным. Подсказывать не буду. Учти одно — в рапорте о Войцеховской не распространяйся. Укажи, что ряд обстоятельств, связанных с твоими поступками, сообщил полностью органам государственной безопасности. Сошлись на меня. Ясно?
— Ясно. Только… только… стоит ли? Ну зачем я буду обращаться к главному командованию? Вы правильно сказали: сам виноват, сам и расплачиваться должен. И зачем я буду на вас ссылаться? Вы же меня почти не знаете…
— Да, тебя я не знаю, но знал Сергея Савина, сына которого в беде не брошу. Да и соображать кое-что соображаю. Я тебя, паршивца, вытащу из грязи, в которую ты сдуру залез. Вытащу…
— Товарищ полковник, — всхлипнул Степан. — Товарищ полковник…
— Ладно, ладно, пиши…
Когда оба документа были написаны, полковник Скворецкий внимательно их прочитал.
— Хорошо, — сказал он Савину, — вот теперь можешь идти. Явись к командиру части и доложи, что вину свою признаешь, что обратился с рапортом к главному командованию. Расскажи, конечно, о чем пишешь в рапорте. Доложи, что был в КГБ. Но вот уж насчет объяснения, которое мне адресовано, в подробности не вдавайся. Если командир или замполит будут интересоваться, пусть прямо мне звонят. Понятно?
— Так точно, товарищ полковник. Вас понял.
— Один вопрос: как думаешь вести себя дальше с Войцеховской?
— Хватит об этом, — с мольбой сказал Савин. — Знать ее больше не желаю. Встречу на улице — не подойду.
— Вот и напрасно, — спокойно сказал Скворецкий. — Так бы оно, конечно, было проще, но мне хочется верить, что тебе по плечу будет нечто более трудное…
— Более трудное? — повторил Савин. — Я вас не понимаю, товарищ полковник.
— Слушай, тогда поймешь. Ты говорил, что Войцеховская порой вызывала у тебя подозрение. Так?
— Да, товарищ полковник, говорил.
— Видишь ли, подозрительность — штука скверная. Очень скверная и очень опасная. Дорого она нам, советскому народу, обошлась в свое время. Что такое подозрительность? Это когда начинают сомневаться в людях, в отдельном человеке без должных к тому оснований. Но судя по тому, что ты рассказывал о Войцеховской, оснований присмотреться к ней больше чем достаточно. Присмотреться — я подчеркиваю. Не более того. Этого требует бдительность. Бдительность, а не подозрительность. Понятно?
Савин молча кивнул.
— Представь себе, — продолжал Скворецкий, — что вот так, с бухты-барахты, ничего толком не объяснив, ты с ней порвешь. Встретишь — и не поздороваешься. Как ты думаешь, не покажется ей это странным, не насторожит ее?
— Пожалуй, вы правы, — согласился Савин. — Она, конечно, удивится.
— Вот видишь, — сказал Скворецкий. — Следовательно, рвать с ней не к чему. Но и бегать за ней, как прежде, не бегай. Если встретишь, держи себя так, будто ничего не произошло. Сумеешь?
— Раз надо, товарищ полковник, сумею.
— Надо. Ты и сам толком не понимаешь, до чего надо. Глаза, конечно, держи открытыми. Не вздумай задавать ей какие-либо вопросы — упаси бог! — но замечай все. Если что насторожит, покажется странным — сразу ко мне. Ясно?
— Ясно, — твердо сказал Степан.
— Справишься, по силам задача?
— Товарищ полковник, я уже сказал: раз надо…
— Отлично! Ну, вот теперь, кажется, все, теперь можешь идти.
— Спасибо, товарищ полковник, спасибо за все, — взволнованно сказал Савин и стремительно вышел из кабинета.
Глава 23
Ознакомившись с запиской начальника управления, Миронов отправился на розыски проводника поездов дальнего следования Ивана Петровича Семенова.
Задача, которую пришлось решать Андрею, оказалась нетрудной: Семенов работал на Крайской железной дороге давно, знали его многие, и Миронов сравнительно быстро получил более или менее полную характеристику Семенова.
Иван Петрович Семенов появился в Крайске вскоре после окончания войны, сразу после демобилизации из армии. Как явствовало из материалов его личного дела, он работал проводником еще в довоенные годы, в Минске. С первых дней войны — на фронте. Начал войну рядовым, рядовым и кончил. Вся его семья — жена, трое детей погибли во время бомбежки еще в Минске, в начале войны. Семенов остался на свете один как перст. Жил бобылем и поныне. Квартировал он в небольшом домике, невдалеке от вокзала, у пожилой одинокой женщины, сдавшей комнату внаем. У нее же и столовался.
Ничем Семенов примечателен не был: проводник и проводник, как и многие другие. Службу он нес исправно, ни в чем предосудительном замечен не бывал, но и передовиком не числился. Был Иван Петрович нелюдим, угрюм, замкнут.
Вот, собственно говоря, и все, что удалось выяснить Миронову. Под предлогом поисков комнаты, которую на время можно было бы снять, Андрей побывал в доме, где жил Семенов. Домишко был старый, ветхий. Кроме владелицы дома и Семенова, никто в нем не жил. Узнать что-либо у хозяйки Миронов не смог: она была на редкость неразговорчива, под стать Семенову, каким он рисовался в рассказах сослуживцев.
Повидать проводника Миронову не удалось: он был в отъезде и должен был вернуться только через трое суток.
Возвращаясь в управление, Миронов решил навестить в больнице Сергея Савельева.
Савельева, к его удивлению, в палате не оказалось: как сообщила словоохотливая нянечка, он сегодня впервые был выпущен «на волю», гулял в больничном саду. Андрей нашел его на одной из усыпанных пожелтевшими листьями дорожек: опираясь на палку, Сергей ковылял от скамейки к скамейке.
— Ну, как, — радостно вскричал он, завидев Миронова, — как я хожу? Нормально? Вот только палка…
— Ладно, ладно, — потряс ему руку майор. — Ты, брат, молодцом. Глядишь, через неделю-другую и на выписку. А там — на юг, в санаторий. Красота!
Савельев помрачнел, на лбу его обозначились упрямые складки.
— Думал я, Андрей Иванович, об этом самом курорте. Ни к чему все это. Ведь еще несколько дней, и я буду здоров. Мне не лечиться, мне работать надо. Лечением я сыт по самое горло…
— Ну знаешь, Сергей, — возразил Миронов, — врачам виднее… Да и куда тебе торопиться, что за месяц-полтора изменится?
— Андрей Иванович, — укоризненно сказал Савельев, — и вы туда же? А я-то думал, вы поймете. «Месяц-полтора»! Легко сказать! Но за эти полтора месяца с делом Черняева будет кончено… Без меня. Без меня, вы понимаете?! А ведь это первое серьезное дело, в котором я участвовал…
Савельев горестно вздохнул и уселся на скамейку. Миронов задумался: а что, если Сергей прав? Не слишком ли жестоко лишать молодого чекиста права и возможности вернуться к расследованию, участие в котором чуть не стоило ему жизни?
— Ладно, подумаю, — сказал он наконец. — Может, и замолвлю за тебя словечко. Да ты постой, постой, — схватил он за рукав пытавшегося вскочить Сергея. — Не хочешь на курорт, так тут сил набирайся, зря не прыгай. Я ведь тебе пока ничего не обещал: сначала с врачами посоветуюсь, а там, если они будут не против, доложу полковнику.
Из больницы Миронов прошел в управление. Зайдя по дороге за Лугановым, он вместе с ним отправился к Скворецкому.
Кирилл Петрович был полон впечатлений от беседы с Савиным, результатами которой он был, как видно, доволен.
— А не такой уж он плохой парень, — говорил он о Савине, — честный, прямой. Свихнулся, конечно, основательно, запутался, но совесть не утратил. Нет, не утратил. Поможем мы ему сейчас, поддержим — выправится. У него еще все впереди, вся жизнь… — Полковник вздохнул. — Ну, а что насчет Семенова?
Миронов коротко доложил добытые им сведения, оговорившись, что Семенов в отъезде. Вот когда вернется…
— Как только вернется, — перебил Скворецкий, — займемся этим самым Семеновым всерьез.
— Да чем, собственно говоря, он интересен? — задал вопрос Андрей. — Какое отношение имеет к нашему делу?
— Представь себе, имеет, — многозначительно сказал полковник. — Савину удалось проследить за одной встречей Семенова с Войцеховской. Встреча, доложу я вам, прелюбопытная. Есть еще одна деталь… — Скворецкий хитро прищурился и замолк.
— Кирилл Петрович, — первым не выдержал Миронов. — Какая еще там деталь? Не томите!
— Видите ли, рассказывая о своей беседе с Савиным, я упустил из виду одну деталь: Савин мне сообщил, что Семенов, с которым встречалась Войцеховская, что этот Семенов… левша!
— Что?! — Андрей даже подскочил. — Левша!..
— Левша-а? — удивленно произнес Луганов и слегка присвистнул. — Вот это номер!
— Теперь мне ясно, почему этот Семенов вызвал у вас такой интерес, — с облегчением сказал Миронов. — Значит, вы полагаете, что Сережу Савельева…
— До чего же вы все шустрые, — ворчливо перебил Скворецкий, — чуть что, так и выводы готовы. «Полагаете»! Полагать пока рано, но и не принимать во внимание, что нападение на Савельева совершил левша, мы не можем. Заключение-то экспертизы помните?
— Как не помнить, — сказал Луганов.
— Еще бы, — заметил Миронов.
— Теперь так, — продолжал полковник. — Можно ли что-нибудь предпринять, чтобы вынудить Войцеховскую как-то раскрыться, обнаружить свою связь с Черняевым, если таковая была или, по меньшей мере, заинтересованность в его судьбе? Думал я над этим и пришел к выводу, что кое-что в этом направлении сделать можно.
— Например? — спросил Миронов. — Что-то я ничего не вижу.
— Не видишь? Зря. А почему бы нам не пустить в ход самого Черняева?
— Черняева? — удивился Андрей. — Вы шутите! Впрочем… Впрочем… Черт возьми! Кирилл Петрович, это же просто здорово! Обыск?
— Угадал, — улыбнулся Скворецкий. — Именно обыск. По месту работы. В служебном кабинете. Этим мы рассекретим арест Черняева. Теперь можно. Даже нужно. Если Войцеховская была с ним связана, известие об аресте до нее неминуемо дойдет и произведет определенное впечатление. Она вынуждена будет что-то предпринять, а это значит — в какой-то мере открыться. Ну-с, что скажете?
— Меня тут смущает одно, — неуверенно начал Луганов, — как бы не переиграть. Ведь, узнав, что Черняев арестован КГБ, Войцеховская, если она была с ним связана, может такое выкинуть, так оборвать концы, что и не уследишь.
— А при чем тут КГБ? — возразил Скворецкий. — Разве я говорил, что обыск будут производить сотрудники КГБ? Милиция, мой дорогой, милиция. Арест Черняева милицией и впечатление произведет, и не напугает Войцеховскую сверх меры.
Утром следующего дня на строительство, где работал Черняев, нагрянула группа оперативных работников, все в милицейской форме. Потолкавшись в приемной начальника строительства, оперативные работники прошли в кабинет Черняева и провели обыск. В качестве понятых было приглашено несколько сотрудников строительства, которым разъяснили, что обыск производится в отсутствие Черняева, так как тот арестован по месту командировки. Короче говоря, все было сделано так, что весть об аресте Черняева распространилась по всей стройке.
Слухи об этом событии в тот же день поползли по Крайску. Но ни в тот день, ни на следующий Войцеховская ничем себя не проявила. Между тем прошло уже трое суток, и под вечер в Крайск вернулся из своего очередного рейса Иван Петрович Семенов.
С момента возвращения Семенова в Крайск два специально проинструктированных оперативных работника находились постоянно возле него. Действовали они так ловко, так умело, что Семенов и не догадывался об их присутствии. В первый же вечер по возвращении Семенова оперативным работникам потребовалась вся их сноровка, опыт, сообразительность. И не зря! Доклад, который они представили, не на шутку встревожил Скворецкого и Миронова с Лугановым.
Оперативные работники докладывали полковнику, что, придя с вокзала домой, Семенов пробыл там часа два, а затем отправился бродить по городу. Давно уже стемнело (как-никак октябрь!), глухие улочки окраины, едва освещавшиеся редкими фонарями, тонули во мраке. Семенов шел медленно, вразвалку, временами останавливался, оглядывался по сторонам. Сначала казалось, что он направляется к вокзалу, но неожиданно Семенов пошел к центру города. Потолкавшись в шумной толпе, запрудившей центральные улицы, он зашел в магазин «Гастронома».
В магазине в этот вечерний час было полно народу, Семенов ходил от прилавка к прилавку, нигде не задерживаясь, как бы обдумывая, что купить. Наконец, словно решившись, он встал в очередь в гастрономический отдел. Перед ним стояла… Войцеховская. Оперативные работники узнали ее по фотографии, которую им показывал полковник Скворецкий.
Войцеховская не обращала, казалось, никакого внимания на человека, стоявшего у нее за спиной. Постояв минуту-другую, она повернулась к Семенову, что-то ему сказала и, выйдя из очереди, направилась к кассе. Заплатив деньги и получив чек, она вернулась на свое место, впереди Семенова, и вновь перекинулась с ним несколькими словами.
Взяв покупку, Войцеховская не спеша направилась к выходу из магазина. Очутившись на улице, она остановилась и стала закуривать. В этот момент появился Семенов. Выйдя из магазина, он достал папиросу, сунул в рот и оглянулся по сторонам. Заметив Войцеховскую, которой никак не удавалось прикурить от гасших на ветру спичек, Семенов не спеша подошел к ней. Она, любезно улыбнувшись, протянула ему спичечный коробок. Взяв коробок, Семенов левой рукой чиркнул спичкой, ловко прикрыл ее ладонями, дал закурить Войцеховской, закурил сам, и они разошлись.
Могло показаться, что ничего особенного не произошло, но оперативные работники отчетливо видели, что, взяв у Войцеховской коробок спичек и закурив, Семенов опустил этот коробок к себе в карман.
Расставшись с Войцеховской, Семенов несколько раз прошелся по одной из главных улиц, затем завернул на городской телеграф. Вынув из кармана листок бумаги и заглядывая в него, он заполнил телеграфный бланк, сдал его в окошечко, а бумагу порвал на мелкие клочки и бросил в корзину для мусора.
Записку, с которой он списывал текст телеграммы, удалось восстановить. Из нее явствовало, что телеграмма была адресована в Москву, главпочтамт, до востребования, Григорию Макаровичу Макарову, Текст телеграммы был следующий:
СОСТОЯНИЕ ТЕТИ УХУДШИЛОСЬ ТЕМПЕРАТУРА ВТОРОЙ ДЕНЬ ТРИДЦАТЬ ВОСЕМЬ ПУЛЬС ОБЫЧНЫЙ ЖЕЛАТЕЛЕН ПРИЕЗД.
Подписи не было.
Выслушав доклад и внимательно прочитав текст телеграммы, Скворецкий задумался: что могла она означать? Тетя? Какая тетя? У Семенова, как и у Войцеховской, никакой тети в Крайске не было. Кто же подразумевается под «тетей», чье состояние ухудшилось? Может, самой Войцеховской? Не исключено. Но температура? Пульс?
Полковник велел срочно разыскать Миронова и Луганова, а сам связался с генералом Васильевым.
Сообщение Скворецкого заинтересовало генерала самым живейшим образом.
— Насчет адресата, я имею в виду этого самого Макарова, — заверил генерал, — не беспокойтесь. Разыщем. А вот Семенов, Войцеховская… За Семенова и Войцеховскую вы отвечаете. Головой, Что-то они, по-видимому, затевают.
— Да, — со вздохом согласился Скворецкий, — затевать, конечно, затевают. Только что именно? Дорого бы я дал, чтобы знать…
— Ну знаете ли, — усмехнулся в трубку генерал, — если кто по этому вопросу и может дать вам справку, так только Семенов или Войцеховская. Разве что к ним обратиться?
— Смейтесь, смейтесь, Семен Фаддеевич, — возразил Скворецкий, — а Войцеховская меня волнует не на шутку. Да и Семенов тоже… Особенно Войцеховская. Думаю, она этому делу голова, а у нас, по существу, к ней никакого подхода.
— Знаю, — сказал генерал, — знаю. Сам об этом думаю. Может, «вернем» Миронова в Крайск, к Войцеховской? Вы там посоветуйтесь с товарищами, подумайте и позвоните. Договорились?
Закончив разговор, полковник принялся расхаживать по кабинету. Злополучная телеграмма не выходила у него из головы. Температура, что могла означать температура? И коробка. Опять спичечная коробка…
Размышления полковника прервали Миронов и Луганов, явившиеся по его вызову. Быстро введя их в курс дела, Скворецкий предложил:
— Давайте-ка, друзья, подумаем вместе, что нам предпринимать. Может, тебе, Андрей, действительно опять «появиться» в Крайске, как советует Семен Фаддеевич? Что по этому поводу скажешь?
К удивлению Скворецкого, Миронов не отвечал. Казалось, он и не слышал последних слов полковника. Рассеянно вертя в руках листок бумаги, на котором был записан текст телеграммы, Андрей сосредоточенно думал.
— Что? — иронически спросил полковник, обратив внимание на отсутствующий взгляд Миронова. — Чего, красный молодец, пригорюнился?
— Как? — словно очнувшись, спросил Андрей. — Что вы сказали? Ах да. Не «появиться» ли мне опять в Крайске? Постойте. Погодите. Ну да. Конечно! Сегодня у нас какой день? Среда?
— Среда, — подтвердил Скворецкий, с недоумением переглядываясь с Лугановым. — А в чем, собственно говоря, дело? Какую это играет роль?
— Очень большую. Можно сказать, решающую, — отозвался Миронов. — Сегодня — среда. Телеграмма отправлена когда? Вечером? Значит, сегодняшний день не в счет. Завтра — четверг, послезавтра — пятница, второй день, считая с момента отправления телеграммы. А в пятницу в Москву отправляется поезд № 38, в составе которого идет вагон, где проводником Семенов. Это я знаю точно: когда был на вокзале, поинтересовался графиком его поездок. Телеграммой Семенов, очевидно, уведомляет какого-то Макарова, что в пятницу выезжает в Москву и назначает ему встречу. Таков, по-моему, смысл слов «второй день тридцать восемь желателен приезд». Что же касается того места, где речь идет о пульсе — вот оно: «пульс обычный», — то тут, надо полагать, имеются в виду условия встречи — обычные, то есть такие, как и всегда, как и в предыдущие разы.
— А что? — сказал Скворецкий. — Пожалуй, верно. Ай да Андрей, ну и молодец! Прочел-таки телеграмму! Какие же в связи с этим будут предложения?
— Предложения? — пожал плечами Миронов. — Тут, по-моему, все ясно. Пока Семенов не доедет до Москвы, глаз с него спускать нельзя. В Москве встретить. Глядеть за ним вовсю, вплоть до встречи с Макаровым, которому адресована телеграмма. Ну, а затем… Затем действовать по обстановке.
— Так-то оно так, — задумчиво заметил Луганов. — С Семеновым ничего другого не придумаешь, а вот как быть с Войцеховской? Мне сдается, что новое «появление» Андрея Ивановича в Крайске не выход. Рано еще ему «возвращаться» в Крайск. Слишком мало времени прошло после так называемого отъезда Андрея Ивановича. Сами подумайте, ведь получается, что, едва доехав до столицы, этот самый «приятель» Войцеховской тотчас повернул обратно. Ну, почему он вернется, зачем? Везти Анну Казимировну с собой, выполнять ее просьбу? Но ведь этого не сделаешь, так с чем же он приедет? Боюсь, ничего, кроме подозрений, такое «возвращение» у Войцеховской не вызовет. Она ведь далеко не Дура.
— Логично, — заметил полковник и повернулся к Миронову: — А ты что скажешь?
— Думаю, Кирилл Петрович, что Василий Николаевич прав. Надо что-то другое, только вот что?
— Решаем так, — твердо сказал Скворецкий. — Как только Семенов выедет, отрядим с ним в поездку двух самых опытных сотрудников. Наверное, кому-нибудь из вас тоже придется ехать. Там будет видно. Войцеховская… Войцеховская. Попытаюсь-ка я повстречаться с Савиным: может, он чем поможет. Насчет «возвращения» Миронова решать пока не будем. Доложу еще разок генералу, посоветуюсь с ним.
Отпустив Миронова и Луганова, Кирилл Петрович вскоре и сам отправился домой — шел уже седьмой час вечера. Еще в прихожей он услышал продолжительный телефонный звонок.
Полковник снял трубку. Послышался взволнованный, захлебывающийся голос Степана Савина:
— Товарищ полковник, это вы? Савин докладывает. Звоню из автомата. Наша общая знакомая — шпионка. Ее надо арестовать, немедленно. Разрешите…
— Да ты что, рехнулся? — резко оборвал его полковник. — Разве о таких вещах по телефону говорят? Ты откуда звонишь?
— Я?.. Я из автомата, с улицы Фрунзе, — обескураженно сказал Савин.
— С улицы Фрунзе? — переспросил Скворецкий. — Ну, это недалеко. Ты мой домашний адрес знаешь? Нет? Тогда слушай. — Полковник назвал Савину адрес. — Давай быстро сюда, ко мне. И не вздумай дурить. Ясно?
— Вас понял. Лечу, — четко ответил Савин и положил трубку.
Прошли считанные минуты, и в прихожей пронзительно затрещал звонок. «Быстро, — отметил про себя полковник, невольно по дороге в прихожую взглянув на часы. — Не иначе, всю дорогу бегом бежал».
На пороге, едва переводя дух, стоял Степан Савин в полурасстегнутой шинели, с фуражкой, чуть сбитой на затылок.
— Входи, раздевайся, — пригласил его Скворецкий. — Ну, выкладывай, что у тебя стряслось?
Савин заговорил, не садясь на место, спеша, захлебываясь, глотая слова:
— Товарищ полковник… Войцеховская. Докладываю, она — шпионка, враг… Она… решила бежать… за границу…
— Так не пойдет, — укоризненно сказал полковник. — Прежде всего сядь, успокойся, а потом рассказывай толком, по порядку. Что, Войцеховская, что ли, сегодня, сию минуту бежит? Ты ей, ненароком, не сказал, что арестовать ее собираешься? — Полковник усмехнулся.
— Нет, — все так же задыхаясь, продолжал Степан. — Нет, что вы!.. Ничего такого я ей не говорил и виду не подал. А бежать… бежать она думает не сегодня, но скоро… Через неделю… может, еще скорей…
— Ах вот что, — с облегчением вздохнул полковник. — Садись же! — прикрикнул он на Савина и силой усадил его в кресло. — Знаешь что? Ты сначала приди в себя, опомнись, а потом и расскажешь.
Полковник сел за стол, заваленный книгами, журналами, рукописями, и, судя по его виду, можно было подумать, что он углубился в чтение.
Наконец Кирилл Петрович оторвался от статьи, которую читал, и жестом дал понять Савину, что готов его слушать. Степан, успевший полностью прийти в себя, приступил к рассказу. Говорил он сейчас куда спокойнее и вразумительнее, чем в тот момент, когда появился у полковника.
В этот вечер, рассказывал он, нежданно-негаданно к нему явилась Войцеховская, вообще-то не очень баловавшая его своими визитами. За все время их знакомства она заходила к Савину один-два раза, не больше. На этот раз она была необычайно мила, любезна. Могло показаться, что никакой истории в «Дарьяле» вовсе и не было. В свою очередь, и Степан, памятуя наказ полковника, вел себя как ни в чем не бывало.
Пригласив Степана пройтись: погода, мол, хорошая — а какая она хорошая? — на улице ветер, слякоть, нелетная, одним словом, погода, — Анна Казимировна увлекла его к себе домой, где сразу приступила к делу. Дело же оказалось таким, что у него, Степана, до сих пор мороз по коже подирает…
Войцеховская начала с того, что рассказала Степану одну историю, случившуюся с ней несколько лет назад. В тот год Анна Казимировна, по ее словам, отдыхала в Латвии, невдалеке от приморского городка Вентспилс. Там, в окрестностях Вентспилса, живет один рыбак, человек пожилой, степенный. Анне Казимировне о нем рассказывали, да она и сама его как-то видела: ходили на его боте компанией в море, рыбачили…
Так вот, со слов одного приятеля, сблизившегося со стариком, она знает, что этот рыбак не гнушается промышлять контрабандой, ходит на своем быстроходном ботике не только в такие места, куда положено… Ну, еще кое-что посерьезнее она о нем знает. Одним словом, он — тот самый человек, который и нужен сейчас ей и Савину…
Тут же Войцеховская предложила Савину съездить к этому рыбаку и установить с ним отношения. На недоуменный вопрос Степана, зачем это ей понадобилось, она резко спросила:
— А ты не понимаешь, не догадываешься?
Степан опешил. Таким тоном Анна Казимировна с ним никогда не разговаривала. Скажи ему кто другой, что она способна так говорить, он бы ни за что не поверил.
Увидев, что Степан растерялся, Войцеховская вдруг круто изменила тон: заговорила нежно, ласково, просительно. Можно было подумать, что она заботится о его, Степана, судьбе.
— Что ты здесь, в Крайске, в этой стране? — спрашивала Анна Казимировна. — Ничто! Жизнь твоя тут кончена, разбита. Выгнан, опозорен. Да и историю с самолетом помнишь? Тебе эту историю не простят. Нет, нет, не спорь, надеяться не на что — не простят. Что ж тебя ждет, что впереди? Ну, посуди сам, кому ты такой нужен? В чернорабочие пойдешь? Фи! А ведь ты молод, талантлив. Ты много знаешь. Степочка, уедем отсюда. Туда, на Запад… Там каждого ценят по его таланту, способностям. Там — твое будущее. Признаться, я тоже здесь не могу, не могу больше. Я задыхаюсь. А там… там мы будем счастливы. Вместе… Всегда вместе…
Степан был настолько ошарашен, настолько растерян, что беспомощно пролепетал:
— Вы… вы о чем, Анна Казимировна? Как это — уедем? Куда?
— Глу-у-пый, — нежно проворковала Войцеховская, — до сих пор не понял?
Она начала разъяснять Степану, что, раздумывая последние дни над его судьбой (она же его любит. Он и не догадывался?), над своей безрадостной долей рядовой учительницы, пришла к выводу, что самым лучшим для них обоих было бы уехать на Запад: в Швецию или Финляндию, а там во Францию, в Германию (Западную, конечно), в Америку, куда угодно, лишь бы подальше отсюда, от этой опостылевшей страны, где жизнь так неласково обошлась с ними обоими.
Укрепившись в этих мыслях, она и подумала о рыбаке, о его темных делах, которые ей известны. Вот кто поможет осуществить их планы, перебраться на Запад…
«Их планы»! Только сейчас до Степана окончательно дошел страшный смысл ее слов. Забыв все на свете, забыв строгое предупреждение полковника, Степан не выдержал. Он накричал на Войцеховскую, грубо обругал ее, но та — хоть бы что! С мрачной улыбкой она смотрела на Степана, ожидая, когда он замолчит. Степан осекся.
— Дур-рак! — презрительно бросила Войцеховская. — Болван. Не хочешь по-хорошему, я поговорю с тобой иначе. Думаешь, буду умолять, в ножки кланяться? Как бы не так! Не дождешься! Да знаешь ли ты, голубчик, что, если здесь останешься, так твоя песенка спета? Что, не понимаешь? Сейчас поймешь. Да будет тебе известно, что кое-кому там, где нужно, известно во всех деталях, как ты намеревался поднять в воздух сверхскоростную боевую машину и угнать ее за границу. Помешала тебе выполнить твое изменническое намерение чистая случайность. Что? Такого намерения у тебя не было? Смешно! Интересно, как ты будешь это доказывать господам чекистам, когда они получат соответствующий материал и тряхнут тебя как следует? Самолет-то ты поднять пытался, никуда не денешься, не отвертишься…
Савин, слушая Войцеховскую, подавленно молчал, Трудно сказать, как бы он поступил, если бы не вспомнил в эту минуту полковника, свое ему обещание. Вернее всего, схватил бы Войцеховскую, поволок бы ее в милицию, куда угодно, где она получила бы по заслугам. Но теперь так поступить, поддаться первому порыву он не мог, Теперь между ним и этой женщиной стоял полковник Скворецкий, и Савин сдержался. Больше того, думая о полковнике, о его указаниях, Степан мгновенно оценил обстановку и понял, что Войцеховская не должна его ни в чем заподозрить, должна сохранить уверенность, что он, Степан Савин, послушное орудие в ее руках.
«Орудие!» — выразился тогда полковник. О, полковник и сам не знал, насколько был прав. А может, знал? Впрочем, сейчас не до рассуждений. Сейчас надо играть свою роль, играть до конца, чего бы это ни стоило.
Взглянув на Войцеховскую, Савин криво улыбнулся.
— Что ж, Анна Казимировна, ваша взяла! Мне податься действительно некуда.
Войцеховская смотрела на него с презрительной, торжествующей усмешкой. Выдержав минутную паузу, она заговорила. Теперь она говорила резко, лаконично, повелительно, как начальник говорит с подчиненным, хозяин со слугой. Она предложила Савину завтра же выехать в Латвию, в Вентспилс, и договориться с рыбаком (адрес которого она даст, он у нее имеется) о переброске их обоих через море, в сопредельную державу. Перед отъездом, сказала Войцеховская, она даст Савину крупную сумму денег, которую тот должен будет вручить рыбаку: не будет же тот даром браться за такое дело.
Да, кстати, добавила Анна Казимировна, пусть Савин предупредит рыбака, что это всего лишь аванс: как только они ступят на нужный им берег, будет заплачено больше, и не в каких-то там рублях, а в долларах. В долларах!
Что? Какова будет сумма и откуда у нее такие средства? Сумму Степан узнает тогда, когда она сочтет нужным ему это сообщить, а что до остального, так у нее нет никакого желания отвечать на идиотские вопросы. А теперь… теперь Савин может идти, он ей пока больше не нужен. Вот деньги на самолет до Риги и на путевые расходы, Завтра утром, с билетом в кармане, пусть явится к ней за авансом для рыбака.
Войцеховская указала Савину на дверь, Когда Степан, напоминавший своим видом побитую собаку (да, да, именно так он выглядел! Разве это плохо?), направился к выходу, она внезапно его остановила.
— Да, вот еще что, — сказала она брезгливо. — Смотри не вздумай валять дурака. Имей в виду, в случае чего, никакого разговора у нас не было. Ничего не было. Пьяный бред бывшего летчика, выгнанного из армии, отвергнутого женщиной, взаимности которой он тщетно добивался. А вот насчет самолета… насчет самолета тут же станет известно. Кому следует…
Вот, собственно говоря, и вся история.
Савин сидел на диване, судорожно сцепив пальцы. Лицо его было перекошено ненавистью. Подумать только: он, Степан Савин, комсомолец, сын большевика, потерял было голову из-за этой гадины. Влюбился! В кого? В кого? Ну, разве он неправ, говоря, что Войцеховскую надо арестовать, арестовать сейчас же? Немедленно. Разве он неправ?
Скворецкий молча смотрел на Степана, любуясь его яростью. «Что, — думал он, — голубчики, не вышло? Сорвалось? И не выйдет! Да, вы можете вскружить голову молодому парню, можете сбить его с пути, исковеркать ему жизнь. Бывает. Порой получается. Но повернуть нашего советского человека против партии, против советской власти, против своего народа — шалишь! Обожжетесь!»
Молчал Скворецкий, молчал и Савин, ожидая решения полковника. Наконец Скворецкий встал, прошелся раз-другой по комнате и, остановившись против Степана, сказал:
— Молодец, Степан, не подкачал. Ну, а насчет ареста… Арестовывать Войцеховскую мы не будем… — Полковник сделал паузу. — Пока…
— Как так? — ужаснулся Степан. — Она же шпионка! Как можно оставлять ее на свободе? Или… — Савин внезапно поник. — Или… Вы мне не верите, товарищ полковник? Сомневаетесь?
— Да ты что, дурак ты этакий, как ты мог такое подумать? — от души возмутился Скворецкий. — Но ты пойми, одной моей веры мало и мало одного твоего заявления. Арест человека — дело серьезное. Чтобы пойти на арест, нужны доказательства виновности и доказательства бесспорные, а у нас — что? Что мы имеем, кроме твоего заявления, сколько бы я ему ни верил? Ничего. И ты хочешь, чтобы, поверив тебе на слово, я пошел на такой серьезный и ответственный шаг, как арест? Да кто мне дал такое право? Полно, Степан, В какое время ты живешь? Подумай и о другом — допустим, ты прав: арестуем мы Войцеховскую. А она возьмет и заявит, что ты наговорил на нее. Из ревности, из мести. Назовет десяток свидетелей, которые знают историю твоих за ней ухаживаний, но не знают того, что известно нам с тобой. Свидетели, конечно, подтвердят ее слова и не подтвердят ничего из того, что рассказываешь ты. Факты окажутся против тебя, против нас. Понял? Нет, братец, Войцеховскую голыми руками не возьмешь. Она не глупа. Судя по всему, это крупный зверь. Такого нужно брать с поличным, на месте преступления. Да, лучше всего на месте преступления…
Задумавшись, полковник умолк и вновь принялся расхаживать по комнате. Затем, придя, по-видимому, к какому-то решению, подошел к Савину, опустился рядом с ним на диван:
— Вот что, Степан, в Ригу тебе ехать придется… И в Ригу, и в Вентспилс… Да, да, придется. Пусть Войцеховская действует, как намеревалась. Понял? Мешать ей не будем… до поры до времени. Впрочем, от окончательного решения сейчас воздержимся: дело серьезное, надо доложить Москве. Сделаем таким образом: завтра, как возьмешь билет на самолет и повидаешься с Войцеховской, звони мне. Встретимся. Вот тогда все и решим окончательно.
— Зачем звонить, товарищ полковник? Прямо от нее я приду к вам, в управление.
— Нет, нельзя. Вдруг да за тобой будут следить. Тут, брат, дело тонкое, всякое может случиться. Сделаем так: как освободишься, ты мне позвони, а встретимся… встретимся… Ты где теперь завтракаешь, обедаешь?
Савин смутился:
— Да так, где придется. Когда в кафе, когда в ресторане, а то и дома, всухомятку…
— В каком кафе? — спросил Скворецкий.
— В разных. Чаще в том, что на углу Лермонтовской и Центрального проспекта.
— А, это такое, в полуподвале?
— Точно, — кивнул Савин.
— Вот и хорошо, — сказал полковник, — в этом кафе и встретимся. Только уговор: ухо держи востро, задача тебе предстоит не из легких…
Глава 24
Утром следующего дня, когда полковник приехал в управление, его ожидал приятный сюрприз: в приемной, скромно примостившись на краешке стула, сидел Савельев.
— Ты как сюда попал? — напуская на себя суровый вид, спросил Скворецкий. — Почему не в больнице?
— Разрешите доложить, — срывающимся от волнения голосом ответил Савельев, поспешно вставая. — Выписали. Сегодня утром. Готов приступить к исполнению своих обязанностей…
— Ишь ты какой быстрый! «Приступить»! А долечиваться кто будет? А на курорт? Я тебе что говорил? Нет, на юг, в санаторий. Немедленно в санаторий.
Кирилл Петрович говорил строго, сурово, но в морщинках возле его глаз таилась добродушная, лукавая усмешка. Савельев это заметил.
— Товарищ полковник, — сказал он, храбрясь, — я здоров, совершенно здоров. На курорт можно и после, когда… когда закончится дело Черняева.
— Вот оно что! — сдвинул брови Скворецкий. — Что же это получается, а? Выходит, вы с майором Мироновым за моей спиной договариваетесь: куда он, туда и ты? «Савельеву, мол, нельзя отдыхать, пока не кончено с делом Черняева»! — передразнил кого-то, по-видимому Миронова, полковник.
Савельев молча переминался с ноги на ногу.
— Ладно, — сказал полковник. — Садись. Сиди тут, жди. Майора Миронова ко мне, — приказал он секретарю, — а заодно и Луганова. Быстро!
Через несколько минут Миронов и Луганов были у полковника. Увидев Сергея, Миронов на ходу дружески кивнул ему и ободряюще подмигнул: держись, мол, брат. Страшен черт, да милостив бог!
Кирилл Петрович заканчивал разговор по прямому проводу с Москвой, с генералом Васильевым. Из отрывистых фраз полковника — «Никак нет, Семен Фаддеевич, он парень смелый, не растеряется»… «Слушаю, пошлем вдвоем»… «Да, с Ригой свяжусь тотчас»… — они поняли, что за последние часы произошло нечто новое, что-то такое, чего они еще не знали.
Закончив разговор, полковник положил трубку. Было заметно, что он чем-то взволнован. Однако прежде чем посвятить Миронова и Луганова в суть дела, рассказать о событиях минувшей ночи, Скворецкий заговорил о Савельеве.
— Так как же, Андрей, — спросил он Миронова, — что с твоим протеже будем делать? Ты с врачами говорил?
— Говорил, Кирилл Петрович. Врачи согласны, чтобы он приступил к работе, но при двух условиях. Первое — чтобы на протяжении недели-полутора работа не была связана со значительной физической и, главное, нервной нагрузкой. Второе — через месяц-два Сергея все-таки надо будет послать на курорт: долечиваться. Говоря по совести, эти требования меня смутили, особенно первое: ну какое ему подобрать дело, не требующее нервов? В нашей профессии такое вряд ли найдешь.
— То-то, «смутили». А он, Савельев, уже здесь. В приемной сидит.
— Видел, — вздохнул Миронов. — И физиономию его видел. Надо полагать, вы на него изрядный ушат холодной воды опрокинули.
— Ушат ушатом, — улыбнулся полковник, — а работенку я ему присмотрел: и тебе нужная и важная, и вроде курорта — сиди себе посиживай и поджидай у моря погоды. Вот именно — у моря. В прямом смысле этого слова.
Не ожидая расспросов, Скворецкий подробно рассказал о событиях минувшей ночи, об указаниях, которые получил от генерала Васильева.
— Обратите внимание, как похожа беседа, что вела Войцеховская с Савиным, на ту, которую, судя по словам Черняева, вела с ним Корнильева. Любопытно, а? Прямо один почерк. Впрочем, у этой шатии почерки не всегда разнятся. Решено, — продолжал Скворецкий, — послать Савина в Вентспилс, к рыбаку. Пусть договаривается, как того требует Войцеховская. Что произойдет дальше, вы оба, конечно, догадываетесь. Но Савину надо дать хорошего напарника, смелого и инициативного чекиста, с которым до поры до времени он будет действовать вдвоем. Пошлем Савельева — он там будет на месте: сиди и жди. И для работы нужно, и сам окончательно окрепнет.
— Судя по тому, с каким лицом сидит Савельев в приемной, — заметил Андрей, — ему эта командировка не очень по душе.
— Не по душе? — расхохотался Скворецкий. — Да он и понятия ни о чем не имеет. Пригласи-ка, кстати, его сюда.
Как только Савельев вошел и робко уселся, полковник спросил:
— Итак, насколько я понял, ты считаешь, что более или менее подремонтировался и способен вернуться к работе?
— Так точно, товарищ полковник. К работе могу приступить хоть сегодня…
— Сегодня? Именно это и требуется. Видишь ли, как раз сегодня мы начинаем одну операцию, связанную с делом Черняева. Прямо скажу, операция сложная, не без риска, связанная с отъездом из Крайска. Как, хватит силенок? Выдержишь?
— Выдержу, товарищ полковник! — восторженно воскликнул Сергей. — Не беспокойтесь. Готов ехать хоть сейчас, хоть сию же минуту.
— Ну, сию-то еще не сию, но сегодня. Поедешь в Латвию. Есть там такой город — Вентспилс, вот туда и поедешь. Ехать придется вдвоем, вместе с одним военным. Летчиком. Савин его фамилия. Степан Сергеевич Савин. Он мне должен с минуты на минуту позвонить. Как позвонит, так мы с тобой с ним встретимся, тогда и обсудим, что да как. Вопросы будут?
— Никак нет, товарищ полковник. Все ясно.
— А коли ясно, так иди оформляй командировку и жди моего сигнала.
Савельев, с лица которого не сходила счастливая улыбка, поспешил выйти из кабинета: вдруг полковник передумает, изменит свое решение, пошлет его на курорт?
Проводив его взглядом, Кирилл Петрович повернулся к Миронову и Луганову:
— Как, друзья, не подведет нас молодежь — Савин с Савельевым? Не наломают там дров?
— Конечно, нет, — Заверил его Миронов. — Первый этап операции Савельеву поручить можно. Вполне. Справится. И за Савиным поглядит. Оно не лишнее. Когда же дело подойдет к самому, так сказать, кульминационному моменту, к развязке, тогда их двоих будет мало. Тут уж надо будет ехать или Василию Николаевичу, или мне.
— Операцию, конечно, будет проводить один из вас, а то и оба вместе, — заметил Скворецкий. — Теперь насчет Макарова, которому была адресована телеграмма, та, что Семенов отправил. Личность его, как сообщил генерал, выяснили. Личность, скажем прямо, заурядная. Грехов за этим Макаровым вроде бы никаких нет. Если что и любопытно, так это род его занятий: продавец комиссионного магазина. Семен Фаддеевич высказал предположение, что этот Макаров может служить просто посредником, своего рода связным.
— Что касается тебя, — повернулся полковник к Андрею, — так есть указание: направить тебя в Москву. Там отыскался какой-то полковник в отставке, старинный друг Черняева. Генерал считает, что беседовать с ним должен ты, никто другой. Я думаю, что сейчас мы без тебя обойдемся. Так что, если нет возражений, собирайся в дорогу.
Только Миронов решил что-то сказать, как раздался телефонный звонок:
— Да… Да, я… Так… Да, конечно, как условились. Буду… — полковник посмотрел на часы, — ровно через тридцать минут. Занимай столик и жди…
Он не спеша положил трубку на рычаг.
— Ну вот, — сказал он с удовлетворением. — Савин звонил. У него все в порядке: билет в Ригу купил, у Войцеховской был. Получил аванс для рыбака и соответствующее напутствие. Сейчас поеду — узнаю подробности. Где Савельев? Тащите его сюда. Если ко мне вопросов нет, задерживать не буду. Да, с тобой, Андрей, вряд ли увидимся, так что давай руку и смотри там, в Москве, не задерживайся.
В Москву Андрей уезжал со спокойной душой: в делах наступило нечто вроде затишья. Правда, Андрей был глубоко убежден, что затишье это было кратковременным, предгрозовым. Да, гроза вот-вот должна была разразиться, но где? В Крайске? В Москве? Завтра Семенов выезжает в Москву, где, если Миронов был прав, состоится встреча, которая на многое может пролить свет. Хорошо, что в день приезда Семенова в Москву Миронов будет там, на месте.
Но Семеновым дело не кончалось. А Войцеховская? Со дня на день и она должна была тронуться, покинуть Крайск. А уж как только она отправится в свое путешествие, зевать не придется. Да, окончательно решил Андрей, если сейчас и затишье, так перед бурей. Вот только Черняев… Насчет Черняева перемен пока не предвиделось. Капитон Илларионович сидел по-прежнему в психиатрической больнице и лаял по-собачьи. Надежды на скорое возвращение человеческой речи, судя по всему, было мало. Не спешила с выводами и судебно-психиатрическая экспертиза. Как узнал стороной Миронов, настроение у экспертов было не из обнадеживающих: судя по предварительным данным, болезнь Черняева была тяжелой, затяжной…
Не было ничего нового и о брате Корнильевой, Георгии Николаевиче. Он все еще бродил где-то в горах и в Алма-Ате не появлялся.
Таков был итог, который подвели Миронов и Луганов перед отъездом Андрея в Москву.
Миронов на этот раз летел самолетом: время было дорого.
Сразу по прибытии в Москву, прямо с аэродрома, он поехал в Комитет. Как он и ожидал, материал для него был уже подготовлен. Миронову вручили справку, в которой значилось, что полковник Николай Григорьевич Шумилов, пятидесяти трех лет от роду, вышедший год назад по состоянию здоровья в отставку, на пенсию (сказались последствия тяжелых фронтовых ранений), проживает постоянно под Москвой, на даче. Адрес дачи в справке указывался. Указывалось также, что в прошлом, еще до войны, полковник окончил военно-инженерную академию, по специальности — строитель. Как гласила справка. Шумилов в годы учебы в академии был однокурсником Черняева.
Ознакомившись со справкой, Миронов решил немедленно отправиться на поиски Шумилова.
До дачного поселка, где жил Шумилов, Андрей добрался электричкой. Дача, которую он легко нашел, была небольшой, одноэтажной, с просторной застекленной верандой. Небольшим был и участок, примыкавший к даче, огороженный низким штакетником.
На участке росло несколько плодовых деревьев, виднелись кусты крыжовника, малины, смородины. Сад, как с первого взгляда определил Миронов, был хорошо ухожен: деревья и кусты умело подрезаны, ягодные кусты старательно окучены.
Калитка оказалась незапертой, звонка не было, и Андрею ничего другого не оставалось, как идти прямо к даче. Поднявшись на невысокое крыльцо, он постучал в дверь, обшитую дерматином. Дверь распахнулась. Перед Мироновым стоял невысокий, коренастый человек, с сухим, нездоровой желтизны лицом. Взгляд его был пытлив и в то же время доброжелателен.
— Простите, — сказал Миронов, — мне нужен Шумилов. Николай Григорьевич Шумилов. Полковник в отставке. Не вы ли, случайно, будете?
— Угадали, — пронзительным тенорком отозвался тот. — Я самый и буду Шумилов. Милости прошу.
Полковник провел Миронова в небольшую, скромно обставленную комнату, служившую, судя по всему, столовой. Предложив гостю сесть и усевшись в плетеное кресло, полковник вопросительно посмотрел на Андрея.
— Прежде всего позвольте представиться, — начал Андрей. — Фамилия моя Миронов. Я — сотрудник Комитета государственной безопасности при Совете Министров СССР. Вот мое удостоверение.
Полковник взял удостоверение, внимательно просмотрел его и вернул.
— Слушаю вас, чем могу быть полезен?
— Видите ли, — начал Миронов, — насколько нам известно, вы были в свое время знакомы с Капитоном Илларионовичем Черняевым. Не могли бы вы сообщить о нем некоторые сведения?
— С Капитоном Черняевым? — повторил Шумилов. — Да, я был с ним знаком. Капитон был моим другом.
Полковник горестно вздохнул.
— Простите, вы сказали «был»? — спросил Миронов. — А что же с ним сталось?
Шумилов задумался.
— Представьте себе, — сказал он наконец, — на этот вопрос мне трудно ответить. Это вас удивляет? Понимаете, тут какая-то путаница. Капитон, я имею в виду Черняева, вроде бы погиб в начале войны. Такие дошли до меня вести. Года два-три я о нем ничего не слышал и считал, что его нет в живых. Потом, уже война кончилась, узнаю, что есть среди военных строителей Черняев, работает где-то у черта на куличках. Навел справки: говорят, Капитон Илларионович. Что, думаю, за ерундовина такая? Жив, выходит, Капитон. Но почему молчит? Узнал я адрес, написал: ни ответа, ни привета. Вот я и думаю: может, это вовсе и не он, может, совпадение? Хотя имя-то и отчество редкое. Так ничего толком и не знаю.
— Ну, а о том, вашем Черняеве, что бы вы могли сказать?
— О! О нем многое можно сказать. Хороший был парень, порядочный, настоящий коммунист. И инженер толковый.
Шумилов с охотой принялся перечислять достоинства своего прежнего друга, рассказывать различные эпизоды из прошлого.
— Скажите, — спросил Андрей, когда полковник закончил свой рассказ, — из родственников Черняева, его близких вы никого не знали?
— Нет, — сказал полковник, — никого. Да у Черняева, по-моему, и родственников-то не было. Была, правда, одна девушка, Машей звали. Капитон был с ней близок, жениться хотел. Война помешала. А она… она считала его погибшим. Ну, а что в таких случаях бывает — сами знаете. Вот я Машу с той поры и не встречал.
— Маша? — переспросил Миронов. — Этого маловато. Фамилию ее не скажете?
— Почему не сказать? И фамилию скажу, и адресок. Помню, где-то записывал. Сейчас поищу.
Шумилов вышел из комнаты и несколько минут спустя вернулся со старой, истертой записной книжкой.
— Вот, пожалуйста: Мария Михайловна Воронцова. Жила она раньше на Большой Ордынке, в Замоскворечье, невдалеке от Третьяковской галереи. Видите? Вон он, адрес. Только живет ли там сейчас — не скажу, не знаю.
— Еще один вопрос, если разрешите. Среди лиц, изображенных на этих фотографиях, нет никого, кто был бы вам знаком? — Андрей протянул Шумилову несколько фотографий, между которыми находилась и фотография Черняева.
Взяв фотографии, полковник принялся внимательно их рассматривать, откладывая одну за другой в сторону.
— Нет, — говорил он, — этого я не знаю. Ни этого. И ни этого…
Очередь дошла до фотографии, на которой был изображен Черняев. Шумилов задержал ее в руках дольше, нежели предыдущие. Андрей внимательно наблюдал за выражением его лица. Еще раньше, вскоре после ареста Черняева, во время первых допросов, у Андрея мелькнула мысль: а тот ли это человек, за которого он себя выдает? Но, как он сам понимал, основания для такого предположения были весьма шаткими, поэтому Миронов ни с кем своими предположениями не поделился. Теперь же, в ходе беседы с Шумиловым, мысль эта шевельнулась вновь: а что, если Черняев — не Черняев?
Но вот Шумилов, глубоко вздохнув, отложил фотографию в сторону, к уже просмотренным. Что же? Не опознал Черняева? Значит… Значит, это не Черняев? А Шумилов, словно испытывая терпение Андрея, с минуту молча пожевал губами, затем снова потянулся к злополучному снимку.
— Знаете, — сказал он, и в голосе его послышалось колебание, — это, пожалуй, Капитон Черняев. Я не ошибся?
Андрей с облегчением вздохнул. Нет, ошибки не было. Черняев — это Черняев. Но решать — решает пусть сам Шумилов, подсказывать нельзя.
— Вы извините, Николай Григорьевич, — улыбнулся Андрей, — но я вам не советчик. Это у нас не принято. Вы уж лучше сами разберитесь…
— Да, — уже увереннее сказал Шумилов. — Это Черняев. Но как изменился!
Он подержал фотографию еще мгновение и с новым вздохом отложил в сторону, взявшись за другие, еще не просмотренные. Перебрав их по очереди и не найдя никого, кто был бы ему известен, Шумилов вновь вернулся к фотографии, на которой был изображен Черняев. Пристально следя за выражением лица полковника, Миронов чувствовал, как улегшееся было волнение охватывает его с новой силой. Полковник опять принялся изучать фотографию Черняева, то приближая ее к глазам, то отдаляя.
— Нет, — внезапно сказал он, кладя фотографию на стол. — Боюсь, я ошибся. Похож, чертовски похож, и все же, думаю, это не Черняев. Овал лица вроде бы его, но глаза, рот… Нет, не он.
— Николай Григорьевич, — укоризненно сказал Миронов, — нельзя ли все же как-нибудь более определенно: кто это — Черняев? Не Черняев?
— А определеннее я вам, батенька, не скажу, увольте! — неожиданно рассердился полковник. — Может, Капитон, а может, и нет. С годами люди меняются…
Отлично понимая, что больше Шумилов не скажет ничего, не может сказать, что неправильным было бы требовать определенности там, где ее нет, Миронов распрощался с полковником.
Вернувшись в Москву, Андрей прямо с вокзала отправился на Большую Ордынку по адресу, который дал Шумилов. А вдруг Мария Михайловна Воронцова, думал он, живет там, где жила и раньше?
День этот, должен был признать Миронов, выдался для него везучим: Воронцову он застал дома, как прежде Шумилова. Миронова она приняла любезно, но на вопросы его отвечала сдержанно, не желая, как решил Андрей, ворошить старое, прожитое и пережитое.
Да, говорила Воронцова, Черняева она знала. Знала близко. Хороший был человек.
Почему «был»? Потому что, как она полагает, его давно нет в живых. Несколько неопределенно она говорит потому, что неопределенным было известие о его гибели. Черняев числился пропавшим без вести. Потом… потом встретился другой человек… Они поженились. Естественно, Черняева она больше не искала. Правда, у нее однажды о Черняеве спрашивали, но ничего толком она сказать не могла.
Как? Кто спрашивал? Один военный. Майор. Говорил, что был вместе с Капитаном в окружении. Интересовался его родственниками, друзьями.
Занятно, между прочим, сам этот майор был похож на Капитона. Не очень, если внимательно приглядеться, но похож.
Не знает ли она кого-нибудь из тех, кто изображен на этих фотографиях? Как же, знает. Вот он, майор, который приходил наводить справки о Черняеве. Он самый.
Воронцова уверенно указала на фотографию… инженер-подполковника Черняева Капитона Илларионовича.
— Вы… — откашлялся Миронов. — Вы не ошиблись? Это действительно тот самый майор, который интересовался Черняевым?
— Что вы, — улыбнулась Воронцова, — как я могу ошибиться? Я же вам говорила, что этот майор чем-то напоминал Капитона Илларионовича, как же я могла его не запомнить? Он, ручаюсь вам, он. Можете не сомневаться.
Да, теперь сомневаться было нечего: Черняев и вправду оказался не Черняевым. Мало того, этот Черняев, прежде чем вступить в роль Черняева, ходил и собирал сведения о нем, о его родственниках, близких, знакомых…
Извинившись перед Воронцовой, что отнял у нее столько времени, Миронов поспешил в Комитет.
Генерала Васильева на месте не оказалось: день за разъездами пролетел незаметно, стоял вечер. Приходилось ждать завтрашнего дня…
На следующее утро, едва генерал Васильев появился в своем кабинете, Миронов прошел к нему. Поздоровавшись с Андреем, которого после его приезда из Крайска генерал еще не видел, Семен Фаддеевич спросил:
— Судя по выражению вашего лица, произошло нечто из ряда вон выходящее, не так ли?
— Так точно, Семен Фаддеевич, — не без волнения сказал Миронов.
— Ну что же, докладывайте.
— В Москву я прибыл вчера, — начал Миронов, — заехал в Комитет и, получив адрес полковника в отставке Николая Григорьевича Шумилова, отправился к нему. Шумилов живет под Москвой, на даче. Полковник Шумилов дружил с Черняевым еще…
— Знаю, — перебил генерал. — Справку на Шумилова я видел. Так что же интересного он вам сообщил?
— Шумилов сообщил мне о бывшей невесте Черняева, некой Воронцовой. Я побывал и у нее. Шумилову и Воронцовой я предъявил среди других фотографию Черняева. Они…
— И они Черняева не опознали. Так?
— Семен Фаддеевич, — изумился Миронов, — откуда вы знаете?
— Ладно, ладно, об этом потом, докладывайте поподробнее, что произошло у Шумилова, у Воронцовой. Подробнее — важны детали.
Слово за словом Миронов воспроизвел весь разговор сначала с Шумиловым, затем с Воронцовой. Закончив рассказ, Андрей вновь спросил:
— Семен Фаддеевич, скажите все-таки, как вы могли знать, что Черняева не опознают, что Черняев — не Черняев?
— Ну, знать-то я этого не знал, но не исключал такой возможности. Когда же сейчас вы явились ко мне в таком взволнованном состоянии, то, зная, где вы были вчера, мне нетрудно было понять, что мое предположение подтвердилось. Как видите, все очень просто.
— Да, просто! — воскликнул Миронов. — Но как, откуда вы могли догадаться, что Черняев — не Черняев? Каким образом?
— И тут нет никакого чуда, — спокойно ответил генерал. — Собственно говоря, эту мысль подсказал мне не кто иной, как вы сами.
— Я? — воскликнул Миронов. — Я? Что вы, Семен Фаддеевич? Я вам этого не говорил. Правда, одно время у меня такая мысль мелькнула, но, теперь каюсь, даже с вами я ею не поделился. Думал, бред.
— И зря так думали. А поделиться, хотели вы этого или не хотели, кое-чем все же поделились. Вспомните, как вы докладывали о первых допросах Черняева: советский офицер, коммунист, а ведет себя как-то странно, не похоже на коммуниста: «я», «мое», «мне», «я приговорил», «я привел приговор в исполнение». Помнится, вы тогда говорили, что поведение Черняева никак не вяжется с тем жизненным путем, который он прошел. Был такой разговор?
— Был, — ответил Миронов. — Но почему же вы сразу ничего не сказали?
— А вы? — усмехнулся генерал. — Вы же толком тоже ничего не сказали. У меня возникло лишь предположение, которое нуждалось в проверке. Ну, а что дала проверка, сами видите.
— Ага! — воскликнул Миронов. — Теперь ясно. Вот оно, значит, почему вы так настойчиво требовали, чтобы были разысканы прежние друзья Черняева, его близкие, чтобы я лично с ними побеседовал!
— Может, и так, — вновь улыбнулся генерал. — Дело, однако, сейчас не в этом. Важно другое: так и так о прежних знакомствах Черняева мы вспомнили с опозданием, упустили немало времени, а это промах, большой промах.
— Да-а, — уныло протянул Миронов. — Времени упущено немало. А теперь?.. Теперь начинай все сначала. В который уже раз. Черняев — не Черняев! Подумать только! Кто же он такой, будь он неладен?
Глава 25
Поездки в Москву для Ивана Петровича Семенова были делом привычным. Вагон, в котором он нес свою нехитрую, хотя и хлопотливую службу, постоянно включали в состав московского поезда. Однако на этот раз Семенов уезжал из Крайска в несколько необычном состоянии духа — он был встревожен, нервничал. Причиной тому было последнее свидание с «Ферзем» (под этой кличкой Семенов знал Войцеховскую, ничего, кроме клички, ему известно о ней не было).
Это свидание вызывало тревогу, настораживало. Ферзь определенно волновалась. Правда, она пыталась скрыть от Семенова свою нервозность, но он — стреляный воробей, его на мякине не проведешь.
Что же, однако, могло произойти? Что вывело Ферзя из равновесия, напугало ее? Она, как видно, что-то почуяла, вот и всполошилась. Ну, а он, Семенов, что будет с ним? Его по боку, пусть выкручивается сам как хочет? Что ж, в той игре, которую он уже вел много лет, это было правилом: гибнешь сам, топи другого. Тут о взаимной выручке не думали, куда там! Да, жизнь… Жизнь? Да будь она проклята, такая жизнь!
Будь проклята? Ну, а что делать? Как и что можно изменить? Отказаться от выполнения тех заданий, которые тебе поручают, хотя бы вот от этого, с которым он едет сейчас в Москву? Попробуй откажись! Да что там, отказывайся не отказывайся, а просто не выполни. Потихоньку. Скажи: так, мол, и так, все сделал, а сам — в кусты. Не выйдет. Узнают. Всё «они» про него, Семенова, знают, церемониться не будут. Чуть что — сотрут в порошок, и мокрого места не останется. Такие вот, как эта Ферзь. Знает он их, насмотрелся.
А чекисты? О тех и говорить нечего. Попадись к ним в руки — не выберешься! Так ведь и Ферзь говорила, а она-то уж знает!..
Да, выхода у Семенова не было. Оставалось одно — жить, как он жил раньше, как жил все эти годы. Жить в постоянном страхе, вздрагивая от каждого окрика, от каждого стука в дверь. Жить одной лишь надеждой, которая все-таки, несмотря ни на что, теплилась в его душе: авось пронесет. Авось «они» вспомнят когда-нибудь свои обещания, отпустят его, позволят уехать туда, в ту страну, где в банке на его счет откладываются из года в год доллары, которые позволят ему осуществить давнишнюю мечту: купить где-нибудь дом с небольшим участком и доживать свой век тихо, спокойно…
Только вспомнят ли «они» про эти обещания? Да и есть ли доллары? Как вообще все это произошло? Жил он, Семенов, мирно, никому не делая и не желая зла. Жил в Минске, служил на железной дороге. Была семья: жена, дети… Тут на тебе: война, будь она проклята! Оказался, конечно, в армии, как все. Воевал. Как воевал? Тоже, как все: другие бежали в первые месяцы войны от немецких танков — и он бежал; другие зарывались в землю, били по врагу — и он бил; другие… попадали в плен — и он попал. И в плену, как все… Хотя так ли уж как все? Что перед собой-то лукавить? Нет, Семенов вел себя не как все. Он, наделенный от природы могучим телосложением, недюжинной силой, был трусом. Боялся, когда воевал, испугался до потери разума, очутившись в плену. Больше всего Семенов боялся физической боли, до ужаса боялся. С этого, пожалуй, все и пошло…
Первое время ему везло — его ни разу не ранило, даже не царапнуло. В плен он попал в сорок третьем году летом, а там сразу лагерь, голод, пытки, побои. Тут-то и сказалось, что он не таков, как все. Если другие, куда более хлипкие на вид, держали себя мужественно, не клонили перед врагом головы, то он струсил, да еще как струсил! Лишь бы выжить, выжить любой ценой: лишь бы избегнуть побоев, лишь бы кормили, давали есть, жрать… Жрать! Вот на чем были сосредоточены все помыслы Семенова, когда он очутился в гитлеровском лагере.
В этот же лагерь попал, как нарочно, бывший комиссар их полка, того полка, в котором Семенов начинал войну. В плен он попал давно, в первые месяцы войны, раненным, изменился сильно, только глаза остались прежними. Вот по этим-то глазам, да еще по голосу Семенов его и узнал.
Комиссар числился рядовым. Поэтому, скорее всего, и уцелел. Только рядовым считало его лагерное начальство, а пленные признавали за старшого. Во всем слушались. Не тратя времени, Семенов сообщил лагерному капо, что за птица этот «рядовой». Сообщил за лишнюю миску баланды, за пайку прогорклого, вязкого лагерного хлеба…
Тут и пошло: комиссар исчез, а его, Семенова, гестаповцы не обошли своей милостью. Вскоре он и сам стал капо — лагерным надзирателем. Теперь уж не его били, а он бил, бил других. Боялся, а бил…
Там — новый лагерь, на западе, за Эльбой. В лагерь пришли американцы. Так кончилась для Семенова война. Впрочем, не кончилась: кончилась одна, началась другая, тайная. Семенов оказался сначала в лагере для перемещенных лиц, потом «они» (кто «они» — Семенов толком не знал: какие-то боссы, по-видимому, из разведки) вызвали его, напомнили про комиссара, еще кое про какие его дела в гитлеровских лагерях и предложили выполнять их задания. Он, конечно, согласился: куда денешься?! В лагерях он значился номером, как и все: номер и номер, никто из заключенных его подлинного имени не знал. Иван Петрович Семенов числился на родине пропавшим без вести. Но «они» — «они» знали про него всё. Всё знали и всё учитывали. Несколько месяцев в разведывательной школе, и Семенов очутился в Крайске. Задача его была простая: к нему приходили люди, называли пароль, после чего он выполнял их задания. Задания были разные, порой не легкие… Но ему платили, платили щедро, а главное — обещали со временем устроить побег, потом — отпустить на покой. И доллары в банке…
Приходившие с паролем менялись: сначала один, потом другой. Бывали и перерывы, когда по году, по два Семенова вообще не трогали, казалось, забыли. Но нет, вспоминали вновь. Теперь вот уже полгода им командует Ферзь, будь она неладна!
Только к чему эти воспоминания, эти мысли? Что от них проку? Семенов рванул дверь вагона с ожесточением, сплюнул в ночную тьму, захлопнул дверь и, покинув тамбур, вернулся к себе, в купе, проводников, где блаженно похрапывал на верхней полке его напарник, не ведавший ни забот, ни тревог.
Поезд пришел в Москву точно по расписанию. Провозившись с уборкой вагона, со всякими делами часа два, Семенов вышел на обширную привокзальную площадь. Торопиться ему было некуда, время в запасе еще было, и он шел не спеша, внимательно оглядываясь по сторонам. Как, однако, ни изощрен был Семенов в различных уловках, сколь внимательно он ни осматривался, проверяя, не увязался ли за ним «хвост», ничего подозрительного он не заметил. Между тем всю дорогу, как и ранее в Крайске, невдалеке от него находились оперативные работники… Сейчас, в Москве, крайских оперативных работников сменили Миронов и два сотрудника КГБ, выделенные ему в помощь.
Семенов, потолкавшись сначала у газетного киоска, затем у табачного, купил пачку «Казбека» и направился в метро. Возле входа он замешкался, закурил, с минуту постоял и, докурив папиросу, двинулся вниз по лестнице. Затем сел в очередной поезд и, сделав несколько пересадок, сошел на станции «Маяковская». Выйдя наверх, он направился пешком к площади Пушкина. Дойдя до площади, Семенов свернул вправо, на Тверской бульвар, и двинулся по бульвару к Никитским воротам. Миронов и оперативные работники ни на минуту не упускали его из виду.
В конце бульвара, возле памятника Тимирязеву, Семенов круто повернул и пошел обратно, вновь к площади Пушкина. В этот момент один из оперативных работников быстро поравнялся с находившимся невдалеке Мироновым, тронул его за локоть и чуть заметным кивком указал на скамейку, на которой сидело несколько человек.
— В чем дело? — тихо спросил Миронов.
— Заметили на этой скамейке того, в серой шляпе, который читает «Правду»? — шепнул оперативник.
— Видел, — сказал Андрей. — Кто это?
— Да я и сам не знаю, только этот субъект терся возле комиссионного магазина, где работает Макаров. Я там был и еще тогда его приметил. Он дважды заходил в магазин.
— Занятно. А вы не заметили, этот тип обратил внимание на появление Семенова?
— Трудно сказать, — ответил оперативный работник, — я его не сразу увидел. Мне только кажется, что, когда мы шли вперед, к памятнику Тимирязеву, он сидел без перчаток, а теперь их надел. Видите, сидит в перчатках.
— Знаете что, — мгновенно решил Миронов, — я останусь здесь, подсяду к этому субъекту. Вдруг Семенов вернется. На всякий случай держите фотоаппарат наготове. Потребуется — фотографируйте.
Оперативный работник молча кивнул и прибавил шагу, а Андрей повернул обратно, не спеша подошел к скамейке, на которой теперь, кроме незнакомца, никого не было, и с видом смертельно усталого человека тяжело опустился на нее. Незнакомец сидел на одном краю скамейки, Миронов — на другом. Любой, кто посмотрел бы со стороны на этих двух людей, наверняка пришел бы к выводу, что ни одному из них нет до другого никакого дела. Между тем это было не так. Миронов, сидя вполоборота к незнакомцу, рассеянно посматривал по сторонам, не упуская в то же время из виду ни одного движения, ни одного жеста своего соседа. В свою очередь, и тот, как сразу определил Андрей, исподтишка к нему присматривался. Однако весь вид Миронова, выражение его лица свидетельствовали о таком безразличии к окружающему, что незнакомец успокоился и, как можно было подумать, вновь углубился в чтение газеты.
Прошло пять минут, десять… Андрей все так же сидел, откинувшись на спинку скамейки, полуприкрыв глаза. Все так же сидел и незнакомец, шурша полосами газеты. Вдруг он шевельнулся, снял перчатки, сунул их в карман и снова взялся за газету. В то же мгновение Миронов краешком глаза заметил Семенова, возвращающегося от площади Пушкина.
«Ага, — подумал он, — кажется, я не ошибся. Ну теперь держись!»
— Прошу извинить, может, чуток потеснитесь? — обратился Семенов к незнакомцу, подходя к скамейке и намереваясь усесться на тот ее край, ближе к которому сидел субъект в серой шляпе.
Тот буркнул себе под нос что-то невнятное и слегка отодвинулся, освобождая место. Никакого интереса к появлению Семенова он, судя по всему, не проявил.
Семенов молча сел, молча достал из кармана пачку «Казбека», вынул папиросу и принялся рассеянно разминать ее между пальцами. Незнакомец чуть оживился.
— Сосед, а сосед, — обратился он к Семенову, — не угостите папиросой? Свои дома забыл.
— Отчего же, — ответил Семенов, протягивая незнакомцу пачку. — Пользуйтесь.
Незнакомец взял пачку, достал оттуда папиросу, а пачку опустил в карман. В правый карман, как это отчетливо видел Миронов.
— Сосед, а папиросы-то… — с ухмылкой спросил Семенов.
— Вот черт, рассеянность проклятая, — виновато сказал незнакомец и, вынув пачку «Казбека» из левого кармана, отдал ее Семенову.
«Вот оно! — мгновенно решил Миронов. — Вот где собака зарыта. Как быть?»
Тем временем Семенов обнаружил, что у него нет спичек, и воспользовался спичками незнакомца. С коробкой спичек произошла та же история, что и с пачкой папирос: в руки незнакомца перешел коробок, извлеченный Семеновым не из того кармана, в который он опустил полученные от соседа спички.
Миронов больше не размышлял: теперь все решали секунды. Незнакомцу так и не довелось опустить в карман коробок, врученный ему Семеновым. Мгновение — и рука незнакомца оказалась вывернутой за спину, а коробок спичек очутился у Андрея.
— Вы что?! — яростно повернулся к нему незнакомец. — С ума сошли? Хулиган! Сейчас же отпустите!..
Но Миронов и не думал его отпускать. Рывком он поднял незнакомца со скамейки, ставя его между собой и Семеновым — мало ли что? — и тихо, раздельно сказал:
— Не надо, гражданин, не советую поднимать шума. Ведите себя благоразумно. Полагаю, публичный скандал никак не в ваших интересах. Пройдемте в отделение милиции, там все и выясним.
— К черту милицию! — взревел незнакомец. — Никуда я не пойду. Вы не имеете права. Я… Я…
Миронов не отвечал. С силой сдавив руку незнакомца так, что тот скорчился от боли, Андрей не спускал глаз с Семенова, готовый к любой неожиданности. Семенов, однако, и не думал вмешиваться. Трусливо вобрав голову в плечи и воровато оглянувшись по сторонам, он стремительно вскочил, намереваясь поскорее унести ноги. Но не тут-то было! Перед ним выросли двое оперативных работников и цепко ухватили его за руки, не давая ступить и шага.
— Спокойно, — сурово сказал один из них. — Спокойно, гражданин. Пройдемте с нами.
Семенов сразу сник, ссутулился, казалось, стал ниже ростом и безропотно последовал между двумя оперативными работниками. Миронов чуть повернул руку незнакомца и слегка подтолкнул его в спину, направляя за Семеновым и оперативными работниками. Все это заняло считанные секунды, было сделано так ловко, что никто из прогуливающихся на бульваре толком ничего и не заметил, не попытался вмешаться.
В отделении милиции Семенов тяжело опустился на лавку, стоявшую в коридоре, и тупо уставился в пол. Коробку «Казбека», полученную от незнакомца, он без звука вручил Миронову: в коробке под слоем папирос лежала пачка сторублевок. Андрей пересчитал — двадцать пять штук; итого, две с половиной тысячи рублей.
Незнакомец, в отличие от Семенова, бушевал. Прорвавшись вслед за Мироновым в кабинет начальника отделения, брызжа Андрею в лицо слюной, он кричал:
— Как вы смеете, на каком основании? Да вы знаете, кто я такой?! Я — иностранный подданный и вам неподвластен. Вы поплатитесь, поплатитесь за самоуправство!..
— Успокойтесь, гражданин, разберемся, — спокойно сказал начальник отделения. — Если с вами поступили незаконно, виновных накажем. Позвольте ваши документы…
Незнакомец швырнул на стол пачку документов. Он сказал правду: из документов было видно, что их обладатель является иностранным подданным Ричардом Б., находится в Советском Союзе в качестве туриста.
Миронов без промедления связался по телефону с генералом Васильевым и коротко доложил о происшедшем.
— Сколько? — переспросил генерал, выслушав Миронова. — Две с половиной тысячи за коробок спичек? Неплохо! А коробок этот вы осмотрели?
— Конечно, Семен Фаддеевич, самым тщательным образом. На первый взгляд ничего подозрительного: коробок как коробок, кроме спичек, внутри ничего.
— Хорошо, — решил генерал, — составьте акт, в котором укажите все обстоятельства передачи того и другого коробка Семеновым иностранцу и иностранцем Семенову. Деньги и спичечную коробку немедленно ко мне.
— Уже послал, Семен Фаддеевич. Один из работавших со мной сотрудников будет у вас с минуты на минуту.
— Добро! Тогда так: покончите с актом и займитесь иностранцем. Извинитесь перед ним, скажите, что свяжетесь с МИДом, с посольством, а это требует времени… Поняли?
— Понял, Семен Фаддеевич. Будет сделано.
Акт Миронов составлял совместно с Семеновым. Тот, подобострастно заглядывая ему в глаза, торопился восстановить все детали, не думая что-либо утаивать.
— Я человек маленький, — то и дело повторял Семенов. — Я что? Мне сказали получить — я и получил, передать — я передал. Что в этой проклятой коробке, понятия не имею и насчет денег не знаю. Откуда?
Закончив предварительный допрос Семенова и получив его подпись под актом, Миронов вернулся в кабинет.
— Вот, полюбуйтесь, — поднялся начальник отделения навстречу Миронову, — гражданин заявляет, что он — важное лицо, иностранец, а ведет себя неприлично, совсем неприлично. Минуту потерпеть не может!
— «Минутка»! — фыркнул Б. — Хороша минутка! Держите меня чуть не битый час и еще смеете упрекать. Безобразие! Самый факт нападения на меня — да, да, подлого и вероломного нападения, невозможного ни в одной цивилизованной стране — настолько возмутителен…
— Попрошу выбирать выражения, — жестко, хотя и вполне корректно сказал Миронов. — Своими словами вы оскорбляете не только должностных лиц, вынужденных по долгу службы разбираться в недоразумении, причиной которого являетесь вы сами, но и страну, где имеете честь пребывать, хотя и временно… О вашем поведении мы вынуждены будем поставить в известность Министерство иностранных дел СССР…
— Вот как! Меня хватают и обо мне же собираются сообщать в МИД! Каково? — возмутился Б., но тон сбавил.
— Схватить мы вас действительно схватили, это так, — миролюбиво заметил Миронов, — но зачем вам понадобилось связываться с этим типом там, на бульваре? Что за деньги вы ему передали, зачем? Кто, в конце концов, мог знать, кто вы такой? Если я в чем и нарушил правила хорошего тона, то по вашей же вине. Впрочем, в том, что касается непосредственно моих действий, я готов принести извинения.
— Ну, если так, — охотно согласился иностранец, — будем считать инцидент исчерпанным. Всего хорошего… — Он вскочил и поспешно направился к выходу.
— Простите, — задержал его Миронов, — к моему глубокому сожалению, мы пока не вправе вас отпустить. Во всяком случае, до тех пор, пока не выясним все до конца.
— Боже милостивый! — опять начал горячиться Б. — Да что еще выяснять? Разве вам не ясно, что произошло недоразумение, с которым пора кончать? Я уже не говорю о том, что из моих документов вы могли убедиться, что я действительно иностранный подданный, турист, в силу чего вы не имеете права меня задерживать.
— Конечно, конечно, — согласился Миронов, — иностранных подданных мы не задерживаем. Но как я могу быть уверен, что вы действительно являетесь мистером Б., иностранцем, туристом? И деньги, деньги — две с половиной тысячи?..
— Какие деньги? — неожиданно разъярился Б. — Ничего не знаю. А что я — иностранный подданный, видно из документов.
— Хорошо. О деньгах пока говорить не будем, а документы… Что же документы? Кто мне даст гарантию, что они принадлежат действительно вам, что вы и есть тот самый мистер Б., турист, который является владельцем этих документов? Разве исключено, что документы могут быть похищены? Да и судя по вашему произношению, по манере выражаться, вы больше напоминаете коренного москвича, нежели иностранца… Так что судите сами… — Миронов развел руками.
— Значит, вы полагаете, — задумчиво проговорил иностранец, — что я не являюсь Б., иностранным подданным, а попросту похитил документы и выступаю под именем Б.? Что ж, подозревать — ваше право. Но чего проще? Дайте мне телефон, я свяжусь с посольством, и вам без промедления подтвердят, что я — это я. Наконец, если этого вам покажется мало, сюда безотлагательно приедет кто-нибудь из сотрудников нашего посольства и удостоверит мою личность.
— Сожалею, но так поступить мы не можем: ни давать вам телефон, ни самим связываться с посольством мы не имеем права. Обо всем происшедшем я доложу по начальству, там свяжутся с Министерством иностранных дел, наведут необходимые справки. Пока я не получу указаний, сделать ничего не могу — таков порядок. Прошу извинить, но наберитесь терпения.
— Но ведь это бюрократизм, нелепость! — возмутился Б. — Самое простое — созвониться по телефону с посольствам, а вы вон что затеяли. Этак я тут неделю просижу…
— Почему — неделю: час, другой — не больше. А порядок есть порядок. У вас, может, свой, у нас — свой. Разрешите уж нам придерживаться того порядка, который принят у нас.
Б. злобно пробормотал что-то себе под нос и плюхнулся в кресло.
— Ладно, — сказал он, — я буду ждать, но не больше часа…
— А это уж как придется, — спокойно заметил Миронов. — Кстати, попрошу вас ознакомиться с этим актом и подписать его.
— Какой еще акт? — опять рассердился Б.
— А вот этот, — дружелюбно сказал Миронов и протянул Б. акт, в котором были подробно описаны все обстоятельства передачи им Семенову коробки «Казбека» с деньгами, а ему — коробки спичек.
— Нет, — отрицательно замотал головой Б. — Не буду читать, не желаю. И подписывать не буду. Со мной этот фокус не пройдет, и не надейтесь. Провокация.
— Вот тебе и на! — с подчеркнутым сожалением сказал Миронов, чуть пожимая плечами. — Так уж сразу и провокация? Нехорошо, мистер Б.
— Ладно, — со злостью возразил Б. — Прекратим препирательства, они бессмысленны. Связывайтесь со своим начальством и кончайте эту комедию. С вами мне разговаривать больше не о чем.
Миронов усмехнулся:
— Так я, мистер Б., ведь и не набиваюсь вам в собеседники. Поверьте, беседа с вами мне тоже особого удовольствия не доставляет, но выяснить интересующие нас вопросы я обязан. Надеюсь, вам это ясно?
— Ясно, ясно, — с раздражением сказал Б. — Ну и выясняйте, а меня оставьте в покое.
В этот момент зазвонил телефон. Начальник отделения милиции, молча присутствовавший при словесной перепалке Миронова, с Б., снял трубку.
— Да, — сказал он, — слушаю… Так точно, товарищ генерал. Здесь… Слушаюсь. — Начальник отделения протянул трубку майору.
— Андрей Иванович, — услышал Андрей голос генерала Васильева. — Поздравляю с удачей. Вашей спичечной коробке цены нет. Клад! Настоящий клад! Сейчас же забирайте своего, с позволения сказать, туриста — и ко мне. Машина выслана.
Глава 26
В то время как Миронов занимался с Семеновым и так называемым туристом, не менее бурно разворачивались события и в Крайске. Савин вернулся из поездки в Латвию и сразу по приезде встретился со Скворецким. Савельев остался на месте, в Вентспилсе.
— Все в порядке, — доложил он. — С рыбаком договорились. Сразу… Правда, не совсем сразу…
— То есть? — поинтересовался полковник.
— Понимаете, занятная история получилась. Хорошо, что вы все предусмотрели. Если бы не Сергей (я имею в виду Савельева)… Одним словом, действовали мы по плану: я явился к рыбаку один, а Сергей остался в Вентспилсе связаться с местными чекистами. Старик встретил меня не очень любезно, но выслушал. Я ему выложил все, как наказывала Войцеховская: так, мол, и так. Нам известны некоторые ваши проделки и дальние путешествия, так не хотите ли хорошо заработать, в валюте?..
Старик подошел по-деловому:
«Почему, говорит, не заработать? А что, спрашивает, надо делать?» Я дальше выкладываю: дело, мол, простое. Взять в дальнюю поездку меня и одну мою знакомую… «Хорошо, — согласился старик, — только схожу в город — узнаю, как с горючим. У меня маловато. Вы пока тут подождите».
Ну, прошло часа два, два с половиной, и появляется мой старик, да не один, а… с Сергеем, с Савельевым. Сам этак сконфуженно улыбается. «Что ж, мол, ты, такой рассякой, не сказал сразу, кто ты есть? За негодяя меня посчитал, за предателя? Был когда-то грех, что правда — то правда, так то давно было, глуп был. Об том властям известно — сам все рассказал. А так и худое могло случиться. Вот стукнул бы я тебя как следует… Хорошо, твой товарищ, — кивает на Сергея, — все мне разъяснил. Я ведь в КГБ ходил. Ну, да теперь все ясно — сделаю».
Знаете, — закончил Савин, — нелегкая у вас, чекистов, работа. Нервная. Мне раньше казалось, что нет на свете другой такой профессии, где так требовались бы нервы, как профессия летчика. Выходит, ошибался…
В тот же день Степан явился «с докладом» к Войцеховской. Анне Казимировне он сказал, что уговорить рыбака стоило немалого труда, но решающую роль сыграли деньги, особенно обещание валюты. Держал себя Савин на этот раз так, будто уже свыкся с мыслью о побеге.
Войцеховская была холодна, сдержанна. Она даже и не похвалила Савина за успешно выполненное поручение, только коротко, сухо сказала:
— Вылетаем через день, послезавтра. Вот деньги. Места бери разные, не вместе. Мой билет занесешь завтра сюда же. Ни в аэропорту, ни в самолете ко мне не подходи, не заговаривай. Так — до прибытия в Ригу. Понял?
На его вопрос, зачем откладывать, почему не вылететь на следующий же день, она пренебрежительно пожала плечами:
— Хочешь, чтобы меня тут же хватились на работе, забили тревогу? Глупо! Завтра я оформлю отпуск. На неделю. Предлог найду. А там… Там пусть ищут.
Вечером собрались втроем. Скворецкий, Луганов и Савин. Вновь еще раз обсудили план предстоящей операции, уточнили детали. Неясным оставался один вопрос: кто будет руководить ходом операции на ее завершающем этапе. Сознавая всю важность и ответственность операции, Луганов настаивал на вызове из Москвы Андрея Миронова. Полковник был с ним согласен, но Миронов уже вторые сутки не звонил, не подавал признаков жизни.
Кирилл Петрович решил сам созвониться с Москвой.
Соединиться с генералом ему, однако, не удалось: генерал был занят.
Миронов, как оказалось, находился у генерала и тоже не мог подойти к телефону.
«Неспроста, — подумал Скворецкий, — с генералом не соединяют, когда у него Андрей. Не иначе, заварилась там каша. Уж не с Семеновым ли что стряслось?»
Кирилл Петрович был близок к истине. Как раз в то время, как он звонил, генерал Васильев и Миронов вели беседу, правда, не с Семеновым, но с иностранным туристом, задержанным на бульваре.
Семен Фаддеевич встретил Б. подчеркнуто вежливо. Он расспрашивал Б., давно ли тот прибыл в Советский Союз («Ах, вы здесь, у нас, уже не впервой?»), где научился свободно говорить по-русски, как находит Москву? Однако Андрей то и дело ловил пытливый, настороженный взгляд генерала, внимательно изучавший собеседника.
Б., когда Миронов предложил ему проехать в Комитет государственной безопасности, перетрусил. Дорогой, сидя в машине плечом к плечу с Б. (Семенова отправили в другой машине), Андрей чувствовал, как того бьет нервная дрожь. Теперь, после вежливого приема, оказанного ему генералом, Б. вновь обрел присутствие духа, повел себя развязно, нагловато.
В непринужденной беседе прошло с полчаса.
— Перейдем к делу, — меняя внезапно тон, резко сказал генерал. — Итак, мистер Б., рассказывайте, что там произошло у вас на бульваре. Только ничего не выдумывайте, не советую.
Крутой поворот в ходе беседы смутил Б., глаза у него забегали.
— Я — я вас не понимаю, сэр… — начал он сбивчиво. — Ничего особенного не произошло. Так, мелкое недоразумение. Но, мистер… э-э, мистер… — он ткнул пальцем в сторону Миронова, — принес свои извинения, и больше я не имею претензий…
— Зато мы имеем претензии, — резко прервал его генерал. — Прежде всего потрудитесь объяснить, с какой это стати, за какие заслуги вы пытались вручить две тысячи пятьсот рублей гражданину Советского Союза Семенову, подсевшему к вам на скамейку? Почему он, кстати, к вам подсел? Зачем? Ради этих денег?
— Но… но… — заикнулся Б. — Я никому никаких денег не передавал и никакого Семенова не знаю. Это… это… провокация…
— Что-о-о? — с веселой иронией сказал генерал. — Провокация? Слова-то какие! Может, вы будете столь любезны, что разъясните, кто занимается провокацией, уж не мы ли?
— Нет, что вы! — горячо воскликнул Б. — Помилуйте. Вас я никак не имел в виду.
— Так кто?
— Ну, этот самый, как его? Что сидел рядом со мной на скамейке.
— Ах, Семенов? Представьте себе, он говорит совсем другое. Да и ведет себя иначе, нежели вы.
— Но он лжет! — так и подскочил Б. — Все лжет!..
— Любопытно, — усмехнулся генерал. — Что же именно в его показаниях ложь?
Б. понял, что совершил промашку:
— Ну, насчет денег, двух с половиной тысяч. Ничего я ему не давал, все это ложь.
— Так, — сурово сказал генерал. — Значит, вы утверждаете, что ничего не давали?
— Нет, ничего.
— Что же вы, в таком случае, на это скажете? — спросил генерал и протянул Б. уже изготовленные фотографии, на которых во всех подробностях было изображено, как Б. передает Семенову коробку папирос и получает от него коробок спичек.
— Ах, это? — силился улыбнуться Б. — Это… Да, припоминаю… Я, кажется, дал этому человеку папиросы… правильно, коробку папирос… и воспользовался его спичками. Что, разве это запрещено в вашей стране?
— Нет, почему же? Совсем не запрещено. Но вот платить две с половиной тысячи рублей за коробок спичек…
— Но я не платил, ничего никому не платил — это же ложь, сплошная ложь!..
— Вы на этом настаиваете? А вот ваш сосед по скамейке, этот самый Семенов, тот сразу признался. Вам предъявить его показания?
— Зачем? — стоял на своем Б. — Он лжет.
— А вот этот акт? — спросил генерал, протягивая Б. акт, составленный в отделении милиции Мироновым. — Это что? Тоже ложь?
— Ложь, — твердо сказал Б.
— Ну, а отпечатки ваших пальцев на деньгах — это, как по-вашему, тоже ложь?
Б. прикусил губу и ничего не ответил.
— Итак, — настойчиво повторил свой первоначальный вопрос генерал, — почему вы уплатили две с половиной тысячи рублей за спичечную коробку?
— Простите, господин генерал, — как мог искреннее воскликнул Б., прикладывая руки к сердцу, — но я вас действительно не понимаю! Деньги? Не знаю. О чем вы говорите? Клянусь вам, я давал какому-то человеку на бульваре самые обыкновенные спички. Самые обыкновенные. Ничего, кроме спичек, в той коробке не было.
— Охотно верю. В той коробке, — генерал нажал на слове «той», — которую передавали вы, — не было. Но ваш сосед вернул вам не ту коробку, что вы ему дали, а другую, и это была не совсем обычная коробка. Она содержала кое-что, помимо спичек. Недаром же вы выложили за нее такую сумму. Так вот, не угодно ли будет вам сказать, что вы рассчитывали обнаружить в этой коробке спичек? Не желаете? Тогда я скажу. На этой самой, как вы изволили выразиться, обыкновенной коробке под фабричной этикеткой наклеено несколько кадров микропленки с шифрованным текстом. Да, да, кадры микропленки с текстом, который зашифрован. Кстати, вы не хотели бы дать нам ключ к этому шифру? Не хотите? Не надо. Разберемся сами. Нам не впервой. На одном кадре, между прочим, имеется текст без шифра. Записочка. Ее уже прочли…
— Бог мой! Шифр, записка! — ломал руки Б. — Но я ничего не знаю… Слово джентльмена, не знаю.
— Верю, — спокойно заметил генерал. — Содержание этой записки, как и шифра, вы, конечно, не знаете. Больше того, смею вас заверить, теперь уже и не узнаете. Никогда. Что же до остального, так тот, кто передал вам этот коробок спичек, — тот самый Семенов, что подсел к вам на бульваре, — так он все рассказал. Повторяю, он ведет себя куда искреннее, нежели вы. Кроме того, отпечатки пальцев сохранились не только на деньгах, но и на коробках: как на той, так и на другой. За что вы платили деньги — известно. Как видите, вы изобличены. Мой совет: бросьте бессмысленное запирательство и расскажите всю правду. Так будет лучше. Лучше для вас, в первую очередь.
Б. молчал.
— Как вам будет угодно, — пожал плечами генерал и нажал кнопку звонка. — Уведите…
Когда дверь за Б. закрылась, генерал повернулся к Миронову:
— Что, Андрей Иванович, сгораете от любопытства? Признаюсь, я и сам рад бы поскорее узнать содержание шифрованной записку — это не так просто, шифр сложный. Специалисты говорят, придется повозиться. Что же до записки, так вот она. Тут тоже не все ясно.
Генерал взял со стола лист бумаги и протянул Миронову. Там значилось:
Король взят. Ферзь под шахом. Целесообразна рокировка по второму варианту.
— Нуте-с, что скажете? — спросил генерал, с интересом поглядывая на Андрея, ожесточенно ерошившего свою шевелюру. — На шахматный ребус похоже. Не находите?
— Гм, ребус, — протянул Миронов. — Ребус… ребус… Разгадывали мы и ребусы… разгадывали… Случалось… Ну, что касается Ферзя — так это вопрос ясный: Ферзь — Войцеховская. Когда я допрашивал Семенова в отделении милиции, он сказал, что спичечную коробку получил от женщины, известной ему под кличкой Ферзь. Больше он о ней будто бы ничего не знает. Но нам-то известно, кто вручил ему коробку, — Войцеховская. Она и есть Ферзь. Это, полагаю, вне сомнения. «Рокировка» — тоже понятно. Это опять о Войцеховской. Сообщается, что она думает бежать за границу. И это мы знаем. А вот «Король», который «взят»… «Король»?
— А не думаете ли, Андрей Иванович, что Король — это Черняев? Вернее, тот, кто выдает себя за Черняева? — спросил генерал.
— Признаться, я и сам так подумал, — вздохнул Миронов. — Хорошо, если бы было так, все было бы куда яснее, но так ли это?
— Полагаю, что так, — уверенно сказал генерал. — Кто же другой? Взят-то псевдо-Черняев. Нет, сама логика вещей говорит, что Король — Черняев.
Миронов в ответ опять вздохнул.
— В общем, Семен Фаддеевич, я с вами согласен. Логика на вашей стороне, тут ничего не скажешь. Но факты, факты… Ох, и до чего же пока мало этих фактов, до чего их не хватает!..
Генерал усмехнулся:
— Ну, если хоть в общем согласны, и на том спасибо. Факты? Факты, конечно, всё — без них нельзя строить никакой гипотезы, но, если разобраться, и фактов не так уж мало. С мертвой точки, во всяком случае, мы сдвинулись, какая-то связь между Войцеховской и Черняевым нащупывается. Вы вот что, Андрей Иванович, беритесь за Семенова. Надо полагать, ему есть что рассказать. Глядишь — и Черняева назовет. Судя по всему, он сейчас сыплется по всем швам, так что времени терять нельзя. Что будет интересное — докладывайте.
После ухода Миронова генерал связался с Крайском и обстоятельно рассказал Скворецкому о событиях минувших дней. Закончив рассказ, генерал поинтересовался, нет ли чего нового, как там Войцеховская? Кирилл Петрович доложил о возвращении Савина, о результатах поездки в Вентспилс и намерении Войцеховской через день вылететь в Латвию.
— Как с Мироновым? — закончил вопросом свой доклад Скворецкий. — Мы рассчитывали, что именно майор будет руководить последним этапом операции, но для этого ему нужно быть здесь, в Крайске, не позже как завтра в первой половине дня. Иначе не успеть.
Семен Фаддеевич с минуту подумал.
— Хорошо, — сказал он наконец. — Отпустим Миронова. Попробуем обойтись без него.
…В то время как велся этот разговор, Андрей сидел в кабинете своего помощника, допрашивавшего Семенова, и бегло знакомился с уже заполненными страницами протокола допроса. На первый взгляд могло сложиться впечатление, что Семенов, как и предполагал генерал, сыплется по всем швам: он охотно и подробно рассказывал обстоятельства своей вербовки сначала немцами, потом американской разведкой, перечислял задания, которые выполнял, описывал, не скупясь на детали и подробности, внешние приметы тех, чьи поручения ему приходилось выполнять. Но чем дальше прислушивался Миронов к ходу допроса (поначалу он активно в допрос не вмешивался), тем больше зрело у него убеждение, что Семенов далеко не так искренен, каким старается себя представить. В самом деле: меньше всего Семенов говорил о себе лично, о своих преступлениях. А если и говорил, так беспрестанно подчеркивая, что он-де человек маленький, что ничего серьезного ему не поручали: так — передать, отвезти, привезти. Ничего больше! А что возил, что передавал, Семенов-де и сам не знал, Спрос с него маленький…
— Я бы хотел задать несколько вопросов, кое-что уточнить. Не возражаешь? — обратился майор к своему помощнику. — Так вот, гражданин Семенов. Я тут прочитал ваши показания об обстоятельствах вашей вербовки немцами. Мне не все ясно. Я никак не возьму в толк, почему немцы остановили свой выбор именно на вас, чем вы им приглянулись? Повторите еще раз, как вы пошли на предательство, да поподробнее.
Семенов сжался, как от удара, втянул голову в плечи. Ладони у него стали липкими. Он принялся судорожно потирать их о колени.
— Так я же все сказал, гражданин начальник, все, как было. Вызвали меня в лагере в это самое гестапо, били, конечно, поначалу. Потом бумажку сунули: «Подпиши!» Я и сам толком не знал, что в этой бумаге значилось, мне и прочесть ее как следует не дали, а подписать подписал. Как тут не подпишешь? Забьют до смерти, это уж точно. Ну, а как подписал, тогда сказали: «Теперь будешь нам сообщать, кто, значит, немцев ругает, кто побег умышляет…»
— И что же? — перебил Миронов. — Сообщали?
— Нет, гражданин начальник, не сообщал. Сначала говорил, что ничего такого не слышал, не знаю, а там вскоре перевели меня в другой лагерь. Потом пришли американцы. Тем все и кончилось.
— Допустим, хотя все это выглядит и весьма сомнительно. Ну, а дальше что было?
— Дальше? Дальше вызвал меня какой-то американский начальник и сунул бумагу: «На, говорит, читай!» Этот дал прочитать, не торопил. Смотрю, а там это самое, как его, подписка. Так, мол, и так, я, такой и такой, обязуюсь сотрудничать с гестапо, сообщать о противонемецких настроениях заключенных. И подпись. Моя подпись… Понимаете?
— Понимаю, — кивнул Миронов. — Продолжайте.
— А чего продолжать? — Семенов несколько осмелел. — Я уже все сказал гражданину следователю, все, как было. Американский начальник приказал мне написать другую подписку, новую, уже им, американцам. Я поначалу было отказался, только он тут пригрозил: передадим, мол, тебя русским вместе с этой немецкой подпиской — там тебя сразу вздернут. И вздернули бы, что вы думаете? Что было делать? Пришлось и американцам подписать, не отвяжутся. Потом меня переправили в советскую зону, и я поехал в Крайск, как мне было приказано.
— Кем приказано?
— Да все тем же американским начальником.
— Что же вы делали в Крайске?
— В Крайске? В Крайске я поступил проводником на железную дорогу, как до войны. Специальность у меня такая. Ну, и жил себе. Вначале меня никто не трогал, я уже думал — забыли, успокаиваться стал. Хотел было сам пойти, все рассказать, только побоялся. Знал — посадят. А тут живу и живу, никому зла не делаю. Только прошло года три, является какой-то человек и говорит: «Привет от Джемса». Это пароль такой. Я, конечно, перетрусил, а что сделаешь? Теперь-то идти заявлять и совсем поздно было. Велел он мне, этот самый человек, вещицу одну — пачку папирос — отвезти в Москву и передать одному гражданину. Приметы его описал, указал, где встретиться. Так с тех пор и пошло: нет-нет, а что-нибудь отвозишь, привозишь!..
— И много побывало у вас таких, с паролем, чьи поручения вам приходилось выполнять?
— Да как вам сказать, гражданин начальник? Не очень чтобы много, но были. Вот эта самая дамочка, Ферзь, значит, она, пожалуй, четвертая будет. Да, да, четвертая. До нее трое были, точно, все — мужчины.
— Что вы о них можете сообщить?
— Ничего, гражданин начальник, кроме внешности. Даже человеческого имени своего никто из них не называл, все по кличкам…
— Допустим. Потрудитесь, в таком случае, перечислить клички тех, чьи поручения вы выполняли.
— Да как же я могу, гражданин начальник, — взмолился Семенов, — разве их упомнишь? Времени-то сколько прошло…
— Позвольте, позвольте, — перебил Миронов, — вы же сказали, что Ферзь была четвертая. Всего лишь четвертая. Что до нее было трое. И вы хотите нас уверить, что запамятовали три клички, всего три? Позвольте на этот раз вам не поверить…
— Гражданин начальник, Христом богом клянусь, запамятовал. Ну к чему они мне, эти клички? И думать-то о них не думал. Сделал — и с плеч долой, из памяти вон. Одно в мыслях держал: оставили бы они меня в покое…
Казалось, тут Семенов говорит правду. Ну, к чему, в самом деле, скрывать ему клички тех, чьи задания он выполнял. Что меняет, назовет он клички или нет? Так, казалось, обстоит дело, и все же Миронов не отступал:
— Значит, вы утверждаете, что ни одной клички, кроме как Ферзь, не запомнили? Так?
— Нет. Не запомнил.
— Ну, а как звали того, кто был до Ферзя? И этого не помните?
— Не помню же, гражданин начальник, право слово, не помню.
— А вы постарайтесь припомнить.
Пристально глядя на Семенова, следя за выражением его лица, Миронов заметил, что при этих, последних вопросах он взволновался. А что, если Семенову есть все-таки смысл молчать о людях, с которыми он встречался до Войцеховской, скрывать их клички?
Миронова осенила догадка.
— Скажите, Семенов, — спросил он внезапно, — вы в шахматы играете?
— В шахматы? — с недоумением посмотрел на него тот. — Нет, не играю. Вот в шашки… А еще лучше — домино…
— Ну, а шахматные фигуры знаете?
— Какие еще фигуры?
— Скажем, ферзь. Что это такое?
— Ферзь? А я почем знаю? Дамочка эта так назвалась, и все. Ферзь и ферзь, мне-то что?
— Допустим. Ну, а ладья, слон, пешка? Слыхали?
Семенов осклабился.
— Про слонов, конечно, слышал. Как не слыхать? И видел. Приходилось. В зоопарке, в кино там… Уж и не припомню где. Шутите, гражданин начальник.
— А король, ну, король? Что про короля скажете? — жестко спросил Миронов, требовательно глядя в глаза Семенову.
Тот отвел свой взгляд.
— Король? — чуть дрогнувшим голосом повторил Семенов, облизнув языком внезапно пересохшие губы. — Ах, король! Вспомнил, гражданин начальник, вспомнил. Вот как вы сказали, тут и вспомнил, сию минуту. Королем звался тот, что был до Ферзя. Это точно…
— Фамилия? — отрывисто бросил Миронов. — Фамилия, имя, отчество?
— Чья фамилия? Моя? Семенов…
— Да не ваша, а этого… Короля!
— Так не знаю же, гражданин начальник, не знаю. Откуда мне знать?..
— Не знаете? А приметы его, приметы можете описать? Только точно, подробно.
Семенов начал описывать приметы Короля, но говорил нечто такое невразумительное, что понять было невозможно. Тогда Миронов порылся у себя в столе и разыскал фотографии, с которыми ездил к Шумилову. Была там фотография и псевдо-Черняева. Разложив фотографии перед Семеновым, Миронов спросил, не знает ли тот кого-либо из изображенных здесь лиц. Семенов пугливо стал просматривать фотографии. Дойдя до снимка, на котором был изображен псевдо-Черняев, испуганно взглянул на Миронова и с трудом выдавил из себя:
— Это — Король.
— Ага, значит, Король! — с торжеством воскликнул Миронов. — Так что вы можете о нем сказать?
— Этот недолго был, — заметно волнуясь, сказал Семенов. — С год. Навряд ли больше. Видел я его всего раза три-четыре. Тоже он мне всякие вещицы давал, а я отвозил. Ему, что было велено, привозил. Как и с другими…
— И все? Больше ничего?
— Никак нет, ничего.
— Значит, — как бы подвел итог Миронов, — ничего другого, кроме как возить и передавать вещицы, вы не делали? Только говорите правду.
Семенов насторожился, снова потер руки о колени, но довольно твердо сказал:
— Как хотите, гражданин начальник, только, кроме этого, ничего не делал.
— Скажите, — неожиданно задал вопрос Миронов, — вы, случаем, не левша?
Семенов посмотрел на него с недоумением:
— Левша, гражданин начальник. Как себя помню — левша. С малолетства. А что здесь такого?
— Да нет, ничего особенного. Кстати, вам приходилось когда-нибудь орудовать финкой? Вообще, если вы держите нож, то в левой руке или в правой?
Семенов заметно побледнел:
— К-как-к-кой финкой? — спросил он, заикаясь. — Я… я в-вас не понимаю. У меня финки отродясь не было. Вы мне лишнего не шейте!
— Не было? Ну что ж! Не было, так не было…
Внимательно присматриваясь к Семенову, вслушиваясь в интонации его голоса, Миронов все больше склонялся к той точке зрения, что если Семенов и говорит правду, то далеко не всю. Особенно сомнительной выглядела версия его вербовки, незначительность тех поручений, которые он выполнял после возвращения из плена. Да и с рассказом о Короле не все, по-видимому, было чисто. Бросалось в глаза и явное замешательство, в которое пришел Семенов, когда речь зашла о финке. Однако сейчас Миронов не хотел сосредоточивать внимание на прошлом Семенова. С этим еще успеется. Сейчас Андрею нужен был Б., и прежде всего Б. К вопросу о «туристе» он и перешел: как давно встречается с ним Семенов, как часто встречался, как обусловливал встречи, что вообще знает о Б.?
Семенова, по-видимому, такой поворот в ходе допроса устраивал: он заговорил свободнее, с большими подробностями. Сосед по скамейке, которому он должен был вручить злополучный коробок спичек? Как же! Он с ним встречается третий раз — все там же, на Тверском бульваре, невдалеке от памятника Тимирязеву. Передавал ему разные безделушки: спички, папиросы. И от него кое-что получал. В том же роде. Однажды — коробку конфет. Отвозил обратно, в Крайск, а там уже получатели сами являлись, без приглашения. Встречался он с этим человеком не очень часто, а до него был другой. И с тем все было так же. Семенов, получив в Крайске «передачу», извещал о своем приезде условной телеграммой в адрес какого-то Макарова. Кто такой Макаров, он не знает. Текст телеграммы составлял не сам, получал от тех, чьи поручения выполнял. Ну, а отправлять телеграммы приходилось ему.
Что из себя представляет этот сосед по скамейке, как его имя, фамилия, где работает? Этого он не знает. Ничего о нем не знает, даже клички. Тут обходились без клички. Мужчина он серьезный, никогда с Семеновым не разговаривал. Слова не скажет. Молча возьмет, молча отдаст, и все. Рта не раскроет. Потом остается сидеть на лавке, а Семенов уходит. Так с самого начала было заведено.
Да, чуть не запамятовал! Вот с этим, последним, сигнал был такой условный: когда Семенов появляется, тот сидит без перчаток. Семенов проходит к памятнику Тимирязеву и идет обратно — тот уже в перчатках. Значит, все в порядке. Если не наденет перчаток — уходи, свидание не состоится. Но такого не случалось. Возвращается Семенов до площади Пушкина — и снова назад. Тот должен опять быть без перчаток. Тогда — порядок. Подсаживайся, передавай, что привез; получай, что положено. И с другими были сигналы. Разные, у каждого свой…
У Миронова сложилось впечатление, что тут Семенов говорит правду и сказал все, что знал.
Поручив своему помощнику продолжать допрос, Андрей отправился с докладом к генералу.
— Неплохо, — сказал Семен Фаддеевич, выслушав Миронова, — Трудновато будет теперь Б. выкручиваться. И с Королем прояснилось. Вот что, Андрей Иванович, вы оформите все, что касается Б., отдельным протоколом и кончайте допрос. Семенова отправьте в тюрьму. Дело в том, что завтра с утра придется вам вылететь в Крайск.
— Как — в Крайск? — удивился Андрей. — А Семенов, Б. — кто с ними будет работать? Или… или там что-нибудь новое? Савин вернулся?
— Вот именно: вернулся Савин и через день отправляется с Войцеховской в Латвию. Следовательно, приступаем ко второму этапу операции. Вам следует быть на месте. О Семенове и Б. не беспокойтесь.
Следующим утром Миронов был уже в Крайске и прямо с аэродрома отправился к Скворецкому. Полковник засыпал Андрея вопросами: что там, в Москве, выяснилось с Черняевым? Выходит, Черняев вовсе и не Черняев — кто же он такой? Что еще за «турист» появился?
Миронов, экономя время, принялся рассказывать о главном, что произошло в Москве за последние суматошные дни: о своем посещении полковника в отставке Шумилова и Воронцовой; о приезде Семенова и встрече его на Тверском бульваре с иностранным туристом, мистером Б., о спичечной коробке и двух с половиной тысячах рублей.
Луганов подошел в самом начале рассказа, так что Андрею не пришлось ничего повторять.
Когда Андрей закончил, настала очередь Скворецкого и Луганова: они сообщили Миронову о результатах поездки Савина в Латвию. Рассказывал больше Кирилл Петрович: он говорил лаконично, то и дело поглядывая на часы.
— Вам с Лугановым, — сказал полковник, — надо вылететь в Ригу сегодня, за сутки до Войцеховской и Савина, подготовить встречу. До отлета времени не так много: около двух часов. Савин сейчас у меня на квартире. Утром он был у Войцеховской. Вручил ей билет и получил последние инструкции. Поедем ко мне и вместе с Савиным все обсудим. Ему в предстоящей операции придется играть не последнюю роль.
— Кирилл Петрович, — усмехнулся Миронов, — а что, если Савин опять на меня с кулаками полезет?
— Ничего, утихомирим, — ответил Скворецкий, — да и Савин теперь не тот — пережить ему за эти дни довелось немало. Вы с Василием Николаевичем идите к себе, одевайтесь. Я за вами следом.
Миронов и Луганов вышли из кабинета. Кирилл Петрович, убрав лежавшие на столе бумаги в сейф, принялся натягивать шинель. В эту минуту дверь приоткрылась, и вошел секретарь с папкой под мышкой. Увидев, что начальник управления одевается, он нерешительно спросил:
— Товарищ полковник, тут сообщение. Что-то насчет Польши. Срочное.
— Насчет Польши? Давай сюда.
Сообщение было обстоятельное, на нескольких страницах. По мере того как Скворецкий читал, выражение его лица становилось все более сумрачным.
— А ну-ка, — сказал он секретарю, не отрываясь от бумаги, — давай мне Москву, генерала Васильева. Да побыстрей, вне всякой очереди.
Скворецкий дочитал документ до конца, некоторые места перечитал вторично и принялся озабоченно расхаживать по кабинету.
Наконец раздался звонок. Генерал Васильев был у аппарата.
— Семен Фаддеевич, день добрый. Докладывает Скворецкий. Только что поступило сообщение из Польши. Насчет Войцеховской. Наши предположения подтвердились: никакая она не Войцеховская, и вовсе не украинка. Польские товарищи разыскали бывших участников националистического подполья времен войны и предъявили им фотографию. В ней опознали Аннелю Пщеглонскую, дочь польского помещика Казимира Пщеглонского, одного из близких Пилсудскому людей. Семья Пщеглонских в первые же дни после вторжения немцев в Польшу удрала в Лондон. В кругах польской эмиграции в Лондоне Казимир Пщеглонский играл заметную роль. Он был близок с реакционными английскими кругами, поддерживал связи с американцами. Одним словом, характеристика — дальше ехать некуда.
Недалеко от отца ушла и дочка — Аннеля Пщеглонская. В сорок втором — сорок третьем годах она вела себя в Лондоне весьма активно. В сорок четвертом году Аннеля Пщеглонская была переправлена из Англии в Польшу, входила в ближайшее окружение генерала Бур-Коморовского. Состояла при нем вплоть до начала Варшавского восстания. Потом исчезла. Польские товарищи полагают, что в комсомольскую организацию Варшавы она проникла по заданию лондонской эмиграции или самого Бур-Коморовского. Да, вот еще: во время пребывания в Лондоне Пщеглонская была близка с майором американской разведки Джеймсом.
Я посчитал необходимым доложить эти факты безотлагательно: ведь Миронов и Луганов вот-вот должны вылететь в Ригу для подготовки заключительного этапа операции. Как быть с операцией теперь, в связи с новыми данными?
— Ну, а вы, Кирилл Петрович, — послышался в трубке голос генерала, — вы сами как полагаете? Каковы ваши соображения?
— Я бы действовал по намеченному плану. Разве что предупредил бы товарищей об особой осторожности и бдительности. Дело-то, выходит, куда как не шуточное.
Генерал с мгновение помолчал, потом сказал:
— А может, все же отказаться от операции и взять ее прямо сейчас, в Крайске?
— Никоим образом, товарищ генерал. Оснований для ареста, конечно, достаточно, но что мы будем делать потом, после ареста? Чем изобличать? Сколько времени потеряем! Нет, я бы операции не отменял. Впрочем, как прикажете…
— Хорошо, Кирилл Петрович, — согласился генерал. — Действуйте по своему усмотрению. Только участников операции проинструктируйте особо тщательно. Да, еще одно замечание, касательно заключительного этапа.
Выслушав замечание генерала, Скворецкий сказал: «Слушаюсь, передам Миронову», — попрощался и с тяжелым вздохом положил трубку. «Так я и знал, — подумал он про себя, — уверен был, что этим кончится».
Когда Кирилл Петрович спустился вниз, к подъезду, Луганов и Миронов встретили его недоуменными взглядами. Андрей демонстративно посмотрел на свои часы и постучал пальцем по стеклу.
— Долгонько одеваетесь, товарищ начальник, — сказал он иронически, — долгонько. Все небось дела, дела…
— Да уж такие, брат ты мой, дела, — ответил Скворецкий, — что чуть все к черту не полетело.
— Что такое, — встревожился Миронов, видя, что Кирилл Петрович не шутит, — что случилось?
— А вот то и случилось. Отойдемте-ка в сторонку…
Тихо, полушепотом, Скворецкий наскоро ознакомил Миронова и Луганова с сутью полученного из Польши сообщения и принятом решении.
— Видите, — закончил он свой рассказ, — что получается. Идете вы на крупного зверя, тут глаз да глаз нужен. Операцию надо вести быстро, решительно, но соблюдая всяческие предосторожности. Всяческие… — Кирилл Петрович подчеркнул это слово.
До дома полковника доехали молча. Кирилл Петрович вышел из машины первым и, велев шоферу ждать, пошел вперед, показывая Дорогу. Открыв дверь своим ключом, он пропустил Миронова и Луганова и, как только они разделись, провел их в кабинет. Савин, сидевший в уголке дивана и листавший какой-то толстый журнал, поднялся навстречу с радостной улыбкой. Однако, едва увидев Миронова, Савин вздрогнул, улыбка сбежала с его лица. Прищурив глаза, он шагнул вперед.
— Товарищ полковник, — сказал он с внезапной хрипотцой. — Ведь это…
— Знаю, — решительно оборвал его Скворецкий. — Ты хочешь сказать, что это тот самый человек, который был в «Дарьяле»?
Савин молча кивнул.
— Что ж, — продолжал Скворецкий, — ты не ошибся. В «Дарьяле» с Войцеховской был действительно он. Он был там потому… потому, что нужно было быть, и делал то, что нужно было делать. Между прочим, познакомься: майор Миронов, Андрей Иванович Миронов, сотрудник Комитета государственной безопасности. Из Москвы. Ты поступаешь в его подчинение.
— Так как, Степан Сергеевич, вместе поработаем? — сказал Андрей, с открытой улыбкой протягивая Савину руку.
Савин ответил коротким рукопожатием и, отступив в сторону, пристально посмотрел на Андрея. Затем перевел взгляд на Скворецкого.
— Товарищ полковник, — нерешительно обратился он к Скворецкому, — разрешите вопрос?
— Вопрос? Можно. Только давай покороче. Времени у нас в обрез.
— Значит, если я правильно понял, товарищ майор интересовался Войцеховской еще до моего сообщения? Выходит… вы и без меня знали, что она шпионка?
— Шпионка? — повторил Скворецкий. — Ну, это, брат, нет. Чего мы не знали, того не знали. Но кое о чем, конечно, догадывались. А ты как думал?..
Вновь, в этот раз почти в полном составе (не было только Савельева), участники операции обсудили в деталях план предстоящих мероприятий. Были уточнены все подробности, согласованы действия. Заметив, что Миронов все чаще посматривает на часы, Скворецкий закончил разговор:
— Ну, теперь, пожалуй, все. Вам с Василием Николаевичем пора, — сказал он, поднимаясь. — Берите мою машину и прямо на аэродром. Мы со старшим лейтенантом задержимся, выйдем чуть позже.
— Старшим лейтенантом? — криво усмехнулся Савин. — Бывшим, вы хотели сказать, товарищ полковник.
— Почему — бывшим? Ах да… — Скворецкий лукаво посмотрел на Степана. — Я и забыл сказать: сегодня пришла копия приказа командования Военно-Воздушных Сил. Как там, бишь, написано, дай бог память? Так, кажется: «Учитывая, что Савин Степан Сергеевич глубоко осознал совершенные им поступки, а также его искреннее раскаяние, приказ номер такой-то от такого-то числа о лишении Савина офицерского звания и увольнении из армии отменить. Восстановить Савина Степана Сергеевича в звании старшего лейтенанта. Предоставить старшему лейтенанту Савину двухнедельный отпуск, после чего приступить к исполнению служебных обязанностей…» Ну, отпуск, как понимаешь, для наших дел. Значит, выходит, и есть ты самый настоящий старший лейтенант, никакой не бывший…
— Товарищ полковник, — прошептал Савин побелевшими губами. В глазах его стояли слезы. — Товарищ полковник… я… я… Вы…
Он вытянулся в струнку, опустил руки по швам и звонким, срывающимся голосом произнес:
— Служу Советскому Союзу!
Глава 27
Миронов и Луганов успели в аэропорт вовремя, к самой посадке. Правда, шоферу пришлось для этого гнать всю дорогу на предельной скорости, не считаясь с правилами движения, но ему это было не впервой. Тем же вечером они были в Риге, сразу связались с командованием пограничников, Посвятив их в суть предстоящей операции, Миронов и Луганов выехали в Вентспилс, к старому рыбаку.
До домика рыбака, где жил все эти дни Сергей, «входя в роль», Андрей и Василий Николаевич добрались только к ночи. Рыбак и Савельев собирались ложиться спать, но, завидев Миронова и Луганова, Сергей радостно кинулся им навстречу. По всему облику Савельева, по выражению его лица, по уверенным, порывистым движениям было видно, что неделя, проведенная на берегу моря, оказала на него чудотворное действие.
— Ну что, Сергей, — одобрительно сказал Миронов, — входишь помаленьку в форму?
— Почему это — вхожу? Почему помаленьку? — задиристо ответил Савельев. — Я в форме, Андрей Иванович, в отличной форме. Можете не сомневаться. Да что там — вы дядюшку Иманта спросите. Верно, дядя?
— О, да, — значительно сказал старый рыбак, посасывая коротенькую прокуренную трубку, — мой племянник есть в отшень хороший форма, полный форма. Можно нет волноваться.
Невзирая на протесты Миронова и Луганова, высказывавшихся, правда, не в очень категорической форме, дядюшка Имант и Сергей принялись тут же хлопотать возле печурки, чистить рыбу для ухи.
— В чужой монастырь свой устав не совай! — внушительно сказал старый рыбак в ответ на просьбы Миронова не утруждать себя излишними хлопотами. — Отведаешь наш уха, тогда и говорить можно. А что час поздний — это тьфу! Мы ночь часто не спим, работаем. Такой наш рыбацкий дело.
Пока закипала уха, Андрей успел сообщить рыбаку и Савельеву, что Войцеховская и Савин будут здесь к завтрашнему вечеру. За столом деловых разговоров не велось: не желая обидеть гостеприимного старика, гости похваливали уху (впрочем, она того и стоила), не касаясь цели своего приезда.
Когда с ужином было покончено, Миронов открыл, как он выразился, «оперативное совещание». Посвятив старого Иманта и Савельева в план предстоящей операции, он подробно обсудил с ними, что надо было делать каждому. Когда все стало ясно, Андрей спросил, где он сможет укрыться, чтобы не попасться на глаза Войцеховской, когда та появится. Рыбак понял его с полуслова: он молча поднялся и жестом пригласил Миронова следовать за собой. Во дворе, вблизи дома, находился небольшой сарайчик, где хранилась рыбачья снасть. Туда старый Имант и привел Миронова. Осмотрев сарай, Андрей пришел к выводу, что лучшего места и не придумаешь. Теперь со спокойной совестью можно было и отдохнуть.
…Войцеховская, она же Пщеглонская, и Савин вылетели из Крайска сутки спустя. На аэродром они прибыли порознь, порознь сели в самолет, порознь вышли в Рижском аэропорту, но у выхода из аэропорта Войцеховская кивнула Степану: теперь можно, подходи. Дальше они отправились уже вместе. Степан был возбужден, его начинало лихорадить: еще бы, в подобном деле он участвовал впервые. «Да, — усмехнулся он про себя, — это тебе не новую машину в воздух поднимать. В машине чувствуешь себя куда увереннее».
Войцеховская же напротив: она настолько владела собой, что по ее внешнему виду заметить что-либо было трудно. Как и все последние дни, она обращалась к Степану в повелительном тоне, была холодна, спокойна, ни к чему не проявляла особого интереса.
В Риге Войцеховская и Савин не задерживались: наскоро перекусив, они выехали в Вентспилс.
Между тем в Крайске чекисты не дремали: как только полковнику Скворецкому стало известно, что самолет, на борту которого находились Войцеховская и Савин, поднялся в воздух и лег на курс, группа сотрудников Управления КГБ выехала на квартиру Войцеховской. Возглавил группу сам полковник. Особыми надеждами Скворецкий себя не тешил: он понимал, что такой опытный враг, как Пщеглонская, вряд ли оставит какие-либо следы. И все же у него теплилась надежда: а вдруг да что-нибудь, какая-нибудь мелочь, могущая сыграть свою роль в ходе расследования, обнаружится.
Однако, судя по всему, ожиданиям его не суждено было сбыться. Пересмотрели все: одежду, книги, мебель (вещей в комнате было порядочно. Войцеховская почти ничего, кроме предметов первой необходимости, с собой не взяла), и ровно ничего заслуживающего внимания не обнаружили.
Но тут взгляд Кирилла Петровича внезапно упал на саквояж: обычный, простенький саквояж, не очень новый, но еще целый, одиноко лежавший в углу вблизи тахты.
Хотя этот саквояж уже осмотрели и, не обнаружив ничего интересного, отложили в сторону, у Скворецкого он почему-то возбудил тревогу. Почему? Полковник вдруг вспомнил: именно саквояж, а не чемодан получила тогда в камере хранения аэропорта Войцеховская. Тот самый саквояж, ключ и квитанция на получение которого находились в спичечной коробке, спрятанной в водосточной трубе. Так не лежит ли перед ним этот самый саквояж, от которого, не считая его уликой, Войцеховская не позаботилась избавиться? Да, вернее всего, так оно и есть. Он самый.
«Впрочем, — тут же подумал Скворецкий, — если это и тот самый саквояж, так что это даст?» Ведь тогда, в аэропорту, Луганов внимательно его осмотрел и ровно ничего не обнаружил. Хотя… Хотя столь ли уж тщателен был осмотр? Ни время, ни обстоятельства не позволяли провести его со всем тщанием. С другой стороны, если что в саквояже и было, так теперь наверное это давно изъято».
Скворецкий взял саквояж и принялся внимательно его исследовать. Так и есть: саквояж пуст и ни снаружи, ни внутри ровно ничего примечательного. Хотя… Минутку… А это еще что такое? Почему тут, в уголке, отпорота подкладка? Да, да, именно отпорота, а не оторвана. Что она отпорота, и отпорота аккуратно, не сгоряча, определить было не трудно, однако обратить на это внимание мог только тот, кто, как Скворецкий, знал историю саквояжа. Оперативные работники, участвовавшие в обыске, всего хода расследования не знали и знать не могли, а сам по себе саквояж им ничего не говорил, поэтому они и не могли придать значения той мелочи, что подкладка саквояжа чуть отпорота. Но Скворецкий знал о саквояже. Медленно, осторожно он прощупал его дно снаружи и изнутри, особенно тщательно обследовав пространство под отпоротой подкладкой — пусто! Ничего постороннего там не было. Не было… Да, сейчас не было, но ведь в свое время могло и быть. Разве не могло лежать под подкладкой несколько аккуратно сложенных листков бумаги, которые, не отпоров подкладки, нельзя было обнаружить. Это было вполне возможно. Тем более возможно, если предположить, что это были не листки бумаги, а кадры микропленки.
Конечно, при тех условиях, в которых проводил осмотр Луганов, он был просто не в состоянии отыскать такое «послание», если даже оно и было.
Скворецкий, распорядившись заканчивать обыск, покинул квартиру Войцеховской. Саквояж он захватил с собой. Часа полтора спустя в кабинет начальника Управления КГБ робко вошла Ольга Зеленко, приглашенная сюда по распоряжению Скворецкого. Кирилл Петрович, извинившись за беспокойство, показал ей на саквояж, стоявший на столике, придвинутом к его рабочему столу.
— Как, раньше такую штуковину вам видывать не доводилось? — спросил он.
— Право, не знаю, — неуверенно сказала Зеленко. — Помнится, такой саквояж был у Капитона Илларионовича — это Черняев, знаете? — но я не уверена. Нет, не уверена. Может, и не совсем такой, просто похожий…
Вскоре после ухода Зеленко появилась Левкович.
— Господи твоя воля! — всплеснула она руками, едва увидев саквояж. — И что это такое делается? Сперва на вокзале оказался чемодан Ольги Николаевны, а теперь вот здесь, у вас, этот самый, как его… Сак, что ли? Ну, одним словом, вещь Капитона Илларионовича.
— Вы хотите сказать, — уточнил Скворецкий, — что этот саквояж принадлежит Черняеву? Вы не ошибаетесь?
— Да нет, товарищ начальник, какая может быть ошибка? Его саквояж, Капитона Илларионовича, это уж точно.
Отпустив Левкович, Кирилл Петрович задумался. Он попытался мысленно восстановить весь ход событий. Да, думал Скворецкий, так, вероятнее всего, оно и было: получив очередную порцию нужных его хозяевам сведений, псевдо-Черняев (а до него, возможно, Корнильева) вывешивал на доске объявлений соответствующий текст, служивший сигналом, составлял донесение, микрофильмировал его, кадры пленки прятал под подкладку саквояжа и сдавал саквояж в камеру хранения. Ключ от саквояжа и квитанция на его получение укладывались в спичечную коробку и помещались в водосточную трубу на пустыре. Войцеховская, обнаружив на доске объявлений условный текст, забирала квитанцию и получала саквояж. Затем кадры микропленки перекочевывали на спичечную коробку и с Семеновым отправлялись в Москву, Б. Ничего не скажешь, сделано ловко! Хоть и довольно сложно, путано, но ловко. Тут, допустим, ухватишься за одно звено — скажем, за того же Семенова или даже саму Войцеховскую, — ан ничего, кроме этого звена, нет. Ни конца, ни начала — цепь оборвалась. Надо проследить всю нить от Корнильевой и Черняева до Б., чтобы полностью размотать клубок. А нить, хоть она и прочная, но тонкая, ой какая тонкая!
«И все же проследили, — с торжеством подумал Скворецкий. — Проследили!» Но тут же он вновь задумался: «Да, проследили. Так ли? Путь от Черняева к Войцеховской будто бы ясен, а дальше? Дальше кое-каких звеньев не хватает. Нет главного — как установить, что к Б. попадали именно донесения Черняева, а не кого-либо другого? Ведь никаких доказательств нет. А это важнейшее звено во всей цепи. Если, допустим, Б. материалов Черняева или Корнильевой не получал, тогда и все остальное вызывает сомнение… Но нет! Черняевские материалы должен был получать Б., и никто другой. Во всяком случае, последнее время».
Кирилл Петрович продолжал рассуждать сам с собой: «Хорошо, нить от Корнильевой — Черняева к Б. прослежена правильно, тут сомневаться нечего. Не трудно понять и роль Войцеховской; вероятно, она получила задание сменить в этой цепи Корнильеву, когда та стала не нужна и ее ликвидировали. Но кто же скрывается под именем Черняева, что за человек, откуда взялся? Какова, наконец, истинная роль Ольги Николаевны Корнильевой: кто она — связная, вербовщик, резидент? Сколько еще неизвестных в этом запутанном уравнении, будь оно неладно!»
Довести свои рассуждения Кириллу Петровичу до конца не удалось: его вызывала Москва, генерал Васильев. Он спешил порадовать начальника Крайского управления КГБ, что текст, запечатленный на микрокадрах, нанесенных на пресловутую спичечную коробку, расшифрован. Как оказалось, он содержит сведения о некоторых оборонных стройках и сводные данные по тому строительству, на котором работал псевдо-Черняев.
— Автора текста, — уверенно сказал генерал, — можно считать установленным: это человек, выдававший себя за Черняева. Больше некому.
Семен Фаддеевич заметил, что в общем-то и целом записи не так уж ценны: они очень разрознены, не систематизированы. Специалисты, приглашенные для экспертизы, пришли к единодушному выводу, что составлял их человек знающий, посвященный во многие секреты, но составлял наспех, кое-как, поэтому получить по ним более или менее полное представление о чем-либо было крайне трудно, если вообще возможно.
Внимательно выслушав генерала, Кирилл Петрович, в свою очередь, рассказал ему о собственной находке — саквояже и возникших у него в связи с этим догадках.
— Теперь, — закончил Скворецкий, — цепь замкнулась. Путь от Черняева к Б. ясен…
— Кстати, — прервал его генерал, — как там этот самый, который выступал под именем Черняева, не пришел в себя? Все еще по-собачьи лает?
— Лает, — вздохнул Скворецкий.
— Ну, а экспертиза? Собирается она когда-нибудь дать заключение? Чего тянут?
— С экспертизой плохо, — признался Кирилл Петрович. — Большинство экспертов склонно утверждать, что сумасшествие Черняева самое доподлинное: не выдержал, мол, нервного потрясения. Но есть среди экспертов и такие, кто полагает, что все это — симуляция. К единому мнению эксперты прийти пока не могут.
— Так не пойдет, — решительно сказал генерал. — Дальше ждать мы не можем. Давайте вот что: завтра отправляйте Черняева самолетом сюда, в Москву. Тут и психиатры получше, и специальный институт имеется. Разберутся быстрее.
— Хорошо, — вздохнул Скворецкий. — Будет исполнено. Зачем завтра? Сегодня и направим…
Отдав распоряжение об отправке Черняева в Москву и покончив с текущими делами, которых за день скоплялось немало, Кирилл Петрович отправился домой. Он любил эти вечерние прогулки по шумному, веселому Крайску. Обычно он шел, приглядываясь к встречным, вслушиваясь в задорный смех молодежи, ловя обрывки случайных фраз. Но на этот раз мысли полковника были далеко: они были там, в Латвии, где, как он знал, сейчас развертывалась заключительная фаза операции. «Что-то у них теперь делается? — беспокоился Кирилл Петрович. — Гладко ли все пройдет? Ведь от такой, как эта Пщеглонская, ждать можно чего угодно».
Волновался, однако, Скворецкий напрасно: в Латвии все шло как надо, как и предусматривалось планом. Савин и Войцеховская добрались до Вентспилса к вечеру и прямо направились к рыбаку. Старый Имант и его племянник (Савельев вполне освоился с этой ролью) встретили их без особого радушия, как встречают гостей, не принять которых нельзя, хотя их визит и не доставляет удовольствия. Старик усадил Войцеховскую и Савина к столу и поставил перед ними сковородку свежеизжаренной рыбы.
— Спасибо, — отказалась Войцеховская, — но мне что-то не хочется.
— Нет, — решительно сказал рыбак, — так нельзя. Когда идешь в море, надо кушайт. Сколько будем идти — пять часов, десять, — кто знайт?
Тут же взгляд дядюшки Иманта упал на небрежно брошенный на лавку кожаный реглан Савина и аккуратно положенное рядом пальто Войцеховской. Он сделал знак Савельеву: убери, мол, в сени. Савин поднялся было сам, чтобы унести пальто, но Войцеховская внезапно воспротивилась.
— Ты можешь убирать свою кожанку куда угодно, — сказала она вполголоса, — но мое пальто не трогай. Оно останется здесь, в этой комнате.
— Ай, ай, ай, — укоризненно прищелкнул языком старый рыбак, — как нехорошо! Разве может человек оставлять свой пальто в комнате, где кушайт, где живет. Нехорошо.
Взяв из рук Савина реглан, прихватив пальто Войцеховской, старик вышел из комнаты, не обращая внимания на протесты Анны Казимировны. Понимая, что портить отношения с рыбаком не следует, во всяком случае сейчас, накануне отъезда, она наконец смирилась.
Старый Имант, вынеся пальто в сенцы, вернулся в комнату.
— Скоро будем ехать, — медленно роняя слова, заговорил он. — Начинается ночь, и будем ехать. Ночь лучше, темно. Солдат не видит, пограничник не видит. День нельзя, все видно, день надо вертайт обратно.
Старик помолчал, сделал несколько неторопливых затяжек из своей трубки, пустив к потолку густые клубы дыма, и спросил:
— Где есть деньги? Давай сейчас платийт.
— Как — сейчас? — возмутился Степан. — С какой это стати? Мы же условились, что окончательная расплата будет там, на том берегу…
— Вы аванс получили? — поддержала его Войцеховская.
— Аванс получайт, только надо все платийт, доллар платийт. Доллар ты мне не давал. Тот берег вы будете уходить, мне надо быстро-быстро плыйт обратно. Времени нету. Как будет? Доллар надо сейчас платийт.
Завязался ожесточенный торг: старик отступать не хотел, но не уступала и Войцеховская. Савин в спор почти не вмешивался, а Савельев попросту вышел из комнаты: мое, мол, дело — сторона. Мне-то что?..
Спорили долго. Наконец Войцеховская махнула рукой и с ожесточением сказала:
— Ладно. Часть суммы в долларах я выдам сейчас, но только часть — не больше. Окончательную расплату произведем на месте. Это мое последнее слово. Последнее… Не хотите — можете убираться к черту!
В этот момент в комнату вернулся «племянник» рыбака. Сумрачно посмотрев на него, дядюшка Имант решил закончить спор, пошел на уступки.
— Ладно, — проворчал он, — давайте доллар. Остальное — потом. Скоро ехать пора.
Войцеховская отвернулась к стене, прикрывая собой сумочку, которую ни на минуту не выпускала из рук, выхватила оттуда небольшую пачку банкнот, пересчитала их и швырнула через стол старику.
Рыбак ловко подхватил деньги, также аккуратно пересчитал их и, поднявшись из-за стола, убрал в почерневшую от времени шкатулку, стоявшую на комоде в углу комнаты. Затем он уселся к столу и принялся что-то старательно царапать карандашом на клочке бумаги.
— В чем дело? — нервно спросила Войцеховская. — Что это вы там пишете?
— Расписка, — с невозмутимым видом сказал рыбак. — Я пишу расписка, что получал доллар. Ты — давал, я — получал. Каждый дело требует порядок…
— Расписка? — изумилась Войцеховская. — А к чему она мне? Хотя… — Она загадочно улыбнулась. — Хотя давайте расписку… Пригодится…
Про себя она подумала: «Тебе же, старый дурак, хуже. Сам в петлю лезешь».
— Надо собирайте, — отрывисто сказал рыбак, вручив ей расписку, которую та тщательно упрятала. — Быстро! Быстро! Уже есть время!
«Племянник» проворно юркнул в сенцы и вернулся с верхней одеждой гостей и грубыми брезентовыми плащами с откидными капюшонами. Два из них он протянул Войцеховской и Савину. Сами они вместе с рыбаком надели плащи поверх теплых ватных курток.
Светя в кромешной тьме фонарем, старый Имант повел гостей к дощатому причалу, возле которого качался рыбацкий баркас.
— Ход у этого суденышка будь здоров, — прошептал Савин на ухо Войцеховской. — Как черт тянет.
— Ладно уж, помолчи, — огрызнулась та. — Лишь бы до места добраться…
Войцеховская и Савин перебрались на баркас и уселись возле борта. Рыбак нырнул в темноту и вскоре вернулся с «племянником», таща вместе с ним тяжелую сеть.
— Для маскировка, — пояснил он. — Для пограничник. Едем рыба брать…
Сеть была брошена на дно, к ногам пассажиров. Дядюшка Имант и «племянник» мягко спрыгнули в баркас, мотор затарахтел, канат был отвязан, и суденышко ходко пошло в море.
Прошло минут пятнадцать — двадцать, и на опустевшем причале появился еще один человек. С минуту он постоял, вслушиваясь в монотонный плеск волн, набегавших на песчаный берег, и, убедившись, что звук мотора заглох вдали, несколько раз включил и выключил электрический фонарик, направляя тонкий луч света вдоль берега. В ответ на этот сигнал где-то невдалеке, в море, оглушительно взревел мотор, вспыхнул прожектор, и к дощатому причалу, на котором стояла одинокая фигура, стремительно помчался верткий пограничный катер.
Метрах в ста от берега катер резко затормозил, вздыбив высокие буруны, описал кривую и осторожно, приглушив мотор, подошел к причалу.
— Ну как, — послышался с катера голос Луганова, — все нормально?
— Полный порядок, — ответил Миронов (это он стоял на причале) и ловко перескочил на палубу катера. — Давайте так, товарищи, — обратился Андрей к командиру катера, поглядев на светящийся циферблат своих часов, — отойдем в море и немного поболтаемся. До назначенного срока еще сорок семь минут. Да свет выключите, он пока ни к чему.
— Слушаюсь, товарищ майор! — ответил командир катера.
Прожектор погас, мотор заработал на полную мощность, и катер рванулся в открытое море.
…Прошло около часа, как баркас дядюшки Иманта покинул берег. Мерно тарахтел мотор, волны плескались о борт суденышка. Старый рыбак, посасывая свою трубку, сидел на руле, «племянник» притулился возле мотора. Войцеховская, напряженно всматривавшаяся в темноту, сейчас откинулась к борту, надвинула капюшон и, казалось, дремала. И чего было беспокоиться? Все шло как по маслу. Еще час-другой, и они будут в водах той страны, куда она стремилась. А там… там… Там она сбросит с себя ненавистную личину, которую столько лет носила…
В этот миг где-то вдалеке, не то справа, не то позади, послышался гул мощного двигателя. Гул все нарастал и нарастал. Старый рыбак безмолвно застыл у руля, напряженно вглядываясь в темноту, а «племянник» испуганно зашевелился возле мотора. Войцеховская резко выпрямилась, вцепившись пальцами в рукав Савина.
— Ты слышишь? — спросила она свистящим шепотом. — Слышишь? Что это может быть?
Савин не успел ответить, как прямо по ходу баркаса, в какой-нибудь сотне метров впереди, вспыхнул ослепительный луч прожектора и, стремительно пробежав по верхушкам волн, уперся прямо в баркас, выхватив его весь, вместе со всеми пассажирами, из темноты. Мотор баркаса внезапно чихнул раз, чихнул другой и заглох. Гул вдалеке, во мраке, становился все ближе, все явственнее. Там возник второй сноп света, метнулся в одну сторону, в другую, скрестился с первым и вцепился в беспомощный баркас, безжизненно качавшийся на волнах.
— Почему выключили мотор? — хрипло прошипела Войцеховская, вскакивая со своего места. — Включай немедленно!.. Надо уходить, уходить надо…
— Куда уйдешь? — тоскливо отозвался рыбак. — Куда? Нет куда. Пограничники…
— А ну, старый пень, — повысила голос Войцеховская, — немедленно запускай мотор — и ходу! И ты пошевеливайся, щенок паршивый! — яростно повернулась она к «племяннику». — Твоя небось работа? Наделал от страха в штаны и заглушил мотор, собачья кровь! А ну, живо!
В ее руках тускло блеснула вороненая сталь пистолета. Все дальнейшее не заняло и минуты. К вящему изумлению Войцеховской, на лице «племянника», мертвенно-бледном в слепящем свете прожектора, не было и тени замешательства, ни малейших признаков страха, никакого испуга. Чуть пригнувшись, «племянник» отчаянным прыжком преодолел разделявшее их пространство и кинулся на Войцеховскую. Анна Казимировна выстрелила, но напрасно. В момент выстрела рука ее была подброшена снизу вверх, и в следующее мгновение пистолет очутился в руках Савина.
— Анна Казимировна, вы сошли с ума! — крикнул Степан, отстраняя ее руку. — Стрелять на глазах у пограничников? Это… Это безумие…
— А-а-а-а, — взвизгнула Войцеховская, — и ты туда же? Трус, предатель!
С неженской силой она ударила его по лицу. Ударила раз, хотела нанести еще удар, но подоспевший Савельев крепко схватил ее за руку. Степан смотрел на нее с нескрываемым презрением.
— Спасибо, Анна Казимировна, — сказал он сдавленным голосом, — спасибо за учение…
Но Войцеховская его не слушала: с остервенением вырывалась она из рук Савельева, державшего ее железной хваткой.
Между тем пограничные катера, утробно урча моторами, работавшими на малых оборотах, с двух сторон приблизились к баркасу, беря его в клещи.
— Что за судно? — послышался с одного из катеров властный голос, усиленный рупором. — Откуда, из какого порта идете? Куда? Почему нарушили государственную границу? Что у вас там происходит, что за стрельба?
В ответ не раздалось ни слова. Все, кто находился на баркасе, молчали.
— Швартуй баркас! — прозвучала команда. — Наряду перейти на задержанное судно. Взять баркас на буксир. Людей перевести сюда, на катер.
«Все, — поняла Войцеховская, — игра кончена. Не вывернуться». Но сдаваться живьем в руки чекистов она не собиралась. Войцеховская пригнула голову, вцепилась зубами в угол воротника своего пальто, с силой сжала челюсти и закрыла глаза. Она знала: мгновение — и Аннели Пщеглонской не будет в живых. Хрустнет в зубах раздавленная ампула, и молниеносно действующий яд сделает свое дело…
Что это, однако? Прошло мгновение, другое и третье, а под зубами ничто не хрустит. Она жива, жива…
— Вот так встреча! Никак, Анна Казимировна? — внезапно раздался с одного из катеров до ужаса знакомый голос. — Зря стараетесь, ясновельможная пани. Ампулы в вашем воротнике нет. Я ее обнаружил и вынул, пока вы торговались с владельцем баркаса там, в Вентспилсе.
«Пресвятая дева Мария! Чей это голос, как попал сюда этот человек? — с ужасом подумала Пщеглонская. — О чем он говорит, этот инспектор? Неужели все знает? Но, матерь божья, инспектор? Откуда? Как?» Внезапно Пщеглонскую осенило: «Чекист! Этот инспектор — переодетый чекист, и Савин чекист, и старый рыбак чекист, и его племянник, конечно, тоже. Все они — чекисты. В этой непонятной стране — все чекисты!»
Однако времени на раздумья пани Пщеглонской отпущено не было: на баркас ловко перепрыгнули пограничники, Миронов, Луганов. Пщеглонскую пересадили на один катер, Савина — на другой. Катера взревели моторами и стремительно помчались к берегу, к советскому берегу.
Глава 28
Катер, на котором находилась Пщеглонская, взял курс на Ригу. В порту ожидала машина. Пщеглонскую отвезли в КГБ Латвии. На ночь ее поместили в одном из кабинетов, поручив заботам специально проинструктированной сотрудницы Латвийского КГБ.
От предложенного ей ужина Пщеглонская отказалась и молча улеглась на диван, где была приготовлена постель. Но уснуть ей не удалось, да она и не очень старалась. Анна Казимировна думала, думала, думала… Думала всю ночь напролет. Как ни горько ей было в этом признаться, но наедине с собой не было смысла лукавить: да, она была рада, что ампулы на месте не оказалось. В самом деле — зачем умирать, к чему? В тот момент, в лодке, она не думала ни о чем: ее охватила слепая ярость и безысходное отчаяние. Тогда она и схватилась зубами за воротник, надеясь на ампулу. Смерть, смерть! Ничего иного она в тот момент не желала, ни к чему не стремилась. Смерть? Но кому нужна ее смерть? Ей самой? Нисколько. В отличие от этой тупой скотины Семенова, которого она сама стращала «ужасами ЧК», Аннеля Пщеглонская превосходно знала, что все это — ложь. Она слышала, конечно, что арестованных били, но когда это было? Было это давно, во времена, теперь уже давно прошедшие, так что ей-то ничто такое не грозило. Никто — пани Пщеглонская это твердо знала — ее и пальцем не тронет. Чего следовало ей бояться, зачем уходить из жизни? Суда? Тюрьмы? Лагерей? Да, тюрьма, лагерь сулят ей мало приятного, и все же это лучше, чем смерть. Жизнь, в конце концов, не такая уж плохая штука. Ведь она, Аннеля, по существу, еще молода, ей всего лишь тридцать с небольшим. И хороша. О, она себе цену знает! Зачем же умирать?
Да и так ли уж неизбежны эти самые лагеря, тюрьма? Ведь она, Пщеглонская, как ни говори, иностранная подданная. Почему же за нее не могут вступиться?.. Вступиться! А кто? Губы Анны Казимировны искривила горькая усмешка: она, конечно, иностранная подданная: только что это за подданство, что хорошего она может от него ждать? Пщеглонская — полька, самая доподлинная полька, но разве может она рассчитывать на покровительство нынешней Польши, Польши народной, той Польши, которая уверенно и навсегда встала на путь социализма? Пани Аннеля знает тех, кто стал хозяевами в современной Польше: рабочих, крестьян, выходцев из интеллигенции, знает польских комсомольцев, коммунистов. Она присмотрелась к ним в дни Варшавского восстания, даже считалась своей среди них. Они встали за общее дело, сражались за свободную социалистическую Польшу, за будущее этой Польши. Пани Пщеглонская прикидывалась, что и сама мыслит так же, а на самом деле смеялась над ними, глубоко презирала эти бредни. Она-то знала, что каждый человек живет только для себя, для того чтобы иметь власть, иметь возможность удовлетворять собственные прихоти. Только для этого! Если за что и стоило сражаться, стоило рисковать жизнью, так это за господство такого строя, таких порядков, когда сильный попирает слабого и пользуется всеми благами жизни, остальные — ничтожества, которыми можно помыкать, как заблагорассудится. Таковы были жизненные принципы пани Аннели Пщеглонской, За торжество этих принципов, за право угнетать и презирать всех, кто стоял ниже ее, за право без оглядки пользоваться всеми наслаждениями, которые дает современная цивилизация, пани Пщеглонская и боролась, боролась как умела, как могла.
Нет, в современной социалистической Польше Аннеле Пщеглонской делать нечего. На своем польском подданстве она, конечно, настаивать не будет.
Вот если бы Соединенные Штаты… Сколько лет она для них работала, и как работала! Только разве там о ней подумают, разве побеспокоятся? Держи карман шире! Вся эта мелкая шушера, с которой пани Аннеля имела дело последние годы, не говоря уж о крупных боссах, поспешат от нее откреститься, бросят ее, оставят на произвол судьбы. Так уж у них принято.
Да, тут надеяться не на что. Если кто ее и спасет, хоть как-то облегчит ее участь, так это только она, она сама — Аннеля Пщеглонская, и больше никто. Вот если ей удастся заставить чекистов поверить в искренность ее раскаяния, если она выдаст им тех, кто ведет против их страны тайную борьбу (а уж она-то кое-кого знает, пусть немногих, но знает!), тогда можно надеяться на какое-то снисхождение. Глядишь — дадут небольшой срок, главное — сохранят жизнь. Жизнь! А там… там… чего не бывает! Всякое, в конце концов, может случиться…
А может, все это она зря? Может, лучше наоборот: все отрицать, ни в чем, ну буквально ни в чем не признаваться? Все отрицать? Нет, глупо. Непростительно глупо: кто знает, что им о ней известно, но, надо полагать, немало. Да и поймана она с поличным, в момент перехода границы. А тут еще эта расписка, что у нее изъяли. Расписка! О, старый дурак был вовсе не дурак — дурой оказалась она, Аннеля Пщеглонская. На этот крючок, на расписку, попался не рыбак, как она думала, а она, она сама… Это — прямая улика. Не отвертишься…
Да, отпираться не имеет смысла. Искренность, только искренность, игра в искренность — вот на какую карту надо ставить. Поверят — тогда есть шанс…
Итак, решено. Она расскажет все (впрочем, само собой разумеется, не в ущерб себе). С чего она начнет? Пожалуй, с этой скотины Джеймса. Конечно, Аннеля не будет рассказывать, что сама предложила американцам свои услуги, не скажет и о том, что план внедрения в коммунистическое подполье Варшавы и дальнейшего проникновения в Россию был намечен еще в Лондоне, совместно с американцами. Об этом Аннеля говорить не будет, зачем? Она расскажет иначе: Джеймс — негодяй, садист. Он сначала совратил ее, а потом шантажировал. Джеймс дошел до того, что угрожал благополучию ее престарелых родителей. (Как же! Разве мог угрожать благополучию папаши Пщеглонского какой-то там американский майоришка!) Вот и пришлось покориться. Такая версия подойдет, на это клюнут. Они жалостливые…
Ну, дальше, конечно, опять шантаж, тут она стесняться не будет. Затем выдаст им с головой, со всеми потрохами Семенова. Туда этому ничтожеству, этому кретину, и дорога. Подбросит еще кое-что по Харькову, Крайску, Москве. Не пожалеет, конечно, и Черняева, чванливого Короля, пытавшегося ею командовать. Правда, с Черняевым сложнее. Этот не из рядовых. Судя по всему, фигура, какой-то немалый чин в американской разведке. Из боссов. Но что ей о нем известно? Мало. До обидного мало. Ну ничего. Зато какие он добывал разведывательные данные и как их пересылал, она расскажет без утайки. Да и что таить, когда Черняев сам сидит и давно небось во всем признался, все выложил? Слух, что Черняев взят милицией, конечно, ложен. Таких берет не милиция…
Да, еще одно. От фамилии Войцеховской тоже придется отказаться, как и от всего, что связано с этой фамилией. Хочешь не хочешь, а о своем происхождении придется говорить правду или что-то около правды — все равно знают. Недаром этот Миронов (Миронов ли он на самом деле? Впрочем, теперь это уже не так важно!) там, на море, бросил ей: «Ясновельможная пани». Тут он, конечно, поспешил, дал ей кое-какие козыри. Но откуда они узнали ее настоящее прошлое, откуда? Кто выдал? A-a, чего гадать? Все скоро станет ясно…
К утру план действий созрел у Аннели Пщеглонской полностью, был продуман во всех деталях, в мелочах. Когда появился Миронов (Луганов в этот день возвращался в Крайск. Савельеву же было приказано лететь в Москву, но другим самолетом: показывать его Пщеглонской было незачем), Анна Казимировна встретила его вымученной, но не лишенной кокетства улыбкой. Глядя на нее, Андрей искренне удивился: хотя Пщеглонская и была бледна, хотя после бессонной ночи под глазами у нее легла густая синева, выглядела она отнюдь не так плохо, как того можно было ожидать. Анна Казимировна успела умыться, привести в порядок прическу, одежду, и, глядя на нее, трудно было себе представить, что позади у нее такая ночь…
— Андрей Иванович, голубчик, — томно сказала она. — Да, простите, можно вас так называть?..
— Андреем Ивановичем, пожалуйста, — сухо ответил Миронов, — а вот от «голубчика» увольте. Так что вы хотели?
— Я… я хотела поблагодарить вас, — потупилась Пщеглонская. — Спасибо, спасибо вам огромное: вы спасли мне жизнь. Да, да, спасли, там, на катере… Ну, а я… я вела себя как дура… Очень прошу меня простить.
— Благодарить меня не за что, — спокойно сказал Миронов. — Я просто выполнял свой служебный долг. Однако оставим эти разговоры, нам пора ехать.
Несколько часов спустя они были уже в Московском аэропорту, откуда Андрей благополучно доставил свою спутницу в Комитет государственной безопасности. Генералу Васильеву Андрей успел доложить еще из Риги об успешном завершении операции. Однако сейчас, сразу по прибытии, он поспешил к Семену Фаддеевичу, будучи уверен, что тот захочет узнать о подробностях. Кроме того, следовало доложить о доставке Пщеглонской в Москву.
Андрей не ошибся: генерал ждал его и с полчаса расспрашивал о том, как прошла операция, как вела себя Пщеглонская, как ведет сейчас.
— Хорошо, — закончил он беседу. — Займемся в первую очередь Семеновым. Проводите эксперимент, о плане которого докладывали. Савельев здесь, в Москве?
— Должен быть с минуты на минуту, он вылетел следующим самолетом.
— Вот и отлично. Да, чуть не упустил из виду: Пщеглонскую для начала допросите, хотя бы накоротке. Думаю, поручать это другому нецелесообразно.
Генерал сообщил Миронову о саквояже с отпоротой подкладкой, который обнаружил Скворецкий.
— Черняев, между прочим, здесь, в Москве, — заметил генерал. — Доставлен сегодня утром. Находится в Институте судебной психиатрии. Свяжитесь с руководством института и попросите ускорить экспертизу.
Переговорив с руководством института, Миронов вызвал на допрос Пщеглонскую. Та, к его удивлению, и не думала что-либо отрицать, в чем-то запираться. На поставленные ей вопросы она отвечала быстро, гладко, почти без раздумья и, что главное, по-видимому, правдиво. Такое, во всяком случае, складывалось впечатление. Как только Миронов заговорил о саквояже, Пщеглонская сама, без единого наводящего вопроса рассказала всю историю, начиная с объявления о чертежных столах и кульманах, спичечной коробки в водосточной трубе и кончая микрокадрами, содержащими шпионские сведения (какие точно, она не знала), которые она извлекла из-под подкладки саквояжа и переправила через Семенова в Москву.
Кому именно? Этого она тоже не знала. Ей известно было только имя Макарова, в адрес которого следовало посылать условную телеграмму. Что представлял из себя тот человек, который, получив от Макарова извещение, должен был явиться на Тверской бульвар и забрать у Семенова спичечную коробку, каково его подлинное имя, где он проживает и работает, Пщеглонская сказать не могла.
Чем дальше шел допрос, тем больше крепло у Миронова убеждение, что, сколь это ни странно, Пщеглонская ведет себя искренне и с первого же допроса решила говорить правду.
Закончив допрос Пщеглонской, Миронов вызвал Семенова и приступил к подготовленному заранее следственному эксперименту.
Допрос Андрей начал резко, напористо:
— Вернемся к вопросу о том, как вы были завербованы гестапо. Говорите правду…
— Гражданин начальник, — взмолился Семенов, — но я сказал все, все, вот те крест святой. Добавить мне нечего.
— Неправда! Вы сказали не все. Об обстоятельствах вербовки вы говорите не всю правду.
— Всю, клянусь вам, всю, — плакал Семенов. — Больше сказать ничего не могу. Прошу мне верить.
Андрей задал еще несколько вопросов, всё о том же — об обстоятельствах вербовки Семенова гестапо, но тот стоял на своем. Убедившись, что мысли Семенова полностью прикованы к вопросу о его вербовке немцами и отчаянными поисками аргументов, подтверждающих правильность его показаний, Миронов сделал незаметный знак своему помощнику. Тот молча встал и вышел из комнаты. Семенов, вопросы которому ставились беспрестанно, без передышки, не обратил на уход второго следователя особого внимания.
Прошло несколько минут, дверь в кабинет, спиной к которой сидел Семенов, бесшумно открылась, и тихо вошел Савельев. Не проронив ни слова, он пересек кабинет и встал рядом с Мироновым. Семенов бросил на вошедшего безразличный взгляд, затем взглянул снова и вдруг замолк на полуслове. Выражение его лица изменилось: он побледнел, нижняя челюсть начала отваливаться. Еще минута, и Семенов вскочил, вытянул перед собой руки и стал медленно пятиться назад, пока не уперся спиной в стену. Почувствовав, что дальше отступать некуда, он сжался, продолжая безумными глазами смотреть на безмолвно стоявшего Савельева. Его трясло как в лихорадке.
— Что, — прервал гнетущую тишину Миронов, — узнали, гражданин Семенов?
— К-к-то это? — лязгая зубами, спросил Семенов. — К-кто? От-куда?
— Полноте! Будто не знаете?
— Н-не м-может быть! — взвыл Семенов. — Он же мертвый, м-м-мертвый!!
— Ага, — жестко сказал Миронов, — значит, финку вы держали в левой руке? Можно записывать?
Семенов оторвался от стены, шагнул вперед, со стоном рухнул на стул и глухим, прерывающимся голосом пробормотал:
— Все скажу, все, только пусть он уйдет, пусть уходит, Н-н-не могу.
— Зачем же? — отрезал Миронов. — При нем все и рассказывайте, как было… Все, вы поняли? Не только об этом преступлении. Вам рассказывать и рассказывать.
Семенов молча кивнул головой, схватил дрожащей рукой стоявший перед ним на столике стакан воды и в несколько глотков осушил его.
Тяжело переводя дыхание, он заговорил. Но теперь его показания не были похожи на те, что он давал прежде: не трудно было понять, что на сей раз он говорит правду, выкладывает все до конца.
Свои показания Семенов начал с рассказа о том, как по распоряжению Черняева пытался убить Савельева. По словам Семенова, Черняев месяца полтора назад вызвал его и сообщил, что последнее время возле него постоянно крутится какой-то тип. Мешает. Этого типа надо «убрать». Черняевым был разработан и план убийства. В назначенный вечер, в назначенное время Черняев направился на окраину города. Будучи заранее проинструктирован, Семенов хорошо знал маршрут и шел далеко позади, не столько наблюдая за Черняевым, сколько пытаясь определить, где же тот, другой, кто не дает покоя Черняеву и кого надлежало «убрать».
Савельева он обнаружил не без труда, но, уж обнаружив, не упускал из виду.
Постепенно Семенову удалось приблизиться к Савельеву. В переулке, которым Черняев, а вслед за ним и Савельев прошли на пустырь, Семенов затаился.
Когда Черняев и следом. Савельев возвращались с пустыря, Семенов выскользнул из своего укрытия и припасенным заранее булыжником нанес Савельеву удар в затылок, затем еще раз ударил финкой между лопаток и бросил бездыханное тело в канаву. Вот, собственно говоря, и все. Да, еще бумажник… Чтобы создать видимость ограбления, он вывернул у своей жертвы карманы, снял с него пиджак, забрал бумажник, который бросил в том же переулке.
— И это все? — спросил Миронов.
— Все, — твердо сказал Семенов. — Верьте мне, гражданин начальник, как на духу все выложил.
— Вы показали, что нападение на Савельева совершили по распоряжению Черняева. Кто такой Черняев? Что вы о нем знаете?
— Черняев? — сказал Семенов. — Черняев — это и есть Король. Страшный человек…
По словам Семенова, Черняев — какой-то крупный начальник. Связался он с ним года два назад, и с тех пор Семенов выполнял его распоряжения: отвозил, как он уже говорил, различные вещицы в Москву, привозил, как обычно, ну, и конечно, получал от Черняева вознаграждение. Бывало, крупное. Это когда поручения случались посложнее, вот вроде того, о котором он сейчас рассказал.
Бывали ли еще поручения такого рода? Да, однажды. Всего один раз. Это было — дай бог память — в мае этого года. Черняев велел ему тогда прийти вечером к нему на квартиру, адрес дал. Ни раньше, ни позже Семенов у него на квартире не бывал, Так вот, пришел Семенов туда; Черняев дома, а на полу лежит женщина. Убитая. Труп, одним словом. Черняев же хоть бы что — бровью не поведет, только лицо словно закаменело.
Ну, взяли они с Черняевым труп, обернули мешковиной и отнесли подальше, на пустырь. Там и бросили. Больше таких поручений ему выполнять не приходилось, да и вообще о Черняеве больше он ничего не знает.
— А Ферзя вы давно знаете? — задал новый вопрос Миронов. — Как, кстати, ее фамилия?
— Ферзи-то? Нет, ее фамилии я не знаю и, кто она такая, не знаю. Она хитрая, осторожная…
Как уверял Семенов, Ферзь появилась на его горизонте около полугода назад. Назвала пароль, ну, он и стал выполнять ее поручения. Он, Семенов, когда Ферзь появилась, доложил, конечно, Черняеву. Кстати, и фамилию Черняева он тоже не сразу узнал. Сначала был Король. Король, и все. Черняев говорит: раз пароль правильный, делай, что она велит, только мне про все докладывай.
Между прочим, ему, Семенову, показалось, что Черняев ждал эту Ферзь, появлению ее ничуть не удивился. Да, еще. Как Ферзь объявилась, Черняев перестал пересылать вещички в Москву. И из Москвы ему Семенов больше ничего не возил, все Ферзь да Ферзь.
— Скажите, — спросил Миронов, — а поручения к Черняеву от Ферзи или от нее к Черняеву вы получали?
— Нет, такого не случалось. Да они, по-моему, и знакомы не были. Вот Черняев, тот, говорю, вроде бы знал о появлении этой дамочки, а она о нем и слова не говорила.
Закончив показания о Черняеве, Семенов перешел к истории своей вербовки сначала гестапо, потом американцами. Спешил рассказать, захлебывался. Но допрос надо было кончать: прошло немало времени.
Поинтересовавшись, как идут дела с Б., которого генерал Васильев допрашивал сам, Андрей узнал, что от прежнего чванливого и самонадеянного иностранца и следа не осталось: Б. «сыпался» не хуже Семенова, называя всех и вся. Уже был арестован Макаров и еще один агент Б., о котором тот поспешил сообщить. Судя по всему, большим он и не располагал: не густо было в Советском Союзе у американской разведки.
Каждый из арестованных говорил, говорил, говорил, стараясь утопить других и хоть сколько-нибудь умалить собственную вину «чистосердечным» признанием.
«Уж эти мне „чистосердечные“ признания! — усмехнулся про себя Андрей. — Все начинают признаваться, когда схвачены с поличным, изобличены и податься некуда! Посмотрим, как-то будет себя дальше вести пани Пщеглонская».
Однако поведение Пщеглонской мало чем отличалось от поведения ее сообщников: Миронов вызвал ее утром следующего дня, как только доложил генералу результаты допроса Семенова, и пани Пщеглонская сразу же заговорила, ни в чем не запираясь. Она рассказала, что еще в Лондоне, будучи совсем юной, попала в руки негодяя Джеймса, который сначала совратил ее, а затем, запугивая и шантажируя, вовлек в шпионскую работу. Стремясь избавиться от гнусных преследований Джеймса, пани Аннеля вступила в польскую национальную организацию (она так и сказала — национальную, не националистическую) и, пользуясь случаем, вскоре оказалась в Варшаве, в одном из отрядов, готовящихся к борьбе за освобождение Польши. Само собой разумеется, что при отъезде из Лондона ей пришлось изменить фамилию, биографию: так она стала Войцеховской, дочерью школьного учителя из Самбора.
Да, надо, конечно, сказать, что в польскую национальную организацию, в варшавский отряд, ее привело не только отвращение к Джеймсу, но и горячая любовь к отчизне, желание участвовать в общей борьбе против гитлеровцев.
— Там, в Варшаве, все тесно переплелось, — говорила Пщеглонская, — мы, рядовые бойцы, не делали особого различия между теми, кто действовал по приказам Лондона, и коммунистами. Все мы вместе вели общую борьбу против фашизма, вместе пошли на восстание, не по нашей вине ставшее трагедией Варшавы, трагедией Польши…
Слушая рассуждения Пщеглонской, Миронов про себя усмехался: «Ишь ты! Выходит, польские реакционные националисты шли чуть ли не в одном строю с подлинными борцами за освобождение Польши!»
Андрею было ясно, что, сколь ни откровенной прикидывается Пщеглонская, она что-то не договаривает, И дело было не только в ее рассуждениях: достаточно вспомнить сообщение польских товарищей о похождениях Пщеглонской в Варшаве, в Лондоне, чтобы прийти к такому выводу. Однако Миронов не собирался в начале допросов показывать Пщеглонской, что ему о ней известно куда больше, нежели она полагает, и давал ей выговориться. А она, ободренная тем, что следователь ее не перебивает, не ставит вопросов, идущих в разрез с ее показаниями, ликовала в душе, что намеченный ею план так удачно воплощается в жизнь, и рассказывала, рассказывала, рассказывала… Пщеглонская говорила о том, как вместе с варшавскими комсомольцами вырывалась из гибнущей под ударами гитлеровцев Варшавы на соединение с частями армии Народовой, как была ранена и очутилась в госпитале Советской Армии.
— Я, — утверждала Пщеглонская, — и думать забыла о Джеймсе, об американцах. Я чувствовала, что обрела новую жизнь, новую родину. Но тут — Васюков, надругавшийся над моей молодостью, подлость, обман…
Она, Пщеглонская, была совершенно подавлена всей этой тяжкой историей, а здесь напомнила о себе американская разведка, припугнула, начала шантажировать, ну и пошло-поехало. Дальше — больше. Стоит начать, а потом уже не остановишься, отступления нет…
— Хорошо, — прервал ее Миронов. — Все это мы в дальнейшем уточним, время у нас будет, а сейчас расскажите о Черняеве. Как, кстати, его кличка?
— Кличка Черняева? Его кличка Король.
— Король? Отлично. Так и запишем. Так что вы можете сообщить следствию об этом Короле? Кто он, откуда взялся, чем занимался? Учтите, мы и так знаем немало, так что советую…
— Советуете говорить правду? — горько усмехнулась Пщеглонская. — А вы полагаете, Андрей Иванович, что я нуждаюсь в таких советах, уклоняюсь от истины?
— Нет, зачем же, — возразил Миронов, — но напомнить лишний раз о необходимости говорить правду, и только правду, — моя обязанность. Итак, что вы можете сказать о Черняеве?
— К моему глубокому сожалению, почти ничего, если не считать того, что знал о нем почти весь Крайск: крупный строитель, начальство, один из руководителей номерного строительства. Скажу прямо, я была огорошена, когда он предстал передо мной в облике представителя американской разведки и назвал свою кличку — Король! Что Король должен был появиться, меня уведомили заранее; но кто он, я не знала.
— Когда это произошло? — быстро спросил Миронов.
— Около полугода назад, в апреле. Точнее в двадцатых числах апреля этого года.
«Ага, — подумал Миронов, — значит, тогда и был решен вопрос о ликвидации Корнильевой, а эту особу Черняеву дали в качестве замены». Вслух, однако, он ничего не сказал, ограничившись краткой репликой:
— Продолжайте.
— Попробую, — задумчиво сказала Пщеглонская, — хотя это и не легко. С Черняевым я встречалась считанное количество раз, в общей сложности два или три раза, не больше, и то в начале нашей связи. Затем была намечена система передачи материалов, которые я должна была переправлять в Москву, Этой системой мы в дальнейшем и пользовались, а встречаться уже не встречались. Кто такой Черняев, откуда взялся, я не знаю, но полагаю, что Черняев — не подлинная его фамилия.
— Почему возникло у вас такое предположение? Какие тому основания?
— Видите ли, — доверительно заговорила Пщеглонская, — знать точно я ничего не знаю, но оснований полагать, что Черняев — не подлинная фамилия Короля, больше чем достаточно. Король — фигура крупная, он из боссов. Я это поняла сразу, с первой встречи, поняла по его манере держаться, по тону, которым он со мной разговаривал. А такие под своей фамилией не работают, Как видите, мое заявление — плод своего рода анализа, умственных заключений. Фактами я, к сожалению, не располагаю.
Пщеглонская в этом случае не кривила душой; ей и в самом деле было досадно, что она так мало может сообщить о Черняеве, но больше она ничего или почти ничего не знала. Не станет же она рассказывать, как Черняев пытался при первой же встрече командовать ею, прибрать ее к рукам, только не вышло. Дудки! Она сумела поставить его на место и внушить ему, что работать они будут «на равных». Так оно и вышло. Но узнать о Черняеве она ничего не узнала, как, впрочем, вероятно, и он о ней. Что ж, тем лучше!..
Допрос был прерван телефонным звонком: звонил секретарь генерала Васильева. Он вызвал Миронова к прямому проводу: требует Крайск, полковник Скворецкий.
— Ты что же, — услышал Миронов голос Кирилла Петровича, едва взял трубку, — вернулся в Москву, а о нас и вспоминать не хочешь? Спасибо Луганову и Савину: те, вернувшись, хоть рассказали, как вы брали эту дамочку, не то я бы и этого не знал. Так уж и сообщить нечего?
— Кирилл Петрович, виноват… — едва отдышавшись после быстрой ходьбы, сказал Миронов (его кабинет был не близко от приемной генерала, в другом конце здания). — Но, право, хотел с вами соединиться с самого утра, да утром не удалось, а потом закрутился…
— Ладно, ладно, не оправдывайся. Выкладывай-ка лучше, какие у вас новости?
Миронов рассказал о минувшем допросе Семенова и той роли, которую сыграло появление Савельева, о поведении Б., показаниях Пщеглонской.
Внимательно выслушав Андрея, Скворецкий заговорил сам:
— За информацию спасибо, но я тебя вызвал не ради любопытства. Дело в том, что появился Корнильев, Георгий Николаевич Корнильев, брат Ольги Николаевны. Вернулся из экспедиции.
— А-а-а, вернулся, — протянул Миронов. В горячке последних дней он и забыл о брате Корнильевой. Да и так ли уже теперь был тот нужен? — Понятно. Что, алмаатинцы звонили, они это выяснили?
— Какое там выяснили! И выяснять не пришлось. Он сам у них сидит, в тамошнем КГБ.
— Сидит? — изумился Андрей. — За что?
— Да ни за что, понимать надо, — с досадой сказал Скворецкий. — Что чушь городишь? Сам сидит, сам. Пришел в КГБ и не уходит. У него, дескать, важное сообщение.
— Что за сообщение?
— А этого пока никто не знает. Корнильев, как пришел, заявил, что дело касается его сестры, проживающей в Крайске. Алма-атинские товарищи, памятуя наказ Луганова, расспрашивать Корнильева ни о чем не стали, а связались с нами. Вот об этом я и докладывал Семену Фаддеевичу, а заодно решил и тебя поставить в известность.
— Положеньице! — озабоченно сказал Миронов. — Задал этот Корнильев задачу. Надо же что-то делать, поручить кому-нибудь там с ним побеседовать?
— Зачем, — возразил Скворецкий, — вдруг у Георгия Николаевича действительно важное сообщение, а алма-атинские товарищи, не зная существа дела, не разберутся. Нет, туда надо ехать тому, кто ведет расследование. Луганову… Он, между прочим, уже вылетел. Как побеседует с Корнильевым — позвонит тебе. Учти. Вот об этом я и хотел тебя предупредить.
Глава 29
Звонка из Алма-Аты не последовало ни в этот вечер, ни на следующее утро. Миронова, наверное, это бы удивило, если бы он не был настолько занят делами, что буквально не замечал времени.
Генерал Васильев оказался прав: московские эксперты быстро закончили экспертизу. Они установили, что тот, кто выдавал себя за Черняева, абсолютно здоров и попросту симулирует сумасшествие, хотя и весьма искусно.
Как только заключение экспертизы было вынесено, псевдо-Черняева перевели в тюрьму, и Миронову пришлось засесть за подготовку к его допросу. Естественно, что он не помнил о брате Корнильевой, об отъезде Луганова в Алма-Ату. Но именно тут-то они и напомнили о себе, причем самым неожиданным образом: в разгар рабочего дня Андрея оторвал от дел телефонный звонок.
— Да, — сказал Миронов, беря телефонную трубку, — слушаю…
— Андрей Иванович, — послышался знакомый голос. — Здравствуй. Это я, Луганов. Звоню с аэродрома…
— Привет, Василий Николаевич, только с какого аэродрома? — не понял Миронов. — Ты же должен быть в Алма-Ате?
— А я и был в Алма-Ате, только теперь я уже здесь, в Москве, на аэродроме. Отсюда и звоню.
— И все-таки не понимаю: почему ты не позвонил из Алма-Аты, как очутился в Москве? Объясни толком.
— Ничего я по телефону объяснять не буду! — рассердился Луганов. — Вот через час-полтора доберусь до тебя, тогда сам все поймешь. Ты пропуск закажи, чтобы зря не ждать, два пропуска — мне и Корнильеву…
— Корнильеву? — ахнул Миронов. — Какому Корнильеву? Георгию Николаевичу?
— А кому же еще? Конечно, Георгию Николаевичу — брату Ольги Николаевны. Он здесь, со мной.
В голосе Луганова слышалось с трудом сдерживаемое нетерпение.
— Хорошо, — сказал Миронов. — Пропуска сейчас закажу. Где их получать, знаешь? Меня найдешь?
— Знаю, все знаю, не впервой.
— Может, подослать на аэродром машину?
— А зачем? Мы сейчас на автобус, и через час-другой у тебя. Скорее будет.
— Хорошо, действуй, — согласился Миронов. Он все еще окончательно не пришел в себя, настолько неожиданным было появление Луганова, да еще в обществе брата Корнильевой.
Начинать допрос Черняева теперь не имело смысла: что сделаешь за час-полтора?
За эти дни накопилось немало протоколов допросов Б., Пщеглонской, Семенова, и Андрей занялся их изучением, сопоставлял, как каждый из арестованных освещает тот или иной факт, вдумывался в детали, анализировал. За этим занятием и застали его Луганов с Корнильевым.
Если бы Андрей не знал, с кем именно появится Василий Николаевич, он все равно, наверное, угадал бы в его спутнике брата Ольги Николаевны Корнильевой, настолько велико у того было сходство с сестрой: тот же овал лица, тот же нос, те же линии рта, подбородка. Правда, живую Корнильеву Миронов никогда не видел, но он столько раз и с такой тщательностью изучал ее фотографии, что ошибиться не мог.
Производил Корнильев впечатление человека волевого, мужественного. Сейчас он выглядел утомленным, лицо, покрытое кирпично-красным загаром, какого не только в городе, да еще в такое время года, но и на курорте не встретишь, осунулось, выгоревшие волосы были взъерошены.
— Что, Георгий Николаевич, — спросил Андрей, когда, будучи представлены Лугановым друг другу, они расположились возле стола, — прямо из экспедиции? Трудновато вашему брату в горах приходится?
— Да, экспедиция была не из легких, — заметно волнуясь, сказал Корнильев, — только извините, я не хотел бы отвлекаться. К цели моего появления здесь геологическая экспедиция, как и вся моя нынешняя работа, отношения не имеет. Речь идет об Ольге Николаевне, моей сестре…
— Понимаю, — внутренне настораживаясь, сказал Миронов. — Понимаю. Ну что же, слушаю вас.
— Мне известно, — все больше волнуясь, продолжал Корнильев, — что Ольгу принимают за предательницу, шпионку. Это недоразумение, чудовищное недоразумение. Ольга всегда, всю свою жизнь была человеком честным, порядочным. Она бывала порой горяча, невыдержанна, могла ошибаться, и ошибаться тяжко, но человек она чистый, честный. Это я знаю твердо и за это ручаюсь. Ручаюсь головой…
— Да вы успокойтесь, Георгий Николаевич, успокойтесь. Зачем раньше времени волноваться?
Миронов встал, налил воды в стакан, протянул Корнильеву и снова сел. В душе его начало закипать глухое раздражение: и зачем Василию Николаевичу понадобилось тащить в Москву этого ходатая за сестрицу?
— Успокойтесь, — еще раз повторил он. — Ваши переживания мне понятны, но поймите и вы нас: факты, свидетельствующие против вашей сестры, весьма серьезны. Их много. Ведется расследование, и, смею вас заверить, самым тщательным и объективным образом. Пока расследование не закончено, я вам сказать ничего не могу: не вправе…
— Боже, да о чем вы говорите? — схватился за голову Корнильев. — При чем тут мои переживания, какую играет роль, что вы можете и что не можете сказать? Ольги-то уж нет, она все равно мертва.
— Мертва? — мгновенно подхватил Миронов. — А как, откуда вы это узнали?
Корнильев с недоумением посмотрел на Миронова и болезненно поморщился:
— Простите, но почему вы задаете такие странные вопросы, почему в таком тоне? Я узнал об этом от Василия Николаевича, от товарища Луганова…
Миронов бросил на Луганова сердитый взгляд, но тот сидел с самым невозмутимым видом.
— Никакой информации я от вас не прошу и не жду, — сухо сказал Корнильев. — Поздно. Речь идет не о моих переживаниях, а о восстановлении честного имени Ольги Николаевны. Пусть посмертно… Речь идет о выяснении вопроса, кто был ее убийцей. За этим я и приехал.
— Но, узнав о смерти вашей сестры только от Василия Николаевича, как вы можете знать больше того, что знает он, знаем мы. Знать, наконец, кто был убийцей? Кстати, убийца нам известен. Говоря по совести, я не совсем понимаю… — Миронов развел руками.
— Нет, — резко возразил Корнильев, — убийцу Ольги вы не знаете. Вернее, вы знаете, кто ее убил, но кто этот человек, вам не известно.
— А вам, вам известно? — не скрывая раздражения, воскликнул Миронов.
— Может статься, да, — с внезапным спокойствием твердо и уверенно сказал Корнильев.
Миронов смотрел на Корнильева с недоумением: что он, этот Корнильев, мистифицирует его, что ли? Что за самонадеянность? Откуда ему, человеку, полгода проплутавшему в горах Тянь-Шаня, далекому от дел сестры, не видавшему, судя по всему, никогда в жизни Черняева, знать, кто скрывается под его личиной. Миронов собрался было одернуть Корнильева, поставить его на место, но не успел: неожиданно вмешался Луганов.
— Послушайте, товарищи, — сказал он сердито, — что-то у вас получается не то. Георгий Николаевич, а где письмо? Почему вы не даете его Андрею Ивановичу? К чему эти разговоры? Мы же зря тратим время!
— Ах да, письмо! — смутился Корнильев. — Простите. Из вида вон… Надеюсь, вы поймете мое состояние.
Он вынул из внутреннего кармана пиджака объемистый конверт и протянул Миронову.
— Еще раз прошу извинить, — сказал он. — Именно это письмо и привело меня в КГБ. Беда в том, что поздно… Да, слишком поздно…
Миронов взял письмо и внимательно осмотрел конверт. Он сразу заметил, что обратного адреса на конверте не было, но зато стоял штамп места отправления — Крайск, и дата — пятнадцатое мая текущего года.
«Пятнадцатое мая, — подумал Миронов. — Ровно за две недели до гибели Корнильевой. Но когда же оно было получено в Алма-Ате? Где пролежало чуть не полгода? Судя по алма-атинскому штампу, письмо, отправленное из Крайска авиапочтой, было получено в Алма-Ате восемнадцатого мая, то есть за полторы недели до того дня, как была убита Корнильева. Почему же Георгий Николаевич только сейчас явился с этим письмом? Почему молчал раньше?»
Корнильев, заметив, как внимательно Миронов рассматривает почтовые штампы, поспешил на выручку:
— Видите ли, наша экспедиция покинула Алма-Ату как раз восемнадцатого мая, ранним утром. Задержись я на сутки, и письмо бы было вручено вовремя… Но… В общем, об этом нечего говорить…
Дня за три до отъезда в экспедицию, — продолжал после минутной паузы Корнильев, — я отправил семью на лето на Украину, к родителям жены. Квартира оставалась пустой. Жена с ребятами вернулась задолго до меня, в конце августа, к началу учебного года. За время нашего отсутствия накопилось много корреспонденции: у меня ведь большая переписка, которую жена не имеет привычки просматривать. Письма, адресованные мне, она складывает на моем рабочем столе. Так до моего возвращения лежало и это письмо… Что было дальше, объяснять незачем: как только я обнаружил письмо и прочел его, кинулся в КГБ. Там, едва узнав, что речь идет о моей сестре, что письмо из Крайска, говорить со мной не стали: попросили подождать. Потом появился Василий Николаевич, и вот мы здесь. Да вы прочитайте письмо, вам все станет ясно.
Миронов вынул из конверта несколько листков почтовой бумаги, исписанных мелким неровным почерком, Ольга Корнильева писала:
«Жорж, дорогой!
Мне очень трудно об этом писать, трудно писать тебе, но больше некому, ты прости. Как-то повелось у меня в жизни так, что, когда бывало очень трудно, я всегда в тебе находила опору. Моя вина, что вот уже столько лет я многое от тебя утаивала. Жорж, помоги, я зашла в тупик, мне так страшно! Если бы ты смог приехать, ты знал бы, что делать. Я пишу глупо, путано, но так все ужасно, так неимоверно тяжело…
Тогда, когда мы встретились после окончания войны, я сказала тебе не всю правду. Боялась. Но дальше молчать нельзя. Попробую рассказать по порядку. Я тебе уже говорила, что после отправки в тыл к немцам работала радисткой одного из партизанских отрядов. Потом я была ранена и попала в плен. Так все и было. Но ни тебе, никому другому я не говорила о том, что произошло со мной в фашистском аду. Люди там, в лагере, умирали ежедневно, ежечасно. Как я, обессиленная раной, осталась жива — не знаю. Но я жила, я выжила, выжила, несмотря на встречу, которая там произошла, с которой все и началось…
О подробностях писать не хочу, не могу, но в лагере среди пленных я как-то увидела одного человека и узнала его. Возможно, и ты бы узнал его, если бы встретил, хотя вряд ли. Но лучше тебе его не встречать. Никогда!.. Ладно. Он тоже меня узнал и сделал знак: не подавай, мол, виду. Молчи. Прошел день или два, и этот человек появился в том бараке, где жила я. Он принес кусок клейкого лагерного хлеба, шматок сала и, что было куда дороже, слова бодрости, веры в будущее. С тех пор он стал появляться часто, прикармливал меня и моих подруг, возвращал нас к жизни. Кто он, как умудрялся все это делать, мы не знали, но были уверены, что это — один из руководителей подпольной организации, о существовании которой в лагере мы догадывались. Девушки, страдавшие, как и я, радовались за меня: ведь это был мой товарищ, мой друг. Меня он выделял среди других, ради меня появлялся здесь…
Сколько прошло недель, месяцев — не знаю, не помню: я плохо тогда соображала. Но вот настал день, ужасный день, каждая минута которого никогда не изгладится из моей памяти. Еще с вечера по лагерю пополз слух, будто подпольная организация, готовившая массовый побег пленных, разгромлена, будто руководители ее схвачены.
Наступило утро. Нас всех, кто был в лагере, выстроили на центральном плацу, Мы стояли час, может быть, два. Стояли не шевелясь, под дулами автоматов и пулеметов, перед ощеренными пастями рвавшихся со сворок овчарок. Посреди площади высились виселицы, одиннадцать виселиц…
Многие из нас, кто был послабее, падали, чтобы никогда не подняться. Их пристреливали. Им, пожалуй, было легче. Но я держалась, стояла…
Вдруг послышался шум, и показались смертники — одиннадцать смертников. Боже, что с ними сталось! Они брели, спотыкаясь на каждом шагу, в изодранной одежде, в сплошных кровоподтеках, истерзанные, но не сломленные. Да, они умерли как герои.
Писать о подробностях не буду. Страшно… Но самое страшное было не это — самое страшное ждало меня впереди.
Виселицы, на которых оборвалась жизнь наших товарищей, лучших из нас, окружила толпа лагерного начальства, и вот в этой толпе я увидела того человека. Нет, он был не в кандалах и не в лагерном одеянии: на нем была форма, немецкая форма. Среди палачей он держался как равный среди равных.
Невозможно передать, что я пережила, увидя его в этом обличии. Но мучения мои на этом не кончились. Этот негодяй пошел вдоль наших рядов, кого-то выискивая. Я похолодела, поняв, кого он ищет… Увидев меня, он подошел, дружески потрепал меня по щеке и громко сказал: «Не робей, девочка, все будет в порядке», Затем прошел дальше.
Почему я не плюнула в его гнусную физиономию, не ударила его, не знаю: я просто была раздавлена, не могла шевельнуться…
Что было потом, вряд ли надо писать: если меня и не убили товарищи по борьбе, то, скорее всего, потому, что никто не хотел марать руки. Но как они меня презирали, как презирали!.. Нет, даже вспомнить об этом страшно.
Прошло несколько дней, и меня вызвали к начальнику лагеря. Там был и он, этот зверь. Нет, меня не били, надо мной не издевались. Со мной говорили как с единомышленником, со своим, и это было непереносимым. Сжав зубы, я молчала. Их, однако, это мало беспокоило, они все решили за меня.
«Фройлен Ольга, — сказал начальник лагеря, — здесь вам дальше оставаться нельзя. Завтра вас переведут в другой лагерь, там вам будет лучше. Но фамилию вам придется сменить: Корнильеву теперь знают слишком многие, вести могут дойти и до других лагерей. Отныне вы будете Величко. Ольга Величко. Запомните».
Мне было все равно: Корнильева, Величко — какая разница? Так и так я была номером, лагерным номером. Ничего, кроме смерти, я и не ждала. Но умереть мне не посчастливилось, я осталась жить, как… Ольга Величко.
На следующий день меня перевели в другой лагерь, потом еще в один… Прошло около года, война шла к концу. Того человека я больше не встречала, да и никто другой меня не трогал, не вызывал. Забыли?
Кончилась война. Я находилась на западе Германии и очутилась в руках у американцев, в лагере для перемещенных лиц. Прошло еще около года, и все началось сначала: меня опять вызвали, на этот раз к американскому начальству. В кабинете сидело двое в штатском; я их видела впервые. Они оба вполне прилично говорили по-русски. Как оказалось, они превосходно знали все, что со мной произошло, как и почему я превратилась в Величко. Не тратя времени попусту, они заявили, что намерены передать меня вместе с группой других перемещенных лиц советским властям, но если там узнают мою историю, то мне не миновать расстрела.
Я пожала плечами: мне было все равно. Они это заметили. «Напрасно вы так безразлично к этому относитесь, — заявил один из американцев. — Подумайте о своих близких. Ваше разоблачение грозит тяжелыми последствиями для вашего брата, для тети, дяди. Ваш дядя, кстати, известный профессор Навроцкий, не так ли? Каково ему будет?»
Нет, муки мои не кончились. Впервые со мной заговорили о моих близких, и это было страшнее всего, что я пережила раньше.
«Впрочем, зачем вам погибать, — сказал тот же американец. — То, что знаем мы о вас, русские не знают и могут не узнать. Больше того, они никогда и не узнают, если вы будете вести себя хорошо».
Оказывается, «вести себя хорошо» означало: вернувшись на родину, стать предателем».
Миронов на минуту оторвался от письма, задумался. Да, слова: «русские не знают… и не узнают», «будете вести себя хорошо…» — были ему знакомы. Еще бы! Ведь именно этими словами начиналась запись на клочке бумаги, обнаруженной за подкладкой куртки Ольги Корнильевой.
Луганов перехватил его взгляд и кивнул головой: читай, читай дальше.
Андрей вновь взялся за письмо.
«Жорж, — писала Корнильева, — представь себе на минуту, ведь я ничего плохого не сделала, а меня загнали в западню, предложили стать предателем, изменником…
Я, конечно, отказалась. Тогда они заявили, что все равно передадут меня в советскую зону и все обо мне сообщат советским органам безопасности, что я погублю тебя, твою семью, дядю, тетю… Ты понимаешь?
Что было делать, какой мог быть выход? Промучившись ночь, я приняла решение: наутро я согласилась на их требование, подписала какое-то обязательство, получила адрес, по которому должна была явиться в Воронеже (мне было предложено ехать в Воронеж к дяде и тете), и через несколько дней оказалась в советской зоне.
В Воронеж я, конечно, не поехала: я и не собиралась выполнять их гнусных заданий. Цель у меня была одна: вернуться на родину, где-нибудь затеряться и умереть, умереть на родной земле.
Так бы оно и было, если бы я не выбрала Куйбышев, не встретила Садовского. Ах, Жорж, что это за человек, как много он сделал для меня! А я?
Да что там говорить!.. Хорошо, наберись терпения, конец близок. О дальнейшем, кроме двух последних лет, писать не буду. Ты знаешь, как день за днем, шаг за шагом Валериан Сергеевич возвращал меня к жизни, как стал моим мужем, как мы жили… Не знаешь только, что все эти годы творилось в моей душе, с каким ужасом я глядела на каждого нового человека: не американцы ли его подослали? Но нет, судя по всему, они потеряли мой след. Только уверовав в это, я дала согласие стать женой Валериана Сергеевича. А тревога все-таки не проходила, хотя с каждым годом становилась все меньше.
И вот, когда я уже думала, что все позади, свершилось непоправимое: мы поехали с Валерианом Сергеевичем в Сочи. Я тебе писала тогда. О, если бы я могла знать, чем кончится эта поездка!..
Через несколько дней после приезда мы решили отправиться в дендрарий, и там… там я увидела того человека. Да, это был он, все еще цветущий, полный сил. Самое страшное, что и он заметил меня. Я попыталась ускользнуть — напрасно. Он меня выследил. Я умоляла Валериана Сергеевича бросить все, немедленно уехать, надеялась скрыться, бежать. Но объяснить мужу ничего не могла, не могла… А Валериан Сергеевич меня не понимал, мои просьбы принял за блажь, за каприз.
Прошел день, и этот негодяй, воспользовавшись тем, что Валериан Сергеевич ушел из санатория, проник ко мне в палату, проник, как вор…
Разговор был коротким: с первых слов мне стало ясно, что он знает все, знает о моем обязательстве американцам. «Вот что, голубушка, — сказал он, — или ты поедешь со мной и будешь делать все, что я потребую, или завтра же о твоих художествах станет известно властям. В твоих руках не только твоя судьба, но и судьба твоего братца, тетушки, твоего муженька. Выбора у тебя нет».
Да, выбора не было, и вот я бросила мужа, стала «женой» инженер-подполковника Черняева. (В таком облике выступал теперь этот человек.)
Первое время он не очень посвящал меня в свои дела, старался сломить, сломить окончательно. Этого, как ни пытался, он не добился. Да, у меня не хватило сил поднять против него открытую борьбу, но и помощницей в его подлых, преступных делах я не стала.
Что я могу сказать? Сейчас все накалено до предела, каждую минуту я жду смерти и не боюсь ее. Смерть — для меня избавление. Но вы: ты и твоя семья, Валериан Сергеевич, что будет с вами? Если бы не боязнь этого, я давно заявила бы о нем куда следует или сама ушла из жизни. Но как мне быть, когда гибель грозит и вам?
Жорж, дорогой, я измучилась, я так исстрадалась — сил нет. Что мне делать? Что делать? Вот уже скоро год, как я пишу тебе письмо за письмом и рву, рву…»
Миронов опять остановился, провел рукой по лбу: да, вот он, ответ, вот откуда злосчастный кусочек бумаги…
«…пишу тебе письмо за письмом и рву, рву, — вновь перечел Миронов. — Но это я отправлю — больше нельзя. Молю тебя — приезжай, ты найдешь выход. Если не сможешь, напиши, телеграфируй. Я придумаю что-нибудь, сама приеду к тебе. Только не пиши на домашний адрес, пиши до востребования, не то письмо может попасть в лапы этого зверя. Да, кстати, последние дни он стал что-то ласков, уговаривает меня съездить на курорт. Что-то еще надумал?
Сегодня — пятнадцатое. Письмо ты получишь через три-четыре дня. Десять дней я буду ждать ответа. Значит, до двадцать седьмого — двадцать восьмого. Можешь не отвечать: я все пойму…
Твоя Ольга».
Прочитав последние строки письма, Андрей скрипнул зубами и так сжал кулаки, что побелели костяшки пальцев. Он порывисто встал, шагнул к Корнильеву и протянул ему руку:
— Простите, Георгий Николаевич, что так неласково вас встретил, но кто мог знать, мог подумать?.. А Ольга Николаевна… Ах, Ольга Николаевна! Вот глупость, какая глупость! До чего же ее запугали, запутали! Ну, что ей было сказать вам раньше, сказать правду Валериану Сергеевичу, прийти, наконец, к нам. Я понимаю — раньше… Но после пятьдесят третьего года? Неужели она так-таки ничего и не поняла? Нет, не поняла, и вот расплата… Оставим это, однако, что теперь судить? Перейдем к делу. Как, Георгий Николаевич, можете ли вы что-нибудь сказать об этом человеке? Кто он? Из письма можно понять, что он мог быть вам известен?
— Ума не приложу, — развел руками Корнильев. — За эти сутки я десятки и сотни раз перебирал всех наших общих с Ольгой знакомых — а таких не так уж много — и ни до чего не мог додуматься. Среди тех, кого я знал, человека, способного на такое… на такие… Нет, не было.
Миронов задумался:
— А что, Георгий Николаевич, — внезапно сказал он, — если мы вам покажем этого… Черняева?
Корнильев вздрогнул.
— Если надо… — сказал он сдержанно. — Если вы считаете нужным… Я готов…
— Сделаем так, — решил Миронов. — Видите, здесь, в стене, нечто вроде ниши; там висит мое пальто. Ниша задернута портьерой. Я вызову так называемого Черняева на допрос, ненадолго, а вы поместитесь тут, в нише. Она просторная. Из-за портьеры вы сможете рассмотреть этого человека, он же вас видеть не будет. Согласны?
Корнильев пожал плечами:
— Как вам будет угодно. Я целиком и полностью полагаюсь на вас. Вам виднее.
Миронов распорядился доставить на допрос арестованного Черняева, а сам с Лугановым принялся устраивать Корнильева в его импровизированном укрытии. Дело оказалось не хитрым, и все приготовления были закончены до появления псевдо-Черняева. Наконец в дверь постучали. Миронов задернул портьеру, и в комнату ввели арестованного.
— Так-с, гражданин… — Миронов сделал длительную паузу, — Черняев. Давненько мы с вами не виделись. Ну что ж, возобновим знакомство?
— Гав, — неуверенно произнес Черняев, исподлобья поглядывая на Миронова. — Гав!
Миронов брезгливо поморщился:
— Довольно, хватит. Никакая вы не собака и никакой не сумасшедший: вот акт экспертизы. Давайте-ка разговаривать по-человечески.
Тот, кто выдавал себя за Черняева, глядя все так же исподлобья, настороженно молчал.
— Что, — с издевкой спросил Миронов, — поскольку от собачьего лая приходится отказаться, решили опять играть в молчанку? Не ново! Было уже, гражданин Черняев, было. Придумали бы что-нибудь поновее! В последний раз спрашиваю: вы намерены давать показания?
— Мне не о чем говорить, — глухо сказал Черняев.
— Ого, — улыбнулся Миронов. — Смотрите, он, оказывается, не разучился разговаривать. Тем лучше. Потрудитесь объяснить, зачем, с какой целью вы затеяли эту дурацкую собачью комедию? На что рассчитывали?
— Но, гражданин следователь, никакой комедии я не устраивал. Я действительно был болен…
Продолжать допрос Андрей не собирался. Сейчас это не имело смысла. Корнильев уже наверняка рассмотрел арестованного, а это было главным.
— Вот что, гражданин… Черняев, — спокойно сказал Миронов. — Так дело не пойдет. Терять с вами время попусту я не намерен. Посидите еще в камере и подумайте, да получше. Вам сейчас есть над чем подумать. Через день-другой я вас вызову, тогда и начнем серьезный разговор. Учтите, мы знаем о вас куда больше, чем вы полагаете…
Как только Черняева вывели из кабинета, Миронов встал, подошел к нише и отдернул портьеру. Корнильев сидел сгорбившись, охватив голову руками. На его побледневшем, изменившемся лице застыла гримаса отвращения. Тихо, сдавленным голосом он произнес:
— Да, я его знаю. Это — Марковский. Серж Марковский…
Прошло полтора месяца, следствие было закончено. Правда, Миронову, его помощникам, а также Луганову с Савельевым, которые по просьбе Андрея были до окончания следствия оставлены в Москве, пришлось основательно потрудиться: шли бесконечные допросы, очные ставки, экспертизы и снова очные ставки. Арестованные вели себя так, словно бежали наперегонки: каждый торопился выложить, что знал (впрочем, побольше — о других, поменьше — о себе), боялся отстать от своих вчерашних сообщников. Один безжалостно топил другого, спешил изобличить его на очной ставке.
Не отставал от остальных и Марковский. Поняв, что он опознан, он кинулся вдогонку за теми же, кто уже давал показания, стремясь обширностью и «чистосердечностью» своих «признаний» опередить других.
Как выяснилось, Марковский был связан с германской разведкой еще с тридцатых годов. Тогда, под видом тайного общества, он и пытался сколотить из воронежских подростков молодежную антисоветскую группу, только провалился. Бежав после провала в фашистскую Германию, он пришелся ко двору. Его взяли на работу в гестапо. Там он быстро делал карьеру, складывавшуюся особенно успешно после вероломного нападения фашистов на Советский Союз, во время Великой Отечественной войны, В это время Марковский специализировался на «работе» по советским военнопленным: он выискивал подпольные организации среди пленных в гитлеровских лагерях, осуществлял чудовищные провокации, был виновником гибели сотен и сотен людей.
Именно в это время он и встретил в одном из лагерей Ольгу Корнильеву. В голове Марковского зародился дьявольский план: он решил скомпрометировать Ольгу Николаевну, спровоцировать ее, создать такие условия, которые вынудили бы Корнильеву стать агентом гестапо. Лишенный сам хотя бы намека на такие чувства, как честь, патриотизм, долг перед Родиной, он не сомневался в успехе, не мог предположить, что двадцатидвухлетняя девушка найдет внутренние силы противостоять его гнусным комбинациям, не сломается, не станет предателем.
Однако гестаповцам не суждено было воплотить в жизнь свои намерения, и не только из-за сопротивления Ольги: война кончилась, фашистский рейх рухнул. Но тут в игру вступила американская разведка, обнаружившая Ольгу Корнильеву в одном из лагерей для перемещенных лиц. Автор всей этой гнусной интриги Марковский был в это время уже далеко. Года за полтора до поражения Германии в судьбе Марковского произошел очередной поворот: крупный чин гестапо, допрашивая командира партизанского соединения Капитона Илларионовича Черняева, попавшего в плен, заметил портретное сходство между этим партизаном и своим подчиненным — Марковским. Судьба Марковского была решена: прошла неделя, и Марковский, перевоплотившийся в Черняева, уничтоженного в застенках гестапо, очутился в районе действия советских партизан с серьезным, но не опасным для жизни ранением.
Потом — доставка на Большую землю, госпиталь, возвращение в строй, мирные годы.
Знание строительного дела, сообразительность, изворотливость и недюжинное владение искусством перевоплощения помогли Марковскому около полутора десятков лет разыгрывать роль Черняева. Марковский кружил по отдаленным от центра стройкам, не задерживаясь нигде больше, чем на год, на два, тщательно избегая мест, где можно было бы столкнуться с теми, кто близко знал подлинного Черняева.
Все эти годы Марковский вел разведывательную работу, ради которой и стал Черняевым; только работал он теперь не на немцев, а на других хозяев. Ничего удивительного, необычного в этом не было: еще в начале сороковых годов, бывая по делам гестапо в Швейцарии, предусмотрительный Марковский установил связи с американской разведкой, стал двойником. Естественно, что после краха фашистской Германии этот прожженный шпион не остался без хозяев, не у дел.
Встреча в Сочи с Корнильевой была для Марковского полной неожиданностью, произошла случайно, но он сумел использовать эту случайность. Однако терроризовав Ольгу, вынудив ее бросить Садовского и уехать с ним, окончательно сломить ее он не смог. Около двух лет истязал Марковский Корнильеву, но ничего не добился. Тогда, убедившись в бесплодности своих усилий, он ее уничтожил.
Вся отвратительная картина преступлений Марковского, как и его сообщников, шаг за шагом раскрылась в ходе следствия. И вот теперь клубок был размотан, размотан до конца. Следствие закончилось.
…Придя в это утро на работу, майор Миронов по давней привычке развернул свежий номер «Правды». В глаза бросилось краткое сообщение на последней полосе: «В Комитете государственной безопасности при Совете Министров СССР». Андрей прочел: «Органами государственной безопасности раскрыта и обезврежена группа агентов иностранных разведок, проводившая шпионскую работу на территории Советского Союза и совершавшая убийства советских граждан. Как установлено, участники группы были связаны с иностранным подданным Ричардом Б., наезжавшим периодически в Советский Союз в качестве туриста, которого снабжали шпионскими сведениями и от которого получали деньги. Предварительное следствие по делу участников группы закончено и передано в суд».
«Как просто, — усмехнулся про себя Андрей, — „раскрыта“, „обезврежена“! Всего несколько строк… А что стоит за этими строками, какое нечеловеческое напряжение, какой труд?! Впрочем, что это я расфилософствовался, как сказал бы Кирилл Петрович? Пора и за работу».
Андрей отложил газету в сторону и придвинул к себе тонкую коричневую папку, в которой лежало пока всего лишь несколько бумажек. На обложке стояла короткая надпись: «Дело №…»
|