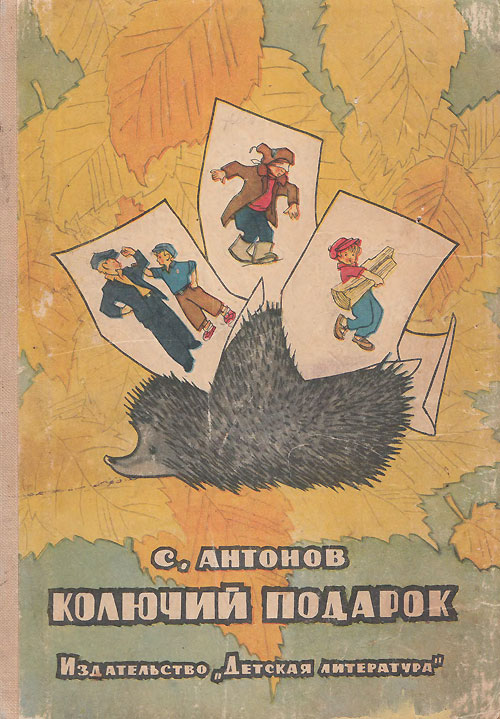|
Сделал и прислал Кайдалов Анатолий.
_____________________
Сергей Фёдорович Антонов — автор нескольких книг рассказов для взрослых и детей: «Дни открытий» («Советский писатель», 1952), «Дальний путешественник» (Детгиз, 1956), «Валет и Пушок» (Детгиз, 1960), «В одну ночь» («Знание», 1968), «Полпред из Пахомовки» («Московский рабочий». 1964), «Дорогие черты» (Военгиз, 1960), «Встреча в Кремле» («Детгиз, 1960). «За всех нас» («Знание», 1962), «Старший» (Детгиз. 1963) и другие.
Среди рассказов Сергея Антонова особое место занимают произведения о Владимире Ильиче Ленине. Четыре последние из перечисленных сборников целиком посвящены жизни и деятельности вождя.
В книгу «Колючий подарок», помимо некоторых старых, вошли новые рассказы о ребятах, об их школьных делах и различных приключениях. Есть здесь и рассказы о животных — медвежонке Братухе, собаках Пушке, Валете и Томке. Однако это не рассказы натуралиста. О животных пишут, не всегда имея в виду только эюивотных. Бывает и так, что за подобными историями отчётливо проглядывают взаимоотношения людей с их сложными переживаниями и судьбами.
Отзывы об этой книге присылайте по адресу: Москва, А-47, ул. Горького, 48. Дом детской книги.
СОДЕРЖАНИЕ
Сибиряк ...3
Рубашка в полосочку...14
Томка...26
Лесник Иван и Братуха...32
Пожары...40
Глава семьи...53
Плохое перо...59
Яблоко в бутылке...61
Мечтатель...65
По следам...73
Бабушкины сыновья...83
Валет и Пушок...94
Павлик и его заместитель...104
Колючий подарок...142
СИБИРЯК
Война с бабушкой у Наташи началась давно и шла беспрерывно, с переменным успехом. То и дело можно было слышать:
— Ты куда собралась?
— На улицу.
Наташа на ходу натягивала на себя пальто.
— Никуда не пойдёшь.
— И к девочкам не пойду?
— И к девочкам не пойдёшь. Два часа уже болталась с ними незнамо где.
— Сегодня совсем не пойду на улицу, да?
— Больше не пойдёшь. Вечер на дворе... На улицу... Изболталась совсем!
— Хорошо, не пойду. — Наташа внешне спокойно снимала пальто, вешала его на место. — Но и есть твою противную кашу не буду. Надоела до смерти! В печёнках твоя каша у меня сидит. Вот где! — И Наташа показывала на сердце.
Потом она уходила в комнату и брала в руки книжку. С бабушкой всё-таки легче, с мамой труднее: от неё и шлепок можно получить, хоть и лёгонький, но всё же шлепок. А это обидно для человека, который учится в школе и вместе с другими распевает: «Широка страна моя родная...»
Столкновения у Наташи с бабушкой происходили и по другим поводам. Можно было услышать такое:
— Нарядила меня в это пальто, я чуть не умерла.
Это Наташа пришла из школы, и это первое, что
она сказала, едва переступив порог. Щёки у неё горят, пальто расстёгнуто, варежки в кармане; пихнула их туда кое-как, большие пальцы оттопырены в сторону, будто они-то и помешали всунуть варежки глубже.
— Ни за что больше не надену! — Наташа тянулась вверх и вешала пальто на место. — Наказание какое-то, а не пальто...
— Наверное, бежали сломя голову, вот и жарко. А если идти спокойно — промёрзнешь. Что по радио передавали? Три градуса ниже нуля.
— Идти... Кто же из школы ходит? Вот ещё! — возмущалась Наташа. — Из школы все бегут.
Так и жили бабушка и Наташа, пока её отец и мать были на курорте.
Однажды, когда Наташа вернулась из школы, она увидела в коридоре чемодан, а на вешалке пальто и пиджак. Пальто было большое, пиджак — маленький. На вопрос Наташи бабушка ответила, что к соседу по квартире приехали брат и племянник, Степан.
Наташа ещё не видела его, но уже знала от бабушки, что Стёпа хороший, послушный, не в пример ей, мальчик. Случилось так, что и на следующий день она не увидела его: когда уходила в школу, Стёпа ещё спал, когда возвратилась — он был не то в Зоопарке, не то в Планетарии. А бабушка при столкновении с Наташей всё больше и больше хвалила Стёпу, ставя его в пример:
— Стёпе скажут, что нельзя, он и слушается, а ты — сплошное наказание! Мальчик меньше тебя, а, ей-богу, умнее! Сейчас же садись за стол, ешь суп и ничего не выдумывай! «Селёдкой пахнет»! Надо же придумать! Мы её полгода не покупали. Садись, Наташа, ешь!
Стёпа, неведомый Наташе, всё чаще и чаще упоминался бабушкой, как примерный мальчик.
После обеда он помогал тёте Вере таскать грязную посуду из столовой на кухню, чего Наташа не делала, а если и делала, то после крупного разговора с бабушкой и ворча примерно следующее:
— Навязали мне эту посуду! Нужна мне эта посуда! Хоть бы разбилась эта посуда! Вся, до одной тарелки!
Стёпа с удовольствием крутил ручку мясорубки.
— Он — мужчина, — услышав о мясорубке, перебила Наташа бабушку. — И пусть крутит. А я — девочка!
— А девочке положено тарелки мыть, а ты не моешь!
— А твой Стёпа моет? — спросила Наташа.
— Не моет, но если скажут — и тарелки помоет. И ест всё подряд, что дашь...
— Значит, вкусное дают! — ответила Наташа.
— Наташа! — прикрикнула на неё бабушка.
Стёпа и спать ложился вовремя, и грубо не отве-
чал старшим, и занимался своими делами, не болтаясь под ногами у взрослых, и прочее, и прочее, и прочее.
Потом Наташа чаще всего молчала, когда ей говорили о Стёпе, но однажды заметила всё же:
— Уши ты мне прожужжала своим Стёпой!
В воскресенье, рано утром, она вышла в коридор, чтобы увидеть этого Стёпу. Он долго не появлялся, но наконец, прыгая на одной ножке, выскочил из комнаты. Увидев Наташу, он побежал к себе и вернулся в коридор, неся мешочек в правой руке. Стёпа был светло-русый, небольшого роста, немножко курносый мальчик. Обут он был в старые валенки.
Подойдя к Наташе, Стёпа тихо спросил, застенчиво и приятно улыбаясь:
— Ты Натаита?
— Да. А ты Стёпа?
— Ага.
— Ненавижу я тебя, — заявила Наташа. — Вот!
И убежала к себе, да ещё хлопнула дверью.
Стёпа постоял, растерянный, и пошёл к себе, не понимая, что произошло. Мешочек с кедровыми орехами, подарок Наташе из Сибири, он положил обратно в шкаф, ничего не сказав ни отцу, ни тёте, ни дяде. Все дни ему, Степану, говорили, что он должен вручить подарок сам и познакомиться с Наташей. Она хорошая девочка, может многое рассказать ему о Москве, показать книжки и игрушки, среди которых было много интересных. Он не столько обиделся, сколько удивился: Наташа по каким-то непонятным причинам плохо относится к нему. Вскоре, увлечённый другими занятиями, он забыл об этом, по-прежнему скакал на одной ножке, что-то мурлыкал себе под нос, рисовал.
Он часто стоял у окна и смотрел на город, открывавшийся с высоты четвёртого этажа. Такого большо-
го города Стёпа ещё никогда в жизни не видел, и его интересовало, а что вон за теми домами, за теми корпусами?
За теми домами оказывались другие дома, а за другими домами — ещё дома, и так, казалось, до бесконечности. Где же конец этому городу и есть ли он?
Когда звонил телефон,, Стёпа старался первым подбежать к столу и осторожно снять трубку.
— Да, — отвечал он невидимому собеседнику. — Нет, не Вера Павловна, а Стёпа... Какой? Стёпа из Сибири...
Его увлекали эти разговоры, и он спрашивал:'
— А откуда этот дядя звонил?
— Как — откуда? Из квартиры.
— А квартира далеко?
— На Таганке.
— Сколько же это будет километров?
— Не знаю, Стёпа... Пять или десять...
— Де-е-есять? — удивлённо повторял Стёпа, растягивая слово.
Телефон он скоро освоил и сам стал часто звонить. Но так как знакомых в Москве у него не было, он звонил на станцию автоматических часов.
Услышав время, сказанное чётким мужским голосом, он смотрел на часы, стоявшие на столе, и, если они отставали или спешили, переводил стрелки.
Потом с криком: «Тётя Вера! Тётя Вера!» — бежал к тёте и проверял её наручные часы.
Будильник, настольные часы, наручные часы дяди и тёти были выверены до минуты.
Стёпин дядя, уходя на работу, часто забывал взять с собой то очки, то носовой платок, то мелочь для троллейбуса. Заметив это, Стёпа по утрам напоминал:
— Дядя Вась! Дядя Вась! Очки не забыл?
Тот проверял карманы, отвечал:
— Нет, Стёпа, здесь очки.
— А платок взял, дядя Вась?
— Платок? Взял-взял...
— А мелочь, дядя Вась?
— Мелочь... Гм... Мелочь не взял...
И Стёпа бежал к дяде Васе с мелочью.
После обеда, когда Наташа возвращалась из школы, Стёпа старался как можно реже появляться в коридоре. Но всё-таки изредка они виделись, хотя и не разговаривали.
Наташа заметила, что Стёпа вместо «да» говорит «а га», вместо «мало» — «маленько», вместо «класть» — «лбжить», и очень часто к месту и, как казалось, не к месту — «однако». Тётя Вера просила мальчика:
— Стёпа, милый, пе надо говорить «ага». Говори «да». Ты понимаешь меня? Так будет лучше и правильнее... Понимаешь?
— Ага... — отвечал Стёпа и поправлялся: — Да, тётя Вера...
То обстоятельство, что в образцовом и непогрешимом Стёпе вдруг обнаружился какой-то изъян, обрадовало Наташу. Пусть теперь бабушка сделает ей замечание и поставит в пример Стёпу, она ей ответит! Она скажет, что какая бы она плохая ни была, она всё-таки, как всем известно, не говорит ни «ага», ни «лбжить». Пусть только бабушка что-нибудь скажет! Но потом что-то смутило Наташу. Она подумала, что всё-таки Стёпа ни в чём не виноват. Он же сибиряк, а в Сибири, насколько она знает, очевидно, все так говорят, просто это у них такая привычка...
Но однажды Стёпа действительно оказался в её руках.
Наташа вернулась из школы, бросила портфель
на диван и услышала, как в коридоре тётя Вера звала:
— Стёпа! Стёпа! Где ты?
Ответа не было.
— Стёпа! — слышала Наташа голос тёти Веры, искавшей Стёпу уже по всем комнатам.
Стёпа не отзывался.
Наташа вышла в коридор. Тётя Вера снова была здесь. Она заглянула в ванную, на кухню — Стёпы не было.
— Пиджак-то... — спохватилась тётя Вера и подошла к вешалке.
Пиджак Стёпы висел на месте. Это ещё больше испугало её. Где он мог быть зимой, не в квартире, без пиджака?
— Наташенька, не видела Стёпу? — спросила тётя Вера.
— Нет, тётя Вера, не видела.
— Клавдия Петровна, — обратилась тётя Вера к Наташиной бабушке, — вы его не видели, не знаете, куда он пошёл?
— Да вот только сейчас здесь бегал, вот только что, как Наташе прийти... — в недоумении сказала бабушка. — Ну иди, Наташа, иди, суп остынет... Не знаю, куда он мог деться... Под кроватями, под тахтой искали, Вера Павловна? Ведь они такие, у меня дочка раз полчаса под кроватью сидела, пряталась...
Тётя Вера бросилась искать Стёпу под кроватями и тахтой. Но его и там не было. Не было его и на площадке.
— Вот ваш Стёпа, — сказала Наташа, вылавливая из супа картошку. — За весь мой век никто меня не искал, нигде я не пропадала.
— Молчи! — прикрикнула на неё бабушка, пода-
вая оладьи. — Может быть, не дай бог, с ним случилось что. Говорунья! Посмотреть на площадке ещё раз...
Бабушка вышла на площадку — Стёпы там не было. Вера Павловна выбежала во двор. Ребятишки лениво катались на салазках, выковыривали из-под снега кирпичи, недавно сброшенные с автомашины. Стёпы и на дворе не было...
Наташа доела компот, усиленно звякая ложкой о стакан, зная, что если бабушка и сделает замечание, то она, Наташа, легко ответит ей. Но озабоченная и встревоженная бабушка ничего не сказала Наташе, и та, вставая со стула» тихо проговорила вместе с громким «спасибо»:
— Вот ваш Стёпа.
— Наташа! — строго сказала бабушка,
— А я ничего, — ответила Наташа. Она облизала губы и вышла на площадку. «Где же всё-таки этот Стёпа?»
Рассеянно глядя на поднимавшийся с тихим сухим треском лифт, Наташа заметила в нём светло-русую голову, выглядывавшую из-за чьих-то пальто. «Стёпа!»
Стремглав бросилась она наверх, желая скорее проверить себя. Наташа была уже на площадке пятого этажа, когда лифт спускался вниз. В кабине был Стёпа. Один.
«Вот ты где! — подумала Наташа и побежала вниз, перепрыгивая через одну-две ступеньки. — Вот ты где!»
В лифт входили люди, поэтому Наташа застала его, но войти в него не успела. На её глазах захлопнулась дверца, и кабина поплыла вверх. Наташа сложила на груди руки, как это делала бабушка, когда заставала Наташу за неподобающим для неё за-
пятием. Бабушка в таких случаях молча на неё смотрела, всем видом как бы желая сказать: «Хороша, нечего сказать! Посмотрю я, что ты сейчас будешь делать!»
Наташа дождалась, когда лифт снова опустится, и, едва он, останавливаясь, мягко подпрыгнул на тросе, вошла в кабину.
— Катаешься? — спросила Наташа Стёпу.
— Ага, — спокойно ответил Стёпа.
У Наташи зачесались руки.
— Во-первых, — запинаясь от нетерпения, быстро заговорила она, — во-первых, «ага» не говорят, а говорят «да», а во-вторых, в доме с ног сбились, тебя ищут. Тётя Вера к управдому звонит.
Стёпа покраснел и полуоткрыл рот. Действительно, он сделал что-то не так...
— А-а, — с укором сказала Наташа. Она метнулась на лестницу, потом вернулась в лифт — так будет быстрее! — и нажала кнопку своего этажа. Ей не терпелось сообщить новость, упиться своим торжеством. Стёпа был у неё в руках. Сейчас она, едва остановится лифт, выскочит из него и вбежит в коридор.
«Стёпа на лифте катается», — оповестит она на всю квартиру.
Это будет значить: вот ваш хвалёный, образцовый, непогрешимый Стёпа, которого бабушка всё время ставит ей в пример. Вот! Вот! Вот!
Лифт остановился, Наташа выбежала на площадку, но Стёпа остался в лифте. Он был расстроен, стоял и хмуро смотрел в пол. Ему было досадно, что так нескладно всё получилось...
— Нельзя кататься на лифте? Ага? — спросил ои Наташу.
— Подниматься можно, а катаются на троллейбу-
се или метро, — сухо ответила Наташа. — Выходи, выходи, может быть, кому лифт нужен.
Стёпа вышел. Наташа захлопнула дверцу.
— На лодке ещё можно кататься, — сказал он.
— А ты катался на лодке? — спросила Наташа.,
— Ну а как же? — удивился Стёпа. — Весной у нас в школу иной раз по дороге не дойдёшь, на лодке добираюсь.
— В школу на лодке? — изумилась Наташа и засмеялась. — Вот это здорово! А я вообще на лодке не каталась. А хорошо на лодке?
— Хорошо, — ответил Стёпа и добавил: — Когда днище не худое...
— А что такое днище?
— Днище... Ну, днище... Дно.
— А-а, — поняла Наташа. — Дно... А ты катался на худой лодке?
— Маленько пришлось...
— Почему «маленько»?
— Тонуть стала, — просто ответил Стёпа.
— Как — тонуть? — с испугом спросила Наташа. — Просто-таки тонуть? С тобой?
— Ну, а как же? Со мной.
— Это ж можно было помереть совсем!
— Можно, но вот не помер, но болел. Я за корягу схватился...
— А что такое коряга? А на какой реке это было? Чем ты болел?
— На Ангаре, однако... А коряга...
Но Стёпа не успел ответить. Дверь открылась, в проёме стояли тётя Вера и бабушка.
Пока растерявшиеся от неожиданности взрослые приходили в себя, Наташа взяла Стёпу за руку и мягко сказала, переступая порог:
— Он на лифте катался... Мы вместе катались...
Там, где он живёт, нет ведь таких высоких домов... Там маленькие дома...
— Стёпа! — только теперь выкрикнула тётя Вера, хватаясь за сердце. Она увела его к себе и, посадив на колени, обняла. — Боже мой... Что могло быть! Наташенька, спасибо тебе, родная...
Наташа стояла рядом с бабушкой и молча кивала головой, давая знать, что принимает благодарность.
Когда все успокоились, Стёпа достал из шкафа мешочек с кедровыми орехами и подошёл к Наташе.
— Вот, привезли маленько... — сказал он, смуща-ясь. — Сам собирал, однако... Бери.
— Спасибо, Стёпа, — ответила Наташа и увела его к себе, чтобы послушать, как он тонул в реке Ангаре.
РУБАШКА В ПОЛОСОЧКУ
Павел Григорьевич Кузьмин возвращается с прогулки, вешает шляпу, поправляет её и, сев за стол, зовёт:
— Игорёк!
Его внук Игорь, который смотрел в соседней комнате телевизор, входит и жмурится от яркого света.
— Что показывают, Игорёк? — спрашивает Павел Григорьевич, откашливаясь.
— «Танцующий пират», дедушка.
— «Танцующий»... Хочешь посмотреть танцующего или можешь мне помочь?
— Могу... — нетвёрдо говорит внук.
— Ну хорошо, иди смотри, а когда кончишь — займёмся. Бумагу только приготовь.
Через полчаса Игорёк освобождается. Когда он входит в столовую, дедушка уже сидит за столом и перебирает пожелтевшие от времени, истёртые на сгибах листки, кое-где подклеенные папиросной бумагой.
— Пиши, — говорит Павел Григорьевич, — только без помарок и поаккуратней.
— А ты, дедушка? — спрашивает Игорёк, которому совсем не хочется заниматься писаниной.
— Руки дрожат...
Дедушке идёт восьмой десяток. У него давно дрожат руки, и ходит он мелкими шажками, но, видно, теперь ему стало ещё хуже. Жалко дедушку...
Родители любят Игорька, но как-то получается так, что они часто забывают о нём. Дедушка всегда помнит...
— Таня, — обращался Павел Григорьевич к матери Игорька, своей дочери, — ботинки у Игоря того... Чинить надо.
— Уже?! Просто не напасёшься! Пусть поносит жёлтые, а эти Ксюша снесёт в ремонт... Ксюша! Ксюша!
— Подожди звать Ксюшу. Жёлтые я давно в мастерскую сдал. Ему нужно купить новые.
Игорьку покупали новые ботинки.
Когда сын в чём-то оказывался виноватым, родители принимались его воспитывать с такой энергией и так поспешно, что становилось ясно — до этого печального случая они были не очень внимательны к нему.
— Игорь, ты не пойдёшь в кино! — объявляла мать. — Не будешь смотреть телевизор!
— Ни на какую экскурсию мы тебя не возьмём!—
отменял отец своё прежнее решение отправиться с Игорем на лодке по Клязьме. — Велосипед не купим! Покажи-ка мне дневник, все отметки. Там у тебя двойка была. За что? Когда получил?
Дедушка давал родителям возможность выговориться, потом находил предлог, приглашал мать Игоря и его отца к себе в комнату. Через полчаса они возвращались, не глядя друг на друга. Походив вокруг Игоря, кто-нибудь из них произносил:
— Чтоб это было в последний раз, Игорь! В последний!
Они уходили, и Игорёк оставался один со своими мыслями. Нет, дедушка не появлялся и не утешал его. Но Игорёк знал, что он за него, думает о нём, любит больше всех и не показывается сейчас потому, что хочет оставить внука одного.
Пройдёт день, другой, третий, и где-нибудь на прогулке дедушка скажет:
— Нехорошо это ты, Игорь, сделал. Не по-человечески.
И всё...
До чего было страшно потерять доверие и любовь такого человека!
А просьбу дедушки надо выполнить как можно лучше.
...Игорёк берёт ручку, макает её в чернильницу и ждёт, что скажет дедушка.
Павел Григорьевич, назвав город, диктует:
— «Областному комитету Коммунистической партии Советского Союза. Дорогие товарищи!» Это с новой строчки, а в конце знак восклицания. «Дорогие товарищи!» Написал?
— Сейчас... Написал... — отзывается Игорёк.
— Дальше. «В сентябре этого года исполняется пятьдесят лет со дня организации в нашем городе
большевистской организации...» Нет, так напиши: «создания организации»...
Дедушка, а зачем это писать?— спрашивает
Игорёк. — Они же сами знают.
— Не уверен... Город горел и в гражданскую, и теперь, в отечественную. Документов может и не быть. А из людей, которые тогда рабочий класс сплачивали, я один остался. Кто погиб, кто поумирал... Годы! Если знают — за напоминание не обидятся, не знают — поблагодарят. Пиши.
Игорёк пишет. Но вдруг, осознав важность поручения, поднимается и, сев поудобнее, поправляет закатанные рукава рубашки, снимает с пера соринку и пишет, тщательно выводя буквы.
Дедушка диктует, как и когда в городе зародилась большевистская организация и кто был первыми её членами, напоминает годы важнейших событий из её истории: стачек, забастовок, вооружённых восстаний, арестов и ссылок её активных деятелей...
Игорёк пишет и мысленно слышит звон цепей, в которые заковали арестованных большевиков, треск ружей и пистолетов восставшего пролетариата, во время баррикадных боёв сражавшегося с царскими войсками, пение «Смело, товарищи, в ногу» и «Интернационала» на грандиозных демонстрациях рабочих заводов и фабрик...
Слышит он сухой треск выстрелов, цокот подков по булыжнику мостовой: это полицейские — пешие и конные — разгоняют демонстрантов. Чудятся ему шпики в чёрных очках и с поднятыми воротниками. Шпики выныривают из подворотен, из подъездов и выслеживают революционеров... Рабочие в тёмном углу цеха открывают какой-то ящик и достают оттуда оружие — пистолеты и бомбы... Видит он сибирские снега и как по этим снегам бежит человек. За челове-
ком погоня — полицеиские, жандармы, шпионы, но никто из них не может догнать революционера: местное население прячет его в сарае, закапывает в сено. Так и сбежал большевик из ссылки...
Это были люди, перед которыми нужно снимать шапку, и один из них — его дедушка. Вот он сидит против него — голову подпер рукой, задумался, и всё, что было много лет назад, вновь, наверное, проходит перед его глазами...
— Кончил? — спрашивает Павел Григорьевич, поднимая голову.
— Кончил, дедушка.
— Половина одиннадцатого, — говорит Павел Григорьевич, посмотрев на свои серебряные часы с крышкой. — Засиделись, однако... Ложись спать, Игорёк. Я тоже устал. Дашь мне прочитать завтра, после школы.
— Хорошо, дедушка, — отвечает Игорёк, но даже и не думает вставать. — А пулемёт у вас был, дедушка?— неожиданно спрашивает он.
— Пулемёт? Нет, пулемёта не было.
— Дедушка, а ты часто стрелял?
— Пришлось... Отстреливался от погони.
— Ушёл, дедушка?
— Ушёл.
— А когда же тебя схватили, что ты в ссылке сидел?
— Это после, Игорёк. Года два спустя.
— Дедушка, ты рассказывал — прокламации вы расклеивали, а на чём их печатали?
— На гектографе. Теперь их, кажется, уже нету.
— А кто-нибудь с прокламацией попался, так чтобы его посадили в тюрьму?
— Товарищ мой попался, Гребнев Егор Семёнович, и в тюрьме за это сидел.
— А сколько он сидел, дедушка?
- Не помню, Игорёк. Года два или три... Иди-иди спать, внучек...
— Я сейчас... Года два или три... — Игорёк задумывается. — Дедушка, а у вас были предатели?
— Предатели были... — вздохнув, отвечает Павел Григорьевич.
— Дедушка, а почему бабушка так рано умерла?
— Нелегко ей было со мной...
— Она переживала, да?
— Конечно, Игорёк. И очень переживала...
— Дедушка, ты говорил — в пятом году тоже боролся. А на баррикадах был?
— Ну а как же?
— И стрелял?
— И я стрелял, и в меня стреляли.
— Как всего много с тобой случалось! — с завистью говорит Игорёк, — Я вот в семь раз тебя моложе, а со мной случалось не в семь, а в сто... нет! — в тысячу раз меньше. Гриппом болел... Книги для деревни собирал... Стенгазету выпускаю... Коленку ещё разбил... А больше... больше ничего со мной не случалось.
Павел Григорьевич протягивает трясущуюся руку и гладит светлые волосы Игорька.
— Вот и хорошо, что не случалось плохого. Мне бы тогда обидно было, Игорёк.
— За что ты тогда боролся, да?—догадывается Игорёк. — А это верно. Было б обидно,
— Я вот помню такой случай... — начинает Павел Григорьевич.
Он рассказывает о тяжёлых годах преследований и разброда в партийных рядах, когда изменяли, казалось бы, убеждённые люди, а ядро ленинцев продолжало бороться, веря в будущее...,
в прихожей звонит звонок. Это вернулись из гостей папа и мама Игорька. Сейчас начнутся всякие разговоры: и почему не спишь, и сделал ли уроки, будут передавать приветы — испортят разговор.
— Дедушка, пойдём ко мне, — продолжает Игорёк и, осторожно ступая, уводит Павла Григорьевича в свою маленькую комнату.
Здесь Игорёк быстро раздевается и ложится под одеяло, а дедушка садится рядом, у постели. Они слышат, как входят Михаил Павлович и Ольга Васильевна, как шлёпает туфлями домработница Ксюша. Слышат, как Михаил Павлович подходит к двери в комнату Игорька, тихо спрашивает:
— Игорёк, спишь?
Игорёк дотрагивается до руки дедушки: молчи! Отец отходит от двери, и разговор продолжается. Павла Григорьевича уже не остановить. Горит маленькая лампочка на тумбочке, скрадывая углы комнаты, блестят глаза внука, который лежит на боку и, подперев голову рукой, внимательно и жадно слушает...
Павел Григорьевич прощается с внуком в первом часу. Все уже улеглись, и дедушка идёт к себе. Он не может сразу заснуть. Не спит и Игорёк, у которого перед глазами стоят картины прошлого, знакомого ему лишь по кпно. Потом засыпает и Игорёк, не спит, ворочается один только дедушка.
Утром Игорька будят. Он умывается, завтракает и между делом просматривает записанное вчера под диктовку дедушки. Взгляд мальчика вдруг останавливается, а рука с ложкой в яичном желтке так и повисает в воздухе. У него написано: «большевицкая организация», «Егор Семёновеч», «кружек, зародив-
шейся», «прокломация», «растрелл» и тому подобное. Игорёк чувствует, что он наврал, «наковырял», как говорят в школе, ошибок, но не знает, как нужно написать правильно. Первое, что ему приходит в голову, — записанное дать подправить кому-нибудь в школе, а потом заново переписать начисто. Так он и решает, на ходу собирая учебники и тетрадки.
На улице его обдаёт шумом и солнцем.
Апрель... Ещё кое-где лежат, как серые заплаты на чёрной земле, пласты грязного снега, яркое солнце слепит глаза, звенит трамвай, гудят машины. На углу переулка он встречается с Мишкой Костюковым — футболистом и рыболовом. Игорёк забывает о своём огорчении и заботе. Мишка зовёт его на рыбалку, в магазин, где продают специальную наживку, на которую рыба так и прёт, так и прёт...
Во время урока Игорёк вынимает письмо дедушки н думает, к кому обратиться за помощью. К отличнику Иванникову? Он, конечно, выправит все ошибки. Но ему надо всё объяснять: дедушка — революционер, исполняется дата, надо напомнить... А потом, когда Борька Иванников всё узнает, он скажет: «Эх, ты! Дедушка в ссылке был, ему расстрел грозил, а ты даже слова этого не можешь написать правильно! Внук!»
Стыдно... Может быть, к учителю? Но учитель повторит то, что сказал бы и Борька Иванников, да ещё добавит: «Эх, Игорь, вот видишь, как нехоропю отставать по русскому языку!» Пойти к пионервожатому? Тоже пристыдит, любит читать мораль... К школьному сторожу? Ну, сторож тоже грамотей вроде него...
В юридическую консультацию? Игорёк думает. Он слыхал, что туда ходят правильно составлять важные бумаги, но, видно, его просьбу если и уважат, то не
без того, чтобы высмеять... К отцу или матери? У-у, тут только дай повод, только дай зацепку, разговор будет на час. «Мы тебе говорили — надо заниматься, а не смотреть телевизор, не ходить то и дело в кино... Мы тебе говорили — подтянись по русскому! По всем предметам пятёрки, почему же по русскому отстаёшь?» И опять, конечно, повторят слова, которые сказал бы Борька Иванников.
Игорёк скисает. Остаётся еихё одна перемена и один урок, но он ничего не придумал и, кажется ему, ничего уже не придумает. К кому ни обратись — все его будут стыдить. Все будут повторять слова, которые сказал бы ему Борька Иванников. Нет ни одного человека, который мог бы выручить его и ни в чём не упрекнуть.
Впрочем... Игорёк улыбается и даже подскакивает на месте. Он нашёл выход. Сам себе он кажется умным и сильным человеком, способным преодолеть любые препятствия, как бы они ни были трудны.
На переменке, когда ребята высыпали во двор греться на солнце и играть, Игорьку не до игр, он ходит от одного к другому и, как бы невзначай, спрашивает:
— Юрка, послушай, как пишется «прокламация»? «Пра» или «про»?
Юрка отвечает.
— А-а! Так! Галя, «растрел» — два «с» или два «л»?
— Какой «расстрел»?
— Иу, слово «расстрел»?
— С двумя «с».
— Так, хорошо.
Дела идут блестяще. От каждого по словечку — и у Игоря грамотно написанное письмо. И никто не догадается, в чём дело.
— А «зародившийся»?
— Что «зародившийся»? — не понимает Галя.
— Ну, кружок!
- Кружок? А про что ты это пишешь? Зачем? Ребята! Игорь статью в газету пишет про наш драмкружок! Что он зародился, а потом распался!
— Да ничего я не пишу! — Игорёк прячет свой листок и убегает.
Больше спрашивать нельзя. Вот, может быть,, только где-нибудь в сторонке, осторожно...
Звенит звонок, Игорёк идёт в класс, садится за парту и пробует подсчитать, сколько ещё осталось сомнительных мест. Много... А сколько их он не нашёл!
Кончается урок, и все бегут домой. Игорёк медленно идёт из школы, размахивая портфелем. Что же всё-таки делать? Признаться? Ведь дедушка такой добрый, он всё поймёт... Ну, придётся, конечно, дать обещание... А может быть, позвонить по телефону?
«Справочная? Скажите, пожалуйста, как пишется слово «провокационный»? Сколько в нём «а» и «о» и где они стоят?»
«Да вы что, товарищ? Мы адреса даём, а этому в школе учат...»
Нет, так не пойдёт...
Игорёк уже возле дома. Он стоит минуту, другую... Что же делать, надо идти...
Но дедушки нет дома! Игорёк радуется.
Нет дедушки и через час, и через два. Он появляется поздно и проходит к себе уставший и грустный. Игорька он не тревожит.
«Пронесло!»
На следующий день дедушка тоже не спрашивает о письме. Почти всё время он сидит у себя в комнате, но никто этого не замечает: каждый занят своим де-
лом. Но Игорёк видит: не выходит... Что там, за этой неподвижной дверью?
— Дедушка! — крикнул Игорёк.
Не сразу открылась дверь, и в ней показался Павел Григорьевич. Он остановился в нерешительности, словно прислушиваясь.
— Дедушка! — повторил Игорёк.
Павел Григорьевич всмотрелся:
— А-а, ты здесь...
Он медленно дошёл до стола и, положив на него руку, опустился в кресло.
— Ты что, Игорёк?
Игорёк единым духом выпалил:
— Письмо переписал, но не совсем... Не совсем... Ты посмотри, а я, где неправильно, исправлю...
Павел Григорьевич вздохнул.
— Не можешь, значит? — спросил он тихо и добавил после тягостного для Игорька молчания: — Я бы прочёл и поправил, но тоже не могу.
— Почему, дедушка? Ты и не учился, а на заводе работал и в ссылке был, но пишешь лучше меня.
— Да, было... А сейчас не могу, Игорёк. С глазами у меня... Только ты молчи пока: отцу не говори, матери тоже... — С надеждой Павел Григорьевич вдруг спросил: — Ты в какой рубашке? — Он сощурил глаза и всмотрелся во внука. — В полосочку?
— Нет... — испуганно ответил Игорёк. — Нет, дедушка... В клеточку.
— Ну вот... — сказал Павел Григорьевич, вздохнув, и рука его упала со стола. — Вот...
Притихший Игорёк замер, боясь вздохнуть.
— Когда же это случилось с тобой? — спросил он наконец.
— Вчера, Игорёк... Газет не могу читать, предметы плохо различаю.
— А к доктору сходить! Игорёк.
вдруг воскликнул
Нет, Игорёк, доктор не поможет. Был. Игорёк бросился к дедушке и, обняв его, повторял, убеждая, как мог:
— В полосочку! В полосочку! В полосочку! Павел Григорьевич усадил Игорька рядом с собой
и сказал:
— Читай то, что тебя смущает, я скажу, как выправить.
— В полосочку, в полосочку! - повторял Игорёк, вытирая слёзы. — В полосочку!
ТОМКА
В двенадцать ночи, когда Шурик ещё не ложился спать, вдруг во дворе громко залаяла Томка. И тотчас же взвизгнула, словно её ударили. Шурик выскочил на террасу.
В темноте нельзя было различить даже сосен,, окружавших дом. Шурик щёлкнул выключателем. Яркий и пронзительный свет ослепил глаза.
Томки в конуре не оказалось. Около неё валялся небольшой остроугольный камень; один край его был окровавлен. К голубятне на чердаке сарая приставлена лестница, до сих пор стоявшая в другом месте. Стало ясно, что воры пытались похитить голубей. Шурик обошёл дом кругом. От террасы, где была
конура Томки, к калитке вёл след из крупных капель крови. Мальчик пальцем дотронулся до одной из них и увидел песчинки, вместе с кровью прилипшие к пальцу.
Шурик вышел на дорогу. Фонарь был разбит. В темноте мальчик потрогал землю слева: она была сухая, справа песок прилипал к руке — значит, Томка, преследуя нарушителей, побежала на Канатчико-ву улицу, оставляя на песке кровяные следы.
Было по-осеннему прохладно и сыро. Шурик в одной рубашке часто вздрагивал от неприятного ощущения сырости и ускорял шаги, думая согреться быстрой ходьбой.
Не было видно ни одного человека, все словно попрятались, и только мальчик шёл в темноте по пустынной улице.
Тихо, точно весь посёлок вымер. Кое-где в домах горели огни. Иногда из хорошо освещённых комнат доносилась музыка. Но вот опять гавкнула и зарычала Томка. Можно было подумать, что она нагнала вора и бросилась на него. Шурик побежал в ту сторону, откуда донёсся лай.
На перекрёстке двух улиц горел фонарь, и мальчик увидел низенькую фигурку бегущего человека; штанина его была разорвана, длинный клок волочился по земле.
Томка, поджав заднюю лапу, не бежала, а скорее ковыляла за неудачным похитителем.
Это был Толька Куркин. Целыми днями шлялся он по улицам, ища развлечений и добычи. Жертвами его игр становились воробьи и галки, за которыми он охотился то с рогаткой, то с камнями; попадались фонари на малолюдных улицах — при случае бил и фонари... От нечего делать поганил заборы мерзкими надписями, вывинчивал лампочки, снимал рубашки,
сушившиеся на верёвке без присмотра... Отнимал у более слабых мальчиков перочинные ножики, игрушки, которые он, подержав в руках, часто выбрасывал...
...Толька уже запыхался. Шурику слышно было, как он по-животному тяжело и в безотчётном страхе часто дышал, вернее — хрипел. Хрип прерывался судорогами рыдания, и тогда плач, похожий на взвизгивание, доносился до ушей мальчика. Это было противно.
Шурику стало жаль раненую Томку, которая не щадила самой себя. А главное — ненависть к вору и желание отомстить ему сменились отвращением и брезгливостью.
Но он всё ещё бежал. На перекрёстке Шурик оступился и попал в канаву. В правый ботинок его набралась вода, левая рука была в грязи. Шурик поднялся, снова побежал, но уже вяло и с какой-то неохотой. Хлюпала в ботинке вода, на руке, стягивая кожу, подсыхала грязь — неприятно. Но ещё более неприятно, противно было сознавать, что Толька Куркин, ученик пятого класса средней школы посёлка Ильинского, — вор, что его сейчас нужно будет то ли бить, то ли вести куда-то: так или иначе смотреть на него, дотрагиваться до его рук, которые представлялись Шурику почему-то липкими, потными, дрожащими...
Шурик читал о героях, стройках и сам хотел поехать то в Сибирь, то по Волго-Дону, посмотреть там все шлюзы, арки, водохранилища, стремился на полюс, в Антарктику...
А тут — вор с липкими руками!
И Шурик позвал:
— Томка, Томка, сюда!
Томка повернула к нему морду. Наконец Шурик догнал собаку и взял её на руки. Томка залаяла и за-
вертелась в руках, стараясь вырваться и ринуться за вором.
— Томка, Томочка, — говорил Шурик, гладя Томку по грязной и мокрой голове. — Не надо, Томочка, не надо. Лапу береги.
Собака лаяла и по-прежнему вертелась в руках. А когда Шурик сильнее прижал её к себе, она попробовала укусить его руку.
Дома мальчик перевязал Томке лапу и устроил собаку в комнате около печки. Когда он посмотрел в её преданные глаза, он не увидел в них признательности. За хороший обед, за ласку Томка, виляя хвостом, всегда благодарила его таким взглядом, от которого у мальчика радостно сжималось сердце.
Несколько дней Шурик держал Томку дома. Вскоре лапа у неё зажила, и Шурик выпустил собаку на улицу. Томка с визгом, весело помахивая хвостом, бросилась бежать и, оглядываясь на Шурика, приглашала его, как всегда, принять участие в этой игре.
Пожелтевшая трава вокруг дома расцвела пёстрыми заплатами: то опали жёлтые, багряные и оранжевые листья с груш и яблонь, с берёз и клёнов.
Голые и тонкие сучья берёз печально свисали к земле. Два-три листка, удержавшиеся на ветках, тревожно трепыхались под стремительными порывами холодного и сырого ветра. И прутики берёз простирались в воздухе, неуверенно и нервно вздрагивая.
Осень наступила.
Томка все чащё забивалась в конуру. Оттуда торчали лишь морда да лапы. Казалось, что собака спала. Но она часто открывала глаза и часто встряхивала ушами: Томка настороже. По-прежнему по утрам на участке Смирновых тявкала маленькая
смешная собачонка, по кличке Норка. И сейчас же, услышав её голос, отвечала Томка.
Неожиданно прояснилось небо, куда-то исчезли серые, давившие на землю тяжёлые тучи, точно их разогнали метлой. Выглянуло солнце. Второй день был солнечным. Казалось, что лето вернулось вновь.
Была уже выкопана картошка. В Иванькове,; в трёх километрах от посёлка, пустили гидростанцию. Шурик с ребятами бегал смотреть, как её торжественно открывали. Мать купила ему зимнее пальто. И было странно в эти ещё тёплые дни смотреть на толстое сукно, на меховой воротник и верить, что такая тяжёлая вещь скоро понадобится. В школе устроили доклад на тему «Дружба и взаимопомощь».
Как-то Шурик пришёл поздно из кино и стал раздеваться. Он услышал далёкий взвизг Томки. Продолжался он всего несколько мгновений. Мальчик решил, что ему это только показалось, и не вышел из дома.
А утром, когда Шурик направлялся в школу, он увидел, что конура была пуста. Шурик осмотрел, не сходя с террасы, сад. Томки не было.
Тогда он бросился к сараю.
В этом сарае на чердаке, под надёжной охраной замков и запоров, жили голуби. Крыша его одной своей стороной спускалась на соседний участок, заброшенный и бесхозяйственный. С неё можно было проникнуть в голубятню. Голубей там не было. Дверка была сорвана с петель и висела, криво опустившись к земле.
Под голубятней на жёлтой и оранжевой листве лежала Томка. Её белая с чёрными пятнами шерсть в одном месте была окровавлена. Кровь лежала густым слоем и на пёстрых листьях, а на красных листиках груши она была еле-еле заметна. Около Томки
валялся кирпич. Другой кирпич лежал на голубятне, про запас.
Шурик наклонился над Томкой и посмотрел ей в глаза. Они ещё, казалось, жили. Он отвернулся и смахнул рукой слезинки.
В углу участка Шурик выкопал глубокую яму и туда положил Томку. Он медленно забросал её землёй, перемешанной с красными листьями, как теперь ему казалось, окровавленными.
Слёзы капали на траву, на землю, на образовавшийся небольшой холмик.
Он знал, что в её гибели больше всего виноват он сам.
На участке Смирновых тявкнула Норка, ожидая, когда ей ответит Томка. Потом подождала минуту — наверное, поводила ушами — и тявкнула ещё раз. И не получила ответа.
Тогда она завыла жалобно и страстно.
ЛЕСНИК ИВАН И БРАТУХА
Жил в селе на берегу речки Мокряны, в старом Брянском лесу, не помню уж от кого слышал я рассказ о леснике и медведе.
Эта история удивила меня тогда, но потом я забыл о ней: слишком много других и важных событий прошло перед моими глазами. А участником некоторых мне пришлось стать самому.
Я, наверное, совсем забыл бы об этом рассказе, если бы не натолкнулся на свои старые записки.
Лесник Иван жил в избе на маленькой опушке. Как и положено, окна её выходили на свет, на лужок, а тылом она примыкала к тёмному лесу — толстым, поросшим мохом соснам.
Когда сильный ветер качал деревья, старый лесник слышал, как стволы их касались крыши и скрипели. Зимою иногда от этих ударов на крышу падал с веток сосен тяжёлый слежавшийся снег.
Изба выдерживала и натиск сосен, и обвалы снега: она была построена давно и прочно из толстых, чуть ли не аршин в поперечнике брёвен.
От избы лесника Ивана до ближайшей деревни было вёрст десять, а до ближайшего села — около пятнадцати. А другой раз, в плохую погоду или при недомогании, эти вёрсты кажутся вдвое длиннее.
Сам лесник Иван редко ходил в деревню, а ещё реже в село. Каждые полмесяца к старику наведывались его дальние родственники или знакомые, привозили сахар, хлеб, керосин, соль, табак, другие продукты и вещи.
Старик угощал дорогих гостей чаем, иногда настоящим, какой мы все пьём, иногда земляничным или брусничным, густым ароматным вареньем, маринованными грибами. Потчуя гостей, он расспрашивал о новостях, о том, как живут Киреевы, Соловьёвы, Никитины.
Гости приезжали утром, а к вечеру, чтобы засветло добраться домой, уезжали, и лесник Иван снова оставался один в большом, густом и старом лесу.
Редко кто задерживался у него. Чаще всего это бывали охотники, случайные путники, кого непогода или несчастный случай заносили в незнакомую глухомань. Однажды у лесника Ивана прожил несколько дней художник, оставивший ему на память картину, изображавшую избу и самого лесника, сидящего на скамеечке, возле крыльца. Картина эта и до сих пор висит у старика на стене, и он каждую субботу осторожно стряхивает с неё пыль.
Как-то под вечер старик возвращался с обхода.
Неподалёку от своей избы он увидел на траве большой бурый комок. Лесник Иван осторожно ступил еш.ё несколько шагов и остановился... Всяко бывало на его веку! Недобитый охотниками зверь особенно опасен, тут жди всяких неожиданностей...
На этот раз перед ним лежал медвежонок. Утром лесник Иван слышал далеко-далеко выстрелы... Этот, значит, ушёл...
Лесник Иван на всякий случай снял с плеча ружьё и подошёл ещё ближе. Глаз медвежонка следил за человеком. Лесник сделал несколько шагов в сторону — медвежонок повёл сначала глазом, а потом как, видно, ни было тяжело, повернул и морду. Живой, видит — и не рычит!
Лесник подошёл к медвежонку вплотную. Тот зарычал, но, казалось, не сердито.
Земля под правой передней лапой была залита кровью, трава поникла.
— Ну-ну, — сказал лесник. — Лежи, лежи... Что, братуха, ранили?
По-разному действует на зверей человеческий голос... Медвежонок, наверное, слышал его впервые, уши дрогнули, он перестал урчать, словно для того чтобы лучше распознать эти незнакомые звуки.
Старик присел на корточки. Он хотел осмотреть рану у медвежонка. Но боялся это делать сразу. Запах табака, пота, чужой человеческий запах ударит сейчас медвежонку в нос. Пусть сначала привыкнет...
Медвежонок действительно громко потянул носом, затрубил, ноздри его зашевелились.
— Лежи, лежи, — успокаивая, сказал лесник. — Лежи...
Потом он протянул руку и погладил медвежонка по загривку.
— О-о, братуха, жирок у тебя есть, — весело ска-
зал лесник, но пот на лбу, на висках у него выступил; вообще-то теперь, судя по всему, зверь не должен был бы бросаться, но кто его знает... Всё же сейчас можно было действовать смелее.
Лесник Иван осмотрел лапу, разложил в разные стороны слипшиеся волоски и, когда ранка открылась, стал вынимать из неё ёлочные иголки.
Медвежонок заурчал, но лапы из рук старика не выдернул, пока тот не кончил.
— Теперь лежи, — сказал лесник и пошёл к себе.
Он вернулся с тряпками и чугунком, где в подслащённой воде был накрошен хлеб. Тряпками лесник Иван забинтовал медвежонку лапу, а чугунок поставил у самой его морды.
Отойдя в сторонку, лесник закурил, радуясь сделанной работе.
Медвежонок стал принюхиваться, потом лизнул чугунок языком, чуть не опрокинув его.
— Э-э, дурень! — выругался лесник.
Снова принюхавшись, медвежонок подтянулся и полез мордой в чугунок.
— Во, во! — одобрил лесник. — Вот так, так!
Несколько раз чугунок накренялся то в одну, то
в другую сторону, грозя вывалить на траву содержимое.
— Ах, дурень! — ласково укорял медвежонка старик. — Дуралей Иванович...
Наконец всё-таки чугунок опрокинулся, но медвежонок как ни в чём не бывало вылизал и чугунок и с травы хлебный мякиш.
Так лесник кормил медвежонка два раза в день.
Как-то старик нашёл медвежонка в нескольких шагах от места, где он лежал ранее: медвежонок мог уже передвигаться, и первое, что он сделал, — выбрал траву почище.
Принося еду, старик думал, что наступит день — не сегодня, так завтра, — когда он не увидит больше своего приятеля.
Как только зверь немного оправится — непременно уйдёт к себе.
И старик, приближаясь к знакомому дубку, под которым лежал медвежонок, ещё издали всматривался: там или уже ушёл?
Однажды он не увидел его... Ушёл!
Лесник Иван знал, что так и должно быть. Люди— к людям, звери — к зверям. Но всё-таки обидно было, что медвежонок ушёл... Вот так просто, тайком, не прощаясь, взял и ушёл...
— Прощай, — сказал лесник Иван, повернувшись к чаще, куда мог уйти его приятель. — Прощай, бра-туха!
И пошёл к себе.
Вдруг кусты сбоку зашумели, белка заскакала с ветки на ветку. Старик оглянулся: медвежонок, припадая на одну ногу, спешил к нему.
Старик двинулся дальше, медвежонок шёл за ним.
Он шёл к нему жить.
В сенцах из соломы лесник Иван устроил медвежонку логово. Старик научил Братуху, как он назвал своего лесного гостя, сидеть на лавке около стола, ходить па задних лапах, есть из таза.
Пробовал лесник пилить с Братухой дрова, заготавливая их на зиму. Но Братуха так дёргал за ручку, что другом раз валились козлы, а вместе с козлами падал и сам Братуха. Научить его искусству пилки дров леснику пока не удавалось. Но перетаскивать поленья с места на место Братуха мог. Перетаскивал он и метровые, ещё не распиленные дрова.
Когда поспела малина, Братуха по утрам ходил лакомиться в малинник, неподалёку от избы лесника. Возвращался он домой и облизывался.
Лесник привык к Братухе и говорил с ним, будто тот мог всё понимать. Не всё, но кое-что Братуха понимал.
Веселее стало жить леснику Ивану...
Прошло время.
Ближе к осени сильнее стал шуметь лес. В этот день он шумел особенно беспокойно и сильно. Верхушки высоких сосен раскачивались из стороны в сторону, ходили ходуном над зелёным морем, и с них сыпались иголки, сухая кора и даже сучья.
Во второй половине дня в избу к леснику ввалились два охотника.
— Дед Иван! — крикнули они, не увидев хозяина в сенцах.
За стеной что-то рявкнуло, дверь распахнулась, но в сенцах сейчас же потемнело: почти весь проём двери загородила фигура Братухи, ходившего на задних лапах.
Охотников словно ветром выдуло из сенец. Очутившись на лужайке, они спрятались за соснами, сняли с плеч ружья и стали вести разговор, как лучше убить медведя.
Первый говорил, что лучше всего выждать, когда медведь выйдет на полянку, и дуплетом ударить по нему. Второй говорил, что лучше медведя убить в избе: подойти к ней и стрелять — либо в окно, если зверь в комнате, либо в дверь, если в сенцах.
Но подходить близко к медведю не хотелось, и решили убить его, когда тот выйдет на полянку.
Лесник Иван, уйдя в обход, всё не возвращался, и над его приятелем Братухой нависла смертельная угроза.
Дело было только за тем, чтобы медведь выполз, вышел на лужайку.
А он как раз и не выходил.
Охотники сидели и сидели, искурили уже по три цигарки, рассказали друг другу всё, что приходилось слышать о медведях, а Братуха, словно учуяв заговор против себя, не выходил из избы.
Наконец, когда и у охотников начало истощаться терпение, дверь дёрнулась, словно в неё ударили, и начала медленно отворяться.
— Ну! — сказал один из охотников. — Бьём по команде! Раз! Два!
«Три» он не произнёс: в дверной щели показался кончик скамьи, потом дверь распахнулась, и охотники увидели Братуху, который, стоя на задних лапах, нёс скамью.
Охотники переглянулись, не в силах что-либо понять. Один из них осклабился и засмеялся нервным смехом.
А Братуха выволок скамью на лужайку и сел на неё.
«Может быть, это не медведь, а дед Иван, надев медвежью шкуру, шутит с" нами», — подумали охотники.
Но Братуха, посидев несколько минут, поднялся и, переваливаясь из стороны в сторону, стал бегать вдоль избы, как и положено медведю, — на четвереньках.
Никакого сомнения не оставалось: это, конечно, медведь, но медведь необычный.
Натолкнувшись на поленницу, Братуха зарычал, а на землю с грохотом посыпались поленья, иногда задевая и его. Отбежав в сторонку, Братуха выждал время, и затем охотники увидели, как медвежонок стал сгребать поленья в кучу.
Вскоре подошёл лесник Иван и стал угош.ать охотников чаем, рассказывать им о Братухе.
К поздней осени Братуха подрос, жить и ему в сенцах и леснику Ивану с ним стало сложнее. Братуха чаще и сердитее урчал, всё чаще и чаще пропадал в лесу... «Человек—к человеку, зверь — к зверю», — вспомнил старик свои слова.
Однажды Братуха ушёл в малинник и больше уже не вернулся к леснику Ивану.
Это огорчило и обрадовало лесника. Конечно, одному будет скучнее, но медведю жить нужно там, где рождён.
— Прощай, Братуха, — сказал лесник Иван. — Прощай! Не попадайся только охотникам. А попадёшься — не забудь показать, что ты учёный: может быть, уцелеешь.
ПОЖАРЫ
Июнь и июль были жаркими и грозовыми. Дома, сараи, стога сена, высушенные за два месяца, в течение которых с неба не упало ни капли дождя, стали как порох. А грозы, проходившие как будто и стороной, с оглушительным сухим треском били с раскалённого неба ослепительными молниями, сжигая высокие деревья, сараи, стога сена, риги.
Малейшая неосторожность с огнём также приводила к пожарам.
Горели леса, горели деревни...
Приткнутые друг к другу дворы передавали огонь дальше и дальше, куда его гнал даже самый слабенький ветерок, — до конца улицы, и огонь полыхал, особенно страшный ночами, смахивая зараз полдеревни.
в августе грозы унялись, но в сентябре объявились снова.
Ребята в школе делились последними новостями, когда в класс вошла учительница Лидия Николаевна. Поздоровавшись с учениками, она недовольно и строго спросила:
— Кто побил Юру Никитенкова? Кто это сделал?
Ребята зашумели, завертелись, выискивая виноватого. Но никто не признался.
— Ну! — повторила Лидия Николаевна.
— Признавайся, кто побил! — поддержали её.
— Будь смелым!
Но и сейчас никто не отозвался.
— Лидия Николаевна, — сказала Валя, чернявая девочка с первой парты, считавшаяся лучшей ученицей, — может быть, это не из нашего класса?
— Из вашего класса! Двое пятиклассников против одного четырёхклассника! Храбрецы!
В классе зашумели сильнее:
— Признавайся, кто побил!
— Подлюги, признавайтесь!
И теперь никто не признался. Класс не знал, кто побил Юрку, но учительница знала.
Рано утром Лидия Николаевна купалась в речке— с купанья она начинала свой день — и вдруг из-за кустов услышала голоса:
«А ну, мальчик с пальчик, давай сюда яблоки!»
«Не дам!»
«А может быть, подумаешь своими мозгами, если они у тебя есть, и отдашь?»
«Не отдам!»
«Лёшка, прибавь ему соображения!»
Лидия Николаевна быстро вышла из воды, вытерлась и стала одеваться. Когда она подошла к кустам,
за ними никого уже не было. Густая высокая трава примята так, словно по ней катались. По дороге к селу шли Лёшка и Митя, грызя яблоки, а обиженный, с листьями и травинками в волосах Юра, в рубашке с оторванным рукавом, стоял сбоку у липы и часто и тяжело дышал, вытирая сухие глаза рукой, и с ненавистью смотрел на своих обидчиков.
— Это они тебя? — спросила Лидия Николаевна.
— Нет...
— А кто же?
— Никто...
— Ну хорошо, если так. Купаться шёл?
— Ага...
...Сейчас Лёшка и Митя сидели за партами и с преувеличенно невинным видом смотрели на ребят, на неё, Лидию Николаевну, на портреты Пушкина и Толстого, на берёзы, видные из окна, — на весь мир.
«Когда же их совесть заговорит? — думала учительница. — Не только я — весь класс спрашивал... Или у них нет её?»
Лидия Николаевна могла сказать, что она знает всё, но не хотелось уличать двух неплохих учеников в молчаливой рабской лжи, и было интересно, просто необходимо узнать — неужели у них самих не хватит сил и мужества признаться в бесславном поступке?
Дни шли... После большой грозы ночью в середине сентября никаких происшествий не случилось. Лидия Николаевна внимательно следила за двумя учениками, иногда беседовала с ними, подводя разговор к темам честности и мужества, но они, казалось, и не думали признаваться, не испытывая, видимо, ни малейшего угрызения совести. Какое там!
с каждым днём, узнавала Лидия Николаевна, Лёшка и Митя опускались всё ниже... Кино показывали на площади под открытым небом. На сеанс не стоило большого труда проникнуть «зайцем», и когда киномеханик спросил: «Нет ли здесь безбилетных?»— ребята промолчали,
И, наконец, настал такой момент, когда они стали лгать прямо в лицо.
Однажды сторож колхозного сада встретил Лидию Николаевну в лавке сельпо и, поздоровавшись, сказал:
— Твои-то, Лидия Николаевна... отличились!
— Кто, Петрович? — спросила учительница, смутно догадываясь, не пойдёт ли речь о тех, о ком она не один день думала.
— Кто? Да Лёшка с Митькой...
И сторож рассказал вот что.
Яблоки в саду были уже сняты, остались висеть только плоды антоновки каменной да бабушкиных. Эти зимние сорта лучше всего было выдержать чуть ли не до поздней осени. Потом их снимали, сносили в амбар и к зиме они доходили — вкусные, сочные яблоки, которые свободно можно было хранить до весны. Сторож стал реже заглядывать в сад, по нескольку часов занимаясь в столярной мастерской. Именно в это время ребята и повадились в сад. Чувствовали они себя там довольно безопасно, срывали яблоки с разбором, за этим занятием их и застал неожиданно появившийся Петрович.
— А может быть, это были не они? Вы точно знаете? — спросила Лидия Петровна.
— Да ведь я без очков всё вижу, — сказал сторож, хмуро улыбаясь.
Лидия Николаевна пришла домой, поужинала, стала читать и никак не могла успокоиться.
Она встала, надела тёплую куртку и вышла на улицу. Было темно и прохладно.
Засунув руки в карманы куртки, Лидия Николаевна незаметно для самой себя всё ускоряла и ускоряла шаг. Ей было немного страшно и неприятно.
Лидия Николаевна совсем молоденькая, и дома её просто зовут Лидой. Она тщательно скрывает от окружающих, особенно от ребят, что её очень легко рассмешить. Тот, кто знает эту слабость учительницы, чтобы добиться своего, может показать лишь палец или забавно скривить лицо. Смеётся она звонким раскатистым смехом, и её мать, известная в округе врач и член партийного бюро колхоза, тогда спрашивает:
— Неужели ты и в школе так себя ведёшь? Удивительно, как тебя слушаются ученики! Да и слушаются ли?
— Слушаются! — упрямо отвечает Лида.
— Случается, значит?
— Случается. А смеяться по пустякам я себе не позволяю.
— Как же умудряешься?
— А другой раз и ущипнёшь себя. Думаешь, легко? — Лида приподнимает юбку и показывает синеватые пятна на ноге, след пальцев.
— Да-а, — произносит сочувственно мать. — Боюсь, придётся тебе свинцовые примочки делать.
Луна не показывалась. Впрочем, ей, кажется, и не положено быть в это время. Дом Мити стоял в самом конце села, недалеко от реки. Глухое, тёмное место... А дом Лёшки — ещё дальше: рядом с кузницей, за рекой. Лидия Николаевна шла быстро, держа руки, крепко сжатые в кулаки, в карманах куртки. Делала она это так, на всякий случай.
Мити дома не оказалось. А когда Лидия Николаевна спросила: «Где же он?» — мать ответила:
— Кто его знает... Пропадает где-то вечерами...
Мать явно обрадовалась учительнице. Несмотря
на поздний час, она зазвала её в дом и, как ни просила Лидия Николаевна не делать этого, стала разогревать самовар, достала варенье, хлеб, ветчину, маринованные грибы.
— Ты не замечала, Лидия Николаевна, Митя-то мой младшенький?..
— Что, тётя Настя?
— Не замечала? Вроде как... вроде как другим стал... Чужим... — в раздумье, пытаясь определить беду поточнее, сказала тётя Настя. — Говорить дома не хочет. Грубит другой раз... Невесёлый, будто случилось что. Не знаешь, что за беда-то? Я уж хотела к тебе сама идти... Да вроде как и неудобно: у тебя их сколько, у меня всего четверо...
Лидия Николаевна подумала, что надо как-то кончать с Митей и Лёшей. Не может быть, чтобы в их душах ничего не было!
— Что за беда? Не знаю, тётя Настя, — ответила Лидия Николаевна. — Разберёмся, поправим...
Когда Лидия Николаевна вышла из дома, она встретила Митю. Его лицо трудно было рассмотреть в темноте. Но вдруг учительнице почему-то показалось, что, наверное, этот мальчик чувствует себя несчастным, что ему плохо и она обязана помочь ему...
Слыша, как часто и сильно колотится её сердце, Лидия Николаевна сделала несколько шагов навстречу Мите и положила руку ему на плечо.
— Митя, — сказала учительница. — Это я...
— Вижу... — ответил он, и что-то в голосе его обрадовало Лидию Николаевну. Может быть, уже наступил момент, которого она так долго ждала?
— Митя, — спросила Лидия Николаевна ласково, — Петрович жаловался, что из сада ученики воруют яблоки... Ты не знаешь, кто это может быть?
— Я? Откуда? Откуда я хмсту знать? — открыто смотря в глаза, ответил Митя.
И голос его был твёрды^, интонация очень нрав-дивой, ему можно было поверить.
С тоской смотрела Лидия Николаевна, как сужался мир этих двух, как становились они грубее.
Однажды Лидия Николаевна взволнованно, звонким голосом читала в классе Пушкина и вдруг остановилась. Её словно дёрнули за руку. Звучные, чёткие стихи зримо рисовали перед взорами ребят картины много раз виденного, но до этого не такого прекрасного, как сейчас.
«А они... Им доступно это?» — подумала Лидия Николаевна.
Она взглянула на Митю и Лёшу. Подперев голову руками, склонив её набок, Митя смотрел куда-то в угол, что-то медленно жуя. Лёша, полураскрыв рот,, делал вид, что слушает учительницу, но в глазах его не было ничего...
Лидия Николаевна вздохнула. «Так!» Но и сейчас ей не хотелось уличать ребят во лжи. «Не может быть, чтобы у них не было сил признаться самим! Не может!»
Когда нужно было ехать в город за учебными пособиями, Лидия Николаевна решила взять ребят с собой. До города двадцать пять километров по большаку. Если выехать рано утром, сделав все дела, которых у Лидии Николаевны было много, вернуться можно только поздно ночью. Дорога туда, дорога обратно, да ещё ночью по глухому лесу, поручение, ко-
торое она ребятам даст, сознание ответственности, необходимость целый день быть вместе, наконец — не поможет ли им всё это?
Лидия Николаевна очень рассчитывала на поездку, но её неожиданно отложили: не оказалось свободной лошади, а на днях должны были в город посылать трёхтонку, заодно можно привезти и учебные пособия. Жаль! Ничего другого, что могло помочь ребятам, Лидия Николаевна пока не знала.
Вечером в школе Лидия Николаевна проводила репетицию пьесы «Бедность не порок». На неё пригласила она и Митю с Лёшей. Был только седьмой час вечера, но уже стемнело и в классе зажгли лампу. Юрка репетировал роль Мити.
— Я-с... я-с, Пелагея Егоровна, за всю вашу ласку и за все ваши снисхождения, — чуть не плача говорил он, — может быть, и ис стою... как вы по сиротству моему меня не оставляли и вместо матери...
— Сильнее жалобься! Сильнее! —подал голос подлинный Митя. — Поплачь!
— Лук к глазам поднеси, — добавил Лёша. — Или, хочешь, мы слёзы выжмем. Мы это быстро!
Лидия Николаевна резко повернулась к ребятам и долгое время ничего не могла сказать. Открытое издевательство, наглость возмутили её.
— Уйдите, — приказала она. — Я зря пригласила вас. Уйдите сейчас же!
Ребята зашмыгали носами, стараясь привлечь к себе внимание товарищей, и подчёркнуто медленно, сунув руки в карманы, пошли к выходу.
Лидия Николаевна подумала, что зря она надеялась на этих учеников, потерявших стыд и совесть. Долго она не могла вернуться к пьесе...
— Лидия Николаевна... Лидия Николаевна... — напрасно взывала к ней Валя, исполнявшая обязанности суфлёра. — Будем продолжать? Лидия Николаевна...
— Давайте продолжать, — наконец ответила Лидия Николаевна.
И только Гордей Торцов произнёс два слова, как ударили в колокол: дон-н... Потом второй удар, третий, четвёртый — всё чаще и чаще. Тревожный набат загудел над селом и соседними деревнями.
Все выбежали из школы.
Кто-то наступил учительнице на ногу, кто-то толкнул Валю — никто не обратил на это внимания.
В густой темноте над лесом бурлила красная лава, красные искры улетали в чёрное небо и гасли.
— Верхние Лазенки, — сказал кто-то из взрослых.
— Нижние, — сказал другой.
— Нижние правее!
— Правее Барсуки!
Начался обычный спор.
С грохотом проехала пожарная машина. За ней бежали люди. Лидия Николаевна побежала тоже.
Горели Верхние Лазенки. Ветерок тянул с юга, вдоль улицы, где друг против друга стояли добротные, просторные дома — двор за двором, впритык.
Лидия Николаевна прибежала в момент, когда уже горел третий дом и занимался четвёртый. Его усиленно поливали водой, баграми рушили сарай, крышу хлева... Соседи выносили вещи... Всё смешалось в криках, шуме, плаче, треске сухого дерева и рёве огня. Пожалуй, самым сильным был, действительно, рёв пламени, пожиравшего дома, сараи, хлевы, аыбары.
Лидия Николаевна, которая никак не могла найти себе дела, как, впрочем, и многие другие, видела мель^ кавших то тут, то там своих учеников.
Когда кто-то крикнул: «Сено! Сено разбирай!» — Лидия Николаевна вместе с другими бросилась к сараю и, схватив охапку сена, побежала прочь.
Искры и маленькие головешки уже долетали до его крыши.
— Быстрее! Быстрее!
Стенка сарая потрескивала от наступавшего на него жара. Люди граблями, вилами, руками растаскивали сено. Рядом с собой учительница увидела Лёшу, потом Митю. Но они не заметили её: быстро орудуя один граблями, другой вилами, ребята загребали вороха свежего, ещё не слежавшегося сена и подавали его женщинам и ребятам, относившим в сторону.
Хотя на пожаре, как всегда, царили бестолочь и неразбериха, из-за которых по-настоящему использовались усилия, пожалуй, лишь пятой части прибежавших сюда, но это было ясно большинству: сено нужно выкинуть из сарая!
Если бы занялся сарай — соседнего егорьевского дома не отстоять. Сарай с набитым в нём сухим сеном горел бы долго, жарко, и сколько бы пожарники ни поливали новенький с резными наличниками дом Павла Афанасьевича Егорьева — в этом поединке победителем оказалось бы пламя, щедро подкармливаемое большими запасами сена. А загорись дом Егорьева, огонь пошёл бы гулять дальше — по домам Белкина, Рябушкина, Дармодёхина, Ба-лакина...
Истошным громким голосом кричала старуха Давыдова:
— Помогите же! Помогите! Сюда все! Сюда! Люди вы или не люди?!
— Расшвыривай сено! — кричал однорукий председатель сельсовета Ерёмушкин. — Сено расшвыривай! — и толкал кого ни попало от дома Давыдовой к сараю.
— Ой, люди, люди! — причитая, металась от человека к человеку Давыдова. — Да помогите же!
— Растаскивай сено! — кричал Ерёмушкин. — Сено! — и то одного, то другого, направляя, толкал к сараю.
Выход был один: не распылять силы, а сосредоточить их на сарае. Дом Давыдовых спасти, пожалуй, уже было нельзя, так же как и дом Плотниковых. Вещи вынесут, а сами дома сейчас можно было только рушить, а не спасать. Они отданы были огню, чтобы выиграть время.
— Растаскивай сено! Сено! — кричал Ерёмушкин, размахивая левой рукой, и упорно продолжал гнать всех к сараю. Потом он и сам побежал к нему.
Крыша сарая трещала от жара. Пламя гудело. Стоголосый крик не мог бы заглушить этого страшного, ни на что не похожего гудения. Так может гудеть только пожар, когда горят на ветру хорошо высушенные за лето дома из смолистых брёвен.
Работавшие под самой крышей два дюжих и высоких парня изнывали от жары. Они отваливали вниз огромные охапки сена, где его подхватывали десятки рук и, быстро уносили подальше от огня.
— Быстрее! Быстрее! — закричал парням прибежавший Ерёмушкин. — Не вынесем сена — зря отдали дома! Нажимай, Андрей! Колька!
И вдруг Колька, занёсший вилы, пошатнулся и скатился вниз. Ерёмушкин рявкнул в досаде и полез наверх, цепляясь одной рукой за стену.
— Смените Андрея! — сказал он, беря вилы, которые кто-то подал ему. — Ну кто?
Митя взглянул на Лёшу, и оба разом взбежали наверх.
— Мы — маленькие, — сказал Лёша Ерёмушки-ну. — Мы головой до жары не достанем...
Им подали вилы, и Андрей соскочил вниз, весь потный, видя перед собою огненные круги. Кровь стучала в висках.
Одной рукой Ерёмушкин работал споро: привык.. Он то и дело посматривал на ребят. Те, пыхтя, с размаху вонзали вилы в сено, как будто во врага, и сваливали его вниз.
— Чьи будете? — спросил Ерёмушкин.
Ребята назвали себя.
— А-а, — удовлетворённо протянул Ерёмушкин и посмотрел на них признательно.
Минуты через три он приложил вилы к стене, чтобы вытереть рукавом пот. Уж только ли для этого он и прерывал работу? Ребята слышали, как тяжело и часто дышал Иван Никитич.
Минут через пять кузнец Афоня сменил Ерёмушкин а:
— Иди, иди руководи, Иван Никитич. Управимся!
А ребята работали. Гордость собой, своим поступком прибавляла им сил.
Они казались себе то трактористами, отрезающими хлеба от огня, то солдатами, борющимися с океаном, голодом и жаждой, теми самыми, которые сумели выстоять целых сорок девять дней, то даже космонавтами в тяжёлый момент полёта, когда ракете угрожает столкновение с кометой...
Их всё-таки сменили, но чувство своей силы, своей красоты, приобщённости к большому, важному делу не покидало их.
Сено вынесли, сарай порушили, и пламя от дома Давыдовой не могло дотянуться до егорьевского
дома. И когда Лёша и Митя увидели напрасные усилия огня, они улыбнулись.
Только к утру погасили пожар. Деревню отстояли, но четыре двора сгорели дотла. Пахло мокрой золой, кое-где ещё дымились головешки, тревожно мычали коровы. Уставшие люди не сразу расходились по своим деревням: оглядывали Верхние Лазенки, которые остались на земле. Всё-таки остались! Не отдали их огню!
Постояла и Лидия Николаевна, посмотрела на деревню. Домой она шла молча, молча шли и ученики, и взрослые. Уже не было сил разговаривать. Еле двигали ногами.
Лидия Николаевна отстала, думая о том, как хорошо сейчас броситься в постель. И вдруг ей показалось, что впереди, на повороте, кто-то поджидает её. Она подошла ближе. Митя и Лёша, серые от гари, в ссадинах на лицах, в рваных рубашках, ждали её.
— Лидия Николаевна, — тихо, хриплым, видно, от крика на пожаре, голосом сказал Митя, — а это ведь мы тогда Юрку...
— И больше — всё! — добавил Лёша.
Лидия Николаевна улыбнулась и кивнула головой: верю!
ГЛАВА СЕМЬИ
Только что хрипло пропел гудок. Ещё не перестал дрожать воздух; ещё звенело в ушах.
В аллее, где висели портреты знатных людей завода, из группы рабочих отделился невысокого роста паренёк. На его чёрном замасленном пиджаке и штанах выделялись матовые пятна. На голове у него была кепка с захватанным пальцами козырьком. Кепка сидела лихо и молодцевато.
Паренёк подошёл к своему портрету и поправил чуть сбившийся в сторону позолоченный багет с вытисненными на нём листочками.
— Непорядок, а? — спросил усатый мастер, кивнув пареньку.
— А то разве порядок? — ответил тот. — Вывесили, так пусть висит как следует.
Паренёк слегка покраснел и от смущения потянул носом: всё-таки неудобно, что его увидели за таким делом.
— Нравится!—заметил всё тот же усатый мастер и рассмеялся.
— Делом заслужил, Пётр Андреевич, — ответил мастеру рабочий в синей спецовке. И, обращаясь к пареньку, добавил: — Не смущайся, Виктор.
Тот улыбнулся и зашагал рядом с мастером.
Вдоль дороги тянулся забор с разноцветными афишами. Мелькали слова «Концерт», «Зоя», «Беспокойное хозяйство». В сквере слева виднелись ямы бомбоубежищ, поросшие буйной травой. Некоторые были засыпаны и превращены в клумбы, где пестрели яркие маки.
Недалеко от бараков — приземистых серых строений — и домика, где Виктор жил, ребята играли в мячик. Так называли они игру в лапту. Издалека были слышны их топот, визг и хохот. Игра была в разгаре.
Увидев своих младших товарищей, паренёк подтянулся и постарался сделать всё возможное, чтобы предстать перед ними взрослым, суровым рабочим. Шаги он замедлил, и походка его стала степенной; руки он засунул в карманы, голову поднял. Хотел даже закурить, но вспомнил, что единственная папироса была выкурена ещё раньше, когда он вместе со всеми рабочими сдавал дневную выработку.
Его заметили. Олшвление в игре несколько спало.
— Витька идёт! — сказал кто-то громким шёпотом.
Кто-то крикнул:
— Виктор Алексеич!
Виктор Алексеич небрежно взглянул на своих младших товарищей, занимавшихся такой чепухой, как игра в мяч, и ещё больше замедлил шаги.
— Бегаете? — спросил он, смотря куда-то в сторону, не удостаивая подходивших к нему ребят взглядом.
— Играем, Виктор Алексеич, — ответил Володь--ка, мальчик в просторных, не по росту, гимнастёрке и штанах.
Пытаясь быстро привести себя в порядок, Володь-ка поправил съехавшие набок штаны, одёрнул гимнастёрку. Он ещё раз провёл ладонями по бокам, вытирая руки, и только после этого дотронулся до комсомольского значка на груди Виктора.
— Новый?
Виктор отвёл руку Володьки, одёрнул куртку и сказал:
— Новый.
— А правда, что твой портрет на витрине висит?— спросила девочка с косичками.
— Вот дура! — ответил кто-то. — Второй месяц уже висит, а она спрашивает!
— Третий, — поправил Виктор Алексеич.
Наступило молчание. Девочка заморгала глазами»
пошевелила губами, приготовляясь к чему-то, и проговорила:
— Ив пре... в президиум его выбирают. Мне папка говорил.
Виктор посмотрел -направо, налево, сказал небрежно:
— Бывает, — и, помолчав, добавил: — Весь зал со сцены видать!
— Президиум — это здорово! — сказал Володь-ка. — Вот бы нам станок, самим запускать его, что-то делать, как все... А? И портрет!
— Виктор Алексеич, — спросил его высокий мальчик, — я тоже могу на завод поступить, если в ремесленное пойду?
— Известный порядок, — сказал Виктор. — Ремесленное училище — кузница кадров для всех фабрик и заводов. Ну ладно, заговорился тут с вами. — Он сделал вид, что хочет уйти, хотя уходить ему не хотелось. — Да-а... — важно протянул он.
Вдруг всё та же девочка с косичками сказала:
— Вот бы он мячик ударил — во-о-он за ту берёзку перелетел бы!
Ребята посмотрели на далёкую берёзку, и перспектива заставить своих противников бегать за мячиком чуть не полверсты увлекла всех.
Виктор Алексеич ухмыльнулся: тоже занятие, мол, мне нашли!.. Но всё же самый молодой из присутствующих, набравшись храбрости, поднял руку и осторожно приложил пальцы к бицепсам Виктора Алек-сеича. И хотя под пиджаком оказались жидкие мальчишеские мускулы, паренёк сказал:
— Ух, здоровые! Тебя в нашу футбольную команду примут.
Соблазн сыграть в мячик с участием Виктора Алексеича заставил Володьку предложить:
— А что, Виктор, сыграем... вон против них? — И он кивнул на своих противников.
Виктор Алексеич не выразил ещё своего желания играть, но из другой партии тоже сказали:
— А может, он с нами будет играть? Верно, Виктор Алексеич?
— Нет, с нами!
— С нами!
— Почему с вами? Он наш сосед!
Виктор начал колебаться: «Может, в самом деле сыграть? Тем более, просят...»
Через несколько минут на площадке опять слышались топот, оживлённый смех и ещё более громкие крики. Виктор Алексеич, знатный рабочий, портрет
которого висит в заводской аллее, превратился сейчас в Витьку.
— Витька! Витька!—кричали ему, предупреждая об опасности быть «засеченным» мячиком. — Витька!.. Витька, быстрей!
Он бегал, и оживлённые крики ребят заставляли его быть ещё более ловким, бегать ещё быстрее. До берёзы он мячика добить не смог, но когда ударил первый раз, всем показалось, что ударил он ловчее и сильнее всех и что мячик полетел дальше обычного.
Разгорячённый игрой, с разгоревшимися глазами, с лицом, залитым румянцем, он ни минуты не стоял на месте.
Вдруг ему показалось, что кто-то окликнул его. Как это было несвоевременно и некстати! Он добежал до «поля», обернулся и увидел свою мать.
Она шла к нему. «За чепухой не пойдёт...» У матери, кроме него, был маленький сынишка Митя.
Виктор ещё порывисто и горячо дышал. Одной рукой он застёгивал ворот рубахи, другой поднимал с земли свой чёрный пиджак.
Он неторопливо оделся и пошёл навстречу матери. Игра приостановилась, и несколько десятков глаз следили за матерью и сыном.
— Ну что ты, мама? — спросил Виктор.
— Витенька, — сказала она, — комендант пришёл, о печке спрашивает.
— Ну что печка-то? Пусть ремонтируют. — Он ответил и посмотрел по сторонам, где стояли ребята.
Некоторые, гордясь товарищем, улыбались: «Что ему комендант с печкой? Захочет — и не такое дело уладит!»
— Боюсь, не затянули бы, — говорила мать.-— Затянут недели на две — в глине, песке погрязнем. Вот он и говорит, комендант: пусть, мол, он, сын ваш, на заводе Кротову скажет насчёт сроков — тогда быстрее сделают.
— Хм... Кротову, говорит? Ну пойдём.
— Вот за тем и пришла, Витенька. Чтобы не затя- нули нам ремонт надолго...
— Ничего, мама, ничего. Всё устроим...
Мать шагала рядом с сыном; рука её лежала на плече его, и чем ближе они подходил к дому, тем энергичнее становилась походка сына, тем ласковее трогала женщина худенькое мальчишеское плечо.
ПЛОХОЕ ПЕРО
Был у нас учитель Николай Иванович. С бородкой и в круглых очках. Сам длинный и худой. Ходил всегда в чёрном пиджаке, и никогда на этом пиджаке ни пылинки, ни нитки белой, как у других.
Занимался он с первым классом. Шёл урок письма. Все склонились над партами и от усердия, казалось, даже замерли, дышать перестали.
Только Ваня Мельников то и дело тёр резинкой бумагу, что-то ворчал про себя, громко дышал.
Вот он обмакнул перо в чернилку, только поднёс к тетради, капля — хлоп! — и на строчки. Клякса! Про-макнул её, написал полслова — плохо получилось, да и последнюю букву размазал. Ваня как выдернет перо из ручки и швырнёт на пол...
Все посмотрели на Ваню, писать перестали.
Николай Иванович, ничего не сказав, спокойно нагнулся, поднял перо, вытер его бумажкой и посмотрел перо на просвет: «Как будто ничего перо».
Потом он вставил его в свою ручку и подошёл к Ване.
А у того в тетрадке кляксы да подтирки. Слова — и вкривь и вкось. Буквы и маленькие и большие.
Николай Иванович заглянул в тетрадь. Смотрел, смотрел и хотел что-то сказать.
— Так перо плохое! — проговорил Ваня, оправдываясь.
Николай Иванович ничего не ответил. И, пользуясь молчанием, Ваня сказал:
— Царапает и вообще плохое...
Николай Иванович опять промолчал.
Он обмакнул ручку, в которой было вставлено перо, брошенное Ваней, и подсел к нему.
Он исправил Ване каждую букву, а внизу красивым ровным почерком написал:
«Перо плохое. Вот видите, как оно пишет».
С тех пор никто в классе Николая Ивановича никогда не жаловался ни на перья, ни на чернила, ни на ручки, никто не сваливал вину на безответные вещи, на товарища, который слабее тебя.
А пером тем Николай Иванович писал красиво и долго — чуть не с полгода.
ЯБЛОКО В БУТЫЛКЕ
В одно из воскресений доктор Борщов решил осуществить давно задуманное. Рано утром он зашёл за агрономом, тремя учителями, заведующим почтой и вместе с ними, достав подводу, отправился в лес. Оттуда они вернулись с телегой, нагруженной молодыми липами и клёнами.
Липы и клёны стали сажать на главной улице села. К доктору и его товарищам присоединились другие, и улицу озеленили в какие-нибудь три часа.
Во время работы и возник этот разговор. — На земле всё меньше становится невозможного и необъяснимого, — говорил доктор. — Видите ли, наше село сорок лет назад было таким, каким оно, видите ли, изображено у меня на рисунке. Де-
сять домов да кабак, А теперь? Красота! А всё вокруг?
Вспоминали про радио, телевидение, про Мичурина, Циолковского с его проектами полёта в межпланетное пространство, про атомную энергию, которую можно заставить служить делу созидания, про многое другое. Григорий Иванович, старый садовод, слушал, улыбался про себя и молчал.
— Вот сейчас кончим, — сказал он доктору и учи-» телю, — милости прошу ко мне отобедать,
— Охотно, — отозвался доктор. — У вас, видите ли, вкусным компотом потчуют. Охотно приду.
Гости пришли.
На столе у Григория Ивановича стояла самая обыкновенная литровая бутылка, и в ней, чуть не касаясь стенок, лежало на дне спелое с красными продольными полосками яблоко боровинка.
Бутылку взял в руки доктор Борщов.
— Гм... — сказал он.
Стремясь найти разгадку, доктор вертел бутылку перед самыми очками. Он осмотрел полоски на стекле и сказал:
— Видите ли... Искусство литья... Донышко было отрезано, в бутыль положено яблоко и обратно спаяно. Мне на заводе в Людинове делали, видите ли, цветы в стекле. Изумительно! Великие мастера.
— Я не был на стекольном заводе, — улыбаясь, ответил Григорий Иванович.
— Дорогой мой, — сказал Борщов. — Я вижу в бутылке яблоко и вполне удовлетворительно объясняю это явлегше. Там же, в Людинове, мне впаяли в кусок стекла фотографию моей жены. И представьте — ни одной царапинки, не говорю — шва.
— Нет, —сказал Григорий Иванович, — я не ездил в Людиново. И, думаю, нельзя запаять стекло
так, чтобы не было видно шва. А если можно, то при сваривании донышка стекло должно раскалиться, и яблоко будет повреждено.
— Оно искусственное, — сказал учитель Ефим Егорович, мастер делать чучела, маски для спектаклей. — Бутылку вы не трогали, ничего не отбивали, ничего не сваривали, а впихнули внутрь что-то вроде резины, натурально раскрашенной, и там надули.
— Эх,-—вздохнул Григорий Иванович, — если бы я мог создавать яблоки, которые трудно отличить от натуральных! Посмотрите, — он указал на боровинку в бутылке, — там даже матовый покров виден.
Действительно, боровинка была покрыта нежной пыльцой, делающей яблоко матовым. Трудно было поверить, что оно искусственное.
— В природе, видите ли, нет загадок, которые нельзя было бы разгадать. Завтра я принесу лупу и найду, видите ли, загвоздку.
— Пожалуйста, — сказал старый садовод. — Но думаю, что не найдёте. Всё гораздо проще.
Были сделаны ещё кое-какие предположения, но тщетно! Загадка казалась неразрешимой.
Потом подали обед, затеяли разговор о литературе. О бутылке с яблоком забыли. После обеда Григорий Иванович водил гостей по саду, рассказывал им о сортах фруктовых деревьев, белых сливах, вымерзших в прошлом году. К вечеру гости разошлись.
Поздно вечером, когда все уже спали и только Григорий Иванович читал, в дверь постучали. Пошли открывать. Это был доктор Борщов.
— Извините, дорогой мой... Умоляю меня извинить... Завтра большой приём, несколько операций, а я, видите ли, спать не могу. Мучаюсь.
— Что-нибудь... плохое? — спросил Григорий Иванович. — Какой-нибудь случай?..
Григорий Иванович и домашние знали, что доктор тяжело переживал всякую неудачную операцию, ухудшение состояния больного, не говоря уже о смерти пациента.
— Яблоко! Яблоко, видите ли, в бутылке! — воскликнул доктор. —Я не могу, видите ли, спокойно работать, если меня что-то мучает. А меня мучает собственная тупость. Я не могу, когда что-то неясно. А у меня завтра тяжелейшие операции, видите ли... А тут ещё агроном Неустроев заболел.
— Из Грибовки?
— Да. Василий Васильевич.
— Сядьте, доктор, — сказал Григорий Иванович, кутаясь в одеяло. — Когда яблочко совсем маленькое, на него надевают бутыль. Бутыль прикрепляют к сучьям. И яблоко растёт в бутыли. Всё очень просто.
— Чёрт возьми! — выругался доктор. — Как я не догадался! Какая, видите ли, тупость!
Он двинулся к двери, что-то бормоча себе под нос, и можно было разобрать только: «Видите ли».
МЕЧТАТЕЛЬ
Во тьме движется обоз. Скрипят тяжело гружённые телеги, да плывут, то погасая, то вспыхивая, огоньки папирос невидимых возчиков. Да всхрапнёт ещё лошадь, или скажет кто-нибудь соседу:
— Не спишь?
— Нет. А ты?
— Нет.
— Ну, не спи...
Неуютно, темно и сыро... Пригрелся на мешках с рожью —и лежи, не ворочайся. А повернёшься — вдруг прикоснётся к телу сырое, холодное бельё, мурашки пробегут по спине, и тогда долго не согреешься, как ни запахивай истёртый армячок, надетый поверх ватника.
— Н-но, н-но! Мальчик, балуй...
Вася Медынцев — предпоследний в обозе. Надел ватник, влез в братнину шинель, подсадили его на воз, с тех пор он и не вставал. Рукава длинные, переломил их — и тепло рукам. Полы у шинели до пят, поджал ноги, подвернул сукно — ниоткуда не дует. Тепло. Вот только темно и страшновато. Тут уж ничего не сделаешь. Можно только думать: «А на войне было страшнее... Пули вокруг летают, рвутся мины... Разрываются снаряды, залепляя людей землёй...» Так, по крайней мере, пишут в книгах, которых Вася за это лето прочёл немало.
— Коль, а Коль, не спишь? — спрашивает Вася,
— Нет. А ты?
— Нет.
— Ну, не спи.
Движется в темноте обоз...
Колхоз имени Мичурина сдаёт государству хлеб. Целый день сновали от села к станции и от станции к селу полуторатонки, а вечером отправили обоз, чтобы окончательно рассчитаться с государством. Трое ребят-пятиклассников, среди которых Вася Медынцев, вызвались помочь взрослым. С одной стороны, как-никак, а помощь колхозу, с другой — польза себе. Можно будет посмотреть элеватор, станцию, зайти, после того как сдадут хлеб, в магазин культтоваров, что-нибудь купить, допустим готовальню или автоматический красный карандаш. Когда живёшь в лесу, за сорок пять километров от станции, каждая такая поездка — событие.
Мальчик ленив — на пригорке не обходится без понуканий, а то и вожжи надо тронуть, напомнить, что есть на телеге хозяин. У спуска к реке подводы
перепутались, и, когда переправлялись, Владимир Иванович, замыкавший обоз, оказался на месте Васи, а Вася с ленивым Мальчиком — последним.
«Бр-р! Зябко!»
«Но ничего, — утешает себя Вася, — ничего, ещё немного, доедем до станции, там горят яркие огни, стоит шум от подъезжающих машин, повозок; доедем, сдадим хлеб, и потащит его поезд прямо в город... Хотя нет, зерно ссыплют в элеватор...»
Забыв своё решение не ворочаться, Вася хлопает руками по мешкам: все ли тут? Не пропал, не свалился ли какой?
Но мешки все целы, никакой не свалился, не пропал... Вот только, как вор, пробрался за ворот, в рукава сырой, холодный воздух... Вася поёжился, К телу прикоснулось холодное, как жесть, успевшее остыть бельё.
Плотнее запахнув шинель, Вася пригрелся и вздремнул всего, как ему показалось, минутку. Проснулся он от тишины, вдруг испугавшей его. Сквозь дрёму он ещё улавливал скрип телег, сонный всхрап лошадей — сейчас же не было слышно ни скрипа, ни всхрапа н только далеко-далеко отсюда выла собака. Лошадь стояла.
«Отстал!»
— Коль, Коль? — окликнул Вася.
Ни звука в ответ.
Он хлестнул Мальчика кнутом, лошадь даже не дёрнула, не пошевелилась, спокойно перенесла удар, словно знала, что с места сдвинуться нельзя. Вася соскочил с телеги. Повозка стояла на дороге, в заднем колесе торчал толстый сосновый сук, зацепил, держит... Вася с трудом рассмотрел его. Потом достал предусмотрительно положенный под мешки топор и в темноте не сразу перерубил сук.
Теперь он уже ничего не замечал — ни холода, ни пугавшей ранее темноты. Неведомые до сих пор чувства овладели им... Один, ночью, посреди поля, неизвестно где, и ни огонька поблизости, ни двора, ни дома—ни единой души. Чувствуя себя затерянным и этом незнакомом ему тихом, будто вымершем мире. Вася испугался: довезёт ли он хлеб, не заблудится ли?..
— Ребята! Владимир Иванович! — закричал Вася и услышал лишь, как эхо — видно, неподалёку где-то был лес — повторило его голос, такой чужой и незнакомый.
Через несколько минут, присмотревшись, он увидел впереди себя две более светлые, чем все остальные, полосы: дорога разветвлялась, и не было на ней ни столбика, ни веточки.
«Только ещё и не хватало!» — подумал Вася. Ему теперь показалось, что прежние его беды и опасения ничего не стоили: нужно было залезть на телегу и ехать, ехать вперёд, чтобы догнать своих. Только и всего. Рано или поздно, но он догнал бы их... А теперь?
Он снова всмотрелся... Нет, ни малейшего признака жилья.
Обострённый слух вдруг различил всхрап лошади. Вот брякнул, видно самодельный из железа, бала-бон... Снова...
Вася побежал на эти звуки. Справа оказался край низкорослого леса. Обогнув его, Вася увидел лошадь, костёр, горевший слабеньким пламенем, фигуру у костра.
Костёр освещал лишь лицо, руки, державшие книгу, всё остальное растворилось в темноте. Это было очень странно видеть: плоское белое лицо и две белые руки с белой книгой, больше ничего...
— Эй! — окликнул Вася не без волнения и какой-то робости.
Человек поднял голову, и Вася увидел, что это мальчик лет одиннадцати, веснушчатый, с торчащими в стороны большими ушами.
— Вот тебе и раз! — воскликнул удивлённый мальчик. — Ну и ну! Ты кто такой?
Вася не ответил: странновато вёл себя этот человек.
— Уж не с Марса ли ты? — спросил мальчик.
Вася молчал.
— А может быть, с Венеры?
Немало удивлённый таким приёмом, Вася, вытаращив глаза, молча смотрел на странного человека. В своём ли он уме?
— Э-э, — вдруг недовольно произнёс мальчик, словно видя, что толку от этого пришельца не добьёшься. — Откуда ты взялся?
— От обоза отстал... На станцию направо или налево взять? — спросил Вася.
— Направо... А вот ты знаешь, — неожиданно сказал мальчик, — ведь метеорит—это не метеорит. Это с Марса к нам послали ракету с людьми. Ракета шлёпнулась... Взрыв! Огонь! Грохот! Ракета шлёпнулась, а куда делись люди? Может быть, они смешались с нашими и мы с тобой потомки марсиан или ве-нерцев? А?
Вася, присев на хворост, устроился у огня и бросил туда несколько веток. Они затрещали, костёр вспыхнул, и Вася увидел двух ребят, мирно спавших на расстеленных армяках. Слышно было, как дремотно брякали колокольцы, как пощипывали лошади сочную, покрытую росой траву. Темнота сейчас, когда Вася сидел у костра, казалась совершенно непроглядной.
— А ты знаешь, — снова заговорил мальчик, — к нам ведь уже прилетали из космоса, с других планет. Они основали Атлантиду. Это было целое государство, целая страна... Технику, культуру развили там до предела... А потом Атлантида затонула... Надо найти её, раскопать —чего там только не обнаружишь!
— Это в книжке, что ли, про это написано?— спросил Вася.
— Написано, да не всё... Молсет быть, и затме-
ния— это не просто затмения, а знаки, которые мы не понимаем. Может быть, нам о'чём-то семафорят, вот как флажками или фонарями на кораблях? Только тут не флажки и не фонари, а Солнце и Луна, потому что далеко... О чём они дают нам знать? Может быть, надо что-нибудь сделать? Какую-нибудь простую вещ,ь?!
— Не знаю...
— И я не знаю., — с сожалением признался мальчик.
Давно у Васи рассеялись страхи, стало как-то необыкновенно уютно от присутствия среди этой ночи небольшого мальчика с книгой в руках, толкующего ему тайны Вселенной.
— Ну, мне надо идти, — поднялся Вася. — Значит, направо?
— Направо.
— Спасибо!
— Пожалуйста...
Вася отошёл несколько метров, остановился и вдруг вернулся.
— Послушай, — спросил он мальчика с веснушками, — а вдруг и правда к нам с Марса кто-нибудь прилетит?
— А-а-а... — протянул мальчик. — Как тебе ска-
зать... Всё может быть... Может, кто-нибудь к нам уже и прилетел, а мы не знаем... Вот я и смотрю... Ты не веришь?
— Всё может быть... — согласился Вася.
— Вот в том-то и дело, всё может быть. Я уже многих спрашивал.
— Ну и что, не с Марса?
— Нет.
— Не нашёл ни одного?
— Ни одного... Но я всё равно буду спрашивать. Может быть, на сто тридцатый раз и найду. Ты понимаешь? Найду. Спрошу, а он мне ответит: «Абду-рахам титанау трахомба».
— Что это?
— Здравствуй, мол, дорогой друг! Ты знаешь, эти молнии... Вот что на небе... Мы смотрим и не догадываемся. Молнии и молнии.А вдруг они—тоже знаки?
— Чьи? — спросил Вася.
— Как чьи? — Мальчик в веснушках понизил голос. — Конечно, их знаки. Или вот расплавленное стекло в пустынях Африки. Откуда? Они прилетали к нам.
— Не знаю, — сказал Вася. — Но ты всё-таки спрашивай.
— Я и спрашиваю...
— Ну, прощай!..
— До свидания!
Вася быстро пошёл: не случилось бы чего с подводой, пока он тут беседовал у костра. Ведь всё может быть...
Он одолел уже, пожалуй, полпути, когда услышал крики:
— Ва-ася-а-а! Ва-ася-а-а!
Это кричали Владимир Иванович, Толик и, навер-
ное, другие, обнаружившие его исчезновение и, судя по всему, вернувшиеся назад.
— Я тут! — отозвался Вася. — Сейчас.
Он оглянулся назад, на костёр, у которого по-прежнему с книгой в руках сидел веснушчатый, с оттопыренными ушами мальчик, казалось, один со своими увлекательными догадками и мечтами, один на этой тёмной, спящей земле, — оглянулся и побежал к своим.
ПО СЛЕДАМ
Писатели приехали в пионерский лагерь встретиться с ребятами, почитать им свои рассказы и стихи. Приехал и я.
Когда читал свой рассказ, я всё поглядывал на вожатого: он казался мне очень знакомым. Да и вожатый как-то по-особенному стал посматривать на меня. Я читал и думал: «Алексей... Наверное, Алексей...» Один раз я даже сбился и прочёл не то, что надо. «Неужели всё-таки Алексей?»
В далёком, незабываемом детстве дружил я с таким мальчиком — Алексеем.
Когда кончил читать, был уверен: он!
Так я нашёл давно потерянного из виду товарища.
После встречи с ребятами и обеда мы с Алексеем отправились в лес. Алексей Иванович рассказывал о себе, я — о себе.
В ту пору, после засушливых недель, часто шли дожди, и в лесу было так много грибов, что собирали только белые.
Алексей Иванович аккуратно срезал крепкий боровичок и сказал:
— Помню я этот лес... Помню, как с дедом за грибами ходили... Давно, ещё в войну...
— Что-нибудь случилось здесь?
— Случилось... И ещё что!
— Тогда рассказывай!
— А ты не спешишь? Никуда не опаздываешь?
— Нет-нет!
Мы долго ходили, и Алексей Иванович рассказал мне эпизод из детских лет.
Приводя его здесь, я почти ничего не изменил в нём.
В лесу ещё было сыро. Мох, и без того всегда влажный, сейчас был пропитан водой. Стоило ступить на него, как слышалось сочное причмокивание и вслед за тем около ноги проступала вода.
Трава лужаек, перелесков и лесных прогалин была усеяна бусинками росы; маленькие капельки воды, непонятно как державшиеся на зыбкой траве и цветах, на провисавшей паутине, казалось, отражали кучевые облака, голубое небо, верхушки деревьев. Жалко было ступать по нежной траве, ссыпая на землю чистые, хрустально-прозрачные капельки росы, от которых так и ждёшь, что они тихо-тихо зазвенят серебряным звоном.
Пахло прелым деревом и ещё чем-то тёплым, ка-
залось, всходившим на дрожжах не то тестом, не то блинами.
Лес был густой и тёмный, но не страшный, быть может, потому, что здесь пахло такими вкусными и домашними вещами. В нём не страшно быть вдвоём даже сейчас, когда линия фронта почти вплотную подошла к лесу. Недалеко от села, под Белыми Берегами, были разбиты немцы. Обезумевшие от огня артиллерии, оставшиеся в живых одиночки и группки — всё, что осталось от четырёх вражеских подразделений, — бродили по окрестностям. Некоторые сдавались, другие — отпетые фашисты — упорно скрывались.
Лёша знал, что раз он не один, а с дедом, то уже только поэтому он в безопасности. А дед в своём краю ничего не боялся.
Лёша и дед Герасим, колхозный садовод и столяр, шли шагах в пяти друг от друга. Каждый из них нёс по плетушке. Из плетушки деда выглядывали чистенькие мордочки боровиков с прилипшими к ним травинками, в плетушке Лёши грибов было так мало, что их еле хватило для того, чтобы закрыть дно, и Лёша ревниво присматривался к тому, как дед ищет грибы.
Он подходил к невысоким, чуть приметным холмикам, что в изобилии разбросаны под дубами, и, снимая корку листьев, как черепица покрывавших мох, говорил:
— Сейчас мы посмотрим, что тут за артель.
И действительно, под листьями оказывалась целая шеренга боровиков, выстроенных по ранжиру. Самый крупный из них пробился сантиметров на десять от земли, самый маленький едва раздвинул мох и робко выглядывал на свет.
Дед забирал большие грибы, а маленькие остав-
лял, чтобы они ещё подросли, и закрывал их опять теми л<е листьями.
Лёша решился на хитрость: вчера к вечеру он наткнулся на целый выводок боровиков, но они были настолько малы, что мальчик их оставил. Жалко было уничтожать маленькие и нежные грибы, покрытые тонким матовым слоем. Стоило дотронуться до него рукой — и слой этот словно таял, слегка смачивая пальцы чем-то липким. А гриб уже казался испорченным. В плетушке они ничего не прибавят, а к утру грибы подрастут и станут большими. Сегодня этой находкой можно было воспользоваться и сразу стать в глазах деда опытным грибником. И Лёша, отыскав дуб, под которым он видел эти грибы, произнёс:
— А вот мы сейчас посмотрим, что тут за артель.
Мальчик, не дотрагиваясь до листьев, посмотрел
на деда. Вот если бы дед сейчас вступил с ним в спор! Мол, не найдёшь ты, Лёшка, грибов!
Но дед промолчал, и Лёша тогда повторил:
— А вот мы сейчас посмотрим, что тут за артель, — и замер.
Листья кем-то уже разворошены, и ни одного гриба. Не было даже боровиков величиною с жёлудь и меньше, хотя вчера к вечеру Лёша видел их тут много. Мальчик был так удивлён, что, позабыв про свою хитрость, обратился к деду:
— Дедуш... Вчерась сам оставил... маленькие, л^алко таких.
— Ась?^—нарочно переспросил дед. — Не слышу. Сам оставил?
Старик, кряхтя, присел на землю и долго смотрел на место, указанное внуком. Кто-то рвал грибы наспех, не оставил даже самых маленьких, и все они были вырваны с корнем, с белой плесенью, устилавшей гнездо, из которой грибы родятся,
— Дедуш, кто ж это? — спросил Лёша. Дед уложил плесень на место и сказал:
— Зверь, Лёшка. Только зверь.
— Зве-ерь? Какой, дедуш, зверь? Во-олк?
Амбар всегда привлекал Лёшу к себе, всегда манил. Он был страшный, тёмный и загадочный и поэтому ещё более привлекал внимание мальчика.
Когда там никого не было и Лёше приходилось выполнять чьё-нибудь поручение, он бесшумно открывал большую дверь и вбегал в помещение, пахнущее свежими стружками, масляными красками и ещё чем-то специально амбарным. Он натыкался на верстак или на токарный станок, но боли не чувствовал, хватал вещь, за которой его посылали, и стремительно выбегал во двор.
Но зато когда в амбаре работал дед, Лёшу никакой силой нельзя было выгнать оттуда. Здесь творились чудеса. Дед из простых досок и планок делал изумительные вещи: ветряные мельницы, которые не только махали крыльями, но и трещали, детские салазки, стулья, столы, перочинные ножи с лезвиями из косы, более острыми, чем у покупных... Да мало ли что тут делалось дедом!
Сейчас он согнулся над верстаком. Лёша вошёл и увидел, что дед усердно чистил ружьё, провисевшее на гвозде несколько лет без дела.
— На охоту, дедуш? — спросил Лёша.
— На охоту...
— На кого ж?
— На зверя, Лёшка.
— На зве-еря, — доверительно и сочувственно протянул Лёша, словно ответ деда удовлетворил его.
Герасим повесил блестящее ружьё на гвоздь, про-
вел по гладкому стволу шершавой, как наждак, ладонью и приступил к зарядке патронов.
Лёша видел, как дед отсыпал бумажкой порох из полотняного мешочка на другую бумажку. С бумажки он ссыпал в патрон. Лёше казалось, что этого хватит. Но дед о чём-то думал и потом добавлял пороху ещё. Запыживал дед влажной паклей. Он клал её в патрон, вставлял туда специальную палочку из дуба и ударял по ней молотком. Лёше казалось, что сейчас патрон разорвётся от этих ударов, но Герасим всё бил и бил. Потом он, наконец, положил картечь и всё это забил небольшим слоем пакли.
Лёша знал, что с такой картечью ходят на волков.
Вечером, когда угомонились на старой церкви галки и начали квакать лягушки в пруду, дед с ружьём за плечами вышел во двор.
Лёша кубарем скатился с печки и сунул ноги в валенки. По дороге к двери он схватил пиджачок и картуз, заранее брошенные на лавку, и выбежал на двор, а оттуда на улицу.
Он увидел, как старик подошёл к дому Артамоновых и три раза стукнул в окно. Вскоре из дверей вышел сухой, небольшого роста старик Артамонов — сторож колхозной птицефермы. За плечами у него висело ружьё.
Двое зашли за третьим — Никифором, охотником и рыболовом. Дед Никифор был по-зимнему одет в полушубок. За плечами у него тоже болталась двустволка.
Трое остановились у дома Сухарева. Постучали и, когда вышел Павел Иванович с топором за поясом, уже вчетвером двинулись дальше. Молчаливый и оттого ещё более грозный вооружённый отряд под пред-
водительством Лёшиного деда направился через огороды к лесу. За отрядом молча следовал Лёша.
Он осторожно ставил ноги, боясь зацепить па мго-нибудь и обратить на себя внимание. Иногда огряд останавливался, старики переводили дыхание, поправляли ремни ружей и о чём-то перегопа|)ииалп(1..
Через тридцать — сорок минут показался тёмным массив леса с туманом, выползающим из чащи. (1м-зый туман стлался по самой земле, а вскоре стал похож на очертания медведя, небольшого залива, потом расползся и уже ничего не напоминал. Если долго смотреть на изменения туманного облака, то пока-л<ется, что и тёмный лес не стоит на месте, а плывёт куда-то, то опускается, то поднимается.
Отряд дошёл до последних огородов, самых близких к лесу, упирающихся в него, и остановился. Старики стали совещаться.
Лёша широко открыл глаза, стал слушать.
Его дед несколько раз упомянул про грибы, и Лёша подумал: «При чём тут грибы?» Артамонов сказал об овце, пропавшей из стада. «При чём тут овца? Грибы в лесу, овца пропала в Дубровке, а это далеко от леса». Вскоре кто-то из стариков произнёс слово «фашист». Мальчик вспомнил о близкой линии фронта, рассказы о том, как были разбиты под Белыми Берегами враги.
Старики разделились, каждый выбрал по окраинному огороду. На прощание они свернули цигарки и, задымив, молча разошлись. Лёшиному деду достался огород Ильиной. Вчера кто-то побывал в нём, вытоптал огурцы и горох, а унёс с собой совсем мало. Дел постоял, подумал, осмотрелся вокруг и направился к шалашу, поставленному почти в центре огорода. Ом залез в тёмный шалаш, сколоченный из досок, и пропал там. В чёрной пасти шалаша нельзя было ничего
различить. Оттуда не доносилось ни шороха, ни кашля.
Лёше стало страшно, и он подполз ближе к шалашу. Он подполз бы ещё ближе, но тогда нужно бояться другого: дед может обнаружить его раньше, чем кончится это интересное приключение.
Темнело всё больше и больше, словно ктотто задёргивал занавесками ещё розовеющую полоску неба на западе. Скрылись в сумраке деревья леса. Только в просвете между облаками виднелся силуэт сосны, одиноко возвышающейся над лесом.
Но скоро не стало видно и её. Лёша поднялся и размял ноги. Повернулся на месте и вдруг обнаружил, что не знает, где шалаш с дедом. Здесь? Или здесь? И хотя до этого он не видел шалаша, а только знал, в какой он стороне, ему не было так страшно, как теперь. Лёша начал жалеть, что ввязался в это дело. Если бы можно было, дед сам бы взял его с собой. А раз не звал — не нужно было и ходить...
Лёша лёг между грядок с огурцами. От сырой земли ему стало холодно. Он поднялся и, прячась в кустах картошки, сел на грядку. Сидеть он должен полусогнувшись, иначе его голова будет выделяться над картофельной ботвой.
Он заметил, как перестали квакать лягушки. Послышались лай и шипение кошки: это, видно, Ильина выплеснула из миски остатки ужина. И опять всё смолкло, но ненадолго. В полной тишине возникли какие-то звуки, словно в картофельной ботве, в грядках огурцов кто-то копошился. Лёше казалось, что сейчас его схватят за горло холодные руки, совсем неожиданно и цепко. Но это ветерок пробежал по ботве и стих. Лёша знал, что эта тишина ненадолго, она сейчас будет нарушена. Он сидел и ждал, когда опять послышится возня.
Вдруг прорвались и донеслись до Лёши сдерживаемые всхлипывания. Он испугался, ещё не разобрав, что это такое. В полном отчаянии плакала мать Нюры, доярка Ольга Павловна Ильина.
Вчера днём послала мать девочку за солью в соседнее село. Нюра не пришла домой. Почтальон сообщил к вечеру, что наткнулся в лесу на её труп.
Всхлипывания усилились, голос женщины уже дрожал, он то замирал, точно обрываясь, то вновь неожиданно ранил сердце. Лёше представлялось, как мечется пожилая женщина, как капают слёзы с морщинистых щёк... У него сжались кулаки, он не заметил, как сам начал плакать, как задрожали губы.
В это время обычно мать укладывала Нюру спать...
Немного прояснилось небо, казавшееся навсегда заваленным облаками. Стало светлее. А дед всё не выходил из шалаша. Стих плач матери, изредка только доносились всхлипывания.
Прошло ещё время. Ещё более расчистилось небо, стала видна луна через тонкие мутные облачка, беспрерывно набегавшие на неё. Дед точно пропал: ни звука из шалаша, ни шороха. «Может, он ушёл?»
Лёше по-прежнему было страшно. Опять зашумели ветки картошки.
«Это ветер, — подумал он. — Ветер. Он сейчас стихнет».
Но шум не затих, он приближался, словно по грядкам шёл кто-то прямо на Лёшу. Вот это уже не шум, а шорох, да, это кто-то идёт...
У мальчика громко забилось сердце, перехватило дыхание, он боялся дышать, нужно бы выглянуть из-за веток, но страшно... Шорох больше не слышен, но возникли другие звуки: будто кто-то рвёт огурцы вот совсем рядом, рвёт и здесь же ест, жадно чавкая.
«А дед, где же дед?» —подумал Лёша, хотел закричать и не смог.
В это время голос деда тревожно спросил:
— Кто?
Лёша облегчённо вздохнул: «Дедушка!»
Чавканье сейчас же прекратилось, совсем недалеко от Лёши треснул выстрел.
«Столько засыпал, — подумал он, — а так слабо».
И сразу же в ответ грохнул выстрел, полыхнуло пламя, и мимо Лёши что-то пронеслось свистя.
«Наповал», — решил Лёша.
Мимо него пробежал дед. Из его ружья ещё валил дым. Дед нагнулся над чем-то и чиркнул спичкой.
Лёша, путаясь в ботве, побежал к нему.
На грядках неуклюже развалился человек в грязно-зелёной куртке. Это фаип^ст. В одной руке он держал пистолет, палец вот-вот готов был снова нажать спуск; в другой несколько веток огурцов, выдернутых с корнем. На корнях ещё держалась чёрная земля. К губе немца прилип кусочек огурца.
В карманах его куртки не нашли ни одной крошки хлеба, но зато было много соли.
БАБУШКИНЫ СЫНОВЬЯ
В одной из комнат большого двухэтажного деревянного дома, похожего на чёрно-серую коробку, поселилась старая женщина.
Неизвестно, когда это случилось — месяц или полгода назад, а может
быть, даже и раньше, никто этого не знал. Въехала она тихо и тихо, незаметно жила. Ходили к ней женщины, девушки, иногда старики. Ребятишки видели её сидящей на крыльце то с книжкой в руках, то с чулком и спицами. Но выходила она на воздух только в хорошие, тёплые дни. Ничего интересного она собой не представляла. Правда, таких серебряных волос, как у неё, ребята ни у кого ещё не видели.
...Делать было абсолютно нечего.
Люська с двумя косичками, Люська с одной косичкой и Стёпа сидели на перекладине забора, где были отодраны доски, и болтали ногами. Камешки в пруд уже бросали, в книжный магазин сходили, но новых переводных картинок не нашли. Стараясь попасть в ногу, прошагали несколько минут за пионерским отрядом... Вот так и они через недельку отправятся в Берёзовые рощи, тоже в лагеря... Будет трубить горн и бить барабан, будут бежать сбоку ребятишки...
Стёпа и две Люськи проводили отряд до автобуса. Здесь строй распался, ряды смешались, сразу стало шумно. Воспользовавшись минутой, Стёпа осторожно потрогал барабан, а Люська с одной косичкой погладила горн. Когда автобус тронулся, ребята помахали руками отъезжавн1ИМ и двинулись назад.
— Может, книжку какую почитать? — сказал Стёпа.
Но тут они увидели жёлтую собаку Ласку, общую любимицу, товарища по играм. Стали свистеть, погнались было за ней, но она проскочила в сад и словно пропала там — ни на параллельную улицу, ни на огороды справа и слева не выскочила.
Потом зашли в продмаг. Пробыли там минут пять. Зашли ещё раз в книжный магазин, посмотрели плакаты, листы с изображением грандиозных плотин. Вышли на улицу, собаки не было. До начала концерта в парке оставалось еш.ё два часа.
Па концерте будут выступать артисты детского театра, которые приедут из города. Они покажут пьесу «Мешок счастья», будут петь и танцевать. В киосках, конечно, мороженое... Но это не сейчас, ждать ещё два часа!
Так что, делать было абсолютно нечего.
— Ха! — произнёс вдруг Стёпа и соскочил на землю.
Под забором, в уголке, высилась куча мусора. В ней Стёпа рассмотрел рогатку, выброшенную вместе с другим хламом.
— Рогатка! — возвестил Стёпа и натянул резин-ку. Оружие было вполне ещё пригодно для употребления.
Люська с одной косичкой тоже соскочила и подбежала к куче.
— Ты что? — спросила Люська с двумя косичками.
— А может, чего ещё выбросили, — сказала Люська с одной косичкой.
— Копаться в мусоре заразном! Хм! — заметила другая Люська и тоже соскочила с перекладины.
Но в куче больше ничего интересного не было.
— Пойду у мамки гороха просить, — сказал Стёпа. — Только не даст.
— А даст, — сказала Люська с одной косичкой.
— Для рогатки-то?
— Совсем не для рогатки. Ты есть проси, — под-учивала Стёпу Люська с одной косичкой.
— Правда, проси есть — и даст, — сказала и другая Люська.
Стёпа двинулся было к себе, но Люська с одной косичкой вдруг остановила его:
— А рогатку! — и стала делать какие-то знаки.
— Чего — рогатку? — спросил Стёпа.
— В карман, — сказала Люська с одной косичкой.
Стёпа послушался. Вернулся он через несколько
минут. Оттопырив карман, он предложил двум Люськам заглянуть в него. Там, увидели они, зеленел горох. Не удовольствовавшись этим, девочки поочерёдно залезли в Стёпин карман руками, потрогали горох,
^ У-у, много, — сказала Люська с одной косичкой.
Стёпа натянул рогатку и выстрелил. Горошина ударилась в окно. Через полминуты в нём появилась седая голова бабушки. Когда бабушка отошла от окна, Стёпа выстрелил снова. Снова появилась бабушкина седая голова.
Стёпа стрелял раз семь. Ему забавно было смотреть, как сейчас же после выстрела подходила к окну бабушка и, ничего не понимая и удивляясь, трогала руками стекло: «Ведь как будто что-то и ударило в него, и трещало оно, а, поди ты, цело! Странно... Странно...»
Бабушка в конце концов надела очки и через очки рассматривала: «Нет, цело!..»
Стёпа даже подпрыгнул от восторга.
Тут на полянку возле пруда прибежала жёлтая собака Ласка и стала грызть кость. Все ринулись к собаке. Та с костью в зубах бросилась прочь и вскоре скрылась за баней.
Стрелять в бабушкино окно уже почему-то не хотелось.
— Давайте постучим, — сказала Люська с одной косичкой.
— Куда? — спросил Стёпа.
— А в бабушкину дверь.
В дверь постучали и разбежались в разные стороны, прячась за деревьями и углами домов.
Из комнаты послышался голос:
— Кто там?
Не получив ответа, бабушка выглянула в коридор. Но и там никого не было.
Стучали ещё два раза. Потом узнали, что уже час, и все пошли п парк, где в два приезжие артисты будут давать концерт для школьников.
...Как-то под вечер ребята, часа три носившиеся по посёлку, уселись на приступки отдохнуть.
Приморились... Трудно было даже ворочать языком в пересохшем рту. Молча сидели и скучно смотрели кто куда.
Дверь вдруг открылась, и на крыльцо вышла бабушка. В правой руке она держала нож. Большой кухонный нож...
Стёпа толкнул девочек.
— Вижу, — недовольно сказала Люська с одной косичкой.
Ребята встали, не спуская глаз с этого ножа.
Держась за стену, бабушка спустилась с приступок и, осторожно переставляя ноги, покачиваясь, пошла вдоль стены дома к огороду Дроновых, собственно четырём грядкам, разбитым перед их окнами.
Две Люськи с разинутыми от удивления ртами и Стёпа, словно их что-то тянуло, двинулись вслед за бабушкой, всё время сдерживая друг друга.
Минуты три бабушка шла до этого огорода, а когда наконец добрела, опустилась на землю между грядками и оперлась на нож.
Ребята сели на приступки другого крыльца, совсем рядом с грядками Дроновых.
Что будет?
Бабушка, вздыхая, устроилась на корточках и стала полоть грядку с морковкой, луком, чем-то ещё, сильно заросшую лебедой.
Странно! Что стоило вырвать эту травинку-лебеду? А бабушка отдувалась каждый раз, когда выдёргивала. Большую лебеду она сначала со всех сторон подруба' ножом и только потом выдёргивала с землёй на корнях.
Ребята молчаливо переглядывались.
Всё было странно: и огород не её, не бабушки, и
вдруг лебеда стала казаться чем-то другим, что трудно, очень трудно вырвать из земли... Как будто это деревцо...
Прополов не больше четверти коротенькой грядки, бабушка передохнула. Потом опять взялась за работу.
— Григорьевна! — окликнули её.
Она подняла голову и увидела Дронову, хозяйку огорода, которая возвращалась с работы на ткацкой фабрике.
— У меня, что ль, старались, Григорьевна?
— У тебя... Да вот, видишь, медленно дела идут...
— Да что же это вы! Куда же вам! — всплеснула руками Маруся.
— Ведь я же огородница... — проговорила бабушка. — Морковь вот такая у меня была! — Она показала, какая большая у неё была морковь. — А огурцы маленькие, пупыристые... А то выращивают жёлтых поросят — ни вкуса, ни запаха... Может, на будущий год и сама займусь по старой памяти...
— Конечно, конечно, Григорьевна... Раз любовь... А я всё собиралась, собиралась прополоть, да то одно, то другое. Сегодня опять дела... Да уж бог с ними!—Маруся махнула рукой, присела и стала полоть, не глядя на бабушку. — Действительно, всё заросло!— проговорила она. — Всё вредитель забил! Ну смотри ты! А? Это ж надо! Прямо чертополох какой-то! Не огород, а пустырь! Это ж надо!
Долго ещё она причитала, удивляясь.
Ребята молчали.
В августе бабушке привезли дрова. Их сложили у подъезда в дом. Через день появились пильщики и распилили, раскололи плахи и кругляки на поленья.
Поленьев выросла высокая груда, а вокруг валялись щепы и щепочки. Пильщики стали носить дрова в сарай.
Откуда-то набежали ребятищки, выползли трёхлетние, четырёхлетние малыщи, как их называли — клопы. Кто по поленцу, кто по два, кто по пяти, кто по щепочке — все стали помогать пильщикам носить дрова в сарай.
— Я два! — весело кричали.
— Я три!
— Пять! Смотрите — пять!
Игра всем нравилась. Каждый старался помочь пильщикам, таскавшим дрова в сарай.
Самый маленький изо всех, трёхлетний Толик, пыхтя собирал малюсенькие щепочки. Он старательно, любовно складывал их друг на друга, как будто это были пряники. Когда у него набралась небольшая стопка, Толик, держа её двумя руками, попёс бабушке в комнату.
Он открыл дверь плечом, как открывал свою, и сказал:
— Бабушка, я вам дрова принёс.
Удивлённая женщина вышла из-за шкафа, который перегораживал комнату, и увидела Толика, аккуратно складывавшего что-то у печки.
Где дрова, милый? — спросила бабушка.
— А вот. — Толик указал на щепочки.
— Вот спасибо, милый, — сказала бабушка и подошла к шкафу.
— Я ещё в сарай относил... Целое полено. — И Толик направился к выходу.
— Постой, милый. Ты чей же будешь?
— Я Авдеевых.
— Из того дома? А-а, да-да... —сказала бабуп!-ка. — На вот тебе конфетку.
Бабушка протянула ему «Мишку». Толик вцепился в подарок и отметил:
— «Мишка». Это вкусный конфет.
Ничего не видя, кроме конфеты, он вышел в коридор. Он не слышал, что говорила ему бабушка, как благодарила его, приглашала к себе.
За Толиком в комнату бабушки снесли дрова Юрка, две Люськи, Стёпа.
— Я пять поленьев принёс, бабушка, — докладывал один.
— Я четыре, бабушка.
— Я шесть!
Она благодарила всех и всем подарила по «Мишке».
Когда вышли из комнаты, Люська с одной косичкой сказала:
— А у бабушки ноги, наверно, больные, она тихо ходит.
— Потому что она очень старая уже, — объяснил Стёпа.
— А ты горохом, — с укором сказала ему Люська с двумя косичками.
— Горох научнвала ты просить, — ответил Стёпа,
— Не ссорьтесь, — сказала другая Люська.
В чистой и светлой комнате они увидели полки с книгами, цветы у окон и несколько фотографий, прибитых к стене. И по этой комнате медленно ходила старая женщина с серебряной головой.
Когда поленья и щепу перетаскали, перед входом в дом, где кололи дрова, долго ещё стоял запах смолы, острый запашок берёзы и осины, видно, отсыревших и чуть подгнивших при сплаве на реке и за время хранения на складе.
Две Люськи, Стёпа, Юрка побежали в парк: будет митинг, а после будет кино. У подъезда, где кололи
дрова, остался лишь один Толик, самоотверженно и бесстрашно выискивавший среди травы и песка дровяные крохи.
Однажды, когда стало уже холодать, возле подъезда по-осеннему почерневшего дома остановилась «Победа».
Две Люськи и Стёпа вовремя очутились на месте. Они увидели, как быстро вылез из машины шофёр в военной форме, распахнул дверцу. На землю ступили ноги в чёрных, начищенных до блеска сапогах, показалась мягкая тёмно-серая шинель, и перед ребятами предстал полковник в фуражке. За полковником из машины вышел человек в кепке, в расстёгнутом пальто.
Человек в кепке, а за ним полковник поднялись по ступенькам и постучали в бабушкину дверь.
Ребята следили за ними.
— Смотри-ка!
— Да-а...
— Зачем это они?
— Арестовывать...
— Полковники не арестовывают...
Это было в субботу. Вечер субботы и всё воскресенье они были у бабушки, не выходили из её комнаты. Машина стояла у подъезда. Стало известно, что полковник и человек в кепке — бабушкины сыновья. Полковник прославлен боями за Берлин, а человек в кепке — известный мастер обувной фабрики. Это удивило ребят: у такой старушки — такие сыновья! Фотографии их висели у бабушки на стенах. Но там было не две карточки, а больше, штук пять.
— А те сыны небось лётчики, — сказала Люська с двумя косичками.
— На что им лётчиками быть? — сказала другая
Люська. — Теперь все герои на гидростанциях работают.
— Строят великие строительства, — сказал Стёпа.
— А работают инженерами, — сказала Люська с одной косичкой. — Или начальниками.
— Или просто так... люди, — сказала другая Люська.
В воскресенье, поздно вечером, полковник и рабочий спустились с крыльца к «Победе». Провожать их вышла бабушка. Она двигалась тихо и осторожно.
Все остановились на крыльце.
— Ну что ж, мать, — вздохнув, сказал мастер. — Значит, всё-таки остаёшься?
Бабушка кивнула.
— Эх, мать... Трудно ведь...
— Да не горюй ты, Петя. Я ведь не старая пока...
Ребята, подбежавшие поближе к крыльцу, удивились: «Не старая?! Вот чудеса! Не старая?!»
— Смотри, мама, — сказал полковник. — Через полгода заберём...
— Ну то через полгода... Может, и постарею...
Сыновья, по очереди обняв и поцеловав мать, сели в машину.
Пофыркивая синим газом, автомобиль укатил. Бабушка стояла на крыльце и провожала взглядом машину, пока она не скрылась за домами. Потом бабушка прикоснулась сморщенной рукой к глазам и медленно, осторожно переступая ногами, пошла к себе.
Люська с одной косичкой предложила:
— Я вас провожу, бабушка.
И довела её до дверей комнаты. Вернувшись, Люська сказала:
— А ей воду носить не помогали. А ей трудно носить.
— Не помогали! — с силой сказал Стёпа. — Чего сказала! Горохом в стекло! В дверь стучали!
— Ладно, что дрова помогли убрать, — сказала Люська с двумя косичками. — Я нашей бабушке двадцать шесть поленьев перенесла.
— Я только девять, — сказал Стёпа. — Зато там четыре тяжёлых были, и сучья на них. Каждое тяжёлое можно за два посчитать и тогда... тогда... — Стёпа высчитывал, — я тринадцать перенёс... если четыре тяжёлых за восемь посчитать, каждое за два.
— За два посчитать нельзя, — сказала Люська с двумя косичками. — Как же так: одно за два?
— Нельзя, — решительно сказала и другая Люська.
И Стёпе стало очень жалко, что нельзя посчитать одно за два.
ВАЛЕТ И ПУШОК
В то лето я проводил свой отпуск в Крыму, на восточном побережье. Небольшой залив с трёх сторон был окружён невысокими горами. В сырую погоду горы надвигались, казались ближе и грузнее, в ясную отдалялись и как бы становились светлее и легче. Дома, где жили отдыхающие, были разбросаны среди низкорослых деревьев, которые с трудом добывали
соки в кремнистой земле. А столовая — светлое, всё в стекле здание — стояла на самом берегу моря, и его жизнь, проходившая то в рёве, то в тихом и ласковом прибое, вся была на виду у отдыхающих.
Ели здесь четыре раза в день, и всегда, когда отдыхающие выходили из столовой — утром ли, днём или вечером, — их встречали две собаки — Валет и Пушок.
Пушок—красавец, гладкая, выхоленная собака, с блестящей и плотно лежащей шерстью. Пушком его назвали, видимо, давно, когда он был ещё щенком.
Пушок так и льнёт к людям, он старается быть полезным им, не забывая и о себе.
На ночь он норовит пробраться в чью-нибудь комнату, а если не удаётся — остаётся на веранде и спит на диване, в углу.
Домой он не ходит.
Утром он встречает отдыхающих и идёт с ними в столовую. После с ними же увязывается на прогулку. Он бежит впереди, сворачивая то влево, то вправо, лает на собак и даже на коров. Он как бы расчищает дорогу людям, с которыми идёт. Делает он это усердно, шумно и эффектно. Как глашатай оповещает он всех о шествии: на крылечки выходит народ посмотреть на нашу процессию, из окон высовываются головы, куры бегут в подворотни или прячутся за заборы, мелкие собачонки убегают и лают из безопасного места.
Пушок спортивно подтянут, но отряхивается и вычёсывает блох здесь же, возле людей.
Если кто-нибудь из отдыхающих пускает его в комнату, он спит на коврике возле койки. Иногда оп просыпается, потягивается, подходит к креслу, где сидит хозяин, становится на задние лапы, кладя 'передние на ручку кресел. На постель он посматри-
вает с тоской и со значением: посмотрит на постель, а потом метнёт взгляд на хозяина: мол, недурно было бы мне... Но хозяин не разрешает — это видно по всему, и Пушок опять ложится на коврик возле постели.
Валет был совсем другим. Он не обладал ни стройностью, ни щеголеватостью гладкого Пушка и был из тех дворняг, которых зовут бездомными и на которых обычно валятся все шишки. Он был неуклюж, некрасив, одно ухо у него кровоточило, и вокруг ранки роились большие мухи с синеватыми крылышками. И даже шерсть у него была неопределённого цвета, какая-то бурая, местами грязно-коричневая.
Его съедали блохи, но врождённое чутьё подсказывало ему, что их нельзя вычёсывать там, где стоят люди, и он отбегал в сторону. Больше того—я сам э-^о видел, иначе никому бы не поверил, — ему хорошо было знакомо чувство смущения, он мог смеяться.
Как-то мы отправились на прогулку по берегу. За нами увязался Валет. Он то шёл вместе со всеми, то забегал вперёд, то отставал. Он не выслуживался и не лаял, оповещая окрестности и всё живое, их населяющее, о нашем шествии по берегу моря.
Однажды, забежав вперёд. Валет, очевидно, не рассчитал, и мы стали свидетелями того, что ему не хотелось бы нам показывать. В этом месте трава была короткая и жёсткая, и он катался по ней, стараясь вычесать из шерсти блох, — блохи одолевали Валета. Валет слишком поздно нас заметил и, видно, почувствовал, что мы, люди, поняли, что он делает. Он постарался скрыть подлинные свои намерения и представить дело так, будто бы просто резвится и играет на траве.
Бедняга Валет! Я никогда раньше не видел его-
ни играющим, ни резвящимся. Да он, наверное, и не умел этого делать. Из притворства у него ничего не получилось. Он застеснялся, ему было стыдно, и радостный визг, который должен был бы скрыть истинное его занятие, получился у него чем-то вроде смеха. Услышав его, он разошёлся ещё больше, и, обессилев, как это часто бывает с людьми, от смеха, он уже не мог остановиться и катался по траве, всё время смущённо визжа и смеясь. Никогда в жизни я не видел и не слышал ничего подобного.
Таков был Валет.
Не мудрено, что невзрачному Валету, когда он с Пушком встречал выходящих из столовой, перепадало мало. Его лишь жалели сердобольные женщины:
— Ах, какой он грязный, бедняга!
— Какой жалкий!
И трое-четверо из них швыряли ему остатки от обеда. Красавец же Пушок получал обильную дань — кость от курицы, недоеденную котлету на ломтике хлеба, кусочек бифштекса, а то и весь бифштекс.
Слопав подношение, он вытягивал морду к столовой и, навострив уши и виляя хвостом, высматривал очередного данщика. Валет стоял в сторонке.
Дождавшись, когда из столовой выходил последний человек, собаки разбредались. Пушка отдыхающие наперебой звали гулять, и он охотно шёл служить людям. Забегал вперёд, громко лаял, освобождая дорогу своим кормильцам.
Валет увязывался за теми, кто не отгонял его от себя.
Мы с ним сдружились.
И здесь, в этом тёплом краю, наступила осень. Полились дожди, горы — тяжёлые и мрачные — сдвинулись, холодный, непрерывный ветер гнал на берег волну за волной. Отдыхающие, кроме трёх человек, которые должны были закончить свои работы— у кого литературные, у кого научные, — разъехались. Среди этих трёх оставшихся был я.
Странное было это время.
На всей большой территории дома отдыха нас только трое — в столовой мы сидим за одним столом в большом зале с тремя застеклёнными стенами. Утром и днём мы видим в них сырые деревья, холодное беспокойное море и хмурое небо, вечером — черноту. Электричества нет — движок перестал работать, и по вечерам мы сидим с керосиновыми лампами...
Пушок исчез. Когда мы выходим из столовой, нас встречает теперь только Валет. Он сейчас уже не в сторонке, а там, где недавно стоял Пушок. Перепадает Валету мало — нас только трое.
Где теперь Пушок и почему не ушёл Валет?
Однажды, прогуливаясь после завтрака, я шёл по дороге, ведущей в город, мимо чайной. Возле неё стояли автомашины, а в самой чайной шумел народ. Жизнь здесь била ключом.
Дверь чайной то и дело-открывалась, люди входили и выходили. Это было доходное место для собак. Здесь я и увидел Пушка.
Пушок не заметил меня, вилял хвостом, умильно уставив свои красивые глаза в одну точку — на бутерброд с колбасой, который доедал шофёр, стоя у машины.
Мне стало как-то обидно и грустно.
В тот день я отдал Валету большую кость с мясом, выловленную мною из супа, отдал и всё мясное, что осталось в тарелках соседей.
Утром, отправляясь умываться, я толкнул дверь, ведущую на веранду, и почувствовал, что она упёр-
лась во что-то мягкое, что сейчас же посторонилось. Выйдя, я увидел Валета — он потягивался и виновато вилял хвостом.
Давно уже с веранд,, чтобы не гнили от дождя, были убраны диваны, на которых иногда ночью спали собаки. Где же он ночевал всё время, этот Валет? Неужели у меня на веранде, на коврике? Я наклонился и тронул рукой коврик — он был ещё тёплый. И тогда я вспомнил, что раз или два до сегодняшнего дня, открывая дверь, я толкал что-то мягкое,, что потом исчезало. Значит, это был Валет...
В тот же день после обеда уехали два моих товарища, и я остался один... Один в доме, один в парке...
Неужели теперь уйдёт и Валет? Что ему может перепасть от одного человека? Я думал об этом — мне не хотелось оставаться совершенно одному.
В течение дня я видел только заведующую столовой, которая сама подавала мне еду, и иногда уборщицу. Все остальные давно были рассчитаны, а те из них, кто остался, готовили дома к зиме, и я никогда их не видел.
А дождь шёл по-прежнему часто, ветер гнал на берег волны, хмурое небо падало на землю и не могло прихлопнуть её, сырую и холодную, наверное только потому, что легло в своём падении на вершины гор. Но на нашем участке гор не было, и небо прогнулось, и оттуда лилась и лилась вода.
Когда дождь переставал, порывы ветра стряхивали с деревьев капли, и казалось, что дождь идёт и идёт,
С тревогой я ждал наступления вечера, а вечера стали наступать рано. Я представлял себе, как буду сидеть в комнате, на втором этаже. На столе керосиновая лампа, за которой нужно всё время следить, чтобы не коптила, за окном темнота, тишина, сырость.
в течение многих часов я не услышу ни голоса, ни шума, я один в большом мокром парке с опустевшими домами. Контора и домик директора далеко, на другой территории, жилые дома посёлка — ещё дальше.
Мне уже хотелось немедленно уехать, но я не мог этого сделать, потому что билет был заказан нд определённое число...
Я остался один, но Валет не ушёл. Он по-прежнему стоял у входа в столовую и ждал. Мы по-братски разделили с ним обед, и он поплёлся за мною к дому. После обеда я спал, а когда проснулся — было уже темно.
Нащупав спички, я зажёг лампу, оделся и сел за стол работать. На улице было ветрено, я слышал, как шумят деревья, видел, как в тёмном-тёмном прямоугольнике окна появляется и исчезает веточка тополя с жёлтыми листьями. Шумело ещё море. И — всё! Сознание, что я больше ничего и не услышу в этом покинутом всеми месте, угнетало меня.
Я встал и прошёлся по комнате. Половицы заскрипели под моими ногами. Вот, пожалуй, ещё этот скрип! А впереди — вечер, ночь, а завтра все снова и послезавтра — и так до конца, ещё несколько томительных дней,
Я снова сел за стол — нужно всё-таки работать. Но работа не двигалась. Можно было сходить в посёлок, но я представил себе, как я один в темноте пробираюсь по мокрым аллеям, иду по такой же, вдобавок ещё с ямами, дороге — и мне не захотелось никуда идти.
Но дверь я — сам не знаю зачем — всё-таки толкнул. Она упёрлась во что-то...
— Валет! — радостно воскликнул я. — Валет!
Озябший Валет не решался войти в комнату и стоял, переступая с ноги на ногу и поджав хвост.
— Валет, сюда! — сказал я и стал почему-то хлопать себя по коленке. — Сюда!
Валет вошёл в моё жилище, потянул носом воздух и, повернув морду ко мне, остановился в ожидании.
Я вышел на веранду, вытряхнул коврик, на котором спал Валет, и, взяв свой, лежавший у кровати, соорудил из них постель Валету в углу комнаты.
Валет улёгся. Он дремал, иногда, забывшись, тихонько скулил, чихал, подходил к столу, где я работал, и я видел умные глаза, словно покрытый дерматином влажный нос, лохматую морду...
Я был не один.
Умное, понимающее меня существо жило рядом, и я иногда гладил Валета, трогал его только затем, чтобы почувствовать тепло другого, кроме меня, живого существа.
В девять часов мы пошли ужинать. Валет бежал впереди, всё время сворачивая то в одну, то в другую сторону. Небо было затянуто облаками, фонари не горели, аллеи были совершенно темны. Слабый свет электрического фонарика выхватывал из черноты то зелень кустов, то гальку, которой были посыпаны дорожки.
— Валет, — звал я своего спутника и сейчас же слышал шорох гальки, переворачиваемой лапами собаки, и через мгновение — влажное дыхание где-то около колена. Некоторое время он шёл рядом со мною, и я даже чувствовал его тепло.
После ужина мы отправились гулять, и я то и дело звал:
— Валет! Валет!
Он прибегал ко мне, тыкался мордой в ноги, и я слышал, как он дышит и шевелит мокрым языком.
Ночью он спал у меня в комнате, и едва я утром успел шевельнуться, он подбежал ко мне и, отчаянно
размахивая хвостом, стал смотреть на меня, ожидая, когда я встану, и в нетерпении переступая с ноги на ногу, и зевая.
Быстро промелькнули оставшиеся до моего отъезда дни. Мне не хотелось уезжать. Здесь мне жилось тихо, спокойно, я много работал и знал, что в Москве так работать не смогу. Но дом отдыха закрывался. Подготовительные работы к зиме были закончены, работники распущены, кухня, которая обслуживала их, закрывалась, директор уезжал в Москву.
Должен был ехать и я.
После обеда пришла машина.
— Ну, счастливо вам! — сказал мне директор.
— Счастливого пути! — пожелала мне заведующая столовой.
Валет стоял рядом и молча махал хвостом.
Машина тронулась, а Валет побежал за ней, и ни разу он не свернул в сторону — не обнюхивал ни телеграфные столбы, ни кусты, ни заборы.
У чайной я попросил шофёра замедлить ход. Пушок, как водится, был здесь.
— Пушок! — крикнул я ему на прощание.
В это время он грыз кость. На миг, не отрываясь от своей приятной работы, он поднял на меня глаза— ничего не отразилось в них: ни радости, ни признания, ни привета, — я боюсь, что он и не узнал меня. К нему подошла большая серая с грязной шерстью собака, и он зарычал на неё, оберегая свою кость.
А Валет бежал и бежал...
До города двадцать километров... Я попросил остановить машину и вышел на дорогу.
— Прощай, Валет, — сказал я и потрепал пса по мохнатой морде. — Прощай.
Понял ли Валет, что я прощаюсь с ним, или нет, но он взвизгнул и стал махать хвостом медленнее.
я погладил его бурую, грязио-коричиевую шерсть и, ещё раз сказав «прощай», сел в машину.
Валет постоял на месте и вдруг бросился вслед за нами.
Приближались пологие горы; дорога, обходя их, поворачивала вправо, Я посмотрел назад и увидел Валета: он всё бежал.
Машина свернула, гора загородила пройденную нами дорогу и Валета.
Верный, безответный Валет!.
ПАВЛИК И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЬ
1. Два друга.
Из деревни в школу, которая в селе, в двух километрах, Павлик и Юрка шли всегда вместе, а после школы дороги их неизбежно расходились. Юрка отправлялся в поход по сельским магазинам, Павлик исчезал куда-то по общественным делам. Что это были за дела. Юрка толком не знал. Они почему-то представлялись ему сплошными собраниями с длинными речами, табачным дымом и часами, бьющими третий час утра, хотя он прекрасно знал, что всё это не так.
Вечером, измученный какой-нибудь задачкой. Юрка прибегал к товарищу за помощью. По вместо того чтобы сразу приступить к делу, долго перечислял, что нового в лавках и что можно было бы купить, если бы были деньги.
— Карандаши, понимаешь, привезли. Называются «Семафор». Один карандаш семи цветов: красный, синий, зелёный... — Тут Юрка умолкал.
— Три цвета. Какие ещё четыре? — спокойно спрашивал Павлик.
— Нет, трёх цветов: красный, синий, зелёный. А в писчебумажном тетрадки есть в клеёнковых...
— Клеёнчатых, — поправлял Павлик.
— ...клеёнчатых переплётах. И фонарики с батарейками есть. В четверг кино будет «Юность Максима Горького».
— Такой картины нет, — заявлял Павлик.
— Ей-богу, честное пионерское! — клялся Юрка. Он заходил к Серёжке Громову, руководи гелю драматического кружка и художнику по части афиш. — Серёжка завтра уже объявление будет писать: «Кинокартина «Юность Максима Горького». Начало в восемь часов. Билеты с семи».
— Объявление он напишет не такое, — останавливал его Павлик.
— А какое же?
— «Кинокартина «Юность Максима».
— Ну да. Горького, — подтверждал Юрка.
— Вовсе не Горького, а Максима вообще.
Очередь задачки наступала после семицветных карандашей, фонариков с батарейками, кинокартин, разговоров о том, что бы такое продать для покупки ножика с двенадцатью лезвиями. Потом ребята обменивались книжками, и Юрка уходил домой.
— Где был-то? — осведомлялась у Юрки мать.
— Где? Вот вопрос! — отвечал Юрка. — Позада-ют двадцать задачек да по русскому тридцать упражнений, а она спрашивает! У Пашки был. Занимались.
Учебники сейчас же запихивались в сумку, сумка летела в угол, и Юрка садился за стол ужинать. Рядом с собой клал книжку. Чаще всего это были книжки о героях — Чапаеве, партизанах Отечественной войны, пограничниках. Но попадались и другие: растрёпанные, порванные, грязные, часто без конца или начала, с привлекательными названиями.
Где только можно было и где нельзя, всеми правдами и неправдами, выуживал Юрка необыкновенные эти книжки: «Тарас Черномор», «Антон Кречет», «Красные дьяволята», «Зверобой», «Мишка-следо-^ пыт».
После ужина долго сидел у лампы. И часто, когда в доме уже все спали, замерев, в испуге всматривался в тёмный угол, и спина его делалась холодной: чудилось, не Антон ли Кречет с ножом и пистолетом мелькнул в темноте?
2. Каникулы
Вот они, долгожданные! Делай что захочешь.
— Паш, давай в город съездим!
— Зачем?
— А так. Походим, посмотрим. Или, знаешь что, давай в Москву скатаем! А? Красная площадь, метро, мороженое на палочке.
— А жить где будем?
— Да, жить негде, — согласился Юрка. — Только если на вокзале. А на вокзале — за беспризорность в милицию. Да, жить негде. Можно бы, конечно, в гостинице «Москва» или ещё в какой, да вот опять деньги...
— и потом, дела здесь... Про хитрого шпиона книжку читал? Могу дать.
— Шёл на четвереньках, на коровьих копытах? Читал.
— Про Матросова большую достал. Подробную.
— Грудью — амбразуру дота? Читал.
— Гм...
Положение действительно было тяжёлым. В кино ходили. На утреннике в школе были. С горки катались.
— Постреляем? — предложил тогда Павлик.
— Постреляем, — согласился Юрка.
Ребята закупили десять коробков спичек. Все они подверглись сложной операции. Соскобленную серу собрали в один коробок и подсушили. Правда, порох был бы лучше, но пороха не достать.
За амбаром, под старыми берёзами, Павлик вынул из кармана грозное оружие. К деревянной рукоятке, покрашенной красными чернилами, проволокой был прикручен винтовочный патрон.
Друзья набивали его серой, запыживали паклей и по очереди стреляли. Впрочем, по очереди — это не совсем точно. Один держал в руке пистолет, другой поджигал спичкой серу через специальный прорез в патроне. А это было не очень просто, если учесть, что обоим артиллеристам приходилось на всякий случай отворачивать голову в сторону. И вот спичка тыкалась не туда, куда надо, обжигала руку товарища, и, в довершение всего, выстрел грохал в самые неподходящие моменты, когда его меньше всего ожидали.
— А! — восхищались оба. — В селе было слышно! А! Как из револьвера! В Берёзовке было слышно!
Последний заряд сделали двойным. Выстрел прозвучал действительно очень громко, патрон разворотило, руку Юрке обожгло, спина Павлика оказалась
в копоти. Но оба, едва миновала растерянность, пришли в восторг.
На выстрелы из двух ближних домов уже спешили люди. Приятели юркнули в кусты, из кустов — в бе-резник.
— Пашка, — сказал Юрка, — патроны эти к чёрту! У меня есть трубка медная. Толстая. Мы .её прикрутим. А?
— Сегодня и прикрутим.
— Идёт.
3. Разлад
В тот день трубку прикрутить не удалось, потому что она куда-то задевалась и ребята никак не могли её найти.
На следующий день, часов в девять утра. Юрка прибежал к Павлику. Став к нему боком, он дал товарищу возможность рукой потрогать свой карман. Там была трубка.
В комнате шила мать Павлика, поэтому Юрка спросил друга взглядом: «Пойдём?»
— Не могу, — ответил тот.
Юрка вывел его на улицу и нетерпеливо сказал:
— Почему не можешь? Вот трубка. Никогда не разорвёт!
— Сейчас не могу. К Коле нужно идти.
— Я два часа искал, нашёл, а ты не можешь? Каникулы — делай что хочешь, а ты не можешь? — Помолчал и повторил, передразнивая: — «К Коле идти»!
— Да, — обозлился Павлик, — к Коле идти! Дела. Ты уж сам этой стрельбой занимайся, — и зашагал к дому.
Юрка подскочил к Павлику.
— Вот! — провозгласил он. — Ты всегда такой! Верности у тебя до конца нету. А ещё про Дзержинского читаешь. Тоже мне!
— А ты читаешь, а что вычитываешь? Ничего. Глотнёшь начало да конец: кто, что сделал.
"— Ну да. Про самое интересное.
— Про самое интересное... Ты же ни одной книжки полностью не прочёл!
— А зачем? Мне про главное узнать.
— Про какое главное?
— Про героизм, известно, — отозвался Юрка. — Что сделал и как. Вот Чкалов в Ленинграде под мостом пролетел. В Америку без пересадки слетал.
— Ну и что же? И то и другое — главное?
— А как же? — сказал Юрка. — Под мостом пролети попробуй-ка!
— А по-моему, и летать не надо.
— Трус ты, — сказал вдруг Юрка, — вот и говоришь. Трус! Ты сколько раз и по крыше отказывался пройти. Подумаешь, по крыше! И то ты отказывался. А всё потому, что боишься!
Юрка чувствовал своё превосходство над Павликом, считал себя лучше, смелее, умнее и был рад, что сейчас так удачно ему отвечал.
— Да, отказывался, — ответил Павлик. — Вернее, не отказывался, а зачем это? Что хорошего-то?
— Отказывался!
— Не отказывался.
— Ну, иди — пройди!
— И пройду.
— Вот и пройди!
— Ну и пройду!
— Идём тогда, — поспешно сказал Юрка, боясь, что Павлик откажется.
— Пойдём, — сказал Павлик.
4. Беда
Ребята молча дошли до амбарчика у берёз, за толстой стеной которого им так хорошо стрелялось. Крыша его была под острым углом и сбоку напоминала стоящую на переплёте книгу. Амбарчик был небольшой, и с одной стороны его наполовину замело снегом. Доживал он свой век на отшибе, и как раньше было удобно под его защитой стрелять, так теперь — заняться рискованным делом.
Павлик взобрался на сугроб, уцепился за слегу и, подтянувшись, залез на крышу. Стоя уже на коньке, он сказал:
— Зря это. Но раз ты... раз ты споришь со мной, я пройду.
Медленно и осторожно ступая, но не балансируя руками, он начал своё опасное путешествие по остроконечной крыше. Один шаг, второй... Остановился.
Юрка не спускал глаз.
— Ну, ну...
— Иду, иду, — отозвался Павлик. — Не торопи.
— Я не тороплю.
Ещё шаг, ещё, и вот он уже на другом конце крыши.
— Ну, — спросил Павлик, — прошёл или не прошёл?
— Прошёл, — тихо выдавил из себя Юрка.
— Не слышу, — сказал Павлик. — Нельзя ли прибавить громкости в вашем репродукторе?
— Прошёл, — повторил Юрка теперь уже более громко. — А вот с закрытыми глазами не пройдёшь! — вдруг нашёлся он.
— Ишь какой! С закрытыми глазами... А ты пройдёшь?
— Пройду.
— Ну давай!
— Давай сначала ты: всё равно уже на крыше.
Павлик нерешительно стоял на месте. Потом молча вынул платок, завязал им глаза.
— Подожди-ка, подожди! — закричал Юрка. — Щёлку оставил.
— Какую там ещё щёлку?
Юрка уже карабкался наверх. Через минуту он был рядом с товарищем и проверял, как легла повязка.
— Ну, где ты щёлку-то увидел? — спросил Павлик.
— Ну, нету, — пробурчал Юрка. — А бывает, оставляют. Идёт, а сам смотрит под ноги. Очень это интересно!
— Нету щёлки?
— Нету.
Павлик двинулся. Ему хотелось скорее разделаться с Юркой.
У Юрки заколотилось сердце. Он видел Павлика на фоне бледно-голубого неба, высоко-высоко над землёй... И сам он не пройдёт, и никто из ребят, наверное, не пройдёт, а свалиться вниз ничего не стоит...
Подняв осторожно ногу, Павлик долго нащупывал грань сбитых под острым углом досок. Вот под ногой снег, задержавшийся между двух тесин, вот гвоздь, вот сучок от полусгнившей доски... Наконец — угол. Поставил ногу, утвердился, теперь надо поднимать другую... Поднял, занеся её в сторону. Не туда! Правей! Правей!
«Может, остановить его?—подумал Юрка. — Сказать, что верю... Он тогда не пойдёт».
— Правей, правей! — закричал он, видя, как нога Павлика вот-вот ступит на скат.
Павлик вдруг как-то странно и неуклюже крут-
нулся и, подкосившись, упал на крышу. Он наткнулся на острый гвоздь и громко вскрикнул от испуга и боли.
Юрка, сам не зная как, схватился за слеги и, вися на них, почему-то болтая ногами, истошно закричал:
— Па-а-влик!
Прокричал ещё раз и только после этого спрыгнул в снег. Павлик лежал. Одна штанина была разодрана, и яркая кровь густой полоской блестела на теле.
Юрка, у которого стучало в висках, наклонился над другом. Павлик дышал часто и короткими вздохами. Юрка вскочил. Перепуганный, не зная, что делать, парнишка на миг оцепенел. Потом бросился к товарищу, снял с его глаз платок, но понял, что для перевязки платок не годится — мал.
— Паша, Паша, — трогая товарища за плечи, прерывающимся от волнения голосом говорил Юрка, — я сейчас что-нибудь принесу, чем перевязать.
Юрка выскочил из-за сарая и побежал по улице.
5. Что делать?
На крыльце стояла Мария Петровна, мать Павлика. В руках у неё были две книжки и тетрадь. Опять, наверное, несла своим дояркам литературу об уходе за скотом.
— Ты куда бежишь? — спросила она запыхавшегося Юрку.
И надо же было Юрке сдуру улыбнуться и по глупости сказать:
— Домой. А Павлик скоро будет...
— Придёт? — удивилась женщина.
— Да, — сказал Юрка.
— Гм... Непонятно...
— Сейчас придёт и дома будет, Мария Петровна.
^ А разве он не пойдёт к Коле? — Она посмотрела на мальчшса. — Ты не путаешь? Что ты так дышишь?
— Бежал быстро, Мария Петровна. А Павлик... Павлик скоро будет.
— Странно, — произнесла Мария Петровна. — Тогда вот что: раз остаётся дома, пусть хозяйством займётся, он знает. Передай, не забудь. Только пусть не откладывает на завтра. Сегодня. Завтра мы в гости пойдём.
Когда мать Павлика ушла. Юрка вздохнул, проглотил застрявшую в горле слюну, растерянно оглянулся по сторонам и бросился к своему дому.
Схватив полотенце. Юрка стремительно побежал назад. Когда он вернулся к товарищу, тот сидел на снегу и пытался платком перевязать рану.
— Павлик! — обрадованный, крикнул Юрка. — Понимаешь, я же не нарочно.
— Чего ты кричишь? — остановил его Павлик. — Давай-ка лучше полотенце.
Юрка повиновался и, когда Павлик, закусив губу, стал на одну ногу, спросил:
— Больно, да? А стоять можешь, да?
Павлик кивнул головой.
— На улице никого. Давай, — почему-то шепнул Юрка.
Поддерживая друга, всё время оглядываясь по сторонам, он довёл его до дому, помог лечь на кровать и только тогда передал просьбу матери.
Едва дослушав товарища, Павлик вскочил:
— Что ты наделал? Ты понимаешь, что ты наделал?
— А что, Паш?.. Что?.. — бормотал Юрка.
— А то, дурья твоя голова, что некому всё это делать! А мать будет уверена, что всё сделано. Зачем
ты врал про меня? Сказал бы прямо, что ногу разодрал, ходить трудно.
— Да-а — сказал бы!.. — мрачно протянул Юрка. — Скажешь! Уж лучше не говорить, что ранен, — никто ничего и не узнает.
— Не говорить... А кто теперь будет всё делать? Ты об этом подумал?
— А что делать-то?
— Всё! — отрезал Павлик.
— Ну что — всё?
— А очень просто. Всю домашнюю работу выполняю я. Дрова, вода, корова... А там ещё огурцы текут.
— Как это — огурцы текут?
— Бочка с огурцами течёт. Думали, что забухнет, а теперь надо обручи подбивать.
— Огурцы текут... — растерянно пробормотал Юрка. — Огурцы ещё навязались!
— Ну? — строго спросил Павлик. — Понимаешь, что ты своим враньём наделал? Мюнхаузен безголовый...
— Чего ты ругаешься? — вдруг обиделся Юрка. — Я сказал, что всё будет сделано, и сделаю. Подумаешь — дрова да корова! Где у тебя топор?
6. Простые вещи
Прошло уже с полчаса, как Юрка взял на кухне топор. Потом часы на стене пробили ещё четверть. Юрка не возвращался.
Павлик слез с постели и, подпрыгивая на одной ноге, держась то за койку, то за стол, дотанцевал к окну, выходящему на двор.
Юрка, без пиджака и шапки, красный, потный, зажав кругляк между ногами, силился вытащить за-
стрявший в нём топор. Неподалёку валялись поленья — одно, два, три... шесть... восемь... двенадцать... Немного! Немного за три четверти часа.
— Балда!—выругался Павлик. — Клином надо! Клином!
Форточки в окне не было, кричать из комнаты бесполезно. Выйти же в коридор — чувствовал Павлик— ему будет не под силу.
— Ну и пусть возится! — обозлился он. — Сообразить не может.
Минут через десять пришёл Юрка — потный, уставший и виноватый.
— Паш, — сказал он, — двенадцать нолей не хватит? А завтра я бы тебе ещё наколол. А?
— Не хватит, — отрезал Павлик.
— На одну печку — и не хватит?
— Топор загнал, да? — вместо ответа спросил Павлик.
Друг-приятель помолчал и, совсем обескураженный, ответил:
— Сучковатое, понимаешь, полено, а я не рассмотрел...
«Не рассмотрел»! — передразнил Павлик.-
Клином надо! Голова... Ну, а бочку, бочку пойдёшь чинить?
— А чего же? Скажи где — и пойду...
— Возьми зубило, поставь боком на обруч — легонько ударь. И так — вокруг. Только ровно бей, равномерно. Хотя подожди-ка... — Павлик увидел руки Юрки.
Они были в ссадинах, в царапинах и после напряжения слегка дрожали.
— Нет! — решил он. — Не ходи.
— Почему это?
— Потому что всё равно ничего не сделаешь.
Не справишься. Да ещё, пожалуй, обруч порвёшь. Иди уж напои корову да валяй домой. Что от тебя толку?
7. Новое дело
В этот вечер Юрка чувствовал себя пристыжённым, разбитым. Он пробовал было читать, но из этого ничего не вышло: какие уж герои, когда с простыми делами не мог справиться!
И вот он листает одну книжку за другой. Пограничник с овчаркой... Матросов у дота... Зоя... А там лежит Пашка и думает, какой никуда не годный человек он. Юрка... Да, думает... Тарас Черномор стреляет из двух пистолетов сразу, ему легко... А Пашка лежит — встать не может...
Юрка отказался от молока.
— Болен, что ли? — спросила мать, приложив руку ко лбу сына. — Или случилось что?
— Чего случилось? — огрызнулся Юрка. — Попа-зад а ют работы — сиди от утра до утра! В каникулы и то работай. А болен — что ж... Думаешь, трудно заболеть, когда дома чёрт знает что? Сколько раз просил: купи лыжный костюм, купи лыжный костюм...
— Юра! У тебя же есть костюм.
— Старый!
— Старый? Сколько же ты его раз надевал?
— Сто!
— Ну, знаешь ли... Прекратим этот разговор. Придёт отец, он с тобой побеседует.
Галина Осиповна, мать Юрки, в таких случаях довольно часто произносила эту фразу, но когда приходил отец, случалось так, что она ничего не говорила ему о сыне. Юрка никак не мог понять, забывает она или просто не хочет выдавать его.
Галина Осиповна поставила на стол молоко в стакане, покрытом испариной, положила булку и ушла в другую комнату.
«Как всё нехорошо, — думал Юрка. — Как всё нехорошо!» И самое страшное, что его угнетало, была мысль: завтра нужно идти опять заменять Павлика.
Неожиданно постучали в дверь.
— Да! — сказал Юрка.
Вошёл Лёня Елкин, член совета пионерского отряда.
— Задачку номер сорок восемь решил? — спросил он.
Учитель, несмотря на каникулы, всё же задал ребятам несколько задачек: чтобы не забыли математику.
— Решил, — ответил Юрка.
— Сколько получилось? Два часа десять минут?
— Да, — неохотно отозвался Юрка.
— Ага, значит, правильно. Я думал, ошибся. — Лёня помолчал и, между прочим, спросил: — Ну, как будешь с Павликиными делами?
— Какими там делами? — ожесточился Юрка, понимая, что вот уже происшествие стало известно и Лёньке. — Какими там ещё делами?
— А вот какими... — Лёня вынул из кармана записную книжку, отыскал нужное, прочёл: — «Семёнов Павел. Первое — помощь Коле. Второе — читка газет, кружок номер два». Первое — дело временное. Второе же постоянное. Вот какие дела. Понятно?
— Ничего не понятно. И почему это я должен делать? Павлик сказал?
— Павлик этого не говорил. Сам могу сообразить: раз такое дело произошло, ты его заменить должен.
— Вот ещё! — огрызнулся Юрка. — Только мне и не хватало! Буду я заниматься...
— Не будешь? — спросил Лёнька.
— Что значит — не будешь? Не мои обязанности — и всё!
— Хорошенькое дельце: я не я и лошадь не моя. — Лёнька неодобрительно посмотрел на Юрку.
— При чём тут лошадь? — обижаясь, сказал тот.
— А при том, что даже лошадь поняла бы: помогать надо. А на тебя, выходит, положиться нельзя. А ещё друг...
Юрка почувствовал, что разговор принимает совсем нехороший для него оборот.
— Ну, как не друг! — сказал он. — Всё время вместе. Друг...
— Ну так что ж?
— Да ладно, ладно... Вот тоже пристал, как смола...
— И вообще я считаю, что ты стоишь в стороне.
— В какой стороне?
— В стороне от общественной работы.
— А стенгазету кто оформлял?
— Ты. А ещё что можешь припомнить ну хотя бы за последние два месяца?
Юрка молчал.
— Ты больше ничего не можешь припомнить за последние два месяца. И за предыдущие два тоже.
8. Дела Павлика
На следующий день посеревший, угрюмый Юрка отправился к своему другу, которого он вынужден был замещать не только по делам домашним, но и по делам общественным.
Погода стояла чудесная. Снег весело искрился на солнце, слепил глаза, аппетитно хрустел под ногами.
в такой денёчек выйти бы на лыжах куда-нибудь к Берёзовке, на холмы, с которых видишь речку Мок-ряну, перерезавшую огромное белое пространство., Кажется, что она, извиваясь, уползает в лес.
Вот бы где поговорить о всяких приключениях,, героях, книжках, пофантазировать... Но нужно идти к Павлику...
Минут двадцать Юрка колет дрова, всё время помня о том, что говорил Павлик: клином нужно, а не топор загонять. Приходит мать Павлика, Мария Петровна, и, увидев Юрку, занятого работой, хвалит:
— Вот молодец, вот молодец! Павлик-то у меня сейчас совсем никуда.
«Хвалит, — думает Юрка. — Не знает, что всё из-за меня».
Клин — великое дело, и колка дров подвигается., Возьмёшь огромный кругляк, ударишь топором с одной стороны комля — радиус, с другой — ещё радиус, посередине. А потом поставишь клин в трещину — и по клину. Кругляк с треском, иногда со звоном, распадается на половинки. А с половинками совсем уже легко справиться. Поставил её — раз топором, раз! Смотри только — по сучьям не бей, и поленья сами будут отскакивать. Даже интересно. И чего это он дома всё отлынивал от этой работы? Поколет изредка, а то всё отец да брат.
Юрка сейчас и за бочку с огурцами взялся бы, да с бочкой боязно. «Кто её знает, ударишь по обручу, а он сдуру возьмёт и лопнет, бочка рассыплется, огурцы раскатятся... Всё простые дела, но поди-ка подступись к ним!..»
Юрка замечтался и не заметил, как наколол солидную кучу дров.
— Хватит, Юра, хватит! — прокричала мать Павлика.
Она дала ему вымыть руки, а после усадила за стол и стала угощать кашей со свининой. Потом — чаем с вареньем. Никогда Юрка не ел ничего вкуснее этой каши, этого хлеба, этого варенья.
Мария Петровна признала Юрку за делового человека и даже спросила у него совета:
— Вот, Юра, как ты думаешь, радио нам покупать, слушать всё, что хочешь, или от узла провод тянуть?
— Приёмник купить надо, — посоветовал Юрка. —
Купил — крути и слушай что захочешь. А трансляция — это... —= Он хотел сказать «мура», но. потом подумал, что нехорошо солидному человеку, за которого его приняла Мария Петровна, употреблять такие слова, и сказал:— Трансляция — это хуже.
— Приёмник покупать, — подтвердил Павлнк.
На вопросы Юрки, что ему по тому или иному
пункту делать, Павлик отвечал неохотно.
— Коле помочь? А разве ты не знаешь, что он болен уже две недели?
— Знаю, — отвечал Юрка.
— Ну так вот, помочь надо... В кино сегодня был?
— Был,
— Ну-ка расскажи.
Но Юрка озабочен:
— Значит, тебе поручено заниматься с ним?
— Да.
— Всем заниматься? И русским?
— Всем... Кино-то можешь рассказать?
— А-а, чепуха, не кино! Не стреляют, не воюют... Как жил какой-то музыкант, сочинял музыку. И всё у него гости, гости, разговоры, разговоры, а потом поставили оперу, и он стал знаменитым. Правда, царь там чем-то недоволен был, ну так на то он и царь... Ну ладно... — Юрка задумался. — Математика-то ничего, а вот русский... Лёнька ещё говорил — кружок номер два. Что за кружок?
— Всё тебе объясняй с самого начала! Как с луны всё равно свалился...
В прежнее время Юрка ответил бы ему, а сейчас сидит молча и ждёт: поругает-поругает, а потом всё-таки объяснит.
— Кружок — совсем не кружок.
— А что же? — спросил Юрка.
— Опять объясняй! Не все дома успевают газету
прочесть. Бывает, некогда или газеты не оказалось. Вот и собираются в школе к семи часам..
— Молодые, старые?
— У меня всё больше старички да старушки.
— И с ними занимаешься? — допытывался Юрка.
— Занимаюсь.
— Так они столько вопросов понакидают, — сказал Юрка, — что утонешь с макушкой!
— А ты не утонывай, — посоветовал Павлик. — Что ещё не понятно?
— Всё не понятно. Ничего не понятно... Ну ладно, ладно! — предупредил Юрка Павлика, готового возразить, и почесал голову. — Сейчас бы кино какое-нибудь интересное посмотреть! — вздохнул он.
— Ну, всё, что ли? — спросил Павлик.
— Всё,-— нахмурился Юрка.
Он вспомнил, как они с Павликом вместе выходили из школы и как расходились их дороги. Дороги... Дороги... Выбирай их, не ошибись!
Нельзя сказать, что Юрка совсем уж «стоял в стороне». Нет, он газету оформлял, помогал спектакль на Первое мая ставить... Дома иногда дрова колол, воду носил, попросят гвоздь забить — забьёт.
Но чем бы он ни занимался, душа его витала далеко от этих мелких, будничных дел: неинтересно!
— Паш, — спрашивает Юрка после молчания, — а ты, наверное, здорово во всём понимаешь?..
— Чего ты там ещё... выдумываешь! — сердится Павлик. — Спроси, что надо, и иди занимайся делом.
— Сейчас.
Проходят минуты две. Юрка медлит. Павлик хотя и говорит так, а, видно, не очень уж ему хочется, чтобы Юрка уходил. Лежит смотрит в книжку, а сам о чём-то думает. Нет-нет да и взглянет на товарища.
— Паш, нога-то сильно болит?
— прошла нога. Лежу — пусть кожа зарастёт.
-— Ты не шевели ногой-то, пусть зарастает.
— Не шевелю и так.
— Ну, тогда зарастёт быстро.
— Зарастёт.
Потом они молчат. Мать убирает со стола, уходит, приходит. Снова уходит.
— Ты вот что, — спрашивает Павлик, — в самом деле будешь заниматься делами?
— Ну, а как же?
— Гм... — Павлик тяжело раздумывает. — Ну, смотри... С Колей позаниматься можешь завтра или послезавтра...
— Я лучше послезавтра, — говорит Юрка. — Или через два дня... А то и три...
9. Происшествие у Коли Лопатина
Коля Лопатин перенёс воспаление лёгких. Сейчас он поправляется, ходит понемногу по комнате, работает. Работы же — не перечислить. Следы её повсюду. На столе — инструменты, гайки, болты, обрезки цинка, схемы, изоляторы. В углу — целый склад всевозможных и невозможных деталей — колёс, колёсиков, шатунов, коробок, цилиндров. В другом углу — сложное сооружение. Рассматривать всё это гораздо интереснее, чем заниматься скучными уроками.
— Что это, Коля? — спрашивает Юрка.
— Электростанция. Не видишь?
— А-а, модель, — наконец узнаёт Юрка.
— Действующая модель, — поправляет его Коля.
— Как — действующая?
— Как?.. Странный вопрос. Вода вертит турбину, турбина — динамку, динамка даёт ток.
— А вода где?
— Вон в углу бак прибит. Источник воды искусственный. Весною на речке смонтирую. Вот где будет раздолье! А то сам наливай воду. Да и сырость. Дома ругаются... Не понимают...
Юрка жадно рассматривает модель. Двухэтажное здание сделано из фанеры, в нём прорезаны двери и окна, вставлены стёкла, внутри — машины. И свет! Всё как у настоящей электростанции. Юрка трогает, щупает, гладит. Это же надо сообразить — такую настоящую модель!
— В ход, что ли, хочешь пустить? — спрашивает Коля.
— А можно?
— Всё можно. Отверни кран, вон там... Видишь? Только осторожно.
Юрка заметил на трубе, идущей от бака к модели, кран, отвернул его. В трубе зашумело, в домике станции взвыла динамка, зажглись желтоватые огни на столбах, на окнах.
— Ух ты! — воскликнул обрадованный Юрка. — А поярче могут гореть?
— Могут. Надо подачу воды увеличить.
Юрка покрутил кран ещё, свет стал ярче, белее.
— Вот это да! Вот это да! — Юрка даже привскочил. — Стой! Да она может дом освещать, электростанция. У тебя свой свет!
И разыгравшийся Юрка, не спросив разрешения Коли, погасил лампу. Стало темнее, но тем эффектнее казалась модель, тем ярче её огни.
— Вот это да! Вот это да! — повторяет Юрка. — Своя электростанция!
Войдя в азарт, он ещё покрутил кран. Шум воды стал сильнее; с бульканьем входила она в трубку и сливалась в корыто.
— Ты мне воду не спусти, — предупредил Николай. — Как, нравится?
— Здорово! Ты, Коль, великий человек! Тебе памятник надо — ив статью.
Коля важно прошёлся по комнате, свалив со стола вилку, которая упала на пол с дребезжащим звоном.
— Ну да, великий, — возразил он, —скажешь ещё! Просто неплохая модель. А отделана-то! Не масляная краска, а эмаль. Это тебе не что-нибудь. Я эту эмаль в райцентре еле достал. Только воду мне не спусти!
— Нет, Коль, ты знаменитый человек, — настаивал Юрка, то приседавший возле модели с разных сторон, то отходивший в уголок, чтобы охватить взглядом всё сооружение. — Знаменитый человек...
Вдруг шум воды стих, жужжание динамки постепенно перестало быть слышным, и в тишине упали в корыто последние капли. Лампочки погасли. В комнате стало темно.
— Всю воду спустил! — спохватился Коля. — Лампу зажги, ты гасил!
Юрка недолго думая схватился за стекло лампы.
— Ой! — вскрикнул он. Стекло было ещё горячее, и Юрка сильно обжёг пальцы.
Стекло упало и со звоном разбилось.
— Да осторожней ты! — набросился на него Коля. — Вот тоже!
— Чего осторожней... — проговорил Юрка. — Уже разбилось...
Он стал искать по карманам спички, но спичек не было.
— Коля, а спички где у тебя? — спросил осторожно Юрка.
— Где?! — вскинулся Коля. — Искать надо, вот где! Тоже мне!
Стали шарить руками по подоконнику, столу.
— Разбей мне ещё что-нибудь! — предупредил Коля.
Тогда Юрка решил: зачем ему рисковать? И, повторяя про себя «тут нету, тут нету...», спокойненько стоял, заложив руки в карманы штанов.
— Нашёл, — сказал Коля, и Юрка услышал, как загремели спички в сухом коробке.
Коля чиркнул спичкой и зажёг лампу. Фитиль дымил, в комнате запахло гарью, и Юрка прикрутил фитиль.
— Бери веник, — сказал Коля, — замети осколки в угол... А это что?
Корыто было полным-полно, и возле него поблёскивала большая лужа. Вода протекла под стол, под шкаф: повсюду были мокрые следы от валенок.
— Так, — проговорил Коля. — Предупреждал я тебя — не спусти воду? Предупреждал?
— Предупреждал, — промямлил Юрка.
— Тоже мне, помогать пришёл!.. Чего стоишь? Бери тряпку, подтирай! А бак до краёв наполни. Да скорее, пока мать не пришла.
Николай швырнул ему тряпку. Тряпка была чёрная, рваная и, наверное, грязная. Так не хотелось за неё браться! Но делать было нечего. Юрка пошёл к тряпке.
— Куда? Стой! — закричал Коля. — Ты соображаешь что-нибудь? По стеклу ходишь, дробишь ещё больше. Замети в угол, говорю тебе в сотый раз!
— Ну ладно, ладно... Подумаешь...
Юрка уныло подмёл пол, вытер лужу, вместе с Колей вылил воду из корыта.
— А теперь таскай в бак- '
Бак огромный (где только Коля его взял?), и Юрка несколько раз бегал за водой. А колодец за семь
домов, а дома все, как назло, большие — пока один пройдёшь, пять человек спросят: «Кому это ты воду носишь. Юр?», да обратно опять семь домов.
Юрка одно отвечал:
— Коле помогаю...
...Четыре ведра! Да и то бак чуть-чуть не полон.
— До краёв, что ль? — спросил Коля.
— Вообще-то до краёв, только немножко не хватает, на полпальца, ну, может, на палец...
— Ладно, — сказал снисходительно Коля, посмотрев на своего помощника. — А то ещё надорвёшься, заниматься будет не с кем.
Валенки у Юрки были облиты водой, штаны тоже, на лбу выступил пот.
— Сейчас будем заниматься... — сказал Юрка.
— При свете фитилька, — мрачно добавил Коля. — Как в первобытное время.
— Ну ничего... — успокаивал Юрка. — Нет, хорошая у тебя станция, очень хорошая! — добавил он, желая хоть немного задобрить товарища. — Где-то я такую видел.
— Где-то? — спросил Коля, — Это точная копия станции, которая будет у нас строиться. Голова!
— У нас?
— У нас. А ты разве не знаешь? Проект-то в правлении десять раз видел. Тоже мне!..
— А, да-да.
— «Да-да»!.. Чему же ты меня учить будешь? Давай приступай. Мне вон ещё Островского сорок страниц прочесть надо.
Юрка пересказал Коле уроки довольно сносно. Задержал его, правда, только русский язык. Когда Лопатин стал задавать вопросы. Юрка сказал:
— Отвечу в следующий раз, у меня читка газеты. Опаздываю.
10. Мария Иванова
Юрка попрощался и ушёл. Едва захлопнулась дверь, бегом побежал к школе. Ему показалось, что там уже давно его ждут.
Юрка только на минуту остановился у магазина, где обычно вывешивают афиши кино и спектаклей. Афиша висела и сейчас.
В СУББОТУ В ВОСЕМЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА
КЛУБ КОЛХОЗА "КРАСНЫЙ БОР"
МАРИЯ ИВАНОВА — впечатления от поездкн в Чехословакню
Юрка припустил дальше. «Мария Иванова... Впечатления от поездки в Чехословакию, — повторял он про себя. — Иванова о Чехословакии... Подумаешь, Мария Иванова...»
Мария Иванова, или, как звали её в селе. Маша, была среднего роста курносая девушка. Он часто её видел, но как-то не обращал на неё внимания и узнал более близко совсем недавно в результате одного происшествия.
Однажды в поисках чтения Юрка зашёл к Виктору, её брату, который обещал дать интересную книжку. Брата дома не оказалось. Не было никого и из домашних. Серый лохматый кот раскатывал в горнице клубок шерсти. Пользуясь свободой, метался из угла в угол, вспрыгивал на стол, спрыгивал на пол, затихал, снова бросался на клубок. Юрка вышел во двор. Маша выкидывала из хлева иапоз, напевая:
Дорогой мой, дорогой.
Суженый, желанный,
Я простая, он простой.
Ты же очень странный.
Навоз плюхался на кучу после каждой строчки. Слово «дорогой» она подкрепила ишырком чуть ли не пудового веса лохматого от соломы месива.
Увидав гостя, девушка продолжала работать и петь о любви и непонятливом своём поклоннике. Юрка и раньше не очень интересовался сестрой Виктора и сейчас, застав её за таким занятием, не хотел задерживаться.
— Я к Виктору, — сказал Юрка. — Не знаешь, где он?
— Знаю. Мой брат всегда говорит, куда уходит. Не в пример некоторым.
— Скоро придёт?
— К восьми часам. Будет заниматься.
— Он мне книжку обещал.
— Дать тебе её? — спросила она ласково.
— Надо было бы.
— Ну хорошо.
Она воткнула вилы в навоз. Сняла и повесила на гвоздик фартук. Потом заставила Юрку полить из ведра на её сапоги, так как свои руки она считала грязными. После, когда можно было пройти в сенцы, вымыла руки. Юрка ждал. Но этого оказалось мало.
— Отвернись-ка, — сказала Маша.
Юрка отвернулся, а когда увидел её. Маша была уже не в комбинезоне, а в юбке и кофточке.
Только после этого вошли в дом.
— Его книжки в моей комнате. Найди, какую он тебе обещал.
Юрка снял с полки «В Муромских лесах».
— Что за рвань? Наверное, интересная, — полюбопытствовала Маша и перелистала несколько разрозненных страниц. — Разбойники... Пещеры... И, наверное, ничего о настоящей любви. Ну конечно, что они понимали? Убийства... Что за чепуха! И ты из-за этого оторвал меня от работы? — грозно спросила она.
— Подумаешь, работа — навоз выбрасывать! — огрызнулся Юрка.
— Работа, Юра, без всякого «подумаешь». Очень ответственная.
Юрка рассмеялся:
— Научная работа!
Маша рассердилась не на шутку:
— Бери свою рвань и уходи!
Юрка ушёл, недоумевая, за что, собственно, на него обиделась эта Маша.
Так произошла встреча его с Машей, теперь Марией Ивановой, которая будет делиться своими впечатлениями от поезки в Чехословакию.
11. Занятия
Юрка шёл, мрачно подумывая о том, что дорога длинная, неровная, под ногами снежное месиво... И в конце пути — школа, где он должен будет читать газеты и, не дай бог, отвечать на вопросы... И угораздило же Павлика!
Юрка кряхтел.
И вдруг он заметил такое, что его заставило невольно остановиться.
Невдалеке от села, у реки, на пригорке стоял ка-
мсиный дом с полукруглым балконом. Когда-то здесь жил помещик, потом в этом доме была милиция, теперь — библиотека. Сколько раз Юрка проходил мимо дома, но этого не замечал: на пригорке, обращенном к реке, на белом снегу зиял чернотой какой-то вход или дыра. Юрка подумал — не строит ли что-нибудь колхоз, не копают ли колодец или, допустим, туннель? Впрочем, зачем колхозу туннель? От туннеля мысли Юрки перескочили к таинственным пещерам, где разбойники хранили оружие и драгоценности, к подземным ходам со скелетами людей, умерших от голода и холода, но не сдавшихся врагу, к партизанским штаб-квартирам, где каждая мелочь хранит славу героических дел...
Юрка, проваливаясь по колено в снег, подошёл ближе. Нет, это не просто дыра, а настоящий ход. Вот полукруглый свод из кирпича... Внизу ступеньки туда— в неизвестное, страшное и такое привлекательное...
Юрка уже хотел спуститься, но тут вспомнил о школе.
«Навязалась школа ещё!» — недовольно подумал он и спросил проходившего мимо человека в чёрном романовском полушубке:
— Сколько времени, дяденька?
Тот остановился, расстегнул полушубок, достал часы:
— Тридцать пять седьмого...-
«Уже тридцать пять! Нету минутки свободной... Хотя бы двадцать пять!» — подумал Юрка.
— А они у вас не вперёд? — спросил он со слабой надеждой.
Но человек уже не слышал его. Юрка вздохнул тоскливо и зашагал дальше.
...В тёмном классе у топившейся печки сидела дочь
сторожихи Анны Еремеевны — Аня, белокурая, с синими глазами девушка — и, лузгая семечки, читала какую-то растрёпанную книгу. Лампы ещё не зажигали, и в классе слабо синели окна.
— Никого? — удивился Юрка, войдя в класс.
Аня взглянула на мальчика, кивнула в знак приветствия, но ничего не ответила.
— А вот... я сегодня занимаюсь, — с трепетом сказал Юрка, думая, что Аия-то уж знает, как трудно заменить Павлика и как боязно приступить к занятиям со взрослыми. И ещё он думал, что Аня может бросить на него недоверчивый взгляд: «Ты заменяешь Павлика? Хм!.. Интересно, как это у тебя получится».
Но ничего этого не случилось.
— Ну-ну! — одобрила девушка.
Юрка вышел в коридор, где висели круглые часы. Ещё десять минут! Вернувшись, он зажёг лампу и вдруг, словно впервые, увидел класс.
Стоял стол. Чёрный, накрытый зелёным сукном с двумя пятнами фиолетовых чернил. Юрка знает, как образовались эти пятна. Одно посадил Яшка. Побежав за Таней, он опрокинул чернильницу. Второе — он сам, когда помогал учителю показывать туманные картины. Сейчас на столе стоял стакан, графин с водой; под его дном, казалось, была налита ртуть. Перед столом — стул. Всё приготовили для него — Юрки, как приготавливали для учителя. А этот учитель сейчас с треском провалится...
Юрка развернул газеты. Чего тут только нет! Время тянулось, а ему хотелось, как с обрыва в воду, ринуться в дело и поскорее развязаться с ним.
«И нужно же было Павлику ногу зашибить!» — думал заместитель, слушая, как гудит печка и ровно-ровно дышит Аня.
Через несколько минут в коридоре послышались" шаги.
«Начинается», — решил Юрка.
На читку в школе собралось пять человек, в том числе и страшный Николай Николаевич, который, как предупреждал Павлик, задаёт ехидные и трудные вопросы.
Две старухи, бабушка Новикова и Лазарева, в углу возле печки разговаривали о домашних делах, и то и дело слышно было:
— Ага, ага, моя милая. Вот и у меня так.
Они совсем не интересовались Юркой и пришли, как приходили всегда, видно, поговорить, посмотреть на людей, погреться.
Юрка оглядел собравшихся.
— Приступаю, — сказал он, и сердце у него заколотилось. — Прошу соблюдать тишину.
Шум утих. Юрка начал. Статью о международном положении он читал не останавливаясь, боясь оторвать взгляд от газеты: «Вот зададут вопрос, а я не отвечу».
В первый же раз, когда Юрка поднял голову и посмотрел на собравшихся, увидел Павлика, явившегося, видно, позже всех. Всё шло хорошо, даже вопросы оказались несложными. Отвечая на них. Юрка перечёл кое-что из газеты. Но вот поднялся Николай Николаевич:
— Есть вопрос.
«Вот оно!» — промелькнуло у Юрки.
— Есть вопрос.
— Да, — разрешил Юрка. — Говорите.
— Вот насчёт Вьетнама, — начал Николай Николаевич. — Освободительная война, героическая борьба... Всё понятно. А вот какой там, между прочим, главный город?
«Между прочим» и «главный город» были произнесены ехидно. «Подковырка!» — подумал Юрка.
— Столица? — переспросил он, выигрывая время.
— Столица, да, — подтвердил Николай Николаевич.
Значит, главный город?
— Именно, дорогой! Главный город, или столица...
— Ага... Столица...
Юрка не знал. Мысль его лихорадочно работала: «Сказать, что не знаю? Порыться сейчас в газетах? А если там нет — позору ещё больше! Может быть, просто сказать: «Не знаю»?» Но он молчал.
Лоб его покрылся испарппоп. Он уипдел улыбающееся лицо Павлика; потом улыбка исчезла, и Павлик стал озабоченным, встревожсппым...
— Вот тоже, — вдруг сказал Юрка. — Главный город... Столица... Да так каждого профессора можно в галошу посадить. А тут ещё бабушка Новикова с Лазаревой разговаривают. Разве можно в такой обстановке работать? — Взор Юрки засверкал. Он распалялся всё больше и больше. — Что вы там показываете друг другу? О чём разговариваете? Что у вас в руке? Бабушка Новикова, что у вас в руке?!
Новикова встала.
— Чулок, батюшка... Чулок показываю... — И она высоко вверх подняла руку с длинным шёлковым чулком. Все засмеялись, а она продолжала: — Первый раз такой вижу, с какой-то чёрной пяткой... Дочке привезли — вот Лазарихе и принесла показать...
Но последних слов Новиковой в и1уме и смехе разобрать уже было нельзя.
Юрка встал:
— Вот видите: чулок. Чёрная пятка какая-то! А я виноват! Разве можно так работать? На этом я заканчиваю, и чтоб в следующий раз у нас была дисциплина. Всё!
Когда слушатели со смехом и шумом разошлись, Николай Николаевич подошёл к Юрке. Павлик же сидел на прежнем месте.
— Главный город Вьетнама, другими словами — столица, называется Ханой. Понятно? — сказал Николай Николаевич. — Ха-ной, запомни.
Он помолчал минутку, всё время смотря на Юрку, который вспотел и был красен как рак, и спросил:
— Будешь ещё в мой сад через забор лазить? А? Будешь? Запомни: Ха-ной! До свиданыи1,а.
И он ушёл.
юрка, стоявший как окаменелый, вытер пот и опрометью бросился на улицу.
— Баня! — только и сказал он, вдыхая морозный воздух. — У-ух..
Подошёл Павлик.
— Откуда он про сад узнал? — спросил Юрка. — Припомнил... Раз только и слазил. Добро бы десять... Уф, уф! — отдувался он.
— Иди оденься, — сказал Павлик.
— Уф, уф!.. Разве я не одетый?.. Да, не одетый. Сейчас...
Они вернулись в класс. Тут только Юрка спросил:
— Паша, как же ты дошёл? Больно ведь?
— Доехал... — неопределённо ответил Павлик.
— И сможешь до дому дойти?
— Нужно — дойду.
Юрка только головой покачал: вот это человек! И весь разговор нравился Юрке: громких слов нет, а как всё здорово!
— Да! — вдруг радостно вскрикнул он. — Павлик, знаешь, что я открыл?
— Нет... Что открыл? — заинтересовался Павлик.
— Подземный ход! — провозгласил Юрка. — А что, если он куда-нибудь ведёт? А что, если там какое-нибудь оружие, патроны, скелеты? Этому дому, может быть, триста лет, пятьсот, а?
И Юрка рассказал о том, что он открыл.
Павлик осмотрелся — есть ли кто вокруг? — и тихо, шёпотом, который заставил радостно в предчувствии необыкновенного сжаться Юркино сердце, сказал:
— Подземный ход? — Он задумался и продолжал так же тихо: — Я видел старинный план нашей местности. И там пунктиром какое-то обозначение, кружочек и в кружочке — крест...
— Пунктир, кружочек и крест? Павлик, это тайна! Л где этот план? Где ты его видел?
— Когда библиотеку перевозили, среди старых бумаг и книжек... Я хотел его ещё раз посмотреть, но плана уже не было.
— Вот видишь, его уже не было! Его уже не было! — со значением повторил Юрка. — Ну? Вдвоём — и больше никого? Идёт?
— Вдвоём — и больше никого, — согласился Павлик.
Когда поднялись и пошли обратно, стало ясно, что Павлику ходить трудно: он прихрамывал. Боясь, что во второй раз Павлику скоро прийти сюда не удастся, Юрка предложил приступить к делу сейчас же.
Вечер давно уже наступил. Светила луна, и вся земля была в серебряном ярком свете и чёрных густых тенях.
Юрка ни в чём не сомневался. В такой вечер поверишь во что угодно...
Вот и вход. Наверху полукруглая арка — свод из кирпича, внизу ступеньки. Вокруг — никого.
— Ну?—чуть слышно спросил Юрка.
— А... — растерянно прошептал Павлик. — Ничего не видно... Луна не с той стороны.
— Я первый, — сказал Юрка. — Я видел ступеньки. А ты можешь и постоять, а то ногу зашибёшь.
— Я осторожно...
— Ногу зашибёшь, Павлик!
— Да я осторожно!
— Ну ладно.
Юрка кивнул и полез в дыру.
— Ступеньки... Одна... две... три... — услышал его шёпот Павлик. — Пол... Кирпичи...
Отсюда, из темноты, Юрка видел яркие звёзды на небе, фигуру Павлика, освещённого луной,
Павлик стал тоже спускаться,
— Тише! Осторожней! — предупредил его Юрка и даже помог ему стать на пол. — Ну? Зажигаю спичку. — Он чиркнул спичкой.
Взорам ребят предстали полуразрушенные кирпичные своды, выложенный каменными плитами пол и впереди бочка с чем-то белым и груда новых кирпичей.
Ребята переглянулись.
— Ну, Юрка, кажется, здесь будут ремонтировать, — разочарованно сказал Павлик. — Ничего особенного... Всё?
— Всё. Склад, видно, будет...
Они вылезли наружу и молча пошли домой. Уже возле своего села Павлик, что-то вспомнив, сказал:
— Верно, там была церковь... Крестик в кружочке означает церковь. Остался от неё подвал, и подвал хотят ремонтировать. Склад будет, ясно.
12. Руки в земле
Зима...
Дымки из труб, запах блинов, звон льда на речке, где катаются ребятишки, иней на берёзах, накатанная, блестящая от полозьев дорога...
Аршинный слой снега на полях. Но целый день стучит в кузнице Артём, и целый день возят к нему бороны, плуги, сеялки. Странно смотреть, как по снегу тащится за трактором поезд из телег. Ремонт! То и дело ходит председатель колхоза в амбары, где хранится посевной фонд: как там зерно? Сам пускает в четырёхугольный вырез в двери чёрную кошку. Сверху зерно не тронуто, сухое, а что, если снизу его жрут мыши?
в клубе Мария Иванова делится своими впечатлениями от поездки в Чехословакию. В клубе тепло, все раздеты, и зал пестрит нарядами девушек и парией.
Юрка, который сидел рядом с Павликом, слуи1ал рассказ Маши, быть может, внимательней всех. «Послали за границу! А! За что? За урожай...» Ведь он. Юрка, видел, как Маша со своими девчатами вывозила удобрения в поле, когда ещё никто не решался этого делать. Помнит, какие книжки стоят у неё в комнате на полке, — в переплётах, с мудрёными названиями. Тогда они показались ему скучными... Юрка стал думать о том, что когда вырастет, то поедет за границу: в Чехословакию... Индию... Германию... Ему тоже хочется посмотреть, как живут люди за границей; пусть и его поуважают там за то, что он советский.
Впрочем, зачем ждать? Долго и совсем неинтересно. Берут же в делегации разных людей — артистов, героев, ну и его пусть возьмут как пионера. Надо же пионера показать. Он бы всем ребятам за границей подарил по звёздочке, оставил бы им свои подписи с закорючками, рассказал бы обо всём, о чём только захотели бы узнать. Нашёл бы там друзей, стал бы переписываться с ними: он письмо —ему письмо, он фотографию — ему фотографию, он газету — ему газету... Только вот как читать и разговаривать? Ну, как-нибудь бы устроился...
— Паш, — толкает он друга, — ты в какую бы страну поехал?
— В Африку, — тихо отвечает Павлик.
— Почему в Африку?
Павлик молчит, слушает.
— Паш, а Паш! — настойчиво шепчет Юрка. — Почему?
— Не знаю... Знаешь, Юр, наверное, потому, что
там ещё есть белые пятна и крокодилы... И, наверное, в Австралии и в Америке Южной есть, — отвечает Павлик. — Смотри-ка, три «А»! — добавляет он и сам удивляется: — Три «А».
— Что «три «А»? Пащ, что «три «А»? — щепчет Юрка. — А-а! Верно: все с буквы «А» начинаются. Паш, вдвоём — и больше никого? Паш, вдвоём — и больше никого? — добивается согласия Юрка.
— Слушай, — шепчет Павлик.
Юрка слушает, всё ещё думая о своём — о трёх «А», крокодилах и белых пятнах на географической карте. Потом он вздыхает: сидит-то в клубе на скамье. Маша рассказывает, как она с девчатами ещё зимой проверяла семена на всхожесть, рассказывает, как будут девчата учиться и что делать...
— Паш, — спрашивает Юрка, — а мы можем проверить?
— А чего там... Простое дело... Да слушай ты!
Юрка слушает. Иногда он что-то прикидывает в
уме и на мгновение задумывается. Иногда, забывшись, хочет обратиться к Павлику, но, вспомнив, что нехорошо всё время отвлекать товарища, сдерживается.
Простые вещи делать тоже очень трудно. Не так легко зимой, в стужу, найти для семян подходящую землю, просеять её, сколотить ящики. Посадить семена просто. Взять сто зёрен и посеять. Прорастут восемьдесят — значит, всхожесть восемьдесят процентов, прорастут девяносто — девяносто. Место хранения не одно. И каждое нужно проверить, определить процент всхожести. А для верности выводов о всхожести семян нужно не один ящик посеять, а несколько. И по ним вывести средний процент для этого зерна.
За двором Павлик, Юрка и Лёия Плкин разгребают снег, долбят землю. Кусочек за кусочком летит в решето, а когда набирается решето, Юрка несёт его в дом, ссыпает в ящик. На это уходит чуть ли не полдня.
Потом все трое катаются на санках. Когда смеркается, ребята пьют чай, разговаривают.
К ночи земля оттаяла. Юрка стоит перед ящиком и руками мнёт влажную, ещё холодную землю. В его пальцах с набитыми мозолями перекатываются песчинки, мелкие камешки, рассыпается труха сгнившего дерева. Хороша почва! Навозцу ещё сюда...
Лопаточкой он перекладывает землю, возится, как возилась Маша Иванова с землёй, с навозом.
Каникулы кончились. И хотя совсем не так думал провести их Юрка, они не показались ему скучными.
КОЛЮЧИЙ ПОДАРОК
Десятилетнпи Кузьма и его отец Василий Иванович воскресенье проводили за городом. Мальчик был назван таким теперь уже редким именем в честь дяди, брата матери, который считался самым дорогим и близким родственником, очень добрым человеком, щедро помогавшим семье.
Кузьма и Василий Иванович купались, искали грибы, собирали малину, и отец, восхищаясь, всё время говорил:
— Воздух, а? Коля (так обычно называли Кузьму), ты чувствуешь? А? Какой воздух?
Кузьма не чувствовал никакой особенности воздуха, но подтверждал:
— Ага...
— Какая красота! — восхищался отец, смотря на лужок, где росли могучие березы. — Какая красота! Коля, ты чувствуешь?
И Кузьма отвечал:
— Ага...
Но думал он совсем о другом.
В корзинке в одной стороне у него громоздились грибы, в другой — завёрнутый в платок лежал маленький ёжик. Ёжика Кузьма поймал уже давно, сразу же, как только начали искать грибы, и, ничего не сказав отцу, спрятал зверька в корзинку. А чтобы отец не увидел ёжика, завернул его в платок, а рядом клал грибы.
Дома у Кузьмы уже был большой аквариум с золотыми рыбками, жила черепашка, которую называли Тах-Тах, кот Фунтик. Расширять «зоопарк», как именовал отец это хозяйство, было уже невозможно: четверо — отец, мать, Кузьма, бабушка — жили в двух небольших комнатах. Но Кузьма думал подарить ёжика своему товарищу Алику или — что вряд ли могло получиться — упросить управдома, который жил на той же площадке, поместить ёжика у себя. А он, Кузьма, два раза в день ходил бы к нему — в гости, покормить, убрать и так далее.
Говорить об этом отцу было бесполезно: не разрешит.
«А вот дядя Кузьма разрешил бы... — думал Кузьма-младший. — Дядя Кузьма как-нибудь всё уладил бы...»
Часов в семь отец и сын собрались домой. К тому времени у Кузьмы была полная корзина грибов, так что ёжик теперь лежал на боровиках и подосиновиках, сверху прикрытый лёгкими сыроежками и на всякий случай лопухом.
В вагоне электрички, куда потом битком набились
грибники, гости, возвращавшиеся домой от друзей, Василий Иванович и Кузьма успели занять места на одной скамейке. Василий Иванович развернул газету, прочёл статью, и его вдруг стало клонить ко сну. Когда он задремал, Кузьма облегчённо вздохнул. Теперь отца можно было опасаться только в метро и в первые минуты дома, пока он, Кузьма, не отдаст ёжика Алику или управдому.
«Но что будет дома? —тревожился Кузьма. — Когда я успею сбегать к Алику... Может быть, лучше всего зайти по дороге?.. Лучше всего — по пути... А если Алика не будет — всё равно оставлю у него...»
Обдумав всё, Кузьма ещё раз вздохнул и решил тоже вздремнуть — и ему и отцу сегодня пришлось встать довольно рано.
— Какие-то у тебя грибы чудные, — вдруг услышал он голос девушки, стоявшей в проходе.
Кузьма, боясь выдать себя, осторожно посмотрел на корзинку, которую он держал между ног. Лопух и сыроежки шевелились.
— Живые у тебя грибы, —продолжала девушка.
Кузьма пихнул корзинку под скамью и огляделся
виновато. Отец дремал... Соседи напротив читали... Пожалуй, только одна эта девушка заметила, как подозрительно шевелились в его корзинке грибы.
— Раки, что ль, там у тебя? — не унималась девушка.
— Раки... — как можно тише отозвался Кузьма, думая о том, а ловят ли в это время раков.
Кузьма молчал, удивляясь тому, как медленно идёт время. Два пожилых дяди напротив перебросились фразами — они говорили о своём заводе. Засмеялась какая-то женщина; мальчик, видно совсем маленький, попросил пить...
А поезд все шёл и шёл, грохоча по голубым рель-
сам, стуча на стыках, громыхая по мостам, то вылетая на поляны, то снова прячась между стен лесов. До Москвы ещё оставался чуть ли пе целый час езды.
Едва Кузьма успокоился—^в вагон вошёл контролёр. Проснулся отец, двое заводских напротив стали шарить по карманам.
— У нас обратные, — говорил один из них, с усами и бородкой, не находя билетов. — Вчера билеты покупали... На ночь приехали... В стогу спали... Ужели выронили? Иван Петрович, а у тебя?
Контролёр уже подошёл к их скамейке, уже проверил у Василия Ивановича, у других, а двое заводских всё искали билеты, шаря по карманам, хлопая по ним.
— Иван Петрович!
— Да нет, Пётр Петрович, нету у меня!
— У тебя же ведь были!
— А не у тебя разве?
Пётр Петрович нагнулся и стал искать на полу, переставляя корзинки с грибами с места на место. Попросил он и Кузьму выдвинуть из-под лавки свою корзинку.
Кузьма побледнел и загородил корзинку ногами.
— Дружок, поторопись, а то нас, ветеранов труда, в отделение препроводят, — просил Пётр Петрович. — Позор!
— Коля! — строго сказал отец.
Кузьма, слыша, как тревожно и громко стучит сердце, словно оно было теперь снаружи, вытащил корзинку... Нет, ни лопух, ни грибы не шевелились.
«Молодец, Остроносик, — подумал Кузьма. — Получишь лишнее блюдце молока!»
Иван Петрович в конце концов нашёл билеты в одном из карманов, и всё уладилось. Кузьма снова задвинул корзинку под скамью, с тревогой думая,
что же теперь может угрожать ему? Что ещё может случиться?
Но до самой Москвы ничего не случилось. И только когда поезд остановился и все стали выходить, произошло самое неожиданное и огорчительное для Кузьмы: ёжика, которого Кузьма уже назвал Остроносиком, в корзине не было.
Мальчик тихо охнул и стал искать его.
Остроносик медленно полз под соседней скамейкой. На иголках его качалась розовая лёгкая сыроежка с прилипшим листом.
Ветераны труда Иван Петрович и Пётр Петрович, видимо, как всегда, делавшие всё солидно и основательно, не спешили выходить. Сняв корзинки с полки, они осматривали их: не помялись ли грибы, не нужно ли переложить получше... Кузьма видел, как Остроносик тихо и медленно полз мимо носков их ботинок, намереваясь, наверное, прибиться к стенке. Если кто-нибудь из двух рабочих шевельнёт ногой, зацепит Остроносика.
— Пошли, пошли...
Василий Иванович подтолкнул сына, и Кузьма, растерянно оглядываясь, с сжавшимся от боли сердцем стал медленно переставлять тяжёлые ноги. И когда он сделал несколько шагов, услышал, как Остроносик фыркнул, увидел, как рабочие обменялись вопросительными взглядами. Уже у самой двери, со всех сторон окружённый людьми, ещё раз оглянувшись, увидел Кузьма своего Остроносика в руках Петра Петровича.
Выйдя на перрон, Кузьма стал смотреть в окна вагона. К счастью, рабочие не спешили, и Кузьма смог застать Петра Петровича и Ивана Петровича на старом месте. Пётр Петрович растерянно развёл руками и стал водворять ёжика в свою корзинку. Поток лю-
дей нёс Кузьму всё дальше и дальше, пот, наконец, скрылись рабочие, а вместе с ними и милый, крохотный Остроносик.
Не отдохнув с дороги, едва умывшись, Василий Иванович взял свою корзинку с грибами и пошёл к соседу похвастаться.
Кузьма крикнул:
— Баб, ужинать!
Схватив «Вечернюю Москву», он уселся за стол.
— Баб, долго! — снова крикнул он, хотя прошла всего лишь одна минута.
Бабушка Прасковья Николаевна появилась из кухни с тарелками.
— Долго, баб... Долгонько...
— Ешь, Кузьма... — сказала бабушка. — Ешь, а я прилягу.
Прасковья Николаевна, часто перебирая ногами, вытянув вперёд руку, ушла к себе, в маленькую комнату, где, кроме неё, располагался Кузьма со своим имуществом. В этой комнате бабушка и проводила свободное время. У неё с матерью Кузьмы были неважные отношения. И вообще в доме бабушку старались не замечать.
— Я пошёл, баб! — Наскоро поев, Кузьма помчался к приятелю в соседний подъезд
Сегодня днём Алику купили небольшую подзорную трубу, и он с нетерпением ждал наступления темноты.
— Что это у тебя? — набросился Кузьма на приятеля, схватив трубу.
— Осторожнее, осторожнее! — закричал Алик. — Сейчас и не увидишь, ещё светло,
— А что можно увидеть?
— Всё! — с гордостью ответил Алик.
— Луну, звёзды?..
— Хм, Луну! — воскликнул Алик. — Марс! Венеру! Меркурий! Всю Вселенную!
Наконец небосвод потемнел, и на нём выступили звёзды.
Кузьма смотрел на небо, как будто видел его впервые. Да, собственно, так оно и было. Когда он ещё смотрел на него? Взглянет, бывало, мельком — нет ли туч, не летит ли спутник —и всё.
Сейчас перед ним переливался десятком цветов беспредельный неведомый, таинственный мир, существовавший рядом всё время, но о котором он до сих пор не имел представления.
Алик приладил подзорную трубу к штативу фотоаппарата и вынес на балкон. Не сразу приспособились ребята к телескопу: звёзды плясали перед его единственным глазом. Наконец друзья научились замирать у окуляра.
Белёсые, молочные пятна на небе состояли, оказывается, из неисчислимого количества звёздных скоплений... На Луне стали отчётливо видны горы и впадины... Звёзды справа и слева от неё приблизились, чуть дрожа в окуляре... И куда ни поверни трубу — везде мириады и мириады светящихся разноцветных далёких миров...
Матери Алика пришлось несколько раз звать мальчиков пить чай, прежде чем они сели за стол. Кузьма вспомнил, что он шёл к приятелю по важному делу, но не сразу смог начать разговор.
— Алик...
— Ну?
— Я ёжика в лесу поймал... Тебе в подарок...
— Ёжика?
— Ага...
— Живого?
— Раз поймал, значит, живого... По он убежал.
— И ты не поймал?
— Нет. Но его можно найти.
— А Луна-то, — вдруг сказал Алик, — оказывается, совсем рядом. А Марс в самом деле красный... Бог войны...
— Марс красный... — повторил Кузьма. — Я говорю, ёжика можно найти. В вагоне двое рабочих его подобрали. Ветераны труда... А завод их называется «Серп и молот», я в разговоре слышал... Иван Петрович и Пётр Петрович, ветераны труда...
— Упустил? А теперь бегать из-за ёжика надо?
— Ёжик уж больно хороший... Остроносиком зовут... Ну как, займёмся?
Алик не ответил.
Кузьма не стал настаивать. Ему самому сейчас казалось не таким уж важным всё, что произошло с ёжиком. В необъятной Вселенной, в мире, который открылся ему, ёжик не был даже пылинкой, даже пылинкой на пылинке.
Шли дни, и Кузьма стал забывать об Остроносике. Вечерами Кузьма с Аликом то смотрели в подзорную трубу, то ходили в кино, а днём ездили купаться в Фили. И только занимаясь своей черепашкой Тах-Тах, золотыми рыбками, Кузьма вспоминал о маленьком ёжике, которого он увёз из лесу, но не сумел передать в верные руки. Где-то он сейчас? Как живёт? Подрос ли? Хорошо ли с ним обращаются?
И снова, кормя рыбок, он вспоминал об Остроносике, и что-то тёплое, нежное подымалось в его душе.
Как-то он подошёл к бабушке и, не зная, что ей сказать, погладил её шершавые от беспрестанной домашней работы руки. Бабушка удивлённо и радостно посмотрела ему в глаза и поцеловала.
Но наступил момент, когда он почти забыл о маленьком ёжике. Кузьма как-то ещё раз напомнил Алику об Остроносике, но Алик не согласился искать, а Кузьме одному делать этого теперь совсем не хотелось, хотя управдом, как это случайно выяснилось, мог бы предоставить ёжику жилплощадь.
Можно было и так.
Ничего не изменилось в жизни Кузьмы. По-прежнему он ездил с Аликом в Фили купаться, бродить по старому, прохладному парку, медленно поедая мороженое, которое там продавалось чуть не на каждом шагу. По-прежнему по вечерам ходили в кино или смотрели фильмы по телевизору, наблюдали небо в телескоп...
И вот как-то, придя домой с улицы, Кузьма узнал, что завтра должен приехать дядя. Он жил недалеко от Москвы, но приезжал к сестре редко. Кузьма знал, что дядя работал на каком-то складе на пристани, был занят и, желая объяснить, почему люди редко встречаются, говорил: «Жизнь какая-то... Не поймёшь...»
Дядя, коренастый человек с мясистым лицом, поцеловал племянника, поднял его на руках и сказал, кивнув иа один из чемоданов:
— Это тебе.
Кузьма сам тащил тяжёлый для него чемодан, часто меняя руки, и думал о том, что за подарки привёз ему дядя. Он всегда приезжал с подарками, но так много дядя, пожалуй, ещё никогда не привозил.
— Дядя Кузьма, а что в нём? — спросил наконец мальчик.
— Небольшая ракета для полёта на Марс, — ответил дядя, улыбаясь.
В метро дядя взял у племянника чемодан и сказал:
— Зачем мучить любопытством?
Дядя положил чемодан на скамейку и раскрыл его. В нём лежали коричневый костюм, моторчик для велосипеда, коробка конфет.
Это было сверх всяких ожиданий.
На следующий день дядя ездил с племянником на Москву-реку, вместе с ним плавал, загорал, а когда Кузьма-младший захотел есть, повёл его в ресторан. Кузьма первый раз в жизни ел солянку и шашлык. На сладкое дядя взял ему двести граммов пломбира «ассорти» и бутылку крюшона.
— Ешь, пей, Кузьма, — говорил дядя. — Гуляй... —' И его крупное мясистое лицо было полно добро-
ты. — Мы с тобой как-нибудь на настоящую речку закатимся. Остались тут у вас, в Москве, настоящие речки?
— Есть, — сказал Кузьма, глотая мороженое. Он готов был идти с дядей хоть на край света.
— А в цирк сегодня хочешь пойти?
— Хочу! — с радостью воскликнул Кузьма.
— Пойдём в цирк.
— Пойдём!
Закончив обед, они поехали в цирк за билетами. Сойдя с троллейбуса, дядя взял Кузьму за руку и вёл его, уверенный, спокойный, добрый. Как хорошо было с ним! Он всё мог и всё понимал. Сейчас они подойдут к кассе и купят самые хорошие билеты в цирк, потом поедут домой, а до этого зайдут в «Гастроном», в другие магазины, и дядя будет покупать разные вкусные вещи на ужин, занятные игрушки для подарков. Стоит сказать о телескопе, и дядя купит телескоп. И ни разу не возникнет разговора о деньгах, о том, что их нужно экономить, как это бывало дома... Наверное, ни у кого нет такого дяди...
И, чувствуя большую, сильную и тёплую руку дяди, Кузьма решил рассказать ему о ёжике. Только он начал, как дядя перебил Кузьму:
— Ох и занятный зверь! Дотошная зверюга!
— У тебя был ёжик? — обрадованно спросил Кузьма.
— Был...
— Ты его любил?
— Любил...
— Поймал, и он у тебя жил?
— Купил однажды по случаю, принёс домой... Занятно! Катится, как шарик, фыркает, молоко лакает. Веселей как-то стало жить... Приятный зверюга! Я ему специальную мисочку купил, чтоб молока боль-
ше вмещалось. Коврик нашёл, постелил п углу — спи, мол, здесь!
Дядя помолчал.
— Ну? — в нетерпении поторопил Кузьма.
— Зверюга ни в какую.
— Как это?..
— Не спит в углу на коврике — и всё тут! Проснёшься утром, вскочишь с кровати, ногой двинешь в туфлю и — вскрикнешь на всю квартиру.
— Почему это?
— Ёжик в туфле ночевал. Уютно ему, удобно и тепло. А наступишь на него — он иголками ощерится... Ну я его в уголок отнёс, на коврик, и мордочкой потыкал: спи, мол, здесь! Здесь! Здесь! Как будто ясно ему говорю. И что же ты думаешь? Просыпаюсь на следующее утро, спускаю ногу и опять вскрикиваю: спит ёжик в туфле! Что ты скажешь!
Кузьма улыбнулся: ну и ёжик!
— Я опять отнёс его в угол и опять мордочкой в коврик потыкал: спи, мол, здесь! Здесь! Здесь!
— А он?!
— А он — своё! Ночью как-то поднимаюсь и кричу не своим голосом.
Кузьма рассмеялся.
— А у нас гость остался ночевать. Утром меня спрашивает: «Кто это тебя бил? Жена, что ли?»
Кузьма расхохотался.
— Я ёжика снова в угол... Ну что говорить? Утром опять кричу... Надоела мне эта карусель, отнёс я ёжика к Михаилу Карловичу. Этот великий, божественный мастер сделал мне из ёжика чучело. С тех пор я не кричу по утрам и ноги мои не болят от ранок. А ёжик стоит на шкафу и есть-пить не просит.
Кузьма уже не слышал, о чём говорил дядя. Мальчик вынул свою руку из большой, тёплой, совсем не-
давно казавшейся такой доброй руки дяди и посмотрел на него.
— Ты что? — спокойно спросил дядя.
— Отнёс ёжика? Чтобы из него чучело?..
— Ну, а что же делать? Я из-за него ходить не
мог...
— Но как же можно из ёжика чучело?!
— Как, как? Очень просто: молотком или клещами по голове или как там...
Кузьма закрыл глаза: вот так и его Остроносика!
Он нехотя пошёл в цирк, иногда смеялся, но непонятное, неизведанное до сих пор чувство не давало ему покоя. Оно отдаляло его от дяди, заставляло думать... Мальчику не хотелось, чтобы его называли Кузьмой.
Поздно вечером, возвращаясь домой, дядя зашёл в «Гастроном», где продавали вино в разлив, и выпил два стакана портвейна. Он предлагал Кузьме купить конфеты, шоколад — мальчик отказался. Тогда дядя купил гостинцев на свой вкус, вина, и они отправились наконец домой.
Дядя, к счастью для Кузьмы, молчал. Молчал и уставший Кузьма.
В разных видах представлялось ему с поразительной ясностью одно и то же.
...Дядя приносит ёжика Михаилу Карловичу, и этот великий, божественный мастер берёт клещи и, размахнувшись, бьёт ими по маленькой голове ёжика... Или бьёт стамеской... Бьёт молотком... Бьёт зубилом... А потом ещё с тёплого сдирает шкуру..., А дядя стоит и смотрит: теперь у него не будет новых ранок... Но ведь можно было купить для ёжика домашнюю туфлю... Или дать ему старую... Сколько
таких валяется у них дома. Нет, дядя стоит и смотрит, как великий, божественный мастер сдирает с ёжика шкуру... Вот так и его Остроносика!
И Кузьма словно чувствует в своих руках ёжика. Под пальцами мягкое, тёплое брюшко, тонкая кожица, под которой что-то бьётся, стучит трепетно и тревожно. Ёжик ощетинился всеми иглами, ползёт, фыркает. Он отбивается, он не хочет из лесу, он борется. Но он, Кузьма, запускает пальцы обеих рук всё дальше и дальше, смыкает их под ёжиком, сминая траву и листья, и наконец отрывает его от земли. Оглядываясь, не видел ли чего отец, прячет ёжика в корзинку, закрывает его платком, чтобы потом сменить платок на лопух. А ёжик фыркает, торкается в одну сторону, в другую...
Нет, ёжик не хотел из лесу! И это он, Кузьма, силой оторвал его от родной земли, увёз в Москву, чтобы подставить под клещи, молоток, стамеску или зубило какого-нибудь другого великого мастера — делать из живого и тёплого мёртвое и холодное!
У самого дома Кузьма, несмотря на поздний час, встретил Алика. Сегодня Алик купил большие увеличительные стёкла и был полон замыслов и надежд. С помощью этих стёкол он переделает телескоп в ещё более мощный оптический прибор, который позволит ему увидеть чуть ли не бездонные глубины Вселенной, проникнуть в глубь космоса, приблизить его к нам, что под силу только ракете будущего.
Уставший и грустный Кузьма рассеянно слушал приятеля, уже не в состоянии чему-либо радоваться или огорчаться.
Дядя уехал...
Отец дочитывал «Известия», мать смотрела телевизор, бабушка убирала со стола, а Кузьма ещё не
вернулся с улицы. Как ушёл из дому часов в семь, так и не показывался.
Наступил десятый час — Кузьма не возвращался. Отец отложил газету в сторону, провёл рукой по уставшим глазам и спросил:
— Коли нет?
— Нет, — ответила мать. — Нет твоего Коли...
Отец взглянул на жену и ничего не сказал.
Наконец Кузьма вернулся.
Мать на минутку оторвалась от телевизора и сурово проговорила:
— Поешь и немедленно ложись спать. Завтра поговорим.
Бабушка поднялась с постели и принесла в комнату стакан молока, хлеб, котлету.
— Пусть поест на кухне, — сказала бабушке мать. — Разве вы не знаете, что здесь свет зажигать нельзя? — И она недовольно фыркнула.
Отец снова взглянул на жену и снова ничего не сказал.
Бабушка взяла тарелки и стакан и понесла их на кухню. Шла она медленно, а руки у неё дрожали, и от этого дрожал стакан на тарелке: тук, тук, тук — и молоко в нём плескалось.
Кузьма быстро поел и лёг: поскорее с глаз долой. Перекрестившись, сейчас же легла и бабушка на свою постель за ситцевой занавеской.
Сон не приходил к Кузьме. Он вздыхал, ворочался, но какое положение ни принимал — все они оказывались неудобными.
— Ты что, внучек? — спросила бабушка.
Кузьма не отозвался. Он не часто говорил с ней:
о чём?
— Случилось что-нибудь?
— Нет, — отмахнулся Кузьма.
Заснуть он не мог. Бабунжа тоже не спала, он чувствовал это, слышал её неровное дых.пше, слышал, как иногда она шептала какие-то слова.
По телевизору передавали что-то очень весёлое, мать смеялась. Голоса отца не было слышно, он, наверное, не смеялся, а если и смеялся, то тихо. Потом мать стала говорить о каких-то билетах... Новом платье... Отец глухо произносил всего два-три слона, наверное, соглашался. И опять говорила мать.
Прошло полчаса, телевизор выключили. Отец и мать стали ложиться.
Кузьма не спал, бабушка тоже.
— Ты почему не спишь, баб? — спросил Кузьма.
— Старый человек я, внучек... Всегда поздно засыпаю...
— Всегда? — удивился Кузьма. — Каждый день?
— Каждый день... А ты впервой так...
Кузьма помолчал и вдруг сказал:
— Я за ёжиком ходил...
— За каким ёжиком?
Кузьма стал рассказывать об Остроносике, как он его поймал в лесу, как потерял, о дяде, который, оказывается, мог из своего ёжика сделать чучело, и о том, что дядя, наверное, не один такой на свете; о том, как захотелось ему, Кузьме, найти Остроносика, быть может, спасти его от смерти.
Часа два, а то и три ходил он сегодня по городу. Сначала думал ехать на завод «Серп м молот», где работали ветераны труда Иван Петрович и Пётр Петрович, потом увидел «Зоомагазин» и завернул туда. Возле магазина толкались люди, продавали пгиц, рыб в аквариумах, продавали и ежей... Может быть, один из них Остроносик? Может быть, да, а может быть, и нет.
Потом Кузьма шёл по какой-то узкой улице к мет-
ро и увидел в окне дома шкаф. Самый обыкновенный шкаф. На нём стоял глобус. А на каком-нибудь другом шкафу мог стоять Остроносик, вернее, уже не он, а его чучело.
Прошло двенадцать дней с тех пор, мало ли что могло произойти за эти двенадцать дней и двенадцать ночей? Остроносика могли сто раз убить, и стоит он где-нибудь на шкафу, о себе не напоминает, пить-есть не просит...
Кузьма кончил.
— Доброе у тебя сердце, внучек, — сказала бабушка. — Была бы не так плоха — поехали бы мы с тобой разыскивать этих мастеровых... Старый да малый...
— Каких мастеровых? Рабочих?
— Рабочих, рабочих... Ну, спи... Попробуй посчитать до ста или полтысячи...
— А ты, баб?
— И я засну, внучек...
— Когда?
— В час, в два...
— А встанешь?
— А встаю я в шесть...
— В шесть? Каждый день?
— Каждый день, внучек... Каждый божий день..,
— Баб, как же так? Это же к вечеру с ног свалишься?
— Да нет, внучек, не валюсь... Не валюсь...
И бабушка неожиданно замолчала.
А перед Кузьмой вдруг с щемящей ясностью предстало всё. Всё — и «Баб, ужинать!»; и её частые, нетвёрдые шаги, вытянутая рука, словно на случай, если нужно будет опереться о стену; и это отчуждение и неприязнь, проявляемые его матерью в десятках и сотнях мелочей; и молчание отца; и письма, которые
бабушка пишет своей дочери: десять имеем туда, одно — в ответ; и ешё, и ещё...
— Бабушка... — вдруг воскликнул Кузьма. Бабушка!..
— Ты что, внучек?
— Бабушка!..
— Что, что, милый?
Но Кузьма больше ничего не мог сказать. Ничего.
|