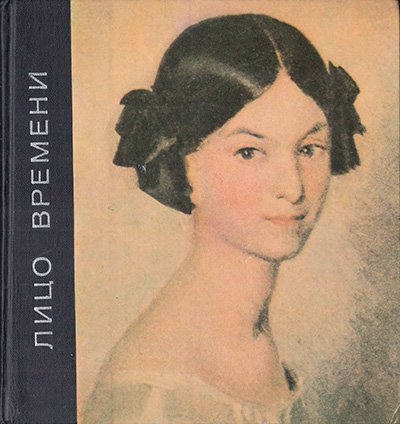|
Сделал и прислал Кайдалов Анатолий.
_____________________
Книга Леонида Волынского «Лицо времени» рассказывает о замечательных русских художниках Крамском, Перове, Саврасове. Репине. Сурикове. Ярошенко, Поленове, Левитане, Серове, об истории создания картин.
ОГЛАВЛЕНИЕ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Памятный день
«Академия трёх знатнейших художеств»
Тяжёлый капкан
«Русской кисти первый день»
Две встречи
ГЛАВА ВТОРАЯ
Коммуна Крамского
Товарищество передвижных выставок
«Грачи прилетели»
Фёдор Васильев
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Могучие и бодрые
Молодость
Вперёд!
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
Дедовы и рябинииы Зрелые годы Суриков
«Боярыня Морозова»
ГЛАВА ПЯТАЯ
Из любви к искусству
Лицо времени
Крамской
Русские жеищины
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Поэзия света
От сердца к сердцу
Продолжение рода
Отрадное
Талант и труд
«Я хочу, хочу отрадного...» Послесловие Т. Головановой
Академия есть вещь прошедшего столетия, её основали уставшие изобретать итальянцы. Они хотели воздвигнуть опять художество на степень высокую, но не создали ни одного гения о сю пору.
Александр Иванов
ГЛАВА ПЕРВАЯ
ПАМЯТНЫЙ ДЕНЬ
Когда накануне столетия императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге четырнадцать учениковЯ взбунтовались, отказавшись участвовать в конкурсе на большую золотую медаль, вице-президент академии князь Гагарин попросил начальника Третьего отделения собственной Его Величества канцелярии князя Долгорукова сделать так, чтобы в газетах и журналах ничего не писали об этом.
Князь Долгоруков охотно выполнил просьбу. Ни строчки, ни слова о неслыханном происшествии не просочилось тогда на страницы газет и журналов, и долго ещё бдительные цензоры беспощадно вымарывали отовсюду любое упоминание о неприятном событии.
Но утаить случившееся, разумеется, не удалось, и недалеко было время, когда день 9 ноября 1863 года стал памятным днём для всех, кто знает и по-настоящему любит русскую живопись.
С этого дня я и начну рассказ о художниках и картинах, входящих в нашу жизнь вместе с первыми строфами Пушкина и Некрасова, вместе с образами Гоголя, Тургенева, Толстого, со всем тем, что с годами накрепко сливается в одном слове — Родина.
* * *
Четырнадцать учеников академии приглашены были на утро 9 ноября в правление, чтобы выслушать программу конкурса на большую золотую медаль.
Это были люди в цветущем возрасте двадцати трёх — двадцати шести лет, лучшие из лучших. Каждый из них получил за годы учения две серебряные медали и малую золотую.
Но теперь, в эти торжественные минуты, они выглядели озабоченными и усталыми. Некоторые, казалось, не спали всю ночь (как выяснилось впоследствии, так оно и было).
Одетые в поношенные, но вычищенные накануне и тщательно наглаженные сюртуки, они стояли в молчании перед высокой и тяжёлой дверью конференц-зала, ожидая вызова.
Наконец дверь распахнулась. В глубине, за длинным овальным столом, крытым тёмно-зелёной суконной скатертью, мерцали золотом и серебром орденские звёзды сановитых членов совета академии.
Ученики вошли один за другим, здороваясь, и молча остановились в правом углу зала.
Князь Григорий Григорьевич Гагарин, генерал и вице-президент академии, блестящий рисовальщик и акварелист, любитель и знаток византийских икон и византийского орнамента, поднялся с бумагою в руке и стал читать:
— «Совет императорской Академии художеств к предстоящему в будущем году столетию академии для конкурса на большую золотую медаль по исторической живописи избрал сюжет из скандинавских саг: «Пир в Валгалле». На троне бог Один, окружённый богами и героями, на плечах у него два ворона. В небесах, сквозь арки дворца Валгаллы, видна луна, за которой гонятся волки...»
Он читал всё это басовитым рокочущим голосом, держа в одной руке на весу бумагу, а другой перебирая серебряные наконечники аксельбантов на груди. Толстые генеральские эполеты покойно лежали на его плечах.
Ученики хмуро слушали. Наконец чтение кончилось. Опустив бумагу, князь Гагарин произнёс, отечески глядя на стоящих в углу:
— Как велика и богата даваемая вам тема, насколько она позволяет человеку с талантом выказать себя в ней и, наконец, какие и где взять материалы, объяснит вам наш уважаемый ректор Фёдор Антонович Бруни.
Сидевший справа от президента благообразный старик, четверть века назад прославившийся картиной своей «Медный змий», тихо поднялся, украшенный, как и многие другие члены совета, нагрудной муаровой лентой и орденскими звёздами. Сохраняя на лице выражение значительной задумчивости, он направился неслышными шагами в сторону учеников, стоявших в угрюмом молчании, — и тут произошло нечто небывалое.
Один из четырнадцати, худощавый и бледный, с негустой бородкой и глубоко посаженными пристальными глазами на скуластом лице, вдруг отделился и вышел вперёд навстречу ректору.
Бруни остановился в недоумении. Мундиры, ленты и звёзды за овальным столом шевельнулись и замерли.
— Просим позволения сказать перед советом несколько слов, — произнёс глухим от волнения голосом вышедший вперёд. — Мы подавали дважды прошение, но совет не нашёл возможным выполнить нашу просьбу... Не считая себя вправе больше настаивать и не смея думать об изменении академических постановлений, просим освободить нас от участия в конкурсе и выдать нам дипломы на звание свободных художников.
Сделалось очень тихо. Косматая голова пятидесятилетнего Пименова, профессора скульптуры, которому Пушкин посвятил когда-то экспромт «На статую играющего в бабки», откинулась и замерла в удивлении.
В тишине из-за стола послышалось недоверчиво-изумлённое:
— Всё?
— Всё, — ответил вышедший вперёд.
Поклонясь, он решительно направился к двери. За ним двинулись остальные.
— Прекрасно, прекрасно! — прозвучал им вслед насмешливый голос Пименова.
Выйдя из конференц-зала в канцелярию, каждый подходил к столу делопроизводителя и вынимал из кармана сюртука сложенное вчетверо прошение.
Тексты всех прошений были одинаковы: «По домашним обстоятельствам не могу продолжать учение...» Подписи же стояли разные: Корзухин, Шустов, Морозов, Литовченко, К. Маковский, Журавлёв, Дмитриев-Оренбургский, Веннг, Аемох, Григорьев, Песков, Петров.
Прошение говорившего от имени всех перед советом было подписано: И. Н. Крамской.
Тем временем в конференц-зале разыгралась пренеприятная сцена.
Один из четырнадцати «бунтовщиков», по фамилии Заболотский, не вышел, остался в зале, как бы желая сделаться свидетелем наступившего там замешательства. Он стоял в углу, щуплый и темноволосый, на лице его блуждала растерянная полуулыбка.
— А вам чего угодно, сударь? — спросил, едва сдерживая раздражение, князь Гагарин, продолжавший столбом выситься на своём председательском месте.
— Я... я желаю конкурировать, — через силу выжал из себя Заболотский.
Князь Гагарин усмехнулся.
— Разве вам не известно, милостивый государь, — сказал он едконасмешливо, — что конкурс из одного участвующего состояться не может? Благоволите подождать до следующего года.
Заболотский вышел, униженно кланяясь и унося на лице застывшую улыбку.
Через год он всё же участвовал в конкурсе, провалился и затем исчез бесследно, разделив незавидную долю, уготованную людям нетвёрдых убеждений.
Между тем к тринадцати положенным на стол делопроизводителя заявлениям прибавилось четырнадцатое: молодой скульптор Крейтан, также назначенный конкурировать на большую золотую медаль, в последнюю минуту решил примкнуть к своим товарищам-живописцам.
«Когда все прошения были уже отданы, — вспоминал спустя четверть века Крамской,- — мы вышли из правления, затем из стен академии, и я почувствовал себя наконец на этой страшной свободе, к которой мы так жадно стремились».
«АКАДЕМИЯ ТРЁХ ЗНАТНЕЙШИХ ХУДОЖЕСТВ»
Чтобы как следует понять причины случившегося, надо ясно представить себе, чем была в те годы императорская Академия художеств. Надо окинуть взглядом столетие, прошедшее со дня её основания. Надо заглянуть и в более отдалённые времена.
Допетровская Россия не знала «светской» живописи. Долгая ночь татарского ига, княжеские междоусобицы и удельные распри — всё это намного задерживало развитие страны и наложило глубокий отпечаток на духовную жизнь народа. Вышло так. что в лихие годины нашествий, неволи и внутренних раздоров одна лишь вера, религия оставалась общей, единой для всех, потому-то церковь и стала главной опорой нарождающегося Московского государства. Потому так всеобъемлюща и всесильна была власть церкви над душами людскими. Под этой властью принуждено было жить искусство, ей и только ей обязано было служить.
Сумрак средневековья долго не рассеивался над российскими просторами. Средневековой по духу, по отрешённости от всего земного оставалась долго и русская живопись.
В то время, когда Европа имела за собой три века Возрождения — Джотто, Леонардо, Рафаэля и Микеланджело, в то время, когда умер уже Тициан, а слава Веласкеса и Рубенса поднималась превыше королевской славы, — в это самое время на Руси безвестные «царские иконописцы» продолжали украшать храмы и боярские терема темноликими и суровыми образами «нерукотворного спаса», «житиями» и «благовещениями», строго держась освящённых обычаем образцов.
Правда, были среди древних этих образцов и такие, как «Троица» Андрея Рублёва, написанная для собора Тронце-Сергиевской лавры ещё в начале XV века, но и сегодня изумляющая людей певучей плавностью линий, умиротворённостью, добротой и редкостной прелестью цвета.
Лазурно-золотые краски её — краски неба и спелых полей — как бы источают радостное тепло, а три изображённых на ней ангела кажутся вовсе не ангелами, а мирно беседующими юношами, живущими в дружбе и добром согласии.
Нельзя налюбоваться этой драгоценной картиной, ставящей имя Рублёва в один ряд с именами предвестника Возрождения Джотто и гениального юноши-флорентийца Мазаччо.
При всей исключительности природного дарования Андрей Рублёв не был гением-одиночкой; он возвышался лишь как самый высокий колос в щедром снопе народных талантов. Даже под византийски суровым надзором церкви, даже в бесплотных образах священного писания лучшие русские мастера умели выразить своё понимание прекрасного. И недаром теперь мы восхищаемся жарко горящей киноварью, смуглым золотом, чистой лазурью, чувством строгой гармонии и певучими линиями древней русской иконописи.
Всё это было как бы запевом ещё не прозвучавшей народной песни, залогом будущего, свидетельством художественной одарённости народа.
Но самородкам, подобным монаху Рублёву, московскому мирянину Дионисию или Симону Ушакову, приходилось туго. Русская церковь настойчиво требовала изгонять из духовной живописи всё земное. В XVII веке (веке Рембрандта, Рубенса, Веласкеса!) на Руси грозили анафемой тем, кто осмеливался писать иконы «по плотскому умыслу». Чем дальше, тем больше хирела иконопись, становясь уделом безымянных мастеров — «богомазов», различавшихся лишь по «школам письма»; суздальской, владимирской, строгановской и другим.
Время, однако, выдвигало новые требования. Наряду с упадком церковной живописи нарождалось искусство портрета, называвшегося при царе Алексее Михайловиче «парсуной». Правда, в первых русских парсунах ещё очень сильно влияние иконы с её бесплотной, застылой неподвижностью; как ни тщательно выписаны в них одежды, лица остаются безжизиенно-плоскими. Но уже при Петре вместе с решительной ломкой старого, вместе с глубокой перестройкой всей русской жизни появляются действительно талантливые и умелые портретисты — Андрей Матвеев, Иван Никитин.
Оба они были обучены за границей (один в Голландии, другой в Италии). Но Пётр, охотно посылавший даровитых юношей за границу, понимал необходимость создания своей, русской школы. Отправляя Ивана Никитина в Италию, он писал жене своей Екатерине в Данциг, чтобы та поручила молодому художнику написать в Европе побольше портретов, «дабы знали, что есть и из нашего народа добрые мастеры».
Именно у Петра возникла впервые мысль об устройстве Академии художеств в России по образцу академий, давно уже существовавших в Европе.
Но этот свой замысел он так и не успел осуществить, и ещё много лет после его смерти — в тёмные времена бироновщины и позднее — к русскому
двору приглашались щедро оплачиваемые итальянцы, французы, немцы, австрийцы, и для украшения дворцов и петербургских парков привозились статуи из Венеции и Рима.
«Добрый мастер» Никитин, любимец Петра, был сослан взбалмошной и жестокой императрицей Анной в Сибирь. А портретист Каравакк, приглашённый из Франции, живописец несомненно умелый, но малодаровитый, задавал всему тон и наделён был правом судить, что хорошо, а что плохо.
Но даже и в те времена засилья заезжих знаменитостей русский талант пробивался наружу. Крепостной Иван Аргунов, отданный в обучение итальянцу Ротари, стал умелым портретистом, а впоследствии сам обучил Антона Лосенко, первого нашего исторического живописца. Отец русской науки и русской литературы Ломоносов создал в те годы школу художников-мозаичистов. А с основанием Московского университета возникла мысль об открытии здесь художественного отделения.
Но профессора, выписанные для этой цели из Парижа, не пожелали жить в Москве, вдали от императорского двора и высшей знати, на широко известные щедроты которой они и рассчитывали, отправляясь в Россию.
И вот в 1757 году состоялся указ правительствующего сената, которым было повелено «Академию художеств здесь, в Санкт-Петербурге, учредить...».
Душою нового учреждения и первым президентом стал елизаветинский просвещённый вельможа, любитель искусств Иван Иванович Шувалов, а первыми профессорами — французы Деламот, Лагрене и Жилле.
* * *
Итак, «три знатнейших художества» — архитектура, скульптура, живопись...
Первое — для сооружения дворцов и соборов, на манер итальянских и французских. Второе и третье - — для украшения их статуями, бюстами, картинами и портретами.
Таков был, по меткому определению В. В. Стасова, «придворно-иностранный» период развития русского искусства. Придворный — по самой сущности требований, какие императорский двор ставил перед художниками. Иностранный — по установленной раз и навсегда системе обучения, строго
державшейся правил, выработанных ещё в XVI веке, когда в Италии была основана первая в мире академия.
По уставу, «дарованному» Екатериной II, в императорскую Академию художеств зачислялись на казённый кошт мальчики в возрасте от восьми до двенадцати лет. Набранные из разных сословий, они поселялись при академии, где жили в больших общих залах-дортуарах под надзором гувернёров, инспекторов и учителей. Все они должны были с утра до вечера заниматься рисованием, архитектурой, скульптурой, музыкой и науками, а если кто-либо не выказывал достаточных способностей к этим занятиям, то таких заставляли обучаться ювелирному делу или другому «изящному» ремеслу (среди которых, к слову, числилось и ремесло часовщика).
Ученики разделялись на три возраста — 1-й, 2-й и 3-й. Учась, они получали за живопись, скульптуру и архитектуру медали; прежде всего серебряные (малую и большую) — за рисунки, этюды, эскизы, а затем и золотые — за картины, проекты, скульптуры, задаваемые по конкурсу. Получившие большую золотую медаль отсылались на счёт казны за границу пенсионерами — на шесть лет. Отличившихся дальнейшими успехами академия награждала званием академика и профессора.
Вот в общих чертах екатерининский устав. Чего же стоили выбитые по велению императрицы над главным входом академии слова: «Свободным художествам»?
ТЯЖЁЛЫЙ КАПКАН
Попытайтесь вообразить себя на месте десяти-двенадцатилетнего мальчика, привезённого из дедовской Москвы или откуда-нибудь из украинских степей в императорский Санкт-Петербург и помещённого на казённый кошт в академию. Здесь, в этих стенах, вам предстоит прожить семь-восемь лет1.
1 Вскоре после создания академии (при Бецком, сменившем Шувалова) здесь было открыто Воспитательное училище, куда набирали детей пятилетнего возраста. В 1830 году минимальный возраст для приёма в академию был повышен до 14 лет. В 1840 году Воспитательное училище закрыли, и в академию стали принимать восемнадцатилетннх. Таким образом, с течением времени срок пребывания в академии менялся в сторону уменьшения (от 15 до 6 — 7 лет), а возраст оканчивающих увеличивался.
Встав рано утром, помолившись вместе с другими и позавтракав за общим столом, вы отправляетесь в рисовальный класс. Здесь вы будете под бдительным оком учителей копировать «оригиналы», — проще говоря, гравюры с прославленных картин (или же подлинные рисунки иностранных и русских художников).
Рафаэль, Микеланджело, Гвидо Рени, Рубенс... Вы приучитесь трепетать перед этими именами, ещё не уразумев глубоких различий между ними. А когда ваш карандаш покорится руке, когда вы обучитесь самым точным образом повторять то, что дорогой ценой завоёвано другими, вас переведут в «головной» класс.
Здесь вы будете рисовать с гипсов — так именуются слепки с античных скульптур. Долго и прилежно станете вы оттушёвывать тонко заточенным карандашом головы Аполлона Бельведерского, Венеры Милосской, старика Лаокоона, их идеальные носы и уши (а затем и торсы), и когда наконец вас переведут в натурный класс, то какой же некрасивой и несовершенной покажется вам фигура натурщика Ивана или Тараса, взятого в академию за хорошее телосложение, но всё же никак не выдерживающего сравнения с Аполлоном!
Но не робейте. Мудрые профессора объяснят вам, что некрасивую натуру надо поправлять, что именно в этом и состоит высокое назначение искусства и что для этого-то вас и отдали на выучку к великим мастерам древности, потому что истинное, величественное и прекрасное — лишь там, а всё рассеянное вокруг нас ничтожно и несовершенно.
Об этом вам будут твердить ежечасно в классах, мастерских и в аудиториях, и вы постигнете понемногу заманчивую премудрость академических правил, раз и навсегда сочинённых в Болонье, призывавших «сочетать в одном произведении живописи чарующую прелесть Корреджо с энергией Микеланджело, строгость линий Веронезе — с идеальной нежностью Рафаэля»... Вас будут учить истории и мифологии, анатомии и перспективе, а также законам классической композиции, и когда наконец вам позволят взяться за первый ваш самостоятельный эскиз, то вы отлично будете знать, что можно, а чего нельзя.
Вы будете зиать, как величавы должны быть позы и жесты ваших героев, как лучше расположить их (ни в коем случае ие спиной, а главных героев непременно лицом к зрителю, но не в профиль!). Вы будете зиать, как должны ниспадать складки драпировок (не одежды, а именно драпировок, потому что зададут вам ие какую-нибудь низменную тему, а что-нибудь вроде «Прощания Гектора с Андромахой» или «Принятия Нептуна в сонм планет»).
Вы будете, наконец, уметь накладывать краски так неторопливо и постепенно, чтобы картина ваша, когда вы её окончите, была блестящей и гладкой, без малейшего следа вашей кисти, будто создана оиа не земным существом, а самим богом живописи...
Но вот и окончились годы учения. Они не прошли для вас впустую. Из робкого несмышлёныша вы превратились в умелого мастера. Вы знаете наперечёт все картины из академического музея. Речь ваша стала свободной и плавной, а рука твёрдой. В академическом хоре вы поёте уже ие мальчишеским дискантом, а ломким баском.
Вы по-прежнему бедны, но из последних деньжат покупаете широкополую шляпу и чёрную иакидку, которую можно было бы носить как плащ, закинув через плечо. Вы полны самых дерзких надежд на будущее. Каково же оно?
Если вы проявили должное усердие и способности, а также готовность следовать наставлениям учителей, если вам присуждены были в своё время две серебряные медали за рисунки, а затем и малая золотая за самостоятельную композицию, то вам, счастливцу, дозволено теперь конкурировать на большую золотую медаль.
Холодея от волнения, вы входите в назначенный час вместе с другими счастливцами в конференц-зал, где за крытым тяжёлой суконной скатертью столом сидят украшенные орденами вершители ваших судеб — ваши учителя, всесильный совет академии.
Вице-президент, поднявшись, торжественно читает программу — одну для всех, что-нибудь из древней истории или из священного писания; затем ректор наставительно растолковывает заданное, а затем... затем вас запрут иа сутки одного в мастерской, наедине с мольбертом, холстом, красками и с вашей библейской или древнегреческой темой.
Ровно через двадцать четыре часа вы должны выйти оттуда, иеся в руках пахнущий свежей краской эскиз, от которого отступить уже нельзя будет ни на полшага.
Но что ж тут такого — за минувшие годы вы достаточно поднаторели в «Битвах Самсона с филистимлянами», «Прощаниях Гектора» и «Притчах о виноградаре». Беритесь за кисть смелее, делайте, как учили вас, строго держась «законов прекрасного», и тогда, быть может, судьба улыбнётся: вам присудят большую золотую медаль и пошлют на шесть лет в Италию.
Там вы на первых порах будете жить, как в несбыточном сне. То, о чём столько раз толковал вам профессор «теории изящного» и что казалось чем-то недостижимо далёким, окажется вдруг рядом с вами, запросто войдёт в вашу жизнь.
Ватиканские лоджии, вилла Фарнезина с фресками Рафаэля, могучий Микеланджело в Сикстинской капелле, собор святого Петра, базилика Сан-Лоренцо... На первых порах вы будете как бы пьяны от счастья видеть всё это, дышать этим воздухом
Но если вы наделены чувством и разумом, то вскоре опьянение прекрасным пройдёт, и в душу вашу закрадутся сомнения.
Сидя с мольбертом в какой-нибудь из галерей Рима, Флоренции или Венеции, срисовывая античную статую, прилежно копируя Вероиезе или Тинторетто, стараясь разгадать тайну тициановской солнечности, вы вдруг поймаете себя на мысли о том, что всё это не ваше, чужое; что и выглядит-то оно здесь вовсе не так, как в залах петербургского Эрмитажа; что смуглозолотистая живопись Тициана подобна просвеченной насквозь грозди винограда, вызревшей под солнцем Италии и напитавшейся соками родной земли; что головы тинтореттовских сенаторов, корреджиевских пастухов и даже рафаэлевских мадонн вовсе не сочинены по каким-то законам «идеально прекрасного» — вот они, вокруг вас, на площадях и улицах, на рынках и в тратториях. Вы узнаете в них лицо Италии.
Вам захочется понять это лицо и запечатлеть его. Где-нибудь иа берегу Неаполитанского залива или на флорентийской улочке вы наймёте смуглокожего паренька или волоокую «чочару» и при регулярном отчёте, посылаемом в академию (без этого не вышлют пенсии!), пошлёте «Неаполитанского мальчика» или «Девушку с виноградной гроздью», написанных вами.
Но этого мало. Вы должны вернуться с чем-то таким, что принесло бы вам славу, звание академика, а может быть, и место профессора. Вы принимаетесь за «историческую» картину.
И опять вас одолевают сомнения. Вы кое-что увидели и поняли здесь, академические «законы прекрасного» теперь уже не кажутся вам такими бесспорными. Вы начинаете сознавать, что художник не может смотреть на мир чужими глазами.
Под лазоревыми южными небесами вы всё чаще станете вспоминать неяркое иебо родины. Быть может, в такие минуты вам захочется перенестись подальше от лимонных рощ, волооких красавиц и античных героев вашей картины.
Но вы вспомните судьбу сотоварища вашего Ивана Ерменева, тянувшегося к русской правде, рисовавшего задавленных нуждою стариков, старух и крестьянских детей и мечтавшего, подобно Радищеву, раскрыть перед людьми картину тяжкой народной доли.
Вы вспомните, чем окончилось всё это. Сперва — - многозначительная пометка в академическом аттестате: «не удостоившемуся поведением...», затем — нищета, забвение, смерть на чужбине.
Нет, не так-то просто высвободиться из тяжёлого капкана. Академия обучила вас, вывела в люди, она же и наделена правом направлять каждый шаг ваш и судить, достойны ли вы оказанных вам благодеяний.
* * *
Ещё одна чёрточка, чтобы дорисовать картину. При величественном здании академии был внутренний сад с искусственными скалами и живописными гротами, выложенными из дикого камня, чтобы ученики «ведут-ного» класса (от итальянского слова «ведута» — пейзаж, вид) могли упражняться здесь в сочинении «идеальных» ландшафтов.
Мудрено ли, что даже такой блистательный талант, как Сильвестр Щедрин, написавший множество пейзажей Италии, почти не оставил нам картин родной природы?
Мудрено ли, что Орест Кипренский, гордость нарождающейся русской живописи, угас под римским небом, как угасает пламя, залитое водой?
О нём и о других питомцах академии, вопреки всему принёсших славу родному искусству, скажем несколько слов, прежде чем вернуться к тому, с чего начался наш рассказ.
«РУССКОЙ КИСТИ ПЕРВЫЙ ДЕНЬ»
Анатолий Демидов, сын русского посла во Флоренции, прогуливался однажды в окрестностях Неаполя с пенсионером Академии художеств Карлом Брюлловым.
Только что они побывали в развалинах Помпей.
Вид улиц мёртвого города, похороненного под пеплом, отпечатки тел врасплох застигнутых смертью людей, сохранившиеся дома с пережившей семнадцать веков утварью, — всё это будоражило воображение Брюллова.
И он рассказал своему спутнику о возникшем под впечатлением увиденного замысле будущей картины.
Молодой Демидов владел не менее пылким воображением, но, кроме того, ещё и деньгами. Он был младшим в знаменитом и неслыханно богатом роду уральских горнозаводчиков, всегда отличавшихся размахом и широтой натуры. Выслушав Брюллова, он тут же стал заказывать ему картину.
Биография Анатолия Демидова едва ли не причудливейшая из всех, какие я знаю. Спустя двенадцать лет он женился на племяннице Наполеона, принцессе Матильде, а затем купил, как говорится, «иа корию» маленькое княжество Сан-Донато близ Флоренции, содержал там собственную гвардию числом шесть тысяч человек и титуловался «киязем Сан-Донато», чем, вероятно, исполнил заветную мечту рода, ведшего начало от тульского оружейника петровских времён.
Можно было бы многое порассказать об этом занятнейшем человеке, внёсшем полмиллиоиа рублей иа основание крупнейшей в стране богадельни («Демидовский дом призрения трудящихся» в Петербурге) и публиковавшем обширные статьи о России во французском еженедельнике «Журналь де Деба».
Но вернёмся-ка лучше в окрестности Неаполя, где семнадцатилетний Демидов прогуливался с Брюлловым.
В то время Карлу Брюллову исполнилось двадцать девять лет. Он был небольшого роста, белокурый и белолицый, изящный, как девушка, и чуть тугой на ухо от сильной пощёчины, полученной в детстве.
Происходил он из даровитой протестантской семьи, покинувшей Францию, спасаясь от религиозных гонений. Прадед его Георг Брюлло был приглашён в Россию лепщиком на императорский фарфоровый завод, а отец стал известным в столице мастером художественной резьбы и «миниатюрной живописи», а затем и академиком. Он-то и был первым учителем сына.
В детстве Брюллов много болел. Золотуха на восемь лет уложила его в постель, и единственным развлечением его стала грифельная доска, на которой он рисовал.
Развлечение, однако, постепенно становилось делом под требовательным надзором отца.
Академик Брюлло был учителем старых правил и наставления свои нередко подкреплял пощёчинами, одна из которых и сделала Карла тугоухим.
Долгая болезнь навсегда оставила отпечаток на внешности Брюллова. Она заострила его воображение (лёжа долго в четырёх стенах, поневоле станешь мечтать), оиа же и помогла ему овладеть в таком совершенстве искусством рисунка.
Брюллов рисовал с неописуемой лёгкостью; выражать свои мысли с помощью рисования было для него так же естественно, как для нас с вами говорить.
Десяти лет он был отдан в академию, где изумлял всех своими успехами. Первый его самостоятельный рисунок — «Гений искусства» — был оставлен в классе как «оригинал» для копирования (изображённая на этом рисунке фигура была впоследствии воспроизведена на академической ме-18 дали).
Картину, принёсшую ему малую золотую медаль, — «Нарцисс» — можно увидеть теперь в Ленинграде, в Государственном Русском музее.
Стоит вглядеться в эту картину, чтобы понять характер Брюллова. Лицу юноши из древнего мифа, влюбившегося в собственное отражение, художник придал черты своего лица.
Быть может, эта чистая влюблённость в себя, в своё искусство, в своё волшебное мастерство и сделала Брюллова таким, каким мы знаем его теперь.
Окончив академию (где провёл десять лет) и получив большую золотую медаль за конкурсную программу «Явление Аврааму трёх ангелов», Брюллов был послан за границу.
Именно тогда царь Александр I и прибавил к фамилии молодого художника последнюю букву, чтобы придать ей русское звучание. Русские цари, в чьих жилах прибавлялось всё больше немецкой крови, очень заботились о подобных вещах.
Здесь, в Италии, Брюллов делал то, что и следовало делать академическому пенсионеру: жил в «царстве прекрасного», копировал Рафаэля, писал1.
1 Тогда же он и написал превосходные копни, хранящиеся теперь в рафаэлевском зале Академии художеств.
В то время как в России занималась заря свободомыслия и на тайных собраниях будущие декабристы клялись сделать всё для свержения тирании, он писал «Итальянское утро», наслаждаясь игрой солнечных пятен, отражённых водой, озаряющих смуглое лицо римской девушки у фонтана.
А спустя пять лет, когда отгремели уже залпы на Сенатской площади, а пушкинское «Послание Чаадаеву» стало гимном всех, кто не оставил мысли о борьбе за свободу, Брюллов написал «Итальянский полдень».
Но даже и эта необычайно популярная впоследствии картина-портрет, изображавшая пышнотелую изнеженную смуглянку с гроздью винограда, вызвала тогда в Петербурге некоторое неудовольствие.
Брюллова письменно упрекнули в том, что он выбрал модель, не отвечающую академическим идеалам прекрасного, а художник, защищаясь, настаивал на своём праве «иногда отступать от условной красоты форм».
Быть может, теперь и покажется смешным этот спор. Но в то время даже такая картина, при всём блеске живописи заключавшая в себе немало сладкой красивости, казалась недопустимым нарушением академических правил.
В сущности, так оио и было. Оставаясь верным «идеально прекрасному», художник хотел бы найти это идеально прекрасное не в академических законах и правилах, а в жизни. Он искал (по собственным его словам) «разнообразия в тех формах натуры, которые нам чаще встречаются и нередко более даже нравятся, нежели строгая красота статуи». Такой подход был сам по себе большим шагом вперёд.
Новым и неприятным в академии было и то, что Брюллов писал первые свои итальянские картины целиком с натуры, выйдя из стен мастерской на вольный воздух, иа улицы и площади, в сады и виноградники, согретые солнцем.
Но главным вскоре стало другое.
Тема беззаботного наслаждения светом, здоровьем, красотой сменилась вскоре иной, трагической темой, отвечавшей властному велению времени.
Умственное брожение, вызванное событиями 1825 года в России, не могло не коснуться Брюллова — даже под итальянскими небесами. Грозные зарницы полыхали в те годы повсюду. Вскоре гром революции прокатился над Францией. Европа жила предчувствием великих общественных потрясений.
Брюллов дышал воздухом своего бурного и тревожного времени, всё это неминуемо должно было — пусть косвенно — отразиться в том, что делал тогда этот тонко чувствующий художник.
В знаменитой его картине «Последний день Помпеи» многие склонны были видеть отблеск грозной трагедии 14 декабря, а рушащиеся с высоких подножий статуи воспринимали как намёк на неминуемое свержение тиранов. Тогда принято было выражаться аллегориями, и люди умели понимать их.
Кто знает, таков ли действительно был замысел художника? Во времена Бенкендорфа рискованно было говорить лишнее, а тем более доверяться письмам.
Но так или иначе, трагическая тема картины, её бурная атмосфера, её человечность не могли не найти отклика в сердцах зрителей. Сама мысль её, как выразился Гоголь, принадлежала вкусу века, «выбирающего сильные кризисы, чувствуемые целою массою»...
Огромное, содержавшее свыше тридцати человеческих фигур полотно было написано как бы единым дыханием — менее чем за год1.
Выставленная в Риме картина сразу же -покорила всех. Русское посольство перевезло её в Милан, затем в Париж, и повсюду «Последний день Помпеи» вызывал всеобщий восторг уверенной смелостью рисунка, драматизмом, живостью изображения человеческих чувств, сочностью красок, а главное — каким-то особенно волнующим противопоставлением красоты человека слепой жестокости разрушения.
1 Со времени описанной встречи Брюллова с Демидовым прошло около пяти лет. Задумав картину в Неаполе, Брюллов долго готовился — писал этюды, продумывал композицию, и нетерпеливый Демидов отказался уже было от заказа.
Когда наконец картину доставили в Петербург, то здесь её ожидал триумф.
Сам Брюллов, однако, не спешил возвращаться на родину, хотя срок его пенсионерства давно истёк. Быть может, толкование, какое давали картине в России, так явно выраженное Гоголем, написавшим восторженную статью о «Последнем дне Помпеи», внушало Брюллову опасения: не очень-то безопасно было прослыть вольнодумцем в глазах Николая...
Не торопясь — через Грецию и Турцию, подолгу задерживаясь в Афинах и Константинополе, — - возвращался Брюллов.
Москва встретила его, как встречают героя. Опальный Пушкин, познакомившийся с ним здесь, восторгался его рисунками.
Баратынский на одном из обедов, данных в его честь, произнёс известный экспромт:
Принёс ты мирные трофеи
С собой в отеческую сень.
И стал «Последний день Помпеи»
Для русской кисти первый день.
В этих словах было много искреннего чувства, но недостаточно справедливости.
Конечно, русским людям, преодолевшим испытания Отечественной войны, возмужавшим вместе с Пушкиным и Рылеевым, чужда была уже медлительно-пышная величавость минувшего века, так верно запечатлённая екатерининскими живописцами.
Но, думая о «первом дне русской кисти», прежде всего вспоминаешь именно их — Аргунова, Антропова и особенно Рокотова и Левицкого, художников необыкновенно тонких и проникновенных.
Если вы не знакомы с их портретами, советую при первой возможности познакомиться поближе. Они покорят вас фарфоровой нежностью красок, свежестью, чистотой, богатством оттенков и редкостной живостью лиц с влажно лучащимися глазами и дремлющей в углах губ тенью покойной улыбки. Не так уж много подобных найдёте вы в музеях и картинных галереях мира.
* * *
В те дни, когда озарённый славой Брюллов возвращался в Петербург, в далёком Риме завершалась одна из многих трагедий, какими так богата история русской, да и не только русской, живописи.
Там умирал Орест Кипренский.
Незаконнорождённый сын помещика и крепостной крестьянки, получивший «вольную» при поступлении в академию (а вместе с «вольной» и придуманную фамилию), он готовился стать «историческим живописцем» и, вероятно, стал бы им, если бы по окончании курса уехал, как и полагалось, в Италию. Но вышло так, что поездки пенсионеров были на время отложены из-за наполеоновских войн, бушевавших в Европе. И художник остался на родной земле.
Оставив историческую живопись, намертво скованную академическими условностями, он принялся за портреты.
Достаточно взглянуть на автопортрет, написанный Кипренским в те ранние годы, чтобы почувствовать, каким талантом обогатилась Россия. Открытый и смелый взгляд, высокий лоб озарён летучим светом, вьющиеся волосы шевелит ветер... То было дыхание века, нуждавшегося в своих, невыдуманных героях.
Взгляните на портрет Дениса Давыдова, написанный вскоре, когда Кипренский, покинув сановный Санкт-Петербург, приехал в Москву. Кто мог предвидеть, что всего через три с лишним года этот гусарский офицер и поэт станет навсегда славным вожаком партизан Отечественной войны! Но разве не выражено это с пророческой силой в портрете — во всей крепкой фигуре Давыдова, в его дерзком взгляде, в лежащей на эфесе гусарской сабли сильной руке?
Когда началась война, Кипренский взялся за карандаш — на полевом бивуаке не расположишься с мольбертом. Его портреты-наброски, сделанные в то время, куда больше говорят о чести и долге, о суровой правде войны, чем иные генеральские портреты, написанные придворным живописцем Джорджем Доу по царскому заказу для галереи героев 1812 года в Зимнем дворце.
Быть может, из военных портретов Кипренского возникла бы впоследствии действительно историческая картина, свободная от академической фальши. Быть может, наброски в его альбомах — московский работный люд, бурлаки, крестьянские дети — были ступенькой к новому, ещё не родившемуся в России искусству. Но судьбе угодно было распорядиться иначе. В 1817 году возобновились заграничные поездки пенсионеров, и одним из первых был послан в Италию Орест Кипренский.
Вскоре он прислал оттуда картину «Итальянский садовник», восхитившую всех красотой и эмалевой яркостью живописи. Никто, однако, не понимал в то время, что это было начало гибели одного из величайших русских живописцев. К чему, в самом деле, мог быть приложен в Италии зрелый талант художника, чему могло служить здесь его мастерство?
Без малого шесть лет — цветущую пору жизии — он отдал чужеземным картинкам. Что было ему, в конечном счёте, до всех этих мальчиков и девочек, садовников и красавиц? С какой жадностью писал он, когда удавалось, портреты русских людей, встреченных в Риме! Но это случалось не часто, и талант Кипренского увядал.
Сорокалетним он вернулся на родину. Казалось бы, всё могло пойти на лад. Но каково было тогда в России честному художнику, можно ясно понять из письма, написанного Кипренским скульптору Гальбергу, пенсионеру академии, с которым он подружился в Риме.
«Как вы счастливы, что пьёте из Тревия1, — писал ему из Петербурга Кипренский. — ...Бойтесь невской воды — вредна для мрамора...»
1 Мраморный фонтан Треви в Риме, с чистой питьевой водой.
Люди в то время умели читать между строк, и Гальберг, надо думать, понял намёк о «вредности невской воды» для мрамора — то есть для искусства.
Письмо отослано было за месяц до восстания декабристов.
...Прогремели залпы на Сенатской площади. Под ледяную дробь барабанов погибли на виселице храбрейшие. Других поглотила Сибирь. Учреждено было Третье отделение собственной Его Величества канцелярии. Страх тяжко навис над Россией. Рим казался отсюда раем.
Кипренский писал портреты — это было всего безопаснее. Иногда и тут удавалось сказать правдивое и смелое слово. Так было с портретом Пушкина: ясность мысли, достоинство, ум, горькая складка у рта, взгляд удивительно прозрачных глаз полон затаённой печали... Именно это выражение горечи так поражало своей верностью современников.
Портрет написан в 1827 году; тем же годом помечено «Послание в Сибирь»; тогда же прозвучал и «Арион» — горькое признание «таинственного певца», друга декабристов, ещё недавно полного «беспечной веры», а теперь, после крушения, выброшенного на берег грозою, но не покорившегося: «Я гимны прежние пою и ризу влажную мою сушу иа солнце под скалою...»
В портрете на редкость ясно выразилось сочетание печали и непреклонно гордого мужества. Беспокойный ветер шевелил кудри поэта (как в том, раннем автопортрете художника). Но сам Кипренский — «волшебник милый»1 — теперь не тот, он сломлен.
1«Ты вновь создал, волшебник милый, меня, питомца чистых муз...» — это из стихотворения «Кипренскому» — дань благодарности поэта.
В Риме осталась девушка — осиротевшая дочь его натурщицы. Он тянется мыслями к ней, как тянутся к утраченной молодости, и в конце концов покидает Россию, чтобы никогда уже не вернуться.
Сладкие аллегории, которые он сочинял на исходе жизни в Риме, ничего не прибавили к его славе. Они лишь рассказывают внятно о последнем акте трагедии.
Брюллов, вернувшийся в Петербург в год смерти Кипренского, не мог знать, что и ему суждено окончить свои дни на чужбине.
Он возвращался в расцвете снл. В столице его ждали шумные чествования, место профессора академии, всеобщее поклонение и щедро оплачиваемые заказы.
Не было, кажется, сановника или светской красавицы, которые не желали бы позировать «великому Карлу».
Мастерскую его осаждали поклонники. Ученики выражали слепую готовность следовать ему во всём.
Не каждому дано выстоять в подобном испытании. Брюллов исподволь становился капризным баловнем. Носил вандейковскую бородку, щегольские туфли на высоких каблуках и ошеломлял всех сказочной быстротой своей кисти.
Отзывчивый по натуре (вспомните хотя бы, как был выкуплен из крепостной неволи Тара с Шевченко), он нередко делался изысканно-деспотичным.
Снисходя к униженным просьбам, он соглашался писать портреты, но наряжал свои модели самым причудливым образом. Сёстрам Шншмаревым, например, он велел сшить роскошные амазонки, а затем написал их сходящими по мраморной золотистой лестнице, у подножия которой арапчонок в алых шальварах держит под уздцы горячих арабских коней. Что было «великому Карлу» до того, что смиренные петербургские девицы Шишмаре-вы сроду не видали арапчат и не ездили верхом, — зато как написан был дымчатый бархат амазонок, прозрачная кисея развевающихся по воздуху шарфов, огненный глаз храпящего белого в яблоках скакуна!
Черты Нарцисса, влюблённого в своё отражение, проступали в Брюллове всё явственнее. Казалось, мир существует для того, чтобы удостоиться быть преображённым его волшебной кистью.
Лишь изредка — в портретах Жуковского, Струговщикова — вдруг облетала нарядная мишура, возвышенность соединялась с простотой, и обнаруживался талант правдивый и могучий, какого не знала тогда Европа.
Блеск брюлловской живописи ослеплял. Артистизм рисунка, сочность винно-красных, бархатно-чёрных, лазоревых и алых тонов казались неподражаемыми. И все — даже Пушкин, даже Гоголь, открывший людям Россию «Ревизора» и «Мёртвых душ», — в один голос восторгались «великим
Карлом», упоённым романтиком, ни за какую цену не соглашавшимся написать старика или старуху — пусть хоть самых распровельможных, — чтобы не спускаться с высот «идеально прекрасного».
И — нн одной картнны больше после «Последнего дня Помпеи»... Начал было огромный исторический холст — «Осаду Пскова», да так н не закончил.
Портреты, портреты, портреты — царственные красавицы в пышных нарядах, похожие одна на другую (а вернее, на графиню Самойлову, которую он считал образцом красоты); отороченные горностаем мантии, скачущие амазонки... Начал грандиозные росписи в Исаакиевском соборе — и вдруг болезнь, надорванное работой сердце, внезапная слабость...
Тогда-то и написан знаменитый автопортрет, висящий теперь в Третьяковке; быстрый бег жёсткой кистн по холсту, чёрный бархат блузы, темноголубые глаза на жёлто-бледном худощавом лице, устало свесившаяся рука...
По настоянию врачей Брюллов покидает Россию. Сперва — остров Мадейра, лазурно-зелёный рай, где он должен лечиться. Затем — Рнм, внезапная смерть, могнла на кладбище Монте-Тестаччо.
Ещё один питомец императорской академии, ещё один могучий талант сошёл в итальянскую землю. Первый день русской кисти клонился к закату, близилась заря нового дня.
ДВЕ ВСТРЕЧИ
Когда Брюллов был в зените славы, к нему явился однажды двадцати-летннй офицер лейб-гвардин Финляндского полка, чтобы показать свои рисунки.
Брюллов участливо смотрел на молодого человека, коротко стриженного, темнолицего и худого.
Вид его выдавал несомненную бедность. Рисунки же, изображавшие полковых сотоварищей н уличные простонародные сценки, свидетельствовали о наблюдательности и правдивости. Такое сочетание не сулило особой удачи.
Офицерик рассказал Брюллову, что посещает вечерние рисовальные классы академии, что любит эрмитажных «малых голландцев», сатирические рисунки англичанина Хогарта и француза Гаварни и что хотел бы посвятить свою жизнь искусству.
— Что ж, продолжайте работать, друг мой, — сказал в ответ «великий Карл», — в рисунках ваших виден талант. Но службы военной всё же не бросайте, вот вам мой совет. Каждому необходим верный кусок хлеба, не так ли?
Молодой человек последовал совету и долго ещё тянул постылую военную лямку, но мечту свою не оставил.
Из рисовальных классов ему, как военному, удалось со временем перейти в класс батальной живописи вольноприходящим учеником. На счастье, старик профессор, к которому он попал, добродушный немец Зауэрвейд, дал ему волю: не очень замучивал «гипсами» и законами композиции, предоставляя молчаливому и упорному бедняку гвардионцу рисовать что вздумается.
И тот продолжал рисовать, что видел вокруг себя: однополчан в казарме или на бивуаке, купцов, чиновников, извозчиков, квартальных, петербургских щёголей и девиц. Называл он это — «учиться жизнью»...
Прошло без малого двенадцать лет. Офицер — его звали Павлом Андреевичем Федотовым — покинул всё же военную службу и давно уже, учась по вечерам в академии, зарабатывал на скудное пропитание иллюстрациями и рисунками для «Сатирического листка». Но заветной мечтой его оставалась живопись.
И вот наконец он показал на осенней академической выставке первую свою картину.
Называлась она «Свежий кавалер» и представляла тупицу чиновника, хвастающего перед кухаркой намедни полученным первым орденом. Он стоит босой, с папильотками на голове, посреди неприбранной после ночной пирушки комнаты, у стола с объедками и опивками (видно, «вспрыскивал» награду с друзьями) и гордо тычет пальцем в орденский крестик, прицепленный к накинутому на плечи халату, в то время как кухарка, насмешливо улыбаясь, протягивает ему стоптанные сапоги.
В картине было множество метко наблюдённых подробностей, она имела на выставке неожиданный успех. Нравилась она, как ни странно, и академическим профессорам, увидевшим в ней забавную бытовую сценку, написанную на «голландский манер».
Прослышал о необычайной картине и сам Брюллов.
Больной, измученный приступами сердечной слабости, он собирался в последнее своё путешествие. И перед самым отъездом велел принести картину на свою академическую квартиру. А затем пригласил к себе и её автора.
Кто знает, что передумал «великий Карл», глядя на этот не слишком умело написанный холст, так разительно противоположный всему, что сам он, Брюллов, всей своей жизнью отстаивал в искусстве? Одно лишь несомненно: в забавной на первый взгляд сценке Брюллов разглядел нечто более значительное, чем видели в ней недалёкие профессора.
Невежество, чванливая тупость мелкого чиновничества, грубость и пошлость будничного российского быта — не было ли всё это действительной, правдивой изнанкой блеска и пышности высшего света? Не звучала ли сама поза «свежего кавалера», задрапированного, как в тогу, в свои грязный халат, убийственной насмешкой над «античными» позами героев академических картин, разоблачением их напыщенной лживости? И наконец, не говорила ли эта сцена о той неприглядной и жестокой правде, на которую давно уже указывала русская литература и от которой так упорно отворачивалась русская живопись?
Как ни чужда была «великому Карлу» подобная «проза жизни», у него хватило ума и мужества сказать на этот раз Федотову: «Поздравляю вас, вы победили меня».
Услышать такое из уст Брюллова было для Федотова неожиданностью и великим счастьем.
Но то, что понял, уходя из жизни, Брюллов, не могли и не хотели понять другие — те, кто грелись в лучах его славы и полагали себя продолжателями его дела.
Опасения насчёт «верного куска хлеба», высказанные когда-то Брюлловым бедняку офицеру, оказались более чем основательными. Бедность, несчастья и непризнание преследовали Федотова, и спустя всего лишь три года после второй встречи с «великим Карлом» он заболел душевным расстройством и умер в роковом для многих талантов возрасте — тридцати семи лет.
Картины же его, полные разящей иронии и печали о несовершенстве жизни, продолжали считаться пустяками, не стоящими серьёзного внимания.
«Боги искусства», «Колизеи Фортунычи»1, не имевшие за душой ничего, кроме выучки и окостенелых привычек, не желали видеть, что времена меняются и что нарождается новая сила, противостоять которой будет невозможно.
1 Так называли ученики профессора академии Маркова, автора картин «Фортуна и нищие» и «Мученики в Колизее».
...Но в 1863 году раздался громовой удар, и атмосфера русского искусства прочистилась, и яркое солние засияло на его горизонте. Горсточка молодых художников, бедная, беспомощная, слабая, совершила вдруг такое дело, которое было бы впору разве только великанам и силачам. Она перс вернула вверх дном все прежние порядки и отношения и сбросила с себя вековые капканы. Это была заря нового русского искусства.
ГЛАВА ВТОРАЯ
КОММУНА КРАМСКОГО
Прежде чем принять окончательное решение и выступить на совете, «бунтовщики» пытались воздействовать на членов совета по отдельности. Они добивались как будто немногого: права свободно выбрать сюжет для конкурс ной картины — каждому по своим наклонностям.
«Одни из нас люди спокойные, сочувствующие всему тнхому и грустному, — писали они в первом прошении, — другие из нас люди живые, страстные, художественное творчество которых может достойно проявляться только в выражении сильных, крутых движений души человеческой...»
Но что было академическим богам до подобных тонкостей!
— Вы говорите глупости, — без дальних слов отрезал профессор Басин, сверстник «великого Карла», отличавшийся тем, что в мастерских не давал указаний, а только мычал, одобрительно или осуждающе. — Вы ничего не понимаете, я и рассуждать с вами не хочу.
Скульптор Пименов, самый важный и сановитый из членов совета, ответил ещё короче:
— Нигде в Европе этого нет, во всех академиях конкурсы существуют.
Профессор Тон, известный своей свирепостью, по нездоровью принял
учеников дома, лёжа в огромной постели.
— Не согласен и никогда не соглашусь! — рявкнул он, выслушав. — Если б это случилось прежде, то вас бы всех в солдаты! Прощайте!
Но в том-то и штука, что прежде это случиться не могло, а теперь было неизбежно.
Ученики, с которыми так круто обошёлся профессор, впервые переступили порог академии в то время, когда недавно окончившаяся позорным поражением Крымская война обнажила перед всеми страшную правду о николаевской России. Этих людей воспитали не выспренние оды Державина или романы Марлинского, а пламенные статьи «неистового Виссариона», тургеневские «Записки охотника», «Севастопольские рассказы» Толстого, гражданственная поэзия Некрасова. Их любимыми героями, образцами для подражания были Рахметов и Базаров.
Русская литература, как писал Крамской, учила их «смотреть на вещи прямыми глазами». Сама жизнь, бурлившая в то время освободительными идеями, звала их разрушить глухую стену, сто лет отъединявшую русскую живопись от действительной жизни русского общества. Волна времени несла их вперёд неудержимо.
Они пошли к всесильному ректору академии, к «самому» Бруни.
Барственный и надменно-вежливый, он выслушал их в кабинете своей роскошной академической квартиры. Он даже пригласил их сесть, хотя, как известно было, никогда не подавал ученикам руки.
— Всё сказанное вами я принимаю близко к сердцу, — ответил он ровным тнхим голосом, — но вы должны понять, что академия призвана развивать искусство высшего порядка. Слишком уж много вторгается низменных элементов в искусство...
Да, верно, «низменные элементы» стали вторгаться в искусство самым неожиданным и дерзким образом, и не далее как за два месяца до этого разговора совет императорской академии вынужден был присудить звание академика тридцатилетнему воспитаннику московской школы Пукирёву за картину, «где нет ни пожара, ни сражения, ни древней, ни новой истории,
ни греков, ни печенегов, где всё ограничилось приходской церковью, священником, учтиво венчающим раздушенного генерала, живую мумию, с заплаканной и разодетой, как жертва, девочкой, продавшей за чин и деньги свою молодость»1.
1 В. В. Стасов.
Картина «Неравный брак», как и федотовские картины, приоткрывала запретную страничку российской правды. Присуждение Пукирёву звания было вынужденной уступкой — множество зрителей толпилось у его картины на осенней академической выставке, так же как прежде у картин Федотова, так же как у картины Якоби «Привал арестантов», с неслыханной смелостью изображавшей смерть революционера-ссыльного на кандальной дороге, в телеге, под свинцово-тяжёлым небом.
Но Фёдор Антонович Бруни, генерал и столп академии, «русский Микеланджело», со своими холодными эффектными холстами, похожими на представления античных трагедий силами актёров императорской сцены, не намерен был сдаваться и менять что-либо в академических порядках.
Ученики ушли ни с чем. Что случилось затем на совете, мы знаем.
* * *
«Фантазии кончились, начинается действительность», — сказал, выйдя из академии, Крамской.
Бороться в одиночку было бессмысленно, да и существовать попросту невозможно. У четырнадцати никому не ведомых молодых людей только и было имущества, что стол да несколько стульев. «Бунтовщики» решили основать художественную артель.
«С тех пор, как я себя помню, — писал Крамской спустя много лет, — я всегда старался найти тех, быть может, немногих, с которыми всякое дело, нам общее, будет легче и прочнее сделано».
Общественный инстинкт Ивана Николаевича Крамского, его горячая преданность долгу, его твёрдая убеждённость в том, что «человек рождён жить и делать дело непременно в кругу товарищей»2, сыграли неоценимую роль в истории русской живописи.
Двадцатишестилетний вдохновитель академического бунта стал теперь душою особенного и не похожего на прежние объединения художников.
В разные времена, бывало, художники по-разному объединялись. Вспомним хотя бы средневековые гильдии святого Ауки, покровителя живописцев, или мастерские итальянского Возрождения.
Но то были объединения либо вокруг законов и правил, либо вокруг учителя-мастера. Артель, основанная Крамским и его товарищами, была объединением вокруг идеи — служить искусством народу. И, что не менее важно, она впервые в истории была объединением равных.
Четырнадцать художников стали жить коммуной, по образцу описанной в романе Чернышевского «Что делать?». Дали в газетах объявления о приёме заказов. Сняли просторную квартиру (сперва на Васильевском острове, затем на Адмиралтейской площади). Здесь работали, кормились сообща (хозяйство вела молодая жена Крамского, Софья Николаевна). А по вечерам все собирались в зале, за длинным непокрытым столом. Один читал вслух, другие рисовали, набрасывали портреты друг друга или же эскизы новых работ. И все внимательно слушали читающего.
Долгий разрыв между русской литературой и русской живописью приходил к концу. Стихотворение Некрасова в свежей книжке «Современника», новый роман Тургенева, очерк Салтыкова-Щедрина, статьи Белинского, Добролюбова, Писарева, рассказы Каронина и Златовратского из крестьянской жизни — всё это не просто выслушивалось, как интересное и увлекательное чтение. Всё это находило живейший отклик в умах слушающих, направляло их мысли, указывало путь, вновь и вновь напоминало о том, что и для живописи, по словам Крамского, пришло наконец время «поставить перед глазами людей зеркало, от которого сердце забило бы тревогу».
На огонёк, всё ярче разгоравшийся в доме на углу Вознесенского проспекта и Адмиралтейской площади, стали заходить и «посторонние»: ученики академии, художники, петербургские литераторы... Со временем здесь вошли в обычай «четверги», когда вместе с гостями в большом и просто обставленном зале собиралось до пятидесяти человек.
У поставленного наискосок длинного стола с бумагой, карандашами, красками рисовали кто что хотел. Иногда читали вслух статьи об искусстве. Играли на рояле, пели. Затем скромно и очень весело ужинали. «После ужина иногда танцевали, если бывали дамы», — вспоминал один из учеников академии, только-только приехавший в Петербург, небольшого роста, живой, с необыкновенно изящными, девичьими руками и мягким «южнорусским» произношением.
Фамилия ученика была Репин.
Вместе с Репиным приходил сюда и Федя Васильев, хохотун и насмешник, начинающий пейзажист, совсем ещё мальчик, поражавший всех беззаботно щедрой талантливостью.
Бывал здесь и учитель Васильева, тридцатитрехлетний бородач Шишкин, от чьего могучего баса дрожали оконные стёкла. Он любил всласть поесть, посмеяться вволю, а рисовал так умело, что за спиной его всегда толпились, дивясь тому, что выходило из-под его огромной корявой ручищи, казалось вовсе не приспособленной к занятиям такого рода.
Нередко здесь устраивались «турниры остроумия», в которых зло высмеивались академические порядки. Все дружно хохотали, когда будущий художник-иллюстратор Панов изображал, как «римская классика» в виде жирного кота проглатывает русское искусство или же как на академическом совете задают пейзажистам тему для конкурсной картины: «Озеро, на первом плане стадо овец под деревом, вдали мельница, за ней голубые горы»...
Но в шуме молодого веселья никогда не тонул серьёзный и глубокий голос Крамского.
Необычайно худой, с небольшими пристальными глазами на скуластом лице, всегда сидящий где-нибудь в углу на гнутом венском стуле, он привлекал к себе слушателей ясностью мысли, страстной верой в правоту своего дела и всесторонними знаниями.
Говоря о Чернышевском, о Писареве, о Роберте Оуэне, о философии Прудона и Бокля, он втягивал всех в политические и нравственные споры, вновь иАвновь обращая своих собеседников к «вопиющим вопросам жизни», к сегодняшнему дню русской действительности.
Летом многие члены артели уезжали в родные края на отдых, чтобы вернуться осенью с этюдами или даже с картинами.
«Что это бывал за всеобщий праздник! — вспоминал Репин. — В артель, как на выставку, шли бесчисленные посетители, всё больше молодые художники и любители смотреть новинки. Точно что-то живое, милое, дорогое привезли и поставили перед глазами!..»
Всё это были не какие-нибудь «Битвы Горациев с Куриациями», «Явления Аврааму трёх ангелов» или невиданные ландшафты с рыцарскими замками и голубыми горами.
Ничего «идеально прекрасного» и «возвышенного» не было в этих картинах — русские поля, берёзки, светлоглазая девочка на деревенском погосте... Бесхитростные, но красноречивые сцены сельской несладкой
И. И. Крамской. Уголок «Артели художников».
жизни: становой пристав составляет протокол на спине утопленника-крестья-нина, пьяный отец семейства вваливается в убогую избу...1
1 Написанную в то время картину А. И. Корэухина «Пьяиый отец семейства» можно увидеть в Киевском музее русского искусства.
Быть может, картинкам этим при всей искренности чувства недоставало ещё мастерства. Но друзья-художники, как свидетельствует Репин, не стеснялись замечаниями, относились друг к другу очень строго и серьёзно, без умалчиваний, льстивостей и ехидства.
Каждый высказывал своё мнение громко, откровенно и весело.
Дух товарищества и дружбы царил в «коммуне Крамского».
* * *
С течением времени, однако, делалось всё яснее, что артель — лишь первый шаг по избранному пути, что начатое требует более широкой поддержки, что малочисленной группе энтузиастов трудно выйти на широкий простор и сделать искусство действительно доступным народу.
В самом деле, долго ли мог просуществовать этот островок среди моря корысти, в обществе, где всё решал чистоган, где царило беспощадное соперничество, где приходилось прокорма ради заниматься опостылевшими заказами — писать заурядные портреты, образа для церковных иконостасов ит. п.?
К тому же и внутри артели не всё шло так складно, как хотелось.
Началось с того, что тяжело заболел Песков, едва ли не талантливейший из четырнадцати, ещё в академии завоевавший признание своей картиной «Ссыльнопоселенцы».
Чахотка свалила его на двадцать девятом году жизни.
Эта болезнь, косившая многие тысячи молодых жизней по всей России, особенно свирепа была в Петербурге с его хмурью, мокретью и сырыми морозами.
Миша Песков был хрупкий, изящный блондин, чуть похожий внешностью на «великого Карла» и, как все действительно одарённые и тонкие натуры, не слишком умевший заботиться о повседневных нуждах. Петербургской чахотке таких только и подавай.
Когда он свалился, доктора велели немедленно увезти его в Крым.
В те времена такая поездка была не простым делом. Артель тотчас устроила лотерею: сделала в общем зале выставку, выручила триста рублей, и Песков уехал, чтобы не вернуться больше.
Он умер в Ялте, оставив несколько эскизов к будущим картинам, по которым нетрудно было судить, какая утрата постигла его товарищей.
За первым ударом последовали и другие.
Академия вовсе не осталась безразлична к «бунту четырнадцати», и насмешливое «прекрасно!», брошенное профессором Пименовым вслед уходящим, имело весьма определённый смысл.
«Посмотрим, посмотрим, что из этого выйдет, — звучало за этим словом,- — поглядим, как вы будете барахтаться, и не пожалеете ли ещё о своём поступке...»
Находились и позже «друзья», не стеснявшиеся посмеиваться над затеей, не сулившей ни славы, ни прочного места в жизни, ни даровой поездки в Италию.
Среди любой группы единомышленников могут оказаться люди большей или меньшей стойкости. Годы академической дрессировки ни для кого из четырнадцати не прошли бесследно. Они оставили в душе каждого глубокую отметину. Нужна была незаурядная сила воли и цельность характера, чтобы преодолеть в себе всё это до конца. Не каждого достало бы на такое.
Среди четырнадцати обнаружился первый отступник: Дмитриев-Орен-бургский стал за спиной товарищей вести переговоры с академией о поездке на казённый кошт за границу.
Для Крамского с его не знающей уловок честностью, с его безоговорочной верностью долгу это было тяжелейшим ударом. Бурные собрания, происходившие по этому поводу в артели, оставили на душе у всех дурной осадок. Прежнее единство дало трещину, академия запускала внутрь «коммуны Крамского» свои золочёные щупальца.
И кто знает, как обернулось бы дело, если б на одном из артельных «четвергов» зимой 1868 года не появился новый гость — Григорий Григорьевич Мясоедов.
ТОВАРИЩЕСТВО ПЕРЕДВИЖНЫХ ВЫСТАВОК
Ещё за три года до того, как Мясоедов пришёл впервые на угол Вознесенского и Адмиралтейской площади, Крамской затеял новое по тем временам дело — выставку картин на Нижегородской ярмарке.
Россия была вовсе не привычна к такому. Единственным местом ежегодных выставок испокон веков оставались залы императорской академии, где на торжественных вернисажах1 собиралась петербургская знать. Даже московские живописцы могли выставлять свои картины лишь здесь, в Петербурге.
1 Вернисаж — торжественное открытие художественной выставки.
Потребовалась настойчивость Крамского, чтобы уломать хозяев Нижегородской ярмарки и найти средства на необычное предприятие.
Для купцов того времени такая затея выглядела, должно быть, пустой блажью, чем-то вроде ярмарочной карусели или балагана, где заезжие фокусники показывают бородатую женщину или живую русалку. Но чего не бывает на ярмарке, на то ведь она и ярмарка! Деньги в конце концов были найдены, павильон построен, и первая за пределами Петербурга выставка русских картин открыта.
Среди произведений, показанных на этой выставке, была и картина молодого пенсионера Академии художеств Николая Николаевича Ге «Тайная вечеря».
Написанная на многократно использованный живописью сюжет, она производила громадное впечатление и вызывала жаркие споры.
Для России, не знавшей ни Леонардо, ни Рембрандта, воспитанной на бестелесной иконописи, необычным было уже одно то, что художник изобразил и Христа и апостолов земными людьми, в столкновении земных страстей.
Правда, несколькими годами раньше появилась в русском искусстве картина, где евангельский сюжет предстал в необычном виде: «Явление Христа народу» Александра Иванова. История создания этой картины — потрясающая история битвы одинокого, оторванного от родины человека за совершенство, за большую правду искусства. О ней стоит подробно рассказать.
Сын профессора Петербургской академии, человека неудачливого, болезненно добросовестного и не очень талантливого, Александр Иванов с детства познал нужду, несправедливость, фальшь и грязь академических интриг. «Я был воспитан бедами», — говорил он сам о себе.
В академии к нему относились недоброжелательно. Профессор Егоров, закоренелый «классик», у которого он учился, был в личной вражде с его отцом. В одной из первых самостоятельных картин Иванова (написанной в 1827 году) был усмотрен чуть ли не намёк на расправу Николая I с декабристами. Молодой художник едва избегнул Сибири. Надо ли удивляться горячему желанию Александра Иванова вырваться по окончании академии из Петербурга в Италию? Там, казалось ему, всё будет иначе. Там он сможет жить по-своему, как и должно жить художнику, — трудиться, творить, быть независимым...
Молчаливый, тихий, застенчивый, слабый здоровьем, он был нерушимо крепок в одном — в своих убеждениях. «Вы полагаете, — писал он однажды, — что жалованье в шесть — восемь тысяч по смерть, получить красивый угол в академии — есть уже высокое блаженство для художника? Я думаю, что это есть совершенное его несчастье. Художник должен быть совершенно свободен, никому никогда не подчинён, независимость его должна быть беспредельна...»
При таких взглядах жестокие столкновения с действительностью были неизбежны.
Александр Иванов прожил в Риме без малого двадцать восемь лет и ни на день, ни на час не освободился от нужды, от унизительной зависимости, от давящей власти императорского Петербурга.
Известно, что из этих двадцати восьми лет более двадцати двух было без остатка отдано одной-единственной картине (факт сам по себе разительный, беспримерный). Но мало кто знает, какая бездна труда и раздумий кроется за этой цифрой.
Иванов задумал свою картину и приступил к ней в то время, когда Брюллов только что окончил «Последний день Помпеи». Замысел Иванова имел много общего с замыслом «великого Карла» и в то же время резко от него отличался.
Общее состояло в том, что оба художника, следуя «вкусу века», выбрали, выражаясь словами Гоголя, момент «кризиса, чувствуемого целою массою». Но если у Брюллова сам характер изображаемого события требовал бурного (и как бы «хорового», всеобщего) проявления чувств: страха, гнева, отчаяния, то сюжет, выбранный Ивановым, уводил от внешних проявлений к глубинам мысли, отдельной, особой для каждого из множества действующих лиц картины.
Из всех возможных евангельских сюжетов Иванов избрал такой, какой позволил ему показать как бы целый народ на историческом повороте, в минуту серьёзного решения, глубоко важного для общих судеб и личной судьбы каждого.
В. Г. Перов. Приезд гувернантки в купеческий дом.
Уже сам выбор сюжета требовал особого внимания к самым тонким движениям человеческой души. Сложность задачи углублялась ещё и теми новыми, небывалыми требованиями, какие поставил себе Иванов.
Вопреки академическим правилам, требовавшим от художника прежде всего условной красоты форм и линий, Иванов выдвинул на первое место задачу достоверности, исторической и человеческой правды.
В то время маститые академики, сочиняя свои евангельские, мифологические (и даже исторические) композиции, заботились более всего об изяществе, «античном» телосложении и «классических» позах своих героев. Изображая события, происходящие под открытым небом, они, как говорил Крамской, «преспокойно писали свои фигуры при комнатном освещении».
Александр Иванов пошёл по другому пути. В героях своей картины он хотел найти не внешнюю красоту, а глубокую правду чувств и характеров. Он разыскивал по всей Италии натурщиков, похожих на жителей древней Иудеи, и писал с них бесчисленные этюды на вольном воздухе, при свете солнца. Ои, как свидетельствует Гоголь, «старался на лицах всех людей, с какими ни встречался, ловить высокие движения душевные...». Он посещал синагоги и церкви, чтобы наблюдать молящихся. Он придавал особое значение достоверности и выразительной силе пейзажа. По словам Гоголя, он «просиживал по нескольку месяцев в нездоровых понтийских болотах и пустынных местах Италии, перенёс в свои этюды все дикие захолустья, находящиеся вокруг Рима, изучил всякий камешек и древесный листок...».
Сам Иванов писал в 1840 году сестре: «Я выехал в Субиако — городок, лежащий в горах Сабинских. Дикие и голые скалы, его окружающие, река чистейшей и быстротекущей воды, окружённой ивами и тополями, мне послужили материалами (для этюдов). Я радовался, видя их сродство с теми идеями, какие я приобрёл, посредством книг о Палестине и Иордане, об окружающих его деревьях и горах...»
В итоге этих трудноописуемых многолетних усилий возникла картина, по глубине и серьёзности не имевшая ещё равных себе в русском искусстве, картина, где, как говорил Крамской, «соображения о красоте линий отходили на последний план, а на первом стояло выражение мысли».
В самом деле, вглядитесь в этих людей, собравшихся на каменистом берегу Иордана, под сенью дымчато-зелёной листвы олив. Вы найдёте здесь поборников и противников новой веры, колеблющихся и безучастных, надеющихся и любопытных, смелых и робких, злых, добрых, богатых и нищих, закоренелых стариков упрямцев и жаждущих истины юношей... Посмотрите
же, как правдиво и тонко переданы художником все оттенки мыслей, чувств, характеров.
Крамской говорил, что если у персонажей картины закрыть головы и посмотреть на фигуры, то видно, как анатомия выражает характер. И верно: попробуйте сделать это, и вы увидите, какая убеждённая твёрдость выражена в фигуре Иоанна Крестителя, сколько робкой неуверенности в фигуре обнажённого (справа), прижимающего к груди одежду; вы увидите, что поворот туловища, положение рук, даже спина человека — всё может служить обрисовке характера.
К слову, о спинах. Нынешнего зрителя нисколько не смущает то, что в самом центре картины видишь спину сидящего на земле нагого старика. Напротив. Кажется, будто именно это придаёт картине естественность сцены, не рассчитанной на стороннего зрителя. Но надо представить, каким нарушением незыблемых правил была эта спина во времена Иванова, так же как и поставленная в профиль (а не лицом к зрителю!) центральная фигура картины.
Многое в картине Иванова осталось непонятым и непринятым современниками. Когда художник вернулся после двадцативосьмилетнего отсутствия на родину, когда он выставил итог своей жизни на всеобщее обозрение, его ожидали тяжкие удары.
Не было ничего похожего на увлечение и восторг, охватившие всех во время «Последнего дня Помпеи». Наоборот. Большинство зрителей холодно приняло картину. Одним не понравилась её живопись — строгая, лишённая привычных эффектов. Другие, приученные к «античной» красоте, возмущались «иудейской» внешностью действующих лиц (что было им до того, что обрисованное событие происходило в древней Иудее!). Газеты и журналы упрекали художника в сухости, в «прозаизме выражения». Кружили слухи о недовольстве императорского двора. Никто не спешил приобрести картину; она так и осталась непроданной при жизни художника1.
1 Александр Иванов умер через шесть недель после возвращения на родину, заразившись холерой в Петербурге.
Но трагедия Александра Иванова была не только (и не столько) в этом. Трагедия была в том, что сам художник, отдав картине лучшие годы жизни, разумом своим перерос её и сам гораздо глубже и вернее других понимал и достоинства её и недостатки.
Ещё за три года до возвращения он признавался: «Мой труд — большая картина — более и более понижается в глазах моих. Далеко ушли мы, живущие в 1855 году, в мышлениях наших...»
Незадолго до смерти он писал брату: «Картина не есть последняя станция, за которую надобно драться. Я за неё стоял крепко в своё время и выдерживал все бури, работал посреди их и сделал всё, что требовала школа. Но школа — только основание нашему делу живописному, язык, которым мы выражаемся. Нужно теперь учинить другую станцию нашего искусства: его могущество приспособить к требованиям времени и настоящего положения России...»
Этот важнейший вывод достался художнику дорогой ценой. Он задумывал и начинал свою картину в ту пору, когда заря нового времени ещё только разгоралась над Европой. Он оканчивал её под громовые раскаты революции 1848 года.
«Новые идеи врываются к нему за его монастырскую ограду, — писал Крамской, — и он сначала фактически не может работать, уезжает из Рима, а возвращается другим человеком...»
В соприкосновении с жизнью, в новой общественной атмосфере, освежённой революционными грозами, рушились религиозные взгляды Иванова; в дружбе с Герценом зарождалось новое понимание общественной цели искусства.
Было время, когда он писал: «Мысль о возврате на родину вышибает у меня и палитру, и кисти, и всю охоту что-либо сделать порядочное по искусству...» В 1848 году письма его звучат иначе: «Быть русским уже есть счастье, как же вы хотите, чтоб мы не желали его? Возврат наш на родину будет непременно. Но нужно прежде исполнить долг — окончить давно начатые дела с возможною совестью...»
Последняя фраза, быть может, наиболее ясно рисует характер Иванова, даёт ключ к пониманию его личной трагедии в том единственно верном смысле, какой придавал этому слову Белинский. Трагедии как неразрешимого противоречия между велением сердца и чувством долга.
Раз взявшись за что-либо, Иванов считал непременным долгом совести выполнить начатое со всем доступным ему совершенством, доводя всё, по выражению одного из современников, «до последнего предела возможной правды».
В своём стремлении к самосовершенствованию Иванов был необуздан и доходил до крайностей, до исступления. Надо видеть бесчисленные этюды к «Явлению Христа народу», чтобы понять, сколько раз взвешивалась,
как изучалась, обдумывалась, штудировалась каждая подробность картины, каждый камешек, каждая ветвь оливы, каждая голова, каждая складка одежды, каждый сустав на каждом пальце.
«Дурное всё остаётся в этюдах, из которых одно лучшее вносится в картину», — рассуждал Иванов. На деле же выходило так, что многое при переносе в картину «замучивалось», теряло свежесть, оказывалось «по замыслу характера выше и глубже этюда, но в то же время и слабее по живописи».
«Талант Иванова был первоклассным, но ум был ещё более таланта...»
В поисках точных законов живописи, в неистовых поисках совершенства ум Иванова спорил с порывами вдохновения, а чувство долга торжествовало над велениями сердца.
Так и случилось, что целая эпоха в жизни родины прошла, пока Иванов бился над своей картиной в Риме. Он уезжал при жизни Пушкина, а вернулся при Некрасове и Толстом.
За три года до смерти, оглядываясь на сделанное, он писал: «...Я, как бы оставляя старый быт искусства, никакого ещё не положил камня к новому, и в этом положении делаюсь невольно переходным художником». Признание горькое, но мудрое, верно указывающее место Иванова в русской живописи — на переходе от старого к новому, от закоснелого к живому, от надуманного к достоверному, от «идеально прекрасного» к действительному и правдивому.
«Он сделал для всех нас, русских художников, огромную просеку в непроходимых до того дебрях», — говорил Крамской.
Александр Иванов был как бы живой лабораторией для следующих поколений художников. Его достижения придавали силу, а неудачи служили предостережением. Его преданность правде вдохновляла тех, кто призван был «приспособить могущество искусства к требованиям времени» — тех, кому посвящена эта книга.
* * *
Николай Николаевич Ге, с упоминания картины которого начался наш рассказ об Иванове, был натурой увлекающейся. Честный, широко образованный, «художник-философ», он страстно верил в силу влияния искусства на общество.
Окончив академию, он уехал в Италию в 1857 году (то есть именно тогда, когда Иванов собирался на родину). Особенно чуткий к нравственным вопросам, к духовной жизни человека, он не мог не увлечься личностью Иванова и его картиной.
Однако, выбрав для своей первой большой картины евангельскую тему, он не только остался верен завещанной Ивановым правде обстоятельств и характеров. Он как бы осветил эту правду беспокойным светом современности.
«Доконченность» картины Александра Иванова не оставляла места воображению зрителя.
Картина Николая Николаевича Ге будоражила воображение. Всем известный эпизод евангельской легенды был здесь изображён как столкновение глубоко различных взглядов на жизнь и на долг человека в идейной борьбе.
Не зря многие узнавали в лице Христа черты изгнанника Герцена, издалека будившего своим «Колоколом» Россию. Евангельская легенда обрастала живой плотью. Картина тревожила и, по словам Салтыкова-Щедрина, заставляла размышлять о жизни, о красоте подвига, о верности и предательстве.
Николай Николаевич Ге, подружившийся с Мясоедовым в Италии, рассказывал ему о Нижегородской выставке, о своей картине и вызванных ею спорах. Возможно, тут и прояснилась перед обоими мысль об устройстве в городах России художественных выставок. С этой общей мыслью Мясоедов, недавно возвратившийся из Италии, и пришёл зимним вечером 1868 года в артель.
Григорий Григорьевнч Мясоедов был одним из образованнейших русских живописцев своего времени. К его личности и невесёлой судьбе мы ещё вернёмся. В то время, однако, он был всего лишь окончившим своё пенсионерство и ничем ещё не зарекомендовавшим себя тридцатитрехлетним художником.
Мысль, с которой он явился в артель, нашла самый горячий отклик. Понадобилось всё же ещё два года на то, чтобы задуманное осуществилось. Понадобилось участие москвичей.
Н. Н. Ге тайно привёз в Россию написанный в 1867 голу портрет А. И. Герцена, тот замечательный портрет, который вы можете увидеть в Третьяковской галерее.
Московская школа живописи отличалась от петербургской настолько же, насколько жизнь сиятельно холодной чиновной столицы отлична была от жизни торговой н говорливой Москвы.
Художники, окончившие Московское училище живописи и ваяния, не имели той блистательной выучки, какую давала академия. Но зато жилось им куда вольготнее, и видели они перед собой каждый день не строгие ранжиры петербургских проспектов, не окованную камнем Неву, не петропавловский шпиль, вонзённый в хмурое небо, не императорские выезды и золотое шитьё мундиров.
Из Москвы виднее была Россия — могучая и обильная, великая и бессильная матушка Русь, с её Тит Титычами в купеческих чуйках, балагурами-приказчиками, со старухами салопницами, старозаветными барами, вороватыми чиновниками, полуголодными студентами и вовсе уж голодными лапотниками-мужиками, с её правдами и кривдами, о которых так горячо рассказывали строки некрасовских поэм и пьес Островского.
Пусть краски художников-москвичей были не так чисты, а рисунок не так умел и твёрд, как у петербуржцев, но в русской живописи не много ещё было таких бесхитростно-честных и берущих за душу картин, как «Проводы покойника» или «Последний кабак у заставы» Перова.
В то время Василию Григорьевичу Перову было всего тридцать пять лет, но за плечами его лежал уже длинный и нелёгкий путь. Человек необычайно горячего и отзывчивого на людские горести сердца, сам прошедший свирепую школу нужды, он ещё в 1857 году заявил о себе дерзкой по тем временам картиной «Приезд станового на следствие», героем которой стал «пойманный на порубке леса несчастный крестьянин»1. С тех пор не проходило, кажется, года, когда бы не появлялись новые холсты этого художника-гражданина в самом истинном смысле слова — полные гнева и сострадания картины народных бед, темноты и бесправия.
Перов был весь — от внешности и до глубочайших глубин души — дитя шестидесятых годов, овеянных духом свободомыслия. Темнобородый, с тонкими чертами болезненно-бледного лица, сочувственным пристально-грустным взглядом и глубоко залёгшей между бровей морщинкой — знаком постоянной душевной тревоги, — он не искал, подобно академическим «богам», вдохновения на Олимпе, в легендах и мифах далёкого прошлого. Темы для своих картин он умел находить на московских улицах и площадях, в подмосковных нищих деревнях, а порою и в кабаках или городских мертвецких, где обретали свой последний приют жертвы диких уродств тогдашней жизни.
Мудрено ли, что именно Перов с единодумцами своими — Прянишниковым, Владимиром Маковским и пейзажистом Саврасовым — первыми из московских художников откликнулись на призыв Мясоедова?
Завязалась оживлённая переписка с Крамским, и уже к осени 1870 года был готов совместный проект устава, в первых строках которого стояло:
«Основание Товарищества передвижных выставок имеет целью: доставление обитателям провинций возможности следить за успехами русского искусства...»
Устав подлежал утверждению властями, прямее о целях сказать было невозможно. Впрочем, об этом довольно ясно писал тогда Салтыков-Щедрин: «Отныне произведения русского искусства, доселе замкнутые в одном Петербурге, в стенах Академии художеств, или погребённые в галереях и музеях частных лиц, сделаются доступными для всех. Искусство перестаёт быть секретом, перестаёт отличать званых и незваных, всех призывает и за всеми признаёт право судить о совершённых им подвигах».
«ГРАЧИ ПРИЛЕТЕЛИ»
Первая выставка товарищества открылась в Петербурге весной 1871 года. Картин и рисунков было представлено на ней по нынешним понятиям немного — всего сорок шесть.
Из Петербурга выставка отправилась в Москву, затем в Киев и Харьков и повсюду собирала тысячи посетителей.
Успех был несомненный. Люди подолгу стояли у полотен Перова. Вот охотники, расположившиеся на привале. Выпили, закусили, и теперь старый барин рассказывает охотничьи небылицы, а двое слушают: молодой — с наивным доверием, а прилёгший на землю мужичонка-егерь — с добродушным лукавством: ври, мол, барин, да знай меру...
А вот другая бесхитростная и полная гоголевского юмора сценка: старик рыболов закинул удочку и теперь весь, до кончиков пальцев, насторожён одной мыслью: клюнет, не клюнет?
Глубокое впечатление производил на зрителей большой холст Николая Николаевича Ге «Пётр Первый допрашивает царевича Алексея в Петергофе».
Пётр сидит, сжав поручень кресла, в отделанном на голландский манер сумрачном зале дворца «Монплезир», у крытого тяжёлой тканой скатертью стола и глядит на сына, долговязого и нескладного, высоколобого и бледного, с узким подбородком, потупленными глазами и безвольно повисшей кистью руки.
Трагическая страница прошлого была рассказана в картине по-человечески просто, без показного драматизма и эффектных жестов.
Но как много крылось за этой минутой тяжкого молчания, последовавшей, быть может, вслед за вспышкой неудержимого петровского гнева, за ударом по столу могучего кулака, от которого полетел на пол листок, исписанный перечнем предательств сына, ставшего поперёк дороги отцу и родине.
Веление сердца и чувство долга, предательство и верность, сила духа и шаткое безволие — двое на бело-чёрном в крупную клетку полу, две фигуры на шахматной доске истории...
Среди холстов, привлекавших внимание посетителей первой выставки передвижников (так стали вскоре называть участников нового товарищества), среди картин, будивших мысли печальные или радостные, вызывавших улыбку, а иногда и шумные споры, нравившихся очень или не нравившихся вовсе, была одна особенная, у которой с первого дня люди останавливались в молчании и уходили в глубокой задумчивости.
Что-то было в ней, соединявшее и печаль и радость, и улыбку и раздумье, — что-то такое, чего не выскажешь словами, но что так ясно почувствуешь вдруг в первый день весны, когда ещё не стаял зернистый слежавшийся снег и деревья зябнут в первых разливах, и слышно уже, как звенит капель, и вдруг чистой синью засинеет промоина в студёном небе, и луч весеннего солнца тронет нагие ветви берёз.
Не приходилось ли вам испытать в такие минуты пронизывающее до боли чувство слитности со всем сущим — и с уходящей зимой, и с этими заждавшимися тепла ветвями, с весенним звоном капель, коричиево-сизыми в снеговых белых пятнах далями и дымком, домовито поднимающимся над крышей?
Такое чувство я испытываю всегда, глядя на картину Саврасова «Грачи прилетели». Я бы назвал это чувством родины.
На окраине городка, где я рос, не было, кажется, точно таких берёзок и точно такой церквушки, виднеющейся между искривлёнными стволами. Но я готов поручиться, что не раз видел и пережил всё это, что именно
в этом озерце талой воды запускал, хлюпая по льдистом каше, свою первую лодчонку, выструганную из пахучего куска сосновой коры.
Да, это моё, пусть непышное, неказистое, но родное: и потемневший снег, и желтоватое облачко в небе, и обласканные солнцем замшелые брёвна забора, и гомон вьющих гнёзда грачей...
Всеволод Михайлович Гаршин, писатель большого и чуткого сердца, друг художников, однажды сказал: «Первое, что думает каждый прочитавший или увидевший высокое создание искусства: как это похоже, как это верно, как это знакомо, и тем не менее я в первый раз увидел это, сознал это!» Эти слова кажутся сказанными о саврасовской картине. Она словно раскрывала глаза людям. Она задевала у каждого свою струну, поднимая со дна души самые светлые чувства.
Грачи прилетели... Наступала весна новой русской живописи.
ФЁДОР ВАСИЛЬЕВ
На той же выставке, где была показана впервые картина Саврасова, висел написанный Иваном Николаевичем Крамским портрет молодого человека с опушённым мягкой бородкой округлым лицом и красивыми большими глазами, во взгляде которых удивительно сочетались зрелый ум с озорной мальчишеской весёлостью.
Это и был портрет того девятнадцатилетнего хохотуна-здоровяка, что частым гостем бывал на артельных «четвергах» и поражал всех своей щедро брызжущей талантливостью.
«Чудо-мальчик», весельчак и насмешник, кипучей живостью натуры и белозубым звонким смехом напоминавший Пушкина, казался всем, кто видел его впервые, родившимся в сорочке счастливцем.
Кто же мог предположить тогда, что среди многих трагических судеб русских художников трагедия Фёдора Васильева окажется едва ли не самой жестокой?
Перебирая в памяти судьбы рано умерших художников, оставивших неизгладимый след в искусстве, вспоминаешь немало имён. Но нельзя, кажется, найти имени человека, который, не прожив полных двадцати трёх лет, оказал бы такое глубокое и серьёзное влияние на целую отрасль живописи. как Васильев.
Как и Орест Кипренский, он был незаконнорождённый. Детство его прошло на 17-й линии Васильевского острова в Петербурге, в одноэтажном низеньком домике, где царила беспросветная нужда. Мелкого почтового чиновника, которого он должен был называть отцом, звалн Виктором, и в метрике мальчик был записан Фёдором Викторовичем, но всегда и наперекор всему называл себя Александровичем — по имени настоящего своего отца.
Вообще упорное стремление жить по-своему, вопреки злой судьбе, до последних дней отличало Васильева.
Двенадцати лет от роду он нанялся почтальоном за три рубля в месяц, чтобы заработать право рисовать по вечерам. Пятнадцати лет стал ходить в рисовальную школу Общества поощрения художеств, что помещалась на Бирже, хотя случайный знакомый их семьн, известный художественный критик П. М. Ковалевский, предостерегал, что «у мальчика нет таланта».
Познакомясь и подружившись с Шишкиным, только что вернувшимся из заграничного пенсионерства, он стал его преданным учеником (и действительно, многое от него воспринял), но всё, что впоследствии создал сам. создано как бы вопреки всему, чем славился его знаменитый и едва ли не вдвое старший годами учитель.
Крамской, преподававший рисунок на Бирже, сказал о Васильеве: «Учился он так, что казалось, будто ему остаётся что-то давно забытое только припоминать...»
Вопреки невылазной нужде он любил одеваться с щегольской элегантностью, зарабатывая на это нелёгким трудом в мастерской реставратора Соколова, и вовсе не походил на мрачно-сосредоточенных великовозрастных учеников академии с их вандейковскими бородками, перхотными патлами до плеч и широкополыми чёрными шляпами.
Глядя на одетого с иголочки крепыша-чистюлю в лимонных перчатках, с блестящим цилиндром на коротко подстриженных волосах, появляющегося то на академической выставке, то на гулянье, то на артельном «четверге», сыплющего остротами, дерзко и по-детски звонко хохочущего, умеющего, как вспоминает Репин, «кстати вклеить французское, латинское или смешное немецкое словечко», читать ноты и даже к случаю сыграть на рояле какую-нибудь вещицу, кто бы мог подумать, что дома у этого беззаботного барича-весельчака, в убогой, низенькой комнатёнке, стоят на дрянных треножках-мольбертах пейзажи, полные самого искреннего чувства, простоты и неподдельной поэзии?
Когда двадцатипятилетний Репин, зайдя домой к юнцу Васильеву, впервые увидел эти «картинки», он был ошеломлён, «удивился до самой полной сконфуженности».
— Неужели это ты сам написал? — только и смог он спросить.
* * *
Русский пейзаж... Чем был он в то время?
Пройдите по залам Третьяковской галереи, Русского музея в Ленинграде, музеев Киева, Одессы, Харькова... Вглядитесь в картины Фёдора Алексеева, Михаила Лебедева, Сильвестра Щедрина. Это были лучшие из лучших, из талантливых талантливейшие, те, кому удалось вырваться за пределы академического сада с его «живописными» камнями и гротами.
«Ландшафтный» класс в императорской академии, учреждённый в конце XVIII столетия, понадобился главным образом для того, чтобы научить русских юношей сочинять на французский лад идиллические «десюдепор-ты» — так назывались обрамлённые завитками вычурной лепки картинки-ландшафты над внутренними дверями дворцовых зал и апартаментов.
Сказочные «сады Семирамиды», невиданной красоты парки с раскидистыми деревьями, руины древних замков под лунными небесами, голубые горы и лазурные воды — всё это надо было либо высосать из пальца, либо вэять взаймы у кого-нибудь из великих (скажем, у Пуссена, чьи величественные, как дивный сон, пейзажи висели в императорском Эрмитаже).
К Пуссену и Клоду Лоррену отсылали на выучку и тогда, когда «десюде-порты» давно вышли из моды. И даже в бурные шестидесятые годы, когда все вокруг всколыхнулись и русская правда ворвалась в стены академии вместе с картинами Федотова, Якоби, Пукирёва, Перова, пейзажистам всё ещё задавали конкурсные программы по испытанным рецептам: «На первом плане — развалины мельницы и стадо овец под деревом, на дальнем — озеро и голубые горы...»
Ах, эти «идеально прекрасные» и никем не виданные ландшафты, где собрано всё: и луна, и облака, и скалы, и горы, и башни рыцарских замков, и рыбачьи лодки под парусами — и всё это, мёртвое, не задевает ни единой струнки в вашей душе!
Нужен был мощный талант Сильвестра Щедрина, младшего в одарённой семье русских живописцев, скульпторов и архитекторов, чтобы прорваться сквозь навыки подражательства из академического «живописного» сада —
И. Е. Репин. Отдых.
к природе. Но горе-то в том, что природа эта была чужая, и больно видеть на его великолепных картинах, таких, как «Лунная ночь в Неаполе» или «Новый Рим», латинскую подпись: «Sil. Schedrin».
Огромное дарование Щедрина, его безошибочное чувство гармонии, его умение передавать сияние света, прозрачность воздуха, шершавую плотность камня и сквозистую лёгкость листвы, его особенная чуткость к изменчивым «настроениям» природы — всё это бесценное богатство было растрачено вдалеке от родины.
Лучшие годы — двенадцать зрелых лет жизни — он провёл в Италии, обетованном краю академических пенсионеров, где и умер ещё молодым, как и приехавший вслед за ним Михаил Лебедев, замечательный русский талант, погибший от холеры в Неаполе в 1837 году.
Как тут не вспомнить ответ их английского собрата, пейзажиста Констебля, друзьям-художиикам, не раз приглашавшим его то во Францию, то в Италию: «Я рождён на то, чтобы писать более счастливую страну — моё собственное отечество, мою дорогую Англию...»
Джон Констебль был для английской живописи тем же, чем Васильев — для русской. Он жил и умер в бедности, в то время как современник и соотечественник его, модный живописец Ландсир, писавший собак, овец и оленей для украшения аристократических гостиных, оставил после себя состояние в двести тысяч фунтов стерлингов.
Но кто теперь помнит и знает Ландсира? А поэтичные, мягкие, проникновенные пейзажи Констебля живут и будут жить, как образ невыдуманной, действительной Англии, с её изменчивым светом, с её дождями, туманами, свежей зеленью лугов, влажным воздухом, водяными мельницами, островерхими крышами и соборами на холмах.
Один маленький этюд Констебля, случайно попавший в Россию и хранящийся теперь в Музее имени Пушкина, говорит нашему уму и сердцу больше, чем иные огромные, полные пышных красок холсты.
...Борьба двух направлений в пейзажном искусстве началась давно — пожалуй, с тех времён, когда Рембрандт, покинув Амстердам после смерти Са-скии, бродил в одиночестве со своим альбомом рдоль каналов и пастбищ с дремлющими стадами.
Для одних пейзаж издавна был родом бегства в некую сказочную страну. «Картина, — утверждал в XIX веке англичанин Берн-Джонс, — это прекрасный романтический сон. которого никогда не бывало и никогда не будет. Тут всегда сияет свет более яркий, чем наше солнце; тут нам показывают блажен-
ные поля, каких никогда никто не видел, которых можно только жарко желать и где все формы божественны. Вот что такое картина!»
Другие, как и Рембрандт в своё время, говорили: проснитесь и посмотрите вокруг себя, потому что нет на свете ничего прекраснее и утешительнее простой правды. Надо лишь суметь увидеть её.
К таким принадлежал и Васильев.
Он горячо верил в то, что искусство пейзажной живописи призвано не только услаждать взоры и навевать приятные сны, он верил, что постижение природы возвеличивает и облагораживает людей.
«Если написать картину, — сказал он однажды, — состоящую из одного голубого воздуха и гор, без единого облачка и передать это так, как в природе, то, я уверен, преступный замысел человека, смотрящего на эту картину, полную благодати и бесконечного торжества и чистоты природы, будет отложен... Я верю, что у человечества, в далёком, конечно, будущем, найдутся такие художники, и тогда не скажут, что картина — роскошь развращённого сибарита».
Но, мечтая о далёком будущем, он сам создавал картины, оказавшие глубокое влияние на его современников.
Он, как сказал Крамской, внёс в русский пейзаж то, чего ему недоставало: поэзию при натуральности исполнения.
* * *
«Неужели это ты сам написал? Ну, не ожидал я...» — сказал Репин Васильеву.
И верно, трудно было ждать от девятнадцатилетнего юнца, нигде, в сущности, по-настоящему не учившегося, такого тонкого мастерства, такой поэтичности при самых незамысловатых мотивах.
В самом деле, что привлекало его в то время?
Летом 1869 года он впервые вырвался из Петербурга, получив возможность пожить в имении известного покровителя искусств графа Строганова.
Вот что он писал с дороги: «Из-за угла рощи вдруг выплыла деревня и приковала всё внимание: крошечные, крытые соломой домишки, точно караван, устанавливались в беспорядочный и живописный порядок. По улице стояли журавли (колодцы) с натоптанной около них грязью, мылись дети, с белой, блестящей на солнце головой, и расхаживала всякая домашняя тварь».
Куда уж, казалось бы, прозаичнее и «низменнее» по академическим мерилам прекрасного!
Но посмотрите написанный тем летом «Пейзаж» в Ленинградском Русском музее: Не покорит ли он вас именно этой бесхитростной правдивостью и разлитой во всём чистой любовью к жизни и к этой земле — такой, какая она есть, с прохудившимися и кое-как заплатанными крышами изб, с протоптанными в невысокой траве тропинками, пасущейся коровой и бабами, полощущими бельё на берегу речушки... Тень бегущего облака чуть притемнила ближний берег, но тем ощутимее делается солнечное тепло, согревающее избы и деревья, тихо шумящие листвой под летним ветром.
Чувство движения — вечной основы жизни — составляет одну из драгоценнейших особенностей живописи Васильева.
В его картинах дышит, живёт и движется всё. Вот возвращается с пастбища стадо под нахмуренным, потемневшим небом. Надвигаются тучи, летят встревоженные птицы, порыв ветра рванул листву деревьев, пригнул ветви, заклубил пыль на дороге...
Приходилось ли вам наблюдать приближение грозы, когда свинцовые с синью тучи уже надвинулись и затянули небо, а под прорвавшимся лучом солнца вдруг загорится слепяще-ярко чистая зелень дальнего луга или вспыхнет бронзово-рыжим огнём вершина осеннего дерева и заалеет платочек девушки где-нибудь на дороге?
Васильев особенно любил улавливать такие мгновения: они находили отклик в его беспокойной душе, они помогали ему говорить на том языке, для которого он был рождён, — на языке красок.
Можно самым подробным образом описывать пейзажи Васильева. Но мой вам совет — посмотрите их повнимательнее. Они помогут вам понять, что есть на свете вещи, для осознания которых и родилось искусство живописи.
* * *
Летом 1870 года Васильев с Репиным и ещё одним учеником академии, Макаровым, ездили на Волгу. То были недели, полные упоённого труда и безудержного молодого веселья.
Волжское раздолье, множество впечатлений, встреч, «естественная красота жизни реальной»1 — всё это не минуло для Васильева бесследно. Из этой поездки он вернулся возмужавшим, как говорил Крамской, «и лицом и характером». Сотни набросков на страницах его волжских альбомов говорят о том, с какой жадностью он стремился запечатлеть увиденное.
Друзья его только диву давались — так быстро, так «верно и впечатлительно», по словам Репина, он рисовал.
Казалось, его тонко заточенный карандаш безо всякого труда на ходу ловит всё: и очертания обрывистых берегов, поросших поверху кудрявой зеленью, и дорогу с бегущей лошадью, и крючников на пристани, и волгарей с их лодками — «завознями», «расшивами», «косовухами»...
На короткой стоянке парохода он за десять минут, к удивлению друзей, успевал зарисовать целую сцену.
— Ну, что ты скажешь! — изумлялся обстоятельный и неторопливый Макаров. — Вот чёрт! Я бы не успел и альбомчик удобно расставить... Вот тебе и академия, вот и натурные классы, и профессора! Всё к чёрту пошло. Вот художник, вот профессор!.. Талант, одно слово!
Васильев обычно отвечал звонким хохотом, шуткой, насмешливо-весёлым поучением, и мало кто мог понять тогда, с какой болезненной требовательностью он относится к тому, что делает.
Все свои картины, этюды, наброски, которыми так восхищались старшие друзья, он всегда считал чем-то никуда ещё не годным, всего лишь ступенькой к тому большому и настоящему, что он должен ещё сделать.
Зимой 1871 года он пишет «Оттепель», первую свою по-настоящему «взрослую» картину, где юношеская светлая любовь к жизни впервые соединилась с глубоким и грустным раздумьем.
Просторы России, заснеженные просторы без конца и края под хмурым облачным небом. Разъезженная дорога, сырые проталины, ржаво-коричневые пятна кустов. Две фигуры, двое идущих — мужик с котомкой и мальчонка. Куда же, куда бредут они, одни на дороге, неласковым этим днём?
В этой картине с дивной простотой и немногоречивостью написано было всё — сырой воздух, размокший снег, деревья, убогая изба, оледенелые брёвна, а особенно — дорога, уводящая в бесконечную даль.
Но в настоящем пейзаже за самой что ни на есть дальней далью бывает, говоря словами поэта, ещё иная даль — даль мыслей и чувств, какие пробуждает в тебе картина. Васильевская «Оттепель» будила множество мыслей. Написанная одновременно с «Грачами» Саврасова, она отзывалась в сердцах другой нотой — тревогой о судьбах могучей и убогой страны, ждущей тепла, пробуждения, счастья, весны.
«Оттепель» нелегко далась Васильеву.
После волжской поездки зимою он сильно простыл на катке в Петербурге.
Он ничего не умел делать просто так, без души: бегать на коньках — так уж до упаду, шутить — так чтобы всё кругом звенело от хохота, кричать — так уж чтобы за тридевять земель слышно было...
Не оправившись как следует от простуды, он поехал с таким же шальным, как он, дружком — учеником академии Кудрявцевым — перекрикивать Иматру.
Иматра — шумный водопад в Финляндии, среди гранитных голых скал и заснеженных лесов. Друзья становились по обе стороны люто гудящего ледяным кипятком обвала и перекрикивались до хрипоты наперекор стихиям.
К весне Васильева одолел кашель. Но заняться собой было некогда: наступала пора оттепели, а он должен был подглядеть её всю — день за днём, шаг за шагом. Как темнеет, оседая, снег: как на место сахарной сииевы зимних теней приходит сизая коричневатость; как рыжеет перезимовавшей листвою подлесок; как темнеют, оттаивая, брёвна деревенского сруба...
Оттепель была увидена, запечатлена, но тут началась чахотка.
Двадцать один год — излюбленный возраст этой болезни.
Чахотка принялась грызть здоровяка Васильева так же яростно, как поедала она тогда на Руси тысячи крепких и цветущих жизней.
А доктора в то время верили в одно лишь лекарство — Крым.
Но, как водится, на это не оказалось средств, и лишь к июлю удалось добиться помощи от Общества поощрения художников, секретарём которого состоял в то время Дмитрий Васильевич Григорович.
Представительный, красивый старик с окладистыми седыми бакенбардами, чьи повести «Деревня» и «Антон Горемыка» четверть века назад всколыхнули умы молодёжи, теперь почти всё своё время отдавал делам Общества поощрения художников.
Со времён Гоголя многие русские писатели стали близко интересоваться русской живописью.
О художниках много писали Тургенев, Салтыков-Щедрин, Достоевский, Гаршин.
Г ригорович был особенно страстным любителем живописи и общепризнанным авторитетом для меценатов, на чьи средства было основано соощество.
Большой знаток русской деревни и родной природы, он не мог не оценить талант Васильева и сделал всё, чтобы тот получил нужные деньги (долг он впоследствии обязан был погашать своими картинами).
Теперь, кажется, можно бы и ехать. Но тут на стороне чахотки в игру вступила ещё одна тёмная сила.
Как «мещанин без чина и звания», Васильев подлежал рекрутскому набору. По свойственной ему беспечности, он не явился вовремя в присутствие, за что был схвачен и просидел под арестом три дня, покуда Крамской, Мясоедов и Ге не собрали тысячу рублей, чтобы внести залог и вызволить Васильева из каталажки.
Затем, чтобы не оказаться взятым в солдаты, Васильев вынужден был сделаться вольноприходящим учеником академии и перед самым отъездом собрал и подал несколько прежних своих работ на соискание зваиия художника.
Выехал он с ученическим свидетельством академии, что на полгода освобождало от рекрутского набора и служило временным «видом на жительство» в Ялте.
* * *
Когда думаешь о жизни Васильева в Крыму, невольно перед глазами встаёт другое: белый домик на окраине Ялты с овальной табличкой у двери: «Доктор А. П. Чехов», голая спаленка с узкой больничной койкой, большое окно в кабинете — за ним виднеются тёмные свечи кипарисов и далёкое море. И ещё — камин, в который сверху полоской вделана картина: вечер, луг, два стожка, над ними в пепельно-дымчатом небе тёплый ломоть луны...
Этот этюд был написан другом Чехова, Исааком Ильичом Левитаном, когда он гостил в Ялте.
На ялтинских улочках осыпался миндаль, распускались розы, «иудино дерево» одевалось в густо-розовый пышный наряд, цвели магнолии, бледнолиловые крупные кисти глициний свисали в нагретых солнцем двориках с гибких плетей-ветвей. Но от всех этих неродных прелестей спасал, бывало, написанный Левитаном этюд. Пустяк, казалось бы: полоска грунтованного картона, несколько ударов кисти. Но вот поглядишь, когда сердце сожмёт тоска, — и будто повеет степными запахами, будто донесётся издалека негромкая вечерняя песня.
Васильев поселился в Ялте за три десятка лет до того, как туда приехал смертельно больной Чехов. Но та же неодолимая тяга к родным краям, к неброской прелести русской природы владела им здесь. «Ведь у меня возьмут всё, если возьмут это, — писал он Крамскому. — Ведь я как художник потеряю больше половины...»
Но он не намерен сдаваться, он должен жить наперекор беде.
Здесь, в Ялте, он принимается за картину, в которой хочет выразить свои чувства, всю любовь свою — всё, что бережёт память сердца. Там не будет ни могучих гор, ни кипарисов, ни пышных южных цветов, ни лазурного моря — всего лишь омытый дождём мокрый луг под огромным небом, да несколько деревьев вдали, да бегущие по влажной траве тени гонимых ветром ТУЧ —
Когда Крамской увидел присланную Васильевым в Петербург картину («Мокрый луг»), он был потрясён. Всё в ней: и весенняя чистая зелень, и летучий свет, и неслышный ветерок, зарябивший воду в зарастающем русле реки, и невидные капли дождя на влажной листве деревьев — всё, по словам Крамского, говорило о художнике, необыкновенно чутком к «шуму и музыке природы» и способном не только передавать, что он видит, но и улавливать «общий смысл предметов, их разговор между собой и их действительное значение в духовной жизни человека», как писал Крамской Васильеву.
«Нет у нас пейзажиста-поэта в настоящем смысле этого слова, — говорил он, — и если кто может и должен им быть, то это только Васильев».
* * *
Пожалуй, никто, кроме Крамского, не понимал тогда, как тяжелы дни Васильева в Ялте.
Он жил здесь с матерью и младшим братишкой Романом, в котором души не чаял, — жил долетавшими из далёкого Петербурга отзвуками успеха новой картины, жил надеждой на выздоровление и, как всегда, был шутлив, изящен и «держал себя всюду так, что не знающие его полагали, что он по крайней мере граф по крови»1.
1 И. Н. Крамской.
Прогуливаясь по набережной с тросточкой в руке, он заходил в магазины редкостей — он любил блеск жизни, дорогие и красивые вещи.
— Осчастливьте, купите что-нибудь, — угодливо изгибался владелец.
И Васильев, не в силах устоять, приказывал завернуть персидский ковёр или вазу.
Он жил на присылаемые Обществом поощрения художников скудные деньги и вынужден был принять предложение великого князя Владимира — писать крымские виды.
Окрестности Ялты — Ливадия, Эриклик — были собственностью царствующего дома Романовых, а князь Владимир, президент Академии художеств, понимал, чего стоит двадцатидвухлетний мещанин без чина и звания, числившийся вольноприходящим учеником. «Высочайшие» заказы оборачивались для Васильева тяжкой мукой, он через силу брался за «преглупейшие и преказениейшие виды» царских владений. А надежд на выздоровление оставалось всё меньше и меньше.
Когда бессильные перед чахоткой доктора убеждались, что Крым не помогает, они неизменно говорили: «Ментона, Ницца...»
Васильев стал готовиться к отъезду.
Но для выезда за границу необходимо было «звание», и он ждал его от академии, куда подал давно прошение.
Совет академии соизволил наконец присудить Васильеву звание классного художника 1-й степени, но... при условии, что «вольноприходящий ученик» выдержит экзамен «из наук».
Начинался последний акт одной из тихих и нелепых трагедий российской казённой действительности.
Ехать осенью в холодный, сырой Петербург, сдавать грамматику, арифметику, историю... Это было бы равносильно самоубийству.
Васильев просит, в уважение болезни, освободить его от экзамена и дать постоянный вид на жительство.
Примеры такого снисхождения к обстоятельствам бывали уже в академии не раз.
Но к Васильеву снисхождения нет. Совет отменяет прежнее своё постановление и присваивает ему звание «почётного вольного общника» — курьёзнейшее звание, дававшее одно лишь право: при посещении здания академии надевать шитый золотом мундир...
Об этом решении Васильеву сообщил Григорович. И — по досадной случайности — вышло так, что добрейший старик именовал Васильева на конверте по метрике: Фёдором Викторовичем, обращаясь в самом письме к нему как к Фёдору Александровичу. Впрочем, то могла быть и не случайность — возможно, письмо было заказным и для получения его мог потребоваться пресловутый «вид на жительство».
Но, как бы там ни было, расхождение хлестнуло Васильева сильнее, чем того можно было ожидать. Получив письмо, он, по словам матери, долго стоял посреди комнаты молча, держа в руке конверт и лист бумаги. Затем произнёс: «Всё кончено», — добрёл до постели и лёг.
В начале октября 1873 года заведующий художественным отделом петербургской Публичной библиотеки Стасов получил письмо от Крамского:
«Многоуважаемый Владимир Васильевич, быть может, вы найдёте уместным сообщить публике, при случае, об одном печальном обстоятельстве, по поводу которого я решаюсь написать вам несколько строк. 24 сентября, утром, умер от чахотки в Ялте 23 лет от роду пейзажист Фёдор Александрович Васильев... Не знаю, много ли будет у меня единомышленников, но я полагаю, что русская школа потеряла в нём гениального художника...»
* * *
Остаётся добавить, что как раз в это время картины Васильева были украшением русского отдела Всемирной выставки в Вене, а императорская академия, отказавшая Васильеву в «виде на жительство», называла его в печатном отделе «художником первой степени».
Изображать в искусстве то, чем ты сам однажды был глубоко потрясён, собственное своё душевное движение, сожаление, радость, отчаяние — это для талантливого человека самый верный путь к тому, чтобы потрясти и тронуть других.
В. В. Стасов
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
МОГУЧИЕ И БОДРЫЕ
В то время, когда Васильев угасал в Ялте, двадцативосьмилетний Репин заканчивал в Петербурге картину, замысел которой родился счастливым летом 1870 года на Волге.
В те безоблачные дни, когда друзья-художники втроём жили в селе Ширяеве, когда на берегах великой русской реки звучал звонкий смех «чудо-юноши», когда медлительный и молчаливый Макаров забирался со своим этюдником на Царёв курган, откуда так широко открывались волжские просторы, Репин всё чаще уходил на песчаную отмель, где нередко останавливались на краткий отдых бурлаки.
Здесь они варили на костре свой немудрящий харч в закопчённом котелке: здесь тихо и почтенно ели, помолясь иа восток, и, отдохнув, снова впрягались в потемнелые от пота кожаные лямки, чтобы тянуть дальше тяжело гружённую барку-«тихвинку».
Надсадный труд этих людей давно уже стал как бы символом «скотоподобного порабощения» человека в России.
В 1858 году написаны были знаменитые строки:
Выдь на Волгу, чей стон раздаётся Над великою русской рекой?
Этот стон у нас песней зовётся —
То бурлаки идут бечевой...
Позднее Репин признался, что впервые прочёл некрасовские «Размышления у парадного подъезда» лишь через два года после поездки на Волгу.
В другом стихотворении Некрасов писал:
Унылый, сумрачный бурлак.
Каким тебя я в детстве знал,
Таким и ныне увидал:
Всё ту же песню ты поёшь,
Всё ту же лямку ты несёшь.
В чертах усталого лица
Всё та ж покорность до конца...
Но Репин не умел и не хотел видеть с чужих слов. Он увидел в своих бурлаках иное.
Ои и сам не мог бы объяснить как следует, что именно так поразило его, когда ои впервые наблюдал их — молчаливых, скупых на улыбку, одетых в отрепья, босоногих и темнолицых.
Вот один из них, по фамилии Канин. «Что-то в нём восточное, древнее. Рубаха ведь тоже набойкой была когда-то: по суровому холсту пройдена печать доски синей окраски индиго; но разве это возможно разобрать? Вся эта ткань превратилась в одноцветную кожу серо-буроватого цвета... Да что эту рвань разглядывать! А вот глаза, глаза! Какая глубина взгляда...»'
В Канина он, что называется, «влюбился». Он подолгу ходил рядом с ним бечевой (так называлась бурлацкая береговая тропа), вглядываясь, «как дивно повязана тряпицей голова, как закурчавились волосы к шее...». Он любовался червонно-бронзовым цветом его опалённого солнцем лица, его большим умным лбом. «...И всё больше и больше нравится он мне: я до страсти влюбляюсь во всякую черту его характера и во всякий оттенок его кожи и посконной рубахи. Какая теплота в этом колорите!»
То был любовный взгляд художника, идущего за правдой жизни.
Тут, в Ширяеве, Репин написал десятки этюдов — и с Канина, и со мно-82 гих других бурлаков. Тут он и задумал свою картину.
Но первоначальный замысел отличался от тех «Бурлаков», каких мы знаем теперь. Репин сперва хотел было изобразить в сторонке ещё и группу чисто одетых господ — для контраста. Но Васильев, со свойственным ему чутьём, отсоветовал: получилась бы нравоучительная картинка, не более.
Репин, к счастью, прислушался к голосу младшего друга, хотя при внешней покладистости был весьма своеволен. Но и сам он, должно быть, чувствовал наивность такого сопоставления.
Нет, не нравоучения нужны были тут, не притчи. Пусть сами за себя говорят эти одиннадцать фигур — одиннадцать горьких судеб, одиннадцать человек на горячем песке под палящим солнцем на берегу раздольной русской реки. Тут сольётся всё: и спокойная мудрость, и богатырская сила, доброта и суровость, тяжкое раздумье и проблеск надежды, — не будет лишь одного: той «покорности до конца», о которой писал Некрасов.
* * *
Появлялись и до «Бурлаков» картины, с горячим сочувствием рассказывавшие о бедах народных. Вспомните «Проводы покойника» Перова — «маленькую по размерам, но великую по содержанию и трагическому чувству», как говорил о ней Стасов, картину. Серый зимний день, убогие деревенские розвальни, гроб, потерявшая кормильца семья... «Что тут нарисовано, — писал Стасов, — то всякий день происходит на тысяче концов России, только никакой прежний живописец этого не видал и не останавливался на этом».
Да, верно, картины Федотова, Перова, Максимова рисовали такое, чего никогда прежде не осмеливалась касаться кисть русского живописца. Беспросветная нужда, невылазная грязь, тёмный пьяный разгул под хоругвями сельского крестного хода, обожравшиеся попы, обездоленные мужики, брюхатые купцы и тупицы чиновники — разве ие из жизни было всё это выхвачено, не звучало обличающей правдой?
Но за этой жестокой правдой о стране, «где жизнь текла среди пиров, бессмысленного чванства, разврата грязного и мелкого тиранства», стояла другая, большая правда — она-то и прозвучала в репинской картине.
Впряжённая в лямки, подневольная, но могучая своей затаённой силой Русь вставала тут зрителем. Взгляд бурлака, налегающего на лямку сильным голым плечом, обжигал.
И каким тревожным контрастом темнели эти фигуры среди безмятежно сияющей природы!..
Нам, для которых репинские «Бурлаки» с детства становятся чем-то несказанно привычным, родиым, трудно представить себе, каким смелым шагом вперёд была эта картина и какую бурю нападок вызвала оиа при своём появлении.
«Величайшей профанацией искусства» назвал её генерал от живописи Фёдор Антонович Бруни. «Чисто одетые господа», которых Репин хотел было изобразить на картине, твердили своё: «Неизящество типов»... «Грубость натур»... «Бедность, лохмотья»... Репина обвиняли чуть ли не в клевете и отсутствии патриотизма.
Но разве не так же бывало в разные времена со всеми, кто решался прокладывать новые пути, плыть против течения, идти против господствующего вкуса, кто осмеливался говорить одну лишь неподкрашениую правду?
Не раздавались ли те же — слово в слово — обвинения и упрёки по адресу Рембрандта, или же художника-коммунара Гюстава Курбе, или Жана-Фраисуа Милле, «живописца в крестьянских башмаках»? Не назывались ли гениальные созвучия «Ивана Сусанина» кучерской музыкой?
Время, одиако, выносит свой приговор.
Вы можете восторгаться цветистой живописью «малых голландцев», она ласкает ваш взгляд и сообщает вам тысячи любопытных подробностей: вот так-то одевались голландские дамы, вот этак-то музицировали голландские кавалеры, так выглядели нх жилища, их чистенькие дворики и дома, ковры, серебряная посуда, их служанки и слуги.
Но вот вы остановились в молчании: Рембрандт... Смотрите, здесь обращаются к вашему сердцу. Здесь ждут сочувствия и требуют справедливости. Здесь предстаёт перед вами жизиь во всей её сложности, с её болью и радостями, с неустанным бореиием света против тьмы.
Есть трудноуловимая грань, отделяющая в искусстве бытовую сцеиу — пусть самую живую и правдивую — от чего-то большего, от чего-то такого, что делает обыденную, «отдельную» правду всеобщей, всечеловеческой, всенародной.
Репин первым в русской живописи переступил эту грань. От вызывающих жалость, сострадание или грустную улыбку картин того времени он разом поднялся до картины, полной горячей любви и веры в обездоленного человека, в его силы, в его будущее. И надо ли удивляться тому, что для выражения новых мыслей и чувств Репину понадобились иные, новые краски?
Когда Перов и другие впервые отвернулись от академических законов «идеально прекрасного», они как бы наперёд отказались и от той ласкающей взор приятности цвета, которая так покоряла в картинах академистов. Серокоричневая (а подчас и черноватая) тональность картин Перова, их нарочитая хмурая приглушённость, их «некрасивость» вполне вязались с теми чувствами, какие хотел вызвать художник.
Репину виделось иное. Вместе с верой в лучшее будущее людей он возвращал живописи главную её силу: красочность. Но вовсе не ту радужную, условно-приятную цветистость, какая пестовалась в академических классах.
Краски Репина — это краски самой русской жизни, с её ширью, с её размахом добра и зла, с её тенями и светом, с её голубыми просторами, чистым бездонным небом, с её впряжёнными в лямку могучими, опалёнными солнцем людьми, шагающими в тяжкой натуге по жарко-золотому песку волжского берега.
* * *
В своём «Дневнике писателя» за 1873 год Фёдор Михайлович Достоевский писал:
«Нельзя не полюбить их, этих беззащитных, нельзя уйти, их не полюбя. Нельзя не подумать, что действительно должен народу... Ведь эта бурлацкая «партия» будет сниться потом во сне, через пятнадцать лет вспомнится! А не были бы они так натуральны, невинны и просты — не производили бы впечатления и не составили бы такой картины... Жаль, что я ничего не знаю о г. Репине. Любопытно узнать, молодой это человек или нет? Как бы я желал, чтобы это был очень молодой и только начинающий художник».
МОЛОДОСТЬ
В то время Репину шёл двадцать девятый год. Он только что блистательно окончил академию, получив большую золотую медаль за конкурсную программу «Воскрешение дочери Иаира».
Он учился у Павла Петровича Чистякова, знаменитого рисовальщика-пе-дагога, обучившего несколько поколений русских художников. Но действительным учителем своим Репин всегда называл Крамского.
Репин приехал из родного Чугуева в Петербург поздней осенью 1863 года, как раз в дни «бунта четырнадцати». К зиме он поступил в Рисовальную вечернюю школу Общества поощрения художников, где с недавнего времени преподавал Крамской.
С первой же встречи этот скуластый худой человек с трёпаной студенческой бородкой и необыкновенно пристальным взглядом маленьких серых глаз произвёл глубокое впечатление на девятнадцатилетнего Репина.
В Иване Николаевиче Крамском было что-то такое, что сразу же заставляло прислушаться к его глуховатому, негромкому голосу. В нём звучала сила искренней убеждённости, серьёзное внимание к собеседнику, увлечённость общим делом — словом, всё то, что только и даёт право человеку называться учителем.
Сын мелкого чиновника из захолустного Острогожска, Крамской рано лишился отца. Детство и юные годы его были нелёгкими. Когда ои окончил уездное училище, мать отвела его пешком в Воронеж и отдала в подмастерья к иконописцу — «богомазу», которому он три месяца растирал краски, носил обеды с другого конца города и таскал из реки мокнувшие там бочки для солений, пока не сбежал. Затем три года ездил с бродячим фотографом в качестве ретушёра.
Впоследствии он говорил, что ничему так ие завидовал смолоду, как образованности. «Как видите, учёность моя очень обширна», — с грустной усмешкой замечал он, вспоминая об уездном училище. На деле же он был едва ли не самым образованным и разносторонне знающим среди русских художников.
Когда Репин, поучившись в Рисовальной школе, поступил в академию, он все рисунки свои по-прежнему приносил на окончательный суд Крамскому.
— Дай вам бог не испортиться в академии, — говорил тот. — За академические премудрости почти всегда платятся своей личностью, индивидуальностью художника. Сколько уже людей, и каких даровитых, сделались пошлыми рутинёрами!..
Предостережения Крамского, его необыкновенно меткие замечания, его похвалы и открытые, порою резкие порицания приносили неоценимую пользу.
Однажды Репин показал ему свой эскиз на заданную в академии библейскую тему о всемирном потопе.
— Как, и это вы? — спросил Крамской, нахмурясь. — Вот, признаюсь, не ожидал... Да ведь это «Последний день Помпеи»... Странно! Вот оно как... Да-с. Тут я ничего не могу сказать. Нет, это не то. Не так...
«Я тут только впервые, казалось, увидел свой эскиз, — вспоминал потом Репин. — Боже мой, какая мерзость! И как это я думал, что это эффектно, сильно!..»
А Крамской продолжал:
— Ведь это ие производит никакого впечатления, несмотря на все эти громы, молнии и прочие ужасы. Всё это составлено из виденных вами картин, из общих, избитых мест... Нет, уж вы этот приём бросьте...
Предостерегая от подражания — пусть даже самым великим образцам, — Крамской в то же время настойчиво обращал Репина непосредственно к жизни и хвалил сделанные им вне стен академии этюды, где не было «академической условной подкладки, избитых колеров», ловко положенных бликов и эффектных теней.
— Работайте-ка вы почаще сами, дома, у себя, да приносите показать. Право, интересно даже посмотреть: что-то есть живое, новое...
Крамской удивительно верно разгадал главное свойство репинского таланта, расцветавшего в полную силу лишь там, где кончались фантазии и начиналась живая, волнующая художника действительность.
Это свойство со всей определённостью проявилось во время академического пенсионерства.
Заграничное житьё не шло Репину впрок. Прежде, бывало, пенсионеры всячески старались подольше задержаться в Италии или Франции. Репин (так же как несколькими годами раньше Перов) всеми силами рвался на родину. Всё, что он видел здесь и что нравилось ему — страстность Микеланджело, солнечность Тициана, красочность Веронезе, глубокий драматизм Рембрандта, — всё это лишь подхлёстывало его, лишь обостряло желание поскорее найти приложение своим собственным силам.
В Париже он писал уличные сцены — «Продавец новостей», «Парижское кафе». Здесь же затеял картину-фантазию иа тему древней русской былины: в сине-зелёном подводном царстве, в мерцании пронизавших водную толщу солнечных отсветов, среди причудливых водорослей и рыб, величаво плывут мимо «новгородского гостя» Садко чудо-красавицы в роскошных костюмах: смуглянка Индия, волоокая Персия, белокудрая Англия, кокетливая Франция...
«В этой картине выразится моё настоящее положение, — писал из Парижа Репин. — В Европе, с её удивительными вещами, я чувствую себя таким же Садко...»
Он должен сделать выбор, и, конечно же, ему по душе та далёкая, что виднеется в самом конце причудливой подводной процессии, «девушка-чернавушка, неприглядная русская женщина. Эту, какова она ни есть, Садко предпочитает, по глубокому сердечному родству и ещё более глубокой привычке, всем остальным, каким бы то ни было красавицам всего мира»1.
1 Превосходно написан в картине сам Садко — для него позировал художник Виктор Васнецов, — а также вода н рыбы, которых Репин писал в знаменитом Парижском аквариуме. Всё остальное сочинено и оказалось куда слабее. Так бывало всегда, когда Репин пытался писать «от себя». Сила его была в гениальной передаче натуры, её живых форм и движений.
Пусть картина написана слабее «Бурлаков» и многих других репинских картин — художник этот не рождён для фантазий, — но искренность чувства, руководившего его кистью, несомненна.
* * *
Вернувшись на родину, он едет прежде всего В Чугуев — туда, где мальчонкой видел, как табунщики объезжают диких коней, как аракчеевские унтеры хлещут шпицрутенами военных поселенцев, где хлебал, обжигаясь, чумацкую кашу из котелка и где первый раз макнул кисточку в подаренные двоюродным братом краски, чтобы нарисовать собаку Полкана или алый с чёрными семечками ломоть арбуза.
Он покинул родительский дом девятнадцатилетним учеником Чугуевских иконописцев. Он возвращался теперь известным всей России художником.
По тогдашнему распорядку академические пенсионеры не имели права выставлять где-либо свои работы без ведома и согласия академии. Репин решительно нарушил незыблемое дотоле правило.
Ещё в 1874 году Крамской писал ему в Париж: «Постановка ваших вещей у нас на выставке произвела сенсацию». Да, это действительно была неожиданность, радостная для всех, кому дороги были судьбы родного искусства, и весьма неприятная для академического начальства. Но Репин сознавал свою силу и своё место в строю.
Ои поехал в Чугуев не потому лишь, что соскучился за годы разлуки по родным краям и близким людям. Он приехал сюда, чтобы вновь — как однажды на Волге — припасть к роднику народной жизни. И он не ошибся.
Год, проведённый в Чугуеве — на живописных берегах Донца, на полях и дорогах, «на свадьбах, на базарах, в волостях, на постоялых дворах, в кабаках, трактирах и церквях», — придал репинской кисти новую силу.
Тут был написан знаменитый «Протодьякон» — портрет Чугуевского дьякона Ивана Уланова, ставший как бы собирательным образом басовитых «львов русского духовенства» с их грубостью, чревоугодием и лицемерной елейностью.
Тут была задумана удивительная по стихийному размаху картина «Крестный ход в Курской губернии», в которой перед зрителем в жарком мареве просвеченной солнцем дорожной пыли проходила как бы вся Россия с её бесправным народом, чванными барынями и чисто одетыми господами, ханжамн-мещанами, попами и озверелыми урядниками.
Тут, в Чугуеве, Репин твёрдо и окончательно определяет, с кем должен двигаться дальше.
«Знаете ли вы, — отвечал ему весной 1878 года Крамской, получивший формальное заявление о вступлении Репина в Товарищество передвижных выставок, — «о, знаете лн вы?» (как говорят поэты), какое хорошее слово вы написали: «я ваш». Это одно слово вливает в моё сердце бодрость и надежду! Вперёд!»
ВПЕРЁД!
Нет слова более животворного для искусства, чем это краткое слово.
Вперёд, потому что жизнь не стоит на месте. Вперёд, потому что движется, неустанно меняясь, человеческий разум. Вперёд, потому что искусство только тогда сильно и действительно нужно людям, когда оно шагает с ними в ногу, когда оно «объясняет жизнь», помогая человеку понять себя и происходящее вокруг.
За время, прошедшее с того дня, когда четырнадцать единомышленников объявили войну академической окостенелости, многое изменилось в жизни русского общества.
В этих изменениях немалую роль играло искусство. Можно без ошибки сказать, что целые поколения мыслящих русских людей были воспитаны не только литературой, но и живописью.
Картины Перова, Мясоедова, Максимова будили возмущение «свинцовыми мерзостями русской жизни»; буднли они и сострадание, и любовь к обездоленному люду. Эти «берущие за душу» картины несомненно стояли перед глазами тех, кто уходил тогда «в народ», чтобы нести туда свет правды и знания. Но действительность жестоко била по благородным и юношески-наивным порывам одиночек, и под этими ударами выковывались новые, другие люди — не сострадатели, а борцы, которых Ленин впоследствии назвал «блестящей плеядой революционеров семидесятых годов».
Когда Репин писал Крамскому: «я ваш», в Петербурге заканчивался знаменитый «Процесс 193-х» — «дело о революционной пропаганде в империи».
Под впечатлением этого процесса Репин начал картину «Арест пропагандиста».
...Внутренность убогой крестьянской избы. Скудный свет серого утра сочится в окошко. Дощатый пол усыпан клочками бумаги. У раскрытого, полного книг, брошюр и рукописей чемодана — заматерелый становой пристав, погружённый в чтение какого-то «крамольного» листка. Урядник вместе с сотскнм держат арестованного, хоть тот и не вырывается, а стоит со скрученными за спину руками, стоит, сжав зубы и глядя исподлобья на едва виднеющегося в полутьме избы «чисто одетого» мироеда — должно быть, сельского старосту, поспешившего донести властям о появлении на деревне подозрительного «нигилиста».
Ещё несколько фигур дополняют картину: угодливо склонившийся к офицеру канцелярист — «кувшинное рыло» с бантиком на шее; мрачно сидящий у двери понятой; бородатые мужики у окна; подруга арестованного, припавшая головой к стене...
Для нас эта полная драматизма сцена как бы воскрешает страницу прошлого, воочию знакомит с одним из тех, кто гибнул, стремясь поднять народ на борьбу. Великое спасибо художнику за это.
Но попытайтесь представить, чем была эта картина для современников Репина, искавших ответа на множество наболевших вопросов. Попытайтесь представить, каким дерзким вызовом звучало алое, как флаг революции, пятно рубахи пропагандиста; как ясно читался приговор, произнесённый художником над явлением русской действительности!
Репин проявил верное чутьё, подчеркнул одиночество своего героя среди холуйства, жандармской тупости и равнодушия (а то н враждебного недоверия) запуганных и забитых бородачей-лапотников.
Но вся любовь художника отдана этому одиночке-борцу с рыжеватой студенческой бородкой, с откинутыми над высоким лбом волосами, с крепко сжатыми Челюстями и непримиримым взглядом.
Смотря на этот запечатлённый рассказ, где так ясно и выпукло очерчены характеры действующих лиц, роль и место каждого в разыгравшейся драме, невольно задумываешься над обвинениями, в разное время раздававшимися по адресу передвижников.
Их упрекали в «принижении» и огрублении, в очернительстве, в клевете на русскую жизнь и, наконец, в «литературности», в низведении живописи до уровня второстепенного помощника литературы. «Вы преподносите нам рассказы и анекдоты под видом картин», — говорили (и теперь ещё, бывает, говорят) противники передвижников.
Нет спору, каждое из искусств должно идти к сердцу человека своими путями. Но подумайте, разве «Блудный сын» Рембрандта ие рассказ о настрадавшемся человеке, пережившем десятки невзгод и припавшем к коленям отца, чтобы выплакать пережитое?
А «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи? А знаменитый триптих Боттичелли «Из жизни святого Зеиобия», где рассказана история человека от рождения до смерти?
А многолюдные фрески-повести мастеров раннего Возрождения, где действие разворачивается неторопливо, в десятках подробностей? А многочисленные библейские картины с законченным «литературным» сюжетом?
Примеров можно было бы привести много, но и этих, вероятно, достаточно, чтобы понять: дело, как видно, не только в том, что хочет рассказать художник, но и в том, как ои это делает.
Но об этом речь будет ещё впереди.
* * *
По установившемуся обычаю, выставки передвижников открывались в Петербурге весной, на второй неделе поста.
«Это были счастливейшие дни в году, — вспоминал Игорь Эммануилович Грабарь, известный русский художник и историк искусства. — Бывало, идёшь на выставку, и от ожидающего тебя счастья дух захватывает...»
Посетители, валом валившие иа выставку, обычно не обманывались в своих ожиданиях.
Почти каждый год тут появлялось что-то действительно новое, сраву же привлекавшее внимание, задевавшее самые наболевшие вопросы сегодняшней жизии.
Теперь, когда многие картины с этих выставок покойно висят в музейных залах, ие так легко представить, сколько горячих чувств, сколько споров вызывали они при своём появлении и сколько будили мыслей.
Вот «Осуждённый» Владимира Маковского. Сени судебного присутствия, солдаты-часовые у выхода; два жандарма в снних мундирах с шашками наголо выводят только что осуждённого молодого человека в арестантском халате, с обросшим бородкой крестьянским лицом, и тут он встречается взглядом с матерью, прибежавшей откуда-то из деревни, чтобы — кто знает, не в последний ли раз? — увидеть сына... Рассказывают — люди плакали у этой картины на седьмой выставке передвижников в 1879 году. Плакали, потому что у каждого она задевала что-то своё; потому что свежа была ещё память о «деле 193-х»; потому что сотни и тысячи других «дел» оканчивались тогда в России такими же горестными сценами прощаний под сенью жандармских шашек в казённых стенах судебных присутствий, прн сочувственных взглядах случайных зрителей и каменном равнодушии господ адвокатов и судей, мирно беседующих в сторонке.
Мария Аьвовна, дочь Толстого, вспоминала, как отец, впервые увидев репинскую картину «Арест пропагандиста», долго стоял перед ней, долго не мог уйти...
Так одна за другой входили в сознание, тревожили, будоражили ум и совесть русского человека картины русских художников.
«Отказ от исповеди» Репина — сцена гордого презрения революционера к смерти... «Заключённый» Николая Ярошенко — тёмная, узкая тюремная камера н взобравшийся на стол, чтобы заглянуть в тусклое оконце, человек, лица которого мы почти не внднм... Да что лицо, когда вся картина говорит об одном — о жажде свободы и света. А книга, лежащая на углу стола, ясно свидетельствует, о каком заключённом хотел рассказать художник.
Было бы, однако, ошибкою полагать, что в одном лишь прямом обличении зла и неправды была сила художннков-передвижннков.
Искусство, служа истине и добру, имеет одну общую цель — улучшить человека, помочь ему полнее познать себя и окружающий мир; но пути к достижению этой цели многообразны.
Мелодии Чайковского, стихи Пушкина, Лермонтова, пейзажи Васильева, Левитана — разве всё это не возвышает нас, не помогает нам стать лучшими, чем мы есть?
Счастье наше в том, что на свете всегда рождались художники, призванные пробуждать в сердцах все присущие человеку чувства — и гнев, и печаль, и тихую радость, и сострадание, и ненависть, и любовь.
Искусство многообразно, как многообразен человек, которому оно служит. Рядом с горьким трагизмом Рембрандта живёт и всегда будет жить буйное веселье Рубенса. Кроткая человечность Рафаэля соседствует с мятежным духом Микеланджело. Искромётные трели Моцарта так же дороги нам, как траурно-суровые бетховенские аккорды.
На передвижных выставках вместе с полными гражданских чувств картинами Репина, Ярошенко, вместе с обличающими тёмные стороны тогдашней жизни сценами Владимира Маковского, Корзухина, Мясоедова. Максимова появлялись мягкие, лиричные пейзажи Поленова, Куинджи. Появлялись картины Виктора Васнецова, поэта русской старины, создателя могучих добряков «Богатырей» и чудесной босоногой «Алёнушки», пригорюнившейся на берегу лесного тихого озера. Рядом с портретами современ ников висели исторические полотна, воскрешавшие страницы прошлого
Среди товарищей-передвижников были люди разной силы таланта, разного характера, разной душевной настроенности. И картины их были разные.
Но, как говорил о них Стасов, «всякому своё, у всякого своя натура и своя жизнь... и никому нет надобности в искусстве поглядывать на другого, «на чужой салтык вытягивать свой собственный нос»... Каждый обязан лишь одно делать: то, что всего более ему пристало, что ближе всего его натуре... только бы не останавливался на одном месте, только бы не убавлял того пару, что кипел в молодости, только бы шёл всё вперёд да вперёд».
Только там и есть настоящее искусство, где народ чувствует себя дома и действующим лииом; то. только и есть искусство, которое отвечает на действительные мысли и чувства, а не служит сладким десертом, без которого можно и обойтись.
В. В. Стасов
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
ДЕДОВЫ И РЯБИНИНЫ
омните ли вы рассказ Гаршина «Художники»? Помните удачника Дедова и «невезучего» правдолюба Рябинина? Оба учились в Петербургской академии. Дедов писал ландшафты с розовыми облаками, в которых было «пропасть поэзии», Рябн-нин же вздумал изобразить «глухаря» — рабочего-котельщика «с грязной рожей».
Помните, чем кончилось всё это? Первый, разумеется, получил медаль и уехал за границу; второй, принуждённый уйти из академии, поступил в учительскую семинарию и сгинул.
Гаршинский рассказ написан в 1879 году. Но спор дедовых с рябини-ными ведётся издавна — пожалуй, с тех пор, как человек впервые задался вопросом: для чего на земле искусство?
«Как убедиться в том, — восклицает Рябинин, — что всю свою жизнь не будешь служить исключительно глупому любопытству, тщеславию какого-нибудь разбогатевшего желудка? Дедов по свойству натуры своей не терзается сомнениями. Он пишет нравящиеся всем картины — и процветает.
Таких дедовых всегда находилось немало на свете. Процветали они и в то время, о котором идёт речь.
На академических выставках одна за другой появлялись (и пользовались немалым успехом) приторно-красивые картины «обитателей Рима» Семи-радского, Бакаловича, Котарбинского — всякие «Фрины на празднике Посейдона», «Танцы среди мечей» и «Смерти среди роз», подкупавшие зрителя пышной яркостью красок, умелым рисунком, эффектами освещения.
Чего только не было там: перламутр и золото, медь и бронза, бирюзовые небеса, римские туники, мрамор, мечи, античные вазы, полунагие и вовсе нагие красавицы — всё «как живое» и в то же время такое, какого никогда не бывает в жизни, холодное, как бенгальский огонь.
В искусстве всегда бывали и бывают мастера трескучих фейерверков, пользующиеся неискушённостью зрителя, отсталостью вкусов, тонко изучившие человеческую слабость любоваться «красивым». На счастье дедовых и на беду рябининых, во все времена находились люди, которым нравятся именно такие «блестящие и шумные игрушки».
«Разбогатевшие желудки», каких немало было тогда в России, охотно покупали всё, что успевали писать плодовитые дедовы, и роскошные гостиные скоробогачей, как едко заметил Глеб Успенский, обязательно украшались какой-нибудь «Римлянкой, входящей в бассейн» или «Римлянкой, выходящей из бассейна».
Модный живописец Клевер пёк, как блины, свои одинаковые сладкие пейзажи — зимний лес, облитый малиновым светом снег, чёрные сучья деревьев на фоне пылающего заката — и был до того богат, что не знал, куда девать деньги. Бывало, наймёт пароход, оркестрантов, созовёт друзей и знакомых, и айда по Неве на взморье с музыкой...
Кое-кто из передвижников соблазнялся лёгким успехом, деньгами. Константин Маковский, один из четырнадцати «бунтовщиков», вначале писавший непритязательные сценки из деревенской жизни (вроде «Детей, бегущих от грозы»), стал писать обнажённых красавиц, пышных боярышень в расшитых жемчугами кокошниках и эффектные портреты на заказ.
В рассказе Гаршина Дедов снисходительно жалеет Рябинина: гибнет, мол, по собственной наивности человек. В жизни дедовы бывали куда безжалостнее.
На передвижников по-прежнему набрасывались в печати со всевозможными обвинениями и упрёками. Их по-прежнему обвиняли в «принижении искусства», в «неиэяществе и грубости типов», в очернительстве и клевете на русскую жизнь. Их по-прежнему упрекали в том, что они сделали живопись прислужницей литературы, иллюстратором её «либеральных идей». Но вот любопытный факт: рассказ Гаршина родился под впечатлением выставки передвижников, где писатель увидел картину Николая Александровича Ярошенко «Кочегар».
Это была необычная картина: грузная фигура бородатого рабочего, освещённая тревожными отблесками пылающей топки. Он стоял, тяжело свесив могучие жилистые руки; черенок кочегарской лопаты занял место, где так привычно было видеть эфес дворянской шпаги или дорогую трость.
Что говорить, «неизящества» тут было вдоволь, красоты телосложения — ии на грош. Жизнь изувечила этого человека, искривила его позвоночник, вбила голову в широкие плечи, сделала впалой богатырскую грудь. Но вот он разогнул на миг спину, как бы задумавшись о чём-то...
Кое-кого мороз подирал по коже от этого ушедшего в себя взгляда, от этой неисчерпаемой силы, от грозно трепещущих отблесков пламени на этом широком бородатом лице. «У меня ие было долгов, — писал тогда один из критиков, — а тут мне всё кажется, как будто кому-то задолжал и не в состоянии оплатить долга... Ба, да это «Кочегар», вот твой кредитор, вот у кого ты в неоплатном долгу. Я давно не видел художественных произведений, которые взволновали бы меня так глубоко...»
* * *
Не любопытно ли, что эта необычная картина-портрет написана генерал-майором, служившим на петербургском патронном заводе?
Николай Александрович Ярошенко был одним из привлекательнейших людей среди художников своего времени.
Он родился в Полтаве, в семье военного. Двадцати четырёх лет окончил Михайловскую артиллерийскую академию в Петербурге. С детства увлекался живописью, но, так же как и Федотов, долго тянул военную -лямку, прежде чем смог свободно заняться любимым делом. Как и Федотов, он пять лет ходил в вечерние классы академии. Учился у Крамского, у жанриста Волкова. Тридцати шести лет Ярошенко вышел в отставку, сменив генеральский мундир на рабочую блузу, в которой его потом все привыкли видеть. К тому времени он стал уже признанным и уважаемым живописцем, членом правления Товарищества передвижных выставок.
Он был человек редкостной нравственной чистоты. Его называли • «совестью русских художников».
Стриженный «ёжиком», с худощавым лицом и короткими усами, он походил внешностью на молчаливого мастерового. Он был дружен с Крамским, Глебом Успенским и Менделеевым, а дома у него всегда полно бывало студентов. Он любил молодёжь; его общительность и душевность вызывали ответные чувства. Он не был набалован шумной славой или богатством и не числился среди великих, хоть у картин его всегда толпились люди.
А теперь, обращаясь к тому, что он сделал, видишь, что немного найдётся у нас художников, писавших так просто, так искренне, без всяких эффектов, без признака заискивания перед зрителем, без малейших уступок моде или дурному вкусу, без расчёта на непременный успех.
Ленин назвал Ярошенко «прекрасным психологом действительной жизни». Это сказано верно и точно. Неяркие картины Ярошенко, его мягкие пейзажи, а особенно его портреты свидетельствуют о том, с каким сочувствием вглядывался он в окружающее и как страстно ненавидел всё, что подавляет, калечит, уродует человека.
...Железнодорожный тюремный вагон, арестанты у забранного стальными прутьями окошка. Белоголовый мальчонка сыплет хлебные крошки голубям на платформу. Кто не знает этой картины?
Ярошенко назвал её «Всюду жизнь»... Да, верно, всюду жизнь, а значит, и всюду прекрасное!
Мы воспитаны в уважении к великим именам, но, признаюсь, для меня ярошенковская арестантка в чёрном платке, держащая на руках сына, чем-то ближе, понятнее, роднее многих прославленных мадонн. Вглядитесь в её строгое и скорбное лицо, в чистую улыбку мальчугана, в свет добра, озаряющий лица других арестантов, особенно бородатого старика, и вы оцените всю правдивость, естественность и глубокую человечность этой сцены.
Ярошенко был, если можно так сказать, Рябининым до мозга костей. Образ душою болеющего за правду художника, созданный Гаршиным, впитал в себя лучшие черты художников-передвижников, которых близко знал писатель.
* * *
Рябининым нелегко жилось на свете. Болезнь рано надломила силы Николая Александровича Ярошенко.
Он задумал большую картину из жизни рабочих (он был тогда, пожа-106 луй, единственным из художников, близко знавшим жизнь фабричного
человека), но выполнить задуманное не успел. Ярошенко умер 52-х лет от роду, всё от той же чахотки, унёсшей Васильева, Чехова и многих других.
Одна из поздних картин его — «В тёплых краях» — говорит о печали угасания среди расцветающей природы.
ЗРЕЛЫЕ ГОДЫ
Вспоминая о Репине, Корней Иванович Чуковский рассказывает, что, не зная ещё Репина лично, он представлял его себе могучим великаном.
Такое представление о Репине сложилось в детстве и у меня, и мне приятно было узнать, что был он вовсе не великаном с львиной гривой и громовым голосом, а человеком небольшого, скорее даже маленького роста, подвижным, смешливым, с тонкими чертами лица и узкими, изящными. как бы девичьими руками. У него были вьющиеся тёмно-русые волосы, лукавая улыбка, привычка покручивать длинный ус. От постоянного прищуривания во время работы вокруг глаз его лучились морщинки.
Когда находишь в таком гиганте, как Репин, черты живые, земные, обыкновенные, испытываешь радость, легко объяснимую радость за человека, сильного прежде всего духом творчества и делами своими.
Репин был вспыльчив. Был порою до крайностей неумерен в оценках. Его похвалы и восторги бывали чрезмерны, так же как и порицания. Он безудержно захваливал работы своих товарищей — от большой и беззаветной любвн к искусству. Случалось ему и ругать незаслуженно. Его бурные атаки на Рафаэля и других великих мастеров прошлого также были, мне кажется, выражением любви к родному искусству, формой протеста против академического идолопоклонства перед чужеземными образцами.
К своим собственным работам он относился с болезненной неудовлетворённостью. Уже будучи знаменитым, он убегал с весенних вернисажей, не попадая в рукава шубы и бормоча:
— Не вышло... Не нашёл... О-о-о, как же это, не так надо было!
Это самое «не так надо было» звучало в его устах постоянным припевом.
Ни одну из своих картин он не считал в душе удовлетворительно оконченной. Он готов был исправлять и переписывать без конца (и делал это порою даже в ущерб первоначальной свежести). Небольшую картину «Арест
пропагандиста» он писал трижды, прежде чем нашёл окончательное решение. Он возвращался к ней на протяжении десяти лет.
Работать было для него единственно мыслимой формой существования. Когда к старости у него стала усыхать правая рука (что может быть страшнее для художника!), он придумал подвесную палитру, укреплённую у пояса, и научился писать левой. (К слову, такое было и с другим замечательным живописцем — Кустодиевым, учеником Репина. Парализованный, он передвигался в кресле на колёсиках и до последних дней писал кистью, привязанной к костенеющей руке.)
Но в то время, о котором идёт речь, Репин был в расцвете сил и здоровья. Одна за другой выходили из-под его кисти картины, задевавшие самые различные струны в сердцах зрителей.
После «Крестного хода в Курской губернии», развернувшего перед людьми стихийной силы зрелище народного бесправия и одурманенности, Репин написал своих «Запорожцев» — романтическую песню казацкой вольницы, полную жизнелюбия и сочного юмора, «энциклопедию смеха», как её называли. Едва закончив этот гигантский труд («Запорожцы» были написаны в двух больших вариантах), он принялся за другую большую картину, за другую страницу русской старины.
«Иван Г розный и сын его Иван» — картина едва ли не самая знаменитая из написанных Репиным. К ней — к истории её создания, к её смыслу и к тому, что произошло с ней впоследствии, — мы ещё вернёмся.
Сорок лет было Репину, когда он закончил картину «Не ждали», о которой Игорь Грабарь писал, что она была самым сильным впечатлением его юности.
Говоря об этой картине, хочется снова поразмыслить над тем, какими путями воздействует на нас произведение живописи, чем завоёвывает наше сердце. Картина «Не ждали» рассказывает о неожиданном возвращении ссыльного к семье. Только что открылась дверь, и он вошёл в комнату, где все были заняты своими будничными делами, — и вот мы оказываемся свидетелями волнующего мгновения...
Тема, взятая Репиным, могла бы дать достаточную пищу для повести, драмы или романа, и многое можно было бы порассказать об этих людях: о вернувшемся ссыльном, обо всём, что он пережил; о его матери, выплакавшей глаза в ожидании; о его братишке-гимназисте и младшей сестрёнке, не узнавшей исхудалого, коротко остриженного, одетого в грубую 108 арестантскую одежду брата.
Действие такого рассказа, повести или романа охватило бы многие годы жизни. Перед нашим умственным взором прошли бы картины различных мест, мы познакомились бы со множеством людей; мы услышали бы их голоса, кандальный звон на сибирских дорогах. Мы долго следили бы за тем, как меняются судьбы, как мужают и крепнут характеры. Мы пережили бы вместе с героями многое.
Но, в отличие от литературы, вольной распоряжаться временем и пространством, вольной переносить действия с места на место и растягивать его на месяцы или годы, чтобы нарисовать нам жизнь человека, живопись располагает для этого всего лишь одним мгновением. В этом мгновении должно быть слито всё, что хотел рассказать художник. И всё рассказанное вы должны охватить сразу — взглядом, мыслью и чувством.
Посудите же сами, как выразительно должно быть избранное мгновение и как безмолвно-красноречива должна быть каждая подробность картины.
Нападая на репинскую «Не ждали» (и на другие картины 12-й передвижной выставки), газеты того времени на все голоса кричали о «нарочитой грубости», о «недостаточном благородстве», о том, что художники «словно задались представить русскую жизнь в самых печальных, уродливых образах».
Князь Мещерский, владелец реакционнейшей газетёнки «Гражданин», требовавший ранее «запретить» картину «Крестный ход в Курской губернии», теперь возмущался «неэстетической» одеждой ссыльного и тем, что на лице его не видно следов раскаяния, что он не изображён как познавший свои заблуждения человек. «Санкт-Петербургские ведомости» лицемерно обвиняли Репина в том, будто он нарочито выбрал для семьи возвращающегося из ссылки комнату и обстановку «невзрачную, неряшливую, неуютную...». Что типы детей золотушные, истощённые. Что у девочки «какие-то скрюченные ноги»...
А между тем именно эти точно найденные подробности и сделали репинскую картину такой естественной и волнующе-правдивой. Они-то и позволили слить в одном мгновении столь многое и выразить до конца всё, что хотел и должен был сказать художник о страданиях и неожиданной радости, переживаемой каждым по-своему, о состарившемся прежде времени, но не сломленном человеке — одном из славных революцнонеров-шести-десятников.
Всё это вы охватываете сразу же взглядом — так мудро, при всей естественности, расположены действующие лица этой сцены. Вы охватываете происходящее мыслью, пищу которой дают десятки верных подробностей: поза матери, её «надломленная, стареющая спина», жест её руки, портреты Шевченко и Некрасова на стене, недоумённо застывшая у двери прислуга, не понимающая, кто вошёл, радостная улыбка и блестящие глаза гимназиста, взгляд девочки, полный безотчётного испуга (она ведь не 112 помнит брата)...
И наконец, вы охватываете картину чувством. Тут, пожалуй, заключена главная и нелегко объяснимая сила живописи — воздействовать цветом, красками, их сочетанием между собой.
Все мы привыкли говорить: «весёлые» или «мрачные» краски, «приятный» или «неприятный» цвет, но не всегда сознаём, каков истинный смысл этих слов. Вглядитесь же получше в произведения живописи, и вы поймёте,
какое множество различных чувств пробуждает цвет. Ведь не зря же мы говорим о драматизме рембрандтовского колорита, о буйном веселье палитры Рубенса, о светлой печали левитановских красок или о жизнерадостности цвета у Анри Матисса или Эдуарда Мане.
Писателю дано слово, композитору — мелодия, живописцу — палитра и кисть.
...Только что пролился обильный летний дождь, по стёклам балконной двери стекают светлые струйки. Над влажной зеленью сада виднеется пасмурное серое небо, но свет солнца пробился где-то сквозь тучи и вошёл в комнату вместе с нежданным счастьем, и всё как бы засияло: линялые светло-голубые обои, зеленоватая обивка кресла, розовое платье девочки и даже коричнево-серый арестантский халат вернувшегося. Как ни тяжело было пережитое, вера в светлое будущее жива. Вот чувства, вызываемые репинской картиной — её красками, её мудрой живописью.
* * *
Зрелые годы Репина были годами возмужания и его друзей-единомыш-ленников. Несмотря на постоянные нападки, невзгоды, преследования и насмешки, дело, начатое Крамским и его товарищами, жило, крепло и развивалось.
В то время как бульварные писаки изощрялись в обидных кличках (фельетонист «Нового времени» Буренин, прикрывшись шутовским псевдонимом «граф Алексис Жасминов», называл Репина Саввой Дикообразовым, а Стасова — Вавилой Барабановым и Мамаем Экстазовым), в то же самое время тысячи людей валом валили на выставки передвижников.
Картины Репина, Ярошенко, Крамского, Владимира Маковского, Васнецова входили в жизнь русского общества вместе с лучшими произведениями литературы. Они будоражили мысль, они ставили перед глазами людей зеркало, от которого сердце било тревогу. Они пробуждали национальное и общественное самосознание не только тогда, когда прямо говорили о «проклятых вопросах» сегодняшнего дня.
Пейзажи передвижников, их портреты, их исторические картины также просветляли разум, будили добрые чувства, помогали людям познать себя и свою страну.
Василий Дмитриевич Поленов, друг и сверстник Репина, написал в те годы лучшие свои вещи: «Московский дворик», «Бабушкин сад», «Заросший пруд»... Тогда же были написаны и лучшие картины Крамского: «Христос в пустыне», «Крестьянин с уздечкой» и многие его портреты. Тогда, в 1881 году, на 9-й выставке передвижников появилась картина, возвестившая о рождении нового могучего таланта, — «Утро стрелецкой казни»...
СУРИКОВ
Спустя много лет Василий Иванович Суриков рассказывал о поездке своей в Сибирь, где он собирал материалы для картины «Ермак».
Более трёх тысяч вёрст он проехал верхом и прошагал пешком по сибирским дорогам, разыскивая нужные ему типы среди потомков тех, кто в давние годы воевал на диких берегах Иртыша и Енисея. Его интересовало всё: лица кряжистых бородачей-сибиряков, татар и хакасов, их одежда, образцы старинного оружия. Листы его альбомов покрывались множеством набросков, зарисовок, и всё казалось — мало...
Поездка выдалась нелёгкой даже и для коренного сибиряка, каким был Суриков. Однажды вечером он оказался у реки, переправляться через которую было уже поздно. Вечер был холодный, сырой. Поблизости в сумерках темнели избы какой-то деревеньки. Суриков постучался в крайнюю.
— Где бы тут, — спросил он, — переночевать да чаю попить?
— Нет ничего, ни чаю, ни сахару, — ответили из-за двери. — Тут вон недалеко учительница ссыльная живёт, может, у неё найдётся.
Ои постучался к учительнице:
— Пустите согреться да хоть чайку попить.
— А вы кто? — спросила та, выйдя на крыльцо.
— Суриков, художник.
Учительница постояла молча, вглядываясь, и спросила, как бы не веря себе:
— «Боярыня Морозова»? «Казнь стрельцов»?
— Да, казнь... — улыбнулся он.
Она кинулась в избу, затопила печь, поставила на стол чашки, хлеб, мёд... Так и просидели, проговорили до самого утра о Москве, о России, о жизни, о каторжно-ссыльной Сибири, о картинах, о будущем, пока не прогудел паром. А потом она долго стояла на берегу, закутанная в шаль, и смотрела вслед... Могла ли быть в те времена для художника-гражданина награда выше этой награды?!
Василий Иванович Суриков родился в 1848 году в Красноярске, в далёкой и дикой сибирской глуши.
Он был сибиряком не только по рождению и по внешности (живее всего запечатлённой, мне кажется, Репиным в великолепном портрете). Он был сибиряком по душе, по всему складу характера своего. «Идеалы исторических типов воспитала во мне Сибирь с детства, — говорил он, — она же дала дух, и силу, и здоровье». Мощь сибирской природы, её величественная суровость, немногословность её сильных духом и вольнолюбивых людей — всё это как бы воплотилось в Сурикове и вошло вместе с ним в русскую живопись.
Как и многие другие его товарищи, он приехал двадцатилетним в Петербург, учился в академии. Но за границу не поехал — «академические боги» не присудили медалн...
Впрочем, оно было к лучшему. Воспользовавшись предложением сделать роспись на стенах московского храма Спасителя, Суриков переехал в Москву. Это было осуществлением давнишней мечты. С Москвой, сердцем русской истории, всегда были связаны его лучшие помыслы.
Суриков был историческим живописцем по призванию, по самой сущности своего таланта. История была для него вовсе не тем костюмированным спектаклем, каким видели её живописцы-академисты, у которых даже Козьма Минин смахивал на задрапированного в тогу римлянина. Для Сурикова история была чем-то до конца родным, близким и как бы лично пережитым.
В своих картинах он не судит и не выносит приговор. Он как бы зовёт вас пережить вместе с ним события прошлого, вместе с ним подумать о судьбах человеческих и судьбах народных. О своей первой большой картине «Утро стрелецкой казни» он как-то сказал:
«Всё у меня была мысль, чтобы зрителя не потревожить, чтобы спокойствие во всём было...»
Пожалуй, точнее не ухватишь особенность лучших суриковских картин — ту ненавязчивость, то поразительное соединение наружной сдержанности с глубоким драматизмом содержания, какое их отличает.
Нетрудно представить себе, как выглядела бы сцена казни стрельцов в изображении какого-нибудь закоренелого классика-академиста. Сколько было бы тут бурных жестов, развевающихся одежд, воздетых к небу рук, занесённых топоров, громов, молний и прочей театральной дребедени! Ни-118 чего этого нет у Сурикова и в помине.
...Красная площадь, рассвет. На едва розовеющем пепельном небе твёрдо рисуются стены и башни Кремля, сумрачно темнеют витые купола Василия Блаженного.
У Аобного места, в телегах, — осуждённые умереть стрельцы. Вот-вот начнётся казнь: солдат-преображенец, обнажив шпагу, ведёт уже одного из осуждённых на казнь, ведёт поддерживая — сам стрелец не в силах идти после жестокой пытки. Царь Пётр выехал из Спасских ворот, одетый в зелёный русский кафтан, верхом на буланом жеребце, выехал, обвёл глазами всё: Аобное место, телеги, плачущих матерей, жён и детей — и вдруг встретился взглядом с рыжебородым, в алой бархатной шапке стрельцом, держащим зажжённую свечу...
В этих взглядах, летящих через всю площадь, поверх скорбных прощаний, поверх горя людского и людской злобы, поверх тихого плача, угрюмого молчания, отчаяния и мрачной решимости, поверх белых смертных рубах и горящих свечей, — в этих скрестившихся непримиримых взглядах встречаются два мира, две враждующие силы на крутом повороте истории. Нужны ли слова и бурные жесты, чтобы лучше обрисовать весь трагизм и всю неизбежность происходящего?!
«Вот как бывает сурова и подчас жестока действительность, — говорит нам художник, — смотрите же и рассудите сами, кто виноват, кто прав».
* * *
Смотрите и рассудите сами...
Среди картин Сурикова, дающих столько пищи для размышлений, я больше всего люблю «Меншикова в Берёзове».
Красноречивость молчания доведена здесь до высшего совершенства; я не знаю в мировой живописи картины, пожалуй кроме «Блудного сына» Рембрандта, где сведённая к одному мигу драма превратностей целой жизни была бы выражена так сдержанно, так скупо и вместе с тем так волнующе глубоко.
Свет зимнего дня сочится сквозь заледенелое слюдяное оконце сибирской избы, где проходят последние годы «Алексашки», «полудержавного властелина», светлейшего князя Александра Данилыча, брошенного с детьми в далёкую ссылку. Вот он сидит, тяжёлый, грузный, осунувшийся лицом, волчьей сединой поседевший, в нагольном тулупе. В избе, видно, холодно: вон как закуталась в бархатную шубку старшая дочь, зябко прижавшаяся к отцу. Но он, кажется, не чувствует холода; не слышит он и тихого голоса младшей дочери, читающей вслух, быть может, страницы из Библии о бренности славы и земных богатств...
Он весь ушёл — сердцем, душою своей — туда, назад, в невозвратные дни могущества, и только сжатая в кулак рука, лежащая на колене, выдаёт биение его мысли. Встать бы ему, расправить плечи, поднять по-прежнему властную голову — так нет ведь, не встанешь. Кончилось...
Среди недоброжелателей, находившихся у каждой из подобных картин, находились и такие, кто обвинял Сурикова в неумелом рисунке, в несоблюдении законов перспективы. Говорили, что фигура Меншикова так велика и громоздка, что ежели встал бы он. то упёрся бы головой в потолок.
Что ж, быть может, и так, но тем сильнее впечатление, производимое картиной. Нет, не встать ему тут, не расправить плечи. Кончилось...
Не раз я задумывался: а что, если б не знать истории Меншикова, его прошлого, осталось бы впечатление, производимое этой картиной, таким же глубоким и сильным?
Трудно, разумеется, ответить себе на такой вопрос. И всё же я рискну сказать: нет, не осталось бы.
Спору нет, сама картина с большой силой говорит за себя. Её трагическая атмосфера, суровое мерцание её красок, чувство холода и сумеречного одиночества, подчёркнутое теплящимся огоньком лампады, сама фигура Меншикова, фигуры его детей, а особенно старшей темноглазой дочери, похожей на завезённого из тёплых краёв и заточённого в клетку зверька, — всё здесь полно выразительности и ощутимого смысла. И всё же впечатление, производимое картиной, делается во сто крат сильнее и богаче, когда осмысливаешь её не только чувством, но и знанием.
«Между произведениями живописи, — говорил Крамской, — одни не требуют от зрителя никакой мозговой работы, а просто ласкают глаз и нравятся, не шевеля ни ума, ни сердца и, стало быть, не давая более глубокого наслаждения: другие требуют от зрителя серьёзной мозговой работы, прежде чем дать художественное наслаждение; третьи, наконец, для своей оценки и понимания требуют от зрителя большой исторической подготовки. И однако ж, все эти свойства художественных произведений не помешают обыкновенному, наивному зрителю простоять с истинным удовольствием даже перед картиной последней (третьей) категории, если в ней будет сказываться исполнительный талант художника».
Было время, когда я «обыкновенным наивным зрителем» подолгу простаивал перед картинами Сурикова, наслаждаясь попросту тем, как они
написаны. Но чем больше узнавал я о событиях, каким они были посвящены, тем больше отыскивал в них достоинств, тем полнее, глубже было моё наслаждение. И тем яснее понимал я, что художник и зритель нераздельны и что высшая радость, какую может дать нам искусство, есть радость участия вместе с художником в том процессе познания мира, который мы называем творчеством.
«БОЯРЫНЯ МОРОЗОВА»
Феодосья Прокопьевна Морозова была одной из знатнейших боярынь своего времени, родственницей царя Алексея Михайловича, прозванного «Тишайшим».
Когда в 1671 году царь женился на Наталье Кирилловне Нарышкиной, Феодосья Прокопьевна была назначена «говорить царскую титлу», то есть участвовать в обряде венчания, занимая первое место среди боярынь в царском «свадебном чине». Но Морозова наотрез отказалась от этой высокой чести, потому что была «раскольницей».
Слово это родилось от происшедшего за несколько лет до царской свадьбы раскола в русской православной церкви.
В чём же были причины и существо раскола? На первый взгляд всё тут может показаться смешным.
Началось с того, что патриарх Никон по воле царя велел выправить тексты церковных книг. При многократной переписке, когда в России ещё не было книгопечатания, туда, как принято говорить теперь, вкралось немало ошибок, разночтений. И вот патриарх велел всё исправить по греческим книгам и напечатать наново на Печатном дворе.
Противники этой затеи стали подавать царю челобитные — просили «защитить церковь от ересей». Не нравилось им, что по-новому писать и произносить придётся теперь «Иисус», а не «Исус», как они привыкли. Не нравилось им также, что патриарх велит креститься тремя сложенными перстами, а не двумя, как принято было раньше. Кроме того, они желали ходить крестным ходом «по солонь», то есть по ходу солнца, а не наоборот, как значилось в книгах у греков. А заодно ещё не соглашались они стричь усы и бороды — это были тоже богопротивные чужеземные новшества...
Главари раскола стали ходить на Печатный двор — ругаться со справщиками, а затем принялись скликать народ и хулить патриарха повсюду.
Особенно свирепствовал протопоп Аввакум, яростный ревнитель «старого обряда». Однако за этими нелепыми, на наш взгляд, распрями стояло нечто большее, нежели простое церковное начётничество. Сами того, быть может, не сознавая, главари «раскола» явились выразителями того духа сопротивления, что жил под спудом в подавленном и забитом народе. Они высказывали вслух крамольные мысли о нестерпимом гнёте духовной и светской власти.
Они открыто нападали на «толстобрюхих» и жестоко клеймили корыстолюбие высшей церковной знати.
Деятельность этих людей сделалась опасна для дворянско-церковного государства, каким тогда становилась Русь. Раскольников, ставших поперёк дороги, принялись пытать, казнить. Протопопа Аввакума впоследствии сожгли на костре. «Старообрядцы» стали скрываться от преследований.
Но боярыня Морозова не принадлежала к тем, кто мог добровольно бежать в лесные скиты, чтобы тайком жить там по старым обычаям. Исступлённая вера в свою правоту соединялась в ней с незаурядно твёрдым характером. *Ей говорили, что, отказываясь от участия в «свадебном чине», она неизбежно навлечёт гнев царя и тем самым погубит своего малолетнего сына. Она ответила:
«Вот что прямо вам скажу. Если хотите, выведите моего сына Ивана на Пожар и отдайте его на растерзание псам, устрашая меня, чтобы я отступилась от веры... Не помыслю отступить от благочестия, хотя бы и видела красоту, псами растерзанную...»
Вот на что расходовалась незаурядная душевная сила этой владетельницы восьми тысяч крепостных душ и обширных вотчин, превратившей свой дом в обитель нищих и юродивых, постригшейся в монахини и строго выполнявшей наставления протопопа Аввакума: «По нощи восстав, соверши триста поклонов и семьсот молитв»...
«Она любила свои призраки, — сказал о ней Гаршин. — Два перста были святыней её души вместе со старым укладом жизни по идеалам Домостроя, душным, тёмным, куда в ту эпоху едва лишь начинал проникать свет настоящей человеческой жизни».
Боярыня Морозова отказалась участвовать в «свадебном чине», была схвачена, подвергнута жестокой пытке, а затем сослана вместе с сестрой своей в Боровск, где ей суждено было умереть. Но, прежде чем отправить её туда, велено было провезти её по улицам Москвы для острастки непокорных и позорящего глумления.
Вот этот-то день н час, когда закованную в кандалы боярыню бросили в розвальни на солому и повезли по заснеженным улицам под конвоем стрельцов, и был выбран Суриковым для картины.
* * *
Теперь вернёмся к огромному, почти что шестиметровому, полотну и снова вглядимся в него, войдём в этот студёный зимний день, в эту покрытую глубоким снегом узкую древнемосковскую улнцу с её домами, церквушками, обындевелыми деревьями и толпящимся густо народом, среди которого движется страшный поезд.
Какая драма страстей развернётся перед нами, какое разнообразие характеров, чувств, настроений!
Вот княгиня Авдотья Прокопьевна Урусова, родная сестра Морозовой, в отороченной соболями бархатной шубе и наброшенном на плечи узорчатом платке, идёт рядом с розвальнями, в молчании ломая сплетённые пальцы. Ей суждено было разделить горькую участь сестры.
Вот богатые посадские женщины в шитых шапочках и парчовых платьях, по-бабьи сочувственно пригорюнившиеся. Вот юродивый, сидя в драном рубище своём на снегу, тянет кверху два перста в знак явного единомыслия. А вот и тайные староверы, хмурые, как туча... Равнодушные зеваки, стрельцы с бердышами, в алых кафтанах, злорадствующие попы, нищие странницы и монахини, мальчишки-насмешннкн, уличные зубоскалы, охочие повеселиться, было бы чем, — н посреди всего этого она, измученная пытками, закованная, но не покорившаяся, исступлённо выкинула вверх узкую бледную руку: «Тако крещусь, тако же н молюсь»...
«Мы пожимаем плечами на странные заблуждения, — писал об этой картине Стасов, — на напрасные, бесцельные мученичества, но не стоим уже на стороне этих хохочущих бояр и попов, не радуемся с ними... с жалостью смотрим на глумящихся мальчишек... Нам за ннх только жалко, печально и больно. Нет, мы симпатичным взором отыскиваем в картине уже другое: все эти поникшие головы, опущенные глаза, тихо и болезненно светящиеся... Люди сжатые и задавленные... — как во всём тут верно нарисована старая, скорбящая, угнетённая Русь!..»
Всё это сказано верно. Но кроме того, нельзя не «расслышать» в картине ещё н другую, более серьёзную и, быть может, более важную ноту — ноту сочувствия, восхищения героизмом и духовной стойкостью человека.
Вглядитесь же в лицо мальчика, идущего рядом с розвальнями впереди княгини Урусовой. Дружок его в розовой рубахе по-детски бездумно, чуть ли не счастливо смеётся. А он нет, он задумался, потрясённый увиденным. Пробившись сквозь толпу, он идёт, не отрывая глаз от боярыни, единственный среди всех охваченный одним лишь желанием — понять...
Это чистое детское лицо, эта неразрешнвшаяся улыбка сострадания, этот немой вопрос в широко раскрытых глазах как бы велит и нам задуматься, вглядеться, понять, рассудить...
Мастерство, с каким написана эта картина, удивительно.
Две глубокие борозды, вдавленные полозьями розвальней в снег, как бы ведут нас за собой, втягивая туда, в густую толпу, изображённую с необычайной правдивостью. Морозный воздух окутывает всё сизой дымкой (будто от тысяч дыханий), чуть затуманивая дали.
Вот особенность суриковской живописи: при всём разнообразии лиц, одежд, уборов — всех этих разноцветных бархатов, мехов, золотого шитья, шёлков, дерюг, овчин и сукон, собранных на снегу, — в картине нет пестроты, наоборот: краски её как бы слиты в один могучий цельный аккорд, в котором страстными нотами звучат исчерна-зелёное платье боярыни и синяя, как ночь, одежда молодой посадской женщины, скорбно склонившей голову, укутанную в золотисто-жёлтый платок.
Мы ещё попытаемся вникнуть в то, как Суриков добивался этой особенной правдивости в цельности цвета, при которой само понятие «краска» словно бы перестаёт существовать. А пока хочу обратить ваше внимание на одну подробность, всегда восхищавшую меня.
Чтобы сделать нас живыми свидетелями, более того — как бы участниками события, чтобы втянуть нас внутрь картины, в её действие, и, наконец, чтобы оставить боярыню в центре её, Суриков направляет ход действия от зрителя в глубину. При этом розвальни и фигура Морозовой заслоняют лошадь — мы видим лишь дугу, расписную упряжь и приподнятое копыто. Как же передать тут движение, играющее столь важную роль в самой сцене, в её сущности, то движение, что должно и нас увлечь за собой?
Взгляните на мальчика в дублёном полушубке, бегущего сбоку розвальней, слева, взмахивая непомерно длинными рукавами (тогда носили такие, отворачивая их при надобности во время работы: отсюда и выражение — «спустя рукава»). Его стремительный бег, его откинутый, облепленный снегом сапог, оставленные им следы на снегу — всё это как бы вторит движению скорбного поезда среди застылой толпы, делая это движение ощутимым.
* * *
Провезя Морозову по московским улицам, её отправили в Боровск и обрекли на голодную смерть.
Вот как описывает Гаршин её последние дии:
«В полном изнеможении она просила караульного стрельца:
— Очень изнемогла я от голода и хочу есть. Помилуй меня, дай мне калачика.
— Боюсь, госпожа.
— Ну, хлебца.
— Не смею.
— Ну, прннесн мне яблоко нли огурчиков.
Стрелец не смел ничего дать ей.
— Если невозможно тебе это, то сотвори последнюю любовь: убогое тело моё покройте рогожей и положите меня подле сестры неразлучно».
Умирая, она попросила вымыть ей сорочку. В этом стрелец не мог ей отказать — пошёл к реке и выстирал ей сорочку, «лицо своё слезами омывая».
Так окончилась драма загубленной мраком и дикостью женщины, ставшей для многих людей символом несокрушимой душевной стойкости, символом сопротивления насилию над личностью человека.
Зная всё это, не с большим лн пониманием будем мы смотреть замечательную суриковскую картину?
Щедрее всех одаряет будущее тот, кто всё отдаёт современности.
В. В. Стасов
ГЛАВА ПЯТАЯ
ИЗ ЛЮБВИ К ИСКУССТВУ
Среди множества пословиц, присказок и поговорок, над происхождением которых мы не всегда задумываемся, есть такая: «Из любви к искусству». Как видно, недаром она стала наиболее ходовой для обозначения полного бескорыстия.
Любовь к искусству издавна принадлежала к благороднейшим чувствам человека. Не эта ли бескорыстная любовь на заре веков водила рукою первых на земле художников, когда они покрывали стены пещер своими рисунками, и не она ли собирает теперь тысячи людей в залах музеев всего мира?
В основе этого чувства лежит то, что Крамской однажды назвал «потребностью нравственной жизни». «За личной жизнью человека, — писал он Фёдору Васильеву, — как бы она ни была счастлива, начинается необозримое,
безбрежное пространство жизни общечеловеческой... и там есть интересы, способные волновать сердце, кроме семейных радостей и печалей, печалями и радостями более глубокими, нежели обыкновенно думают...»
Без этой всё возрастающей потребности человека «вырываться за черту личной жизни» к общему благу, волноваться чужими печалями и радостями, искусство не могло бы существовать.
* * *
Быть может, многим теперь покажется странным услышать, что ещё каких-нибудь сто лет назад в России не было ни одного доступного народу музея, если не считать Эрмитажа (как известно, принадлежавшего царствующему дому Романовых), где русских картин было немного, да ещё музея при академии.
Несправедливо было бы, однако, утверждать, что в то время в России не было вовсе любителей искусства.
Но любовь любви рознь. Вельможные меценаты любили искусство, как скупой рыцарь своё золото; онн лелеяли его, но держали под семью замками. Творения русских живописцев были заперты в залах княжеских дворцов и помещичьих усадеб, и для народа по всей России картина оставалась чем-то невиданным и недоступным.
Но те же причины, какие пробудили к жизни новую русскую живопись, сделали неизбежным и возникновение общедоступных музеев.
В то время, когда Перов писал свои картины, обращённые не к фантазиям, а к действительности, в то время, когда четырнадцать «бунтовщиков» твёрдо решили, по словам Стасова, «не только делать красивые картины и статуи, потому что за ннх платят деньги, но н создавать этими картинами что-то значительное и важное для ума и чувства людского», — в это самое время тридцатилетний московский купец Третьяков закладывал фундамент своей коллекции, выросшей впоследствии в первую национальную галерею живописи.
Имя Павла Михайловича Третьякова навсегда останется среди имён тех людей, кто бескорыстной любовью и преданностью своей двигал вместе с художниками русскую живопись вперёд. Его горячая вера в будущность народного искусства, его действенная и постоянная поддержка укрепляли художников в сознании необходимости дела, которое они делают.
Третьяков не был «покровителем искусств», меценатом того толка, какими были в своё время многие родовитые вельможи в России. Ои не красо-
вался, не тешил собственное тщеславие, не выбирал себе любимцев среди художников и не швырял деньги по-княжески. Он был рассудителен, расчётлив и не скрывал этого. «Я вам всегда говорю, — писал он однажды Крамскому, — что желаю приобретать как можно дешевле, и, разумеется, если вижу две цифры, то всегда выберу меньшую: ведь недаром же я купец, хотя часто и имею антикупеческие достоинства».
Именно эти «антикупеческие достоинства» — просвещённость, гуманизм, понимание общенародной роли искусства — и позволили Третьякову выбирать для своей галереи всё самое лучшее, самое правдивое и талантливое, что давала тогда русская живопись.
С первой же выставки передвижников он приобрёл около десятка картин, и среди них такие, как «Грачи прилетели» Саврасова, «Пётр Первый допрашивает царевича Алексея в Петергофе» Н. Н. Ге, «Сосновый бор» Шишкина и «Майская ночь» Крамского. С тех пор он стал постоянным членом товарищества и тем самым присоединился к общим задачам и целям.
Третьяков известен был своим удивительным чутьём. Тихий, молчаливый, сдержанный (как верно переданы эти черты характера в репинском портрете!), он появлялся в мастерских, где ещё только заканчивались будущие шедевры живописи, и, случалось, покупал их для своей галереи прежде, чем они успевали появиться на выставке.
Бескорыстие его было беспримерным. Приобретя у Верещагина огромную коллекцию его туркестанских картин и этюдов, он тут же предложил её в качестве дара Московскому художественному училищу. Свою галерею он с самого начала задумал как музей национального искусства и ещё при жизни своей — в 1892 году — передал в дар городу Москве. И лишь спустя шесть лет (как раз в год смерти П. М. Третьякова) открылся первый государственный русский музей в столичном Петербурге, да и то куда уступавший «Третьяковке», ставшей уже к тому времени местом паломничества многих тысяч людей, приезжавших в Москву со всех концов России.
* * *
Бескорыстная любовь к искусству отличала и Владимира Васильевича Стасова, которого Репин называл «истым рыцарем просвещения».
Всесторонне образованный, «необыкновенно сведущий по многим специальностям», знаток юридических наук, языков, архитектуры и орнамента всех времён и народов, он был особенно предан музыке и живописи и, в отличие от сдержанного и молчаливого Третьякова, обладал кипучей натурой бойца. Эта особенность его была как нельзя более ко времени, потому что, как писал он сам, «ничто новое, выступающее на замену старого, никогда не водворялось без упорного сопротивления и отчаянной борьбы».
Противники нового — все эти «графы Алексисы Жасминовы», князья Мещерские и академические генералы от искусства — имели в лице могучего бородача из Публичной библиотеки1 непримиримого и опасного врага.
1 В. В. Стасов долгие годы заведовал художественным отделом Публичной библиотеки в Петербурге.
Каким он только нападкам не подвергался, какими только кличками не награждали его на страницах «Санкт-Петербургских ведомостей», «Биржевки», «Нового времени»! Но громовой голос «Мамая Экстазова» не умолкал, и не было ни одного заметного явления в русской живописи, о котором он не сказал бы искреннего и веского слова.
Он, как писал Репин, «не пропускал ни одного выдающегося таланта в искусстве. Он устремлялся к нему при первом его появлении, готовый служить, помогать ему, быстро знакомился с ним, быстро делался его близким другом, и вскоре плоды умного наставника сказывались, и юноша начинал входить в силу...».
Преданность Стасова друзьям была безгранична; но в то же время он не знал сделок с совестью, и, когда Репин в мрачные семидесятые годы пошатнулся в своих взглядах, стал безудержно восторгаться Брюлловым и благодушно рассуждать об «искусстве ради искусства», Стасов открыто обрушился на самого близкого друга.
Но оба они были натуры увлекающиеся, и недалеко было время, когда Репин понял свои заблуждения и снова, как прежде, стал приезжать на маленькую дачу Стасова в Парголове под Петербургом, и снова, как прежде, встав рано, в седьмом часу утра, друзья уходили в прохладную глушь сада, где белобородый гигант в алой рубахе-косоворотке читал вслух на память любимые места из Толстого, Чехова, Короленко, Герцена...
Память у Стасова была колоссальная, а литература занимала в душе его место рядом с живописью и музыкой.
* * *
Живопись, музыка, литература... Среди преданных друзей этих трёх искусств нельзя не назвать ещё и Савву Мамонтова.
Крупный промышленник, предприниматель широкого размаха, он, как и Третьяков, отличался многими «антикупеческими достоинствами».
Этот грузный, приземистый человек, похожий на преуспевающего дорогого врача или адвоката, был незаурядным знатоком музыки и живописи, режиссёром, певцом, скульптором-любителем, драматургом и даже актёром в любительских спектаклях, которые сам устраивал.
Своё подмосковное имение Абрамцево он предоставил в распоряжение друзей — художников и музыкантов. Там подолгу живали и работали Репин, Антокольский, Васнецов, Поленов, Серов.
Мамонтов был щедр и, когда требовалось, не останавливался перед затратами- В 1896 году он построил на свои средства специальный павильон на Нижегородской ярмарке для картины Врубеля «Принцесса Грёза», которую академия забраковала и не допустила на выставку.
«Но самая характерная его черта как человека, — говорил Виктор Васнецов, — это способность возбуждать и создавать вокруг себя энтузиазм: работая с ним, не мудрено взвиться и повыше облака ходячего...»
Вот в чём более всего нуждалось и будет нуждаться искусство: в дружеской теплоте, в бескорыстной любви, в искреннем поощрении со стороны людей, умеющих оценить новое.
Осенью 1899 года с Мамонтовым стряслось несчастье: «лопнуло» крупнейшее его предприятие — строительство Северной железной дороги, первого подъездного пути из Москвы к Донбассу. Катастрофа унесла состояние Мамонтова, а его самого обвинили в растрате и посадили за решётку.
И тут художники поднялись на выручку своего верного друга. Василий Дмитриевич Поленов от имени многих обратился в судебные учреждения с письмом, где напоминались многолетние заслуги Мамонтова перед русским искусством, и добился перевода его из Таганской тюрьмы под домашний арест.
Летом 1900 года Мамонтов был по суду оправдан, но разорён дотла. Дом его на Садово-Спасской, где в продолжение многих лет собирались друзья, был продан за долги. Мамонтов поселился на Бутырской улице, при керамической мастерской, которую в былые годы устроил для художников. Там он и жил в полной бедности, но по вечерам, как и прежде, в тесной комнатёнке звучали голоса Шаляпина, Репина, Поленова, Антокольского и многих других, на любовь отвечавших любовью.
ЛИЦО ВРЕМЕНИ
В 1905 году другой деятельный любитель искусства, Сергей Павлович Дягилев, устроил в петербургском Таврическом дворце одну из любопытнейших выставок, какие когда-либо устраивались в России.
Он собрал из музеев, дворцов, из провинциальных поместий, захолустных городов, из монастырей, соборов, присутственных мест — короче, со всей страны и даже из-за границы, из музеев и частных собраний Парижа, Берлина, Вены, Веймара, Женевы и Амстердама — свыше двух тысяч портретных произведений в живописи и скульптуре.
Нетрудно представить, как интересна и поучительна была эта выставка. Два века русской живописи проходили тут перед глазами зрителя — и вместе с тем два века жизни русского общества.
Там были работы первых русских портретистов Матвеева и Никитина — портреты Петра, его родных, его сверстников и сподвижников, не очень умелые ещё, жёсткие и суровые, как само петровское время.
Были там работы крепостных самородков, елизаветинских живописцев Аргунова и Антропова, — цветистые портреты вельмож и «кавалерственных дам», украшенных орденскими лентами, розоволицых под пудреными париками.
Были там творения лёгкой кисти Фёдора Рокотова, и фарфорово-нежные — лучшего екатерининского живописца Дмитрия Левицкого, и благородно-сдержанные, тепло-золотистые — Владимира Боровиковского.
Беспокойным взглядом иного, нового века глядели смугло-огненные, горячих красок портреты Ореста Кипренского, мягко улыбалась тропининская «Кружевница», блистательные портреты Брюллова ласкали глаз сочностью живописи...
Сколько важного, интересного открывалось тут взгляду внимательного зрителя! Сколько драм и трагедий истории отразилось, сколько запечатлено было судеб!
Вот насильно постриженная в монахини жена Петра I Евдокия Лопухина. А вот княгиня Долгорукая, вдова казнённого императрицей Анной князя Ивана Долгорукого. Вот граф Лесток, помогший императрице Елизавете взойти на престол, а затем сосланный в Устюг. Вот Меншиков и Бирон, также горько познавшие на себе изменчивость судьбы и непрочность власти...
Тут можно было увидеть вместе портреты палачей и жертв их. Рядом висели царевич Алексей Петрович и сенатор граф Пётр Толстой, сыгравший зловещую роль в его судьбе. Неподалёку от Бирона можно было найти начальника Тайной канцелярии генерал-поручика Ушакова, «продавшего своего благодетеля и за то получившего андреевскую ленту», как метко сказал о нём Стасов. Жестокие сатрапы, лукавые царедворцы, скрывающие истинное существо своё под вельможной величавостью; придворные шуты и шутихи с почтенными н серьёзными лицами; украшенные орденами генералы, фельдмаршалы, князья, княгини, графы...
Владимир Васильевич Стасов подсчитал, что более четвёртой части портретов на выставке изображали «личностей аристократической породы», ничем, в сущности, не примечательных, кроме происхождения н богатства. Там было свыше 240 портретов лиц императорской фамилии и множество — старинной русской аристократии: из рода князей Голицыных — 87 портретов, графов Толстых — 42, князей Долгоруких — 32, графов Строгановых — 31, графов Шуваловых — 22 и т. д.
Но были всё же там и портреты Радищева, Новикова, Чаадаева, декабристов Никиты Муравьёва и Сергея Волконского, Бакунина, Герцена... Были портреты Ломоносова, Державина, Карамзина, Жуковского, Пушкина, Лермонтова. Гоголя, Тургенева, Щепкина, Даргомыжского и многих ещё, славных не родовитостью, не ловкостью в дворцовых интригах, не угодливостью нли кровавой жестокостью, а тем, чем единственно славен должен быть человек, — талантом, трудом, любовью своей к свободе, истине, добру.
Когда французская художница Виже-Лебрен, приглашённая в Россию, чтобы написать портрет императрицы Екатерины II. приехала в Петербург, она была чрезвычайно удивлена. По известным ей гравюрам и копиям с портретов она ожидала увидеть императрицу «дамой колоссального роста
и величественного вида». Увидела же она «маленькую, низенькую, толстенькую старушку, сильно нарумяненную и ничуть не величественную».
Русское придворное искусство (как, впрочем, и любое другое придворное искусство) принуждено было льстить, а лесть, как известно, есть не что иное, как утончённая форма лжи.
Приукрашивание вошло со времён «весёлой императрицы» Елизаветы в обычай. Елизаветинские и екатерининские вельможи желали видеть себя величавыми, мудрыми и приветливо улыбающимися, а своих дочерей и жён — томно-прекрасными.
Их власть над судьбами художников была безгранична. Давая им «вольную», они оставляли в крепостной зависимости их души.
Что же удивительного в том, что редкостные дарования русских самородков расходовались, как писал Стасов, «на ложь, притворство и выдумку, на наряд и блеск подробностей»!
Когда живописцам того времени удавалось вырваться за черту парадных условностей, за пределы величавых, галантных или кокетливых поз, то какой простой и глубокой правдой дышали их портреты! Посмотрите в «Третьяковке» портрет отца Аевицкого, написанный в 1779 году, взгляните на тропининскую «Кружевницу», на многие портреты кисти Ореста Кипренского, на его чудесные простотою своей рисунки, изображающие деревенских детей... Но беда была в том, что не так уж часто удавалось вырваться за общепринятые пределы, и глубокая царапина, оставленная в душе художника ложью, так или иначе сказывалась, давала о себе знать.
Даже такой художник-народолюбец, как Алексей Гаврилович Венецианов, отвергнутый академией и основавший на свои скромные заработки собственную школу, не смог до конца освободиться от распространённых условностей.
Он всей душой любил родную природу и первый широко ввёл в искусство сцены деревенской жизни. Но всё же во многих его картинах и портретах видны следы того приукрашивания и подсахаривания, стремления к «идеальному», без которых тогдашняя живопись ие могла обойтись.
«Обращение русского художника к настоящей правде и жизни, в том числе и в портрете, — писал В. В. Стасов, — - началось лишь со времени нарождения в русском искусстве той самой национальности, правдивости и оригинальности, которые уже давно существовали в русской литературе».
Когда Василий Григорьевич Перов писал портрет Островского, он, возможно, ие желал ничего более, чем изобразить писателя таким, каким видел его. Но талант психолога и стремление к неподслащенной правде сделали этот портрет чем-то куда более значительным.
Художник не льстит Островскому ни в чём. Он не скрывает от зрителя некоторую грузность фигуры, не причёсывает, не заставляет принять «величественную» позу, не наряжает в дорогие одежды, не пишет фона с колоннами, драпировками или романтическим ландшафтом. Он берёт Островского таким, какой он есть — в будничном халате-тулупчике, подбитом беличьим мехом, лысоватого, с неподстриженной рыжеватой бородкой, — и открывает вдруг зрителю лицо, полное мудрого внимания к жизни, со светящимся взглядом добрых, сочувственных, всё понимающих светлых глаз.
Этот портрет, появившийся на первой выставке передвижников, как бы знаменовал рождение новой плеяды замечательных портретистов, которым суждено было правдиво запечатлеть облик своего времени.
* * *
В отличие от своих предшественников, передвижники испытывали глубочайшую потребность, по словам Стасова, «написать лицо и облик того, кого они сами из значительных людей увидали, узнали, поняли, оценили и захотели оставить в картине своей кисти для потомства». Они, как правило, не ждали заказов, не рассчитывали на щедрую плату и нередко сами просили, уговаривали людей, которых им хотелось запечатлеть.
Так возникли превосходные правдивостью своей портреты Перова: Достоевский, Тургенев, Писемский, Аксаков... Так Николай Николаевич Ге написал за границей революциоиера-изгнаиника Герцена.
Чтобы написать портрет Льва Толстого для Третьяковской галереи, Крамской поселился в Козловке-Засеке, неподалёку от Ясной Поляиы, и долго убеждал писателя, никак не соглашавшегося позировать.
— Я слишком уважаю причины, по которым вы отказываете в сеансах, —
настойчиво повторял он Толстому, — но ведь портрет ваш должен быть и будет в галерее.
— Как так?
— Очень просто... Ает через тридцать, сорок, пятьдесят он будет написан, и тогда останется только пожалеть, что портрет не был сделан своевременно...
«Написать его мне хочется», — признавался Крамской в письме Третьякову, И как же ощутимо это желание в замечательном портрете, где так правдиво и так проникновенно переданы и простота Толстого, и его мудрость. И как хорошо, что портрет был написан своевременно и что, кроме Толстого, седобородого патриарха, навсегда живым остался ещё и этот — крепкий, скуластый, темноволосый, в синей рабочей блузе, со сверлящим, до глубочайших глубин проникающим толстовским взглядом.
Не знаю, как для других, но для меня с той минуты, как я увидел этот портрет, Толстой стал во сто крат понятнее, роднее и ближе. До того он был для меня богом, а стал — Человеком.
В несравненной галерее современников, созданной передвижниками, перед вами оживают люди всех слоёв тогдашнего общества, от вершин до самых низов.
Вот написанный Репиным знаменитый русский хирург Пирогов, вскинувший голову, с острым, как скальпель, решительным взглядом. Вот могучий бородач Стасов. Вот необыкновенно живой романист Писемский, мудронасмешливо поблёскивающий тёмными выпуклыми глазами. Вот протодьякон Иван Уланов — толстобровый «Варлаамище», «экстракт русских дьяконов», как назвал его Стасов, пьяница и обжора, положивший на брюхо пухлую руку.
Вот «Полесовщик» Крамского, о котором сам художник сказал, что это «один из тех типов, которые многое из социального и политического строя народной жизни понимают своим умом и у которых глубоко засело неудовольствие, граничащее с ненавистью». Вот «Мужичок из робких», вовсе не такой уж робкий, мужичок себе на уме, видящий вас как бы насквозь...
Умение писать человеческие глаза — «зеркало души» — ив них отыскивать то главное, что составляет характер, было поистине удивительно и у Перова, и у Крамского, и у Ярошенко, и у Репина.
Немного, наверное, найдётся в мировом искусстве портретов, где трагедия целой жизни так выразилась бы в одном взгляде, как в репинском портрете Мусоргского. История этого портрета заслуживает того, чтобы сказать о ней несколько слов.
В 1881 году Репин, живший тогда в Москве, прочитал в газетах о том, что в Петербурге тяжело заболел Модест Петрович Мусоргский. Немедленно собравшись, Репин выехал, чтобы успеть повидаться с другом. Он нашёл его в Николаевском военном госпитале. Мусоргский умирал.
Репин знал его давно, они подружились в доме Стасова, где Мусоргский, тогда ещё юный гвардейский офицер, остроумный, живой, бывал чуть ли не ежевечерне; где он, присев к роялю, нередко играл новые свои сочинения.
Стасов первым расслышал в Мусоргском то, чего не умели и не желали слышать другие.
Музыку Мусоргского не понимали, и он, как и друзья его художники, при жизни подвергался жестоким нападкам именно за те стороны своих
созданий, которые, по словам Стасова, «были самые оригинальные, самые исторически значительные».
Как многие болезненно чуткие к несправедливостям окружающей жизни натуры, Мусоргский ещё смолоду начал пить. Пил он страшно, горько, и стоило Стасову отлучиться куда-нибудь, уехать на самый короткий срок, как Мусоргский из одетого с иголочки жизнерадостного весельчака превращался в опустившегося оборванца, ночи напролёт пропадающего в кабаках и трактирах. Среди множества способов, какими в разное время убивались лучшие таланты России, водка занимает далеко не последнее место. Водкой был убит и Мусоргский.
В то время, когда Репин застал его на койке Николаевского военного госпиталя, «Мусорянину» шёл сорок второй год, а выглядел он стариком.
На счастье, с приездом друга ему стало лучше, он поднялся. И Репин в четыре дня, без мольберта, кое-как приладив подрамок с холстом на стуле больничной палаты, написал один из лучших своих портретов.
Здесь соединились любовь, сострадание и мастерство такой силы, когда кисть как бы делается естественным продолжением руки художника, когда нет более трудностей, а остаётся лишь мысль, выраженная до конца; когда рисунок, форма и цвет сливаются настолько правдиво, что вы не замечаете больше нн краски, ни широких, беспокойных и даже как бы небрежных мазков — ничего, кроме человека в зеленоватом с бледно-красным воротником больничном халате, на чьё одутловатое лицо смерть наложила уже свою печать, но чьи омытые слезой глаза светятся такой глубиной правды, такой жаждой жизни, что кажется — закрой всё, кроме этих глаз, и они одни расскажут о совершившейся трагедии.
Деньги, полученные от Третьякова за этот портрет, Репин отдал на сооружение надмогильного памятника своему другу.
«Художник, принадлежа к известному времени, непременно что-иибудь любит и что-нибудь ненавидит», — говорил Крамской. Ни он сам, ни его товарищи не хотели да и ие умели скрывать свои чувства.
«Ваше намерение заказать портрет Каткова и поставить его в своей галерее, — писал Репин Третьякову, — не даёт мне покоя, и я не могу не написать вам, что этим портретом вы нанесёте неприятную тень на вашу прекрасную и светлую деятельность. Нет, удержитесь, ради бога!» В другом письме он признаётся: «Хотел было сделать портрет Фета, да раздумье берёт, говорят, он ретроград большой...»
Но когда всё же доводилось писать современных ретроградов-реакционеров, то уж — хочешь не хочешь — художники говорили о них самую крутую правду. «Чересчур похоже»... Эти слова, некогда произнесённые папой Иннокентием X о своём портрете, написанном Веласкесом, могли бы теперь повторить многие.
Когда впервые был показан на выставке портрет купца Камынина, написанный Перовым, то в этом благообразном старике с окладистой бородой и степенно сложенными на животе руками люди сразу же узнали одного из Тит Титычей тёмного царства, заклеймённого Островским и Добролюбовым. Недаром семья Камыниных наотрез отказалась после этого давать портрет на какие-либо выставки.
Обиделся на Репина и чугуевский дьякон Иван Уланов. А Ивану Николаевичу Крамскому пришлось объясняться с Сувориным, издателем «Нового времени», чьё общеизвестное двоедушие было пригвождено метким ударом в превосходно написанном портрете.
Об одном из лучших портретистов России, Валентине Александровиче Серове, говорили впоследствии, что у него «опасно писаться».
Такова была сила правды. Таково было мастерство передвижников-портретистов, сказавших и в этой отрасли искусства живое, новое слово.
КРАМСКОЙ
Весной 1878 года два неизвестных Крамскому человека обратились к нему через писателя Гаршина с просьбой разрешить их спор об истинном значении его картины «Христос в пустыне».
Эта картина, написанная шестью годами раньше, изображала эпизод евангельской легенды, где рассказывается, как Христос, преданный одним из учеников, удалился на ночь в пустыню, чтобы там в одиночестве решить — бежать ли ему, оставив борьбу, или отдаться в руки властей и умереть во имя своей идеи. Таково было содержание, определённое самим названием картины.
Но многие вдумчивые зрители видели в картине нечто гораздо более современное, волнующее, близкое своим собственным мыслям. И они не ошибались.
Отвечая на прямо поставленный вопрос, Крамской писал: «Художников существует две категории... Одни — объективные, так сказать, наблюдающие жизненные явления и воспроизводящие добросовестно, точно; другие — субъективные. Эти последние формулируют свои симпатии и антипатии, крепко осевшие на дно человеческого сердца под впечатлением жизни и опыта... Я, вероятно, принадлежу к последним. Под влиянием ряда впечатлений у меня осело очень тяжёлое ощущение от жизни. Я вижу ясно, что есть один момент в жизни каждого человека, мало-мальски созданного по образу и подобию божию, когда на него находит раздумье — пойти ли направо или налево?..»
Дальше Крамской описывает, как он однажды ясно представил себе человека в минуты такого раздумья, одинокого в безлюдной каменистой пустыне. «...Он сел так, когда солнце было ещё перед ним, сел усталый, измученный, сначала он проводил глазами солнце, затем не заметил ночи, и на заре уже, когда солнце должно подняться сзади его, он всё ещё продолжал сидеть неподвижно. Губы его как бы засохли, слиплись от долгого молчания, и только глаза выдавали внутреннюю работу...».
Крамской видел этого человека так ясно, так выпукло, что придумывать ничего и не пришлось, не надо было. Он начал писать своего героя, сидящего сплетя пальцы рук, среди всеобщей немоты, среди сухих серых камней, освещённых трепетным розоватым светом занимающейся зари, «...и когда кончил, то дал ему дерзкое название...»
«Итак, это не Христос, — заключает Крамской. — То есть я не знаю, кто это. Это есть выражение моих личных мыслей».
В то время, когда Крамской писал эту картину, ему было всего лишь тридцать пять лет, но выглядел он немолодым уже человеком. Он рано начал седеть, был бледен, худ и всегда измождён работой и одолевавшими его мыслями.
Константин Аполлонович Савицкий1, живший вместе с Крамским в Коз-ловке-Засеке, рассказывал, что ему не раз случалось быть невольным свидетелем того, «как Крамской, едва забрезжит утро, в одном белье пробирается тихонько в туфлях к своему Христу и, забыв обо всём, работает до самого вечера, просто до упаду иногда...».
1 К. А. Савицкий — передвижник, автор широко известных картии «Ремонтные работы на железной дороге», «Встреча иконы», «На войну» и «Спор на меже», посвящённых несладкой жизни русского крестьянства.
«Для того чтобы быть художником, — писал однажды Крамской, — мало таланта, мало ума, мало обстоятельств благоприятных, мало, наконец, всего, чем обыкновенно наделяется человек и приобретает, — надо иметь счастье обладать темпераментом такого рода, для которого, кроме занятия искусством, не существовало бы высшего наслаждения».
Он обладал именно таким темпераментом; это было счастьем его и в то же время несчастьем.
Он был человеком благороднейших побуждений, как бы рождённым жить и трудиться для общего блага. Он стал с молодых лет общепризнанным учителем и вождём всех лучших и честных сил русского искусства. Он мечтал: «Хорошо, если бы человечество пришло к такому устройству, где художники и поэты были люди, как птицы небесные, поющие задаром. Даром получили, даром и давайте, только при этих нормальных условиях искусство будет настоящим, истинным искусством... Ни одной ноты фальшивой, ни одного слова лишнего...» Но «петь задаром» было невозможно.
С самого детства Крамской узнал, что такое нужда. Он был подручным у «богомаза», ретушёром у бродячего фотографа, а когда наконец пробился к свету знания и мастерству, то стали появляться новые обязанности, требовавшие постоянной и всё возрастающей заботы о заработках.
Он рано женился. В семье, где он в то время давал уроки, ему говорили: «Художнику этого делать не следовало бы, вам ещё нужно учиться».
«Но, — писал он позднее, — я живо чувствовал тогда потребность нравственной жизни, чтобы иметь возможность развиться». Во имя этой «потребности нравственной жизни» он взваливал на себя то одно, то другое и остро переживал неполадки в личных и общих делах.
Он был неподкупно честен во всём, что касалось его отношений с товарищами. Но порою жизнь принуждала его отступаться от собственных принципов, когда дело касалось его самого.
Насмешка судьбы состояла в том, что по складу ума и таланта, по своему особому дару «вникать» в человеческую натуру Крамской был прирождённым портретистом, и это именно обстоятельство сделалось причиной множества несчастий и составило драму его жизни.
Первые же его портреты, показанные на выставках, принесли ему широкую известность. Его стали осаждать заказчики из высших слоёв общества. Его заметил императорский двор. А отказываться нельзя было: нужны были 156 деньги, росла семья, да и артельные дела хотелось улучшить...
Работа над заказными портретами (которые нередко приходилось исполнять даже и с фотографий) сушила мозг, оставляла дурной привкус, и чем дальше, тем определённее намечался разрыв между желаемым и действительным. «Лямка присяжного портретиста», которую он тянул, с годами всё больше сгибала ему спииу, и к концу жизни ие раз вырывались у него горькие
признания: «Портретов я, в сущности, никогда не любил и если делаю сносно, то только потому, что любил и люблю человеческую физиономию. Но ведь мы понимаем, что человеческое лицо и фигура не суть портреты, потребные публике...»
Да, разумеется, портреты такого рода, к какому стремились Крамской и его товарищи, не были нужны «публике», осыпавшей художника своими заказами, — всем этим «людям лайковых перчаток, духов и помады», сказочно богатевшим в семидесятые годы банковским и железнодорожным дельцам и их расфуфыренным жёнам.
Что же оставалось делать?
Для человека, чуткого к нравственным вопросам и так ясно понимающего задачи и смысл искусства, подобная раздвоенность была постоянным источником страданий.
В молодости он ретушировал фотографии, чтобы скопить деньги на учение в академии. Теперь ему приходилось писать десятки заказных портретов, чтобы обеспечить себе возможность заняться тем, что ему действительно хотелось делать.
Работая над картиной «Хохот», которую ему так и не довелось окончить, он писал, что с ужасом помышляет о том времени, когда надо будет воротиться к своим обычным занятиям — портретам. «Я испытал уже это чувство после первой картины и помню, как мне было больно приниматься за механический труд...»
Портреты лиц императорской фамилии, которые ему приходилось делать, он называл «денежными знаками», кредитными билетами большего или меньшего достоинства.
Но — что поделаешь! — «денежных знаков» требовалось всё больше и больше.
Он был заботливым отцом и мужем, человеком с обострённым чувством долга. Он взял к себе в дом осиротевших племянницу и племянника. С течением времени его всё чаще одолевал страх перед мыслью, что он умрёт, оставив обширную семью в нищете. Несчастья постоянно преследовали его: то и дело болели жена, дочь, один за другим умерли двое сыновей. Надорвано было и его здоровье.
Всю горечь раздумий о судьбе мыслящего человека перед лицом равнодушной, сытой толпы он хотел воплотить в картине «Хохот», как бы продолжающей тему «Христа в пустыне». Тут должна была предстать перед зрителем сцена осмеяния Христа во дворце Пилата перед судом и казнью.
Этот сюжет овладел Крамским так сильно, что, как писал Репин, «он бросил все дела, заказы, даже семью, детей, жену и весь отдался картине».
Он выстроил наспех мастерскую — бревенчатый холодный барак на Васильевском острове, в саду Павловского училища, — и работал там до поздней осени, до сильной простуды, свалившей его. 159
Поднявшись, он снова принялся за портреты, чтобы скопить деньги на хорошую мастерскую, и, как только она была построена, снова принялся за картину, хотя по свежеоштукатуренным стенам ещё стекала ручьями вода.
Здесь, работая в сырости, он вторично тяжело заболел. Появились признаки, а затем и частые приступы грудной жабы; он работал, поддерживая себя уколами морфия. Но огромная (чуть ли не в сто фигур натурального роста) картина не ладилась. С нею произошло то, что неизбежно должно было произойти. По отвлечённости своего замысла она превратилась в одну из тех лишённых живой плоти назидательных притч, против которых сам Крамской так страстно боролся в искусстве. Он не показывал картину никому, даже жене и детям. Он сам себе боялся признаться в крушении замысла, который он, трагически заблуждаясь, счёл главным в своей жизни.
Началось бегство от самого себя. Ценою больших усилий он построил дачу с мастерской на станции Сиверской под Петербургом, перевёз «Хохот» и уезжал туда время от времени, но к картине не притрагивался. «Встретит какой-нибудь тип мужика, — вспоминал Репин, — увлечётся, напишет с него прекрасный этюд, и опять в город, к генеральским портретам». Невозможно без сжимающей сердце боли читать его письма, написанные в. то время.
«Вообразите, с какой просьбой я обращусь к вам, — писал он осенью 1880 года Суворину. — Не желаете ли вы купить меня или не можете ли вы дать мне содержание до июня месяца будущего года, то есть до конца моей картины?.. Последние два года привели меня в необходимость отказаться от портретов вовсе (то есть от портретов публики) или же, в противном случае, махнуть рукой на те затеи, которые давно уже ждут очереди, и упустить их вовсе, предоставляя времени сделать своё дело — доконать меня...»
Позже он пишет Третьякову: «Жизнь всё сложнее, времени всё меньше и меньше, положение моё всё хуже и хуже». И признаётся: «Я честно бился всю жизнь и устал вот только под конец...»
Тяжёлая физическая и нравственная усталость сказывалась теперь во всём его облике. В сорок семь лет он, по свидетельству Репина, выглядел едва ли ие семидесятилетним. «Это был теперь почти совсем седой, приземистый, от плотности болезненный старик».
Он сделался раздражительным. Стал подчёркнуто хорошо одеваться. Репин пишет: «В рабочее время он носил необыкновенно изящный длинный серый редиигот с атласными отворотами, последнего фасона туфли и чулки самого модного алого цвета старых кафтанов XVIII века».
И при всём этом главное оставалось в нём неизменным — негаснущая любовь к искусству, справедливость в оценке чужого труда, живой интерес к товарищам.
Ещё в юношеском дневнике он записал: «О, как я люблю живопись! Милая живопись! Я умру, если не постигну тебя хоть столько, сколько доступно моим способностям. Как часто случалось мне, сходясь с каким-нибудь человеком, испытывать чувство, говорящее не в пользу его! Но при одном слове: «он рисует» или «он любит искусство» — я совершенно терял это враждебное чувство». За наивной на первый взгляд восторженностью этих строк крылась та главная черта натуры Крамского, которая так возвышала его и снискала ему всеобщее уважение.
Уже сорокалетиим, признанным всеми учителем он пишет Репину (по поводу портрета художника Куинджи. только что увиденного): «Убедившись в том, что вы сделали чудо, я взобрался на стул, чтобы посмотреть кухню, и... признаюсь, руки у меня опустились. В первый раз в жизни я позавидовал человеку, но не той недостойной завистью, которая искажает человека, а той завистью, от которой больно и в то же время радостно; больно, что это ие я так сделал, а радостно — что вот же оно существует, сделано... Так написать, как написаны глаза и лоб, я только во сне вижу, что делаю, но всякий раз, просыпаясь, убеждаюсь, что нет во мне этого нерва, н не мне, бедному, выпадет на долю удовольствие принадлежать к числу нового, живого и свободного искусства...»
Но не к этому ли числу нового, живого и свободного принадлежало лучшее, что создал Крамской, — от всей души написанные портреты Толстого, Некрасова, Салтыкова-Щедрина, его «Полесовщик», «Мина Моисеев», «Крестьянин с уздечкой» и, наконец, «Христос в пустыне» — свидетельство глубоких и горьких раздумий художника?
И не ради ли нового, живого и свободного искусства была прожита его жизнь, начиная с памятного 9 ноября 1863 года — дня, который он сам в минуту жестокой нравственной самопроверки назвал единственным хорошим днём в своей жизни, единственным дием, о котором вспоминал с чистой и искренней радостью?
* * *
Он умер, как жил: за работой. Писал портрет лечившего его доктора Раухфуса — писал, как всегда, оживлённо беседуя, — и вдруг, покачнувшись, упал на лежавшую перед ним палитру.
«Когда гроб его был опущен в могилу, — вспоминал Репин, — и когда целый час заделывали склеп, многочисленная толпа провожавших хранила всё время мёртвое молчание. Солице ярко заливало всю эту трогательную сцену на Смоленском кладбище».
РУССКИЕ ЖЕНЩИНЫ
Вот я рассказал, что смог, о Крамском, и вспомнилась мне ещё одна его картина — «Неизвестная».
Кто она, эта темноглазая красавица в отороченном мехом костюме, в украшенной страусовыми перьями шляпе, темнобровая, с чуть надменным взглядом из-под длинных ресниц? Не знаю.
Что-то в ней есть от загадочной прелести блоковской «Незнакомки». Почему же? Ведь Блок написал свою поэму куда позднее, спустя двадцать восемь лет. Но образы, созданные художником и поэтом, кажутся родственными, как сёстры.
Я стал думать и о других женских образах Крамского. О «Девушке с распущенной косой». О портрете дочери, чудесно свежем по краскам, что висит в Киевском музее русского искусства. О мечтательной «Аунной ночи», о «Неутешном горе»...
Мие стали вспоминаться и другие картины, посвящённые русской женщине, её радостям н невзгодам, её красоте, её мечтам, её счастливой и горькой доле, — и вдруг подумалось, что ведь ие сказано ещё по-настоящему об этой необычайно интересной и своеобразной стороне русской живописи.
Для эллинских скульпторов женщина была прежде всего воплощением совершенства и гармонии живых форм природы. Художники итальянского Возрождения прибавили к этому одухотворённую теплоту любви и материнства. Последующие века, в сущности, ие привнесли ничего к найденному, скорее наоборот. Для лучших живописцев мира женщина оставалась предметом любования и поклонения, украшением жизни, символом радостей бытия — и не более.
И лишь русская живопись, начиная с Федотова, не только создала, осмелюсь сказать, беспримерную по содержательности и глубине галерею женских образов, но и взглянула на женщину по-иовому, по-другому.
Нужно ли говорить о том, что здесь русские художники шли в ногу с русскими писателями и что образов, равных пушкинской Татьяне, тургеневской Лизе, Наташе Ростовой нлн жёнам декабристов из поэмы Некрасова, не так уж много наберётся в мировой литературе?
Окиньте же взглядом картины русских художников, начиная с федотов-ской «Вдовушки». Вспомните «Неравный брак» Пукирёва, перовские «Проводы покойника», «Приезд гувернантки в купеческий дом», картину Неврева «Торг», где два старика помещика рядятся о цене девушки-крепостной. Не призывала ли русская живопись задуматься над несладкой женской долей? И не будила ли она вместе с гневом и состраданием другие чувства, не призывала лн взглянуть на женщину по-иному — в такой хотя бы картине, как «Вечеринка» Владимира Маковского?
...Вечер, тесная комнатёнка с голыми стенами, тёплый свет керосиновой лампы затенён абажуром, на столе самовар, чай налит в стаканы — он давно уже остыл, никто к нему и не прикоснулся, — все собравшиеся здесь слушают девушку, стоящую, сжав пальцами спинку стула и смело откинув голову.
Смысл этой картины не нуждался в объяснениях. О тех, кто изображён на ней, газета «Русский вестник» писала, что это «кучка людей, отрицающих существующие порядки». И в этой «кучке», представляющей три поколения- русской интеллигенции — от седого писателя-народника до увлечённого юноши-студента, — центром всеобщего внимания оказалась женщина.
Возможно, художник, когда писал эту картину, думал о своей современнице, двадцатисемилетней Софье Перовской, беззаветной революционерке, казнённой вместе со своими товарищами весной 1881 года на Семёновском плацу в Петербурге. А может быть, попросту об одной из безымянных девушек, уходивших, подобно чеховской Невесте, из тесного домашнего мирка в широкий мир борьбы за лучшее будущее для всех.
Французский живописец Делакруа изобразил свободу в виде прекрасной женщины во фригийской шапочке, зовущей народ к борьбе, высоко подняв знамя на баррикаде. Вот образ, полный романтического пафоса, красоты и величия, — и всё же отвлечённый, приподнятый над жизнью, аллегорический.
Нельзя не восхищаться огненной живописью Делакруа, бурной смелостью его рисунка и красок. Но для поколений русских свободолюбивых людей куда ближе и понятнее была ярошенковская «Курсистка», шагающая по сырой петербургской улице, накинув на плечи шаль и зажав пачку книг под рукой.
Когда я гляжу на эту картину, то почему-то всегда вспоминаю Надежду Константиновну Крупскую, вспоминаю ссыльную учительницу на берегу сибирской реки, провожавшую Сурикова, и думаю о многих других русских женщинах, чьё достоинство и полноправие были утверждены не словами, а жизнью, отданной для общего блага.
Русские живописцы всегда понимали и умели ценить красоту, это доказано множеством портретов — начиная с холёных красавиц Левицкого с их пепельными волосами, влажным блеском глаз и дремлющей в углах нежно розовых губ тенью мягкой улыбки. Но я не знаю женских портретов, где одухотворённость и страстное биение мысли были бы так выражены, как в портретах русской актрисы Стрепетовой, написанных Репиным и Яро-шенко.
Стрепетова не была красива в общепринятом смысле этого слова. Но есть красота высшего порядка — красота души, — она-то н светится в её полном скорби взгляде.
Такие портреты остаются навсегда, они отзовутся в каждом сердце; они пробуждают добрые и чистые чувства и тем самым возвышают нас.
Стрепетова поразительно преображалась на сцене, и, быть может, поэтому многим современникам ярошенковский портрет казался непохожим. Но художник отвечал своим критикам, что для будущих поколений важны не черты буквального сходства, а то главное, что делало Стрепетову любимицей всех честно мыслящих людей того времени, — её духовная красота, её глубокая человечность.
Такой представала перед зрителем русская женщина, запечатлённая художниками-передвижниками, — от согнутой горем, обездоленной крестьянки из «Проводов покойника» до распрямившей плечи, задорно улыбающейся «Шахтёрки» Николая Касаткина, от несокрушимой в своём фанатизме боярыни Морозовой до величественной властительницы дум Марии Николаевны Ермоловой, чей портрет был написан Серовым в бурном 1905 году. «Трибуном свободы, лозунгом истины была для нас эта прекрасная, в жизни такая молчаливая женщина, с лицом Сивиллы и фигурой Венеры Милосской», — писала Т. А. Щепкииа-Куперник, современница великой русской актрисы.
Такой и рисует потомству Ермолову Валентин Александрович Серов — гордой, полной достоинства, прекрасной женщиной-человеком.
О созданных Серовым женских образах, едва ли не поэтичнейших в русской живописи, о его пленительной «Девушке, освещённой солнцем», о нежной и чистой «Девочке с персиками» надо ещё рассказать.
Нам непременно нужно двинуться к свету, краскам и воздуху, но... как сделать, чтобы не растерять при этом
И. Н. Крамской
ГЛАВА ШЕСТАЯ
ПОЭЗИЯ СВЕТА
Весной 1880 года на Большой Морской улице в Петербурге (теперь — улица Герцена) можно было наблюдать не-обычное зрелище. Вся проезжая часть была сплошь запружена каретами и извозчичьими пролётками, а вдоль
домов толпилась длиннейшая очередь, тянувшаяся от Невского проспекта к зданию, где находилось выставочное помещение Общества поощрения художников.
Часами простаивали здесь люди, чтобы увидеть... одну-единственную картину. Один-единственный пейзаж, называвшийся «Лунная ночь на Днепре». Никаких других картин в помещении выставлено не было.
Со времён «Последнего дня Помпеи» не случалось ещё, чтобы люди так стремились увидать одно-единстве иное произведение живописи. А уж споров об этой картине было столько, сколько не бывало, пожалуй, ещё никогда.
Спорили все — и близкие к искусству и ничего, казалось бы, в нём не сведущие люди. Диву давались, ахали — и замолкали, очарованные увиденным: высокое ночное небо, луна, будто только что выглянувшая в просвет между облаками, серебрящиеся зеленоватые просторы Днепра, берег, тёплые огоньки в окнах белостенных украинских хат...
«Что это такое? — писал тогда поэт Яков Полонский. — Картина или действительность? В золотой раме или в открытое окно видели мы этот месяц, эти облака, эту даль, эти «дрожащие огни печальных деревень» и эти переливы света, это серебристое отражение месяца в струях Днепра, огибающего даль, эту поэтическую, тихую, величавую ночь?»
Впечатление, производимое картиной, было действительно разительным. Никогда ещё не удавалось живописцу с помощью кисти и красок так неотразимо правдиво передать волшебство лунного света, его колдовское мерцание.
Казалось, лунное сияние исходит от самого холста. Находились люди, подходившие к картине с лупой, чтобы разгадать её «секрет». В одной из газет утверждалось даже, что художник писал свой пейзаж какой-то таинственной «лунной краской».
Звали этого художника Архипом Ивановичем Куинджи.
* * *
В то время ему было тридцать восемь лет. Он был коренаст, ходил вразвалку, уверенной тяжеловесной походкой. У него была «голова Зевса» — вьющиеся кольцами тёмные волосы, пышная борода, орлиный нос, необычайно живой взгляд выпуклых, чёрных с поволокой глаз.
Детство его, как и многих других русских художников, было нелёгкое. Шести лет он осиротел, был пастушонком в Мариуполе, мальчиком на побегушках, ретушёром у одесского фотографа. Как и многие другие, двадцати с лишним лет приехал в Петербург. Дважды срезывался на экзаменах в академию по рисунку, но всё же пробился: написал картину «Татарская сакля», дал её на академическую выставку и был наконец принят.
Но стены академии оказались тесными для него.
«Он был с большими недочётами в образовании, — вспоминал впоследствии Репин, — односторонен, резок и варварски не признавал никаких традиций, — что называется, ломил вовсю и даже оскорблял иногда традиционные святыни художественного культа, считая всё это устарелым».
Что-то новое властно звучало в нём и требовало выхода. Дойдя до натурного класса, он оставил академию и вскоре принёс на выставку передвижников картину «Забытая деревня», сразу же приобретённую Третьяковым для своей галереи.
Понадобилось, однако, ещё два года для того, чтобы по-настоящему найти себя, своё место, свою особенную дорогу в искусстве.
Куинджи принадлежал к людям, которые, по-выражению Репина, до всего доходят своим умом. Он был, говоря по-современному, прирождённым новатором. «Его гений мог работать только над чем-нибудь ещё неизвестным человечеству, не грезившимся никаким художникам до него»1. Он обладал феноменальной чувствительностью зрения к оттенкам, к тончайшим различиям тоиов. И эта особенность позволила ему открыть для всех то «неизвестное ещё человечеству» волшебство света, которое так поражало в его картинах.
1 И. Е. Репин.
Когда в 1876 году он показал иа выставке передвижников свою «Украинскую ночь», газеты писали, что пейзаж этот совершенно убивает все другие находящиеся на выставке пейзажи.
И это действительно было так — настолько необычной (и в то же время до крайности правдивой) казалась куинджиевская картина с её тёмно-синим глубочайшим небом, стройными тополями, лунным светом иа стенах хат, величаво-недвижным покоем, тишиной южной иочи и одиноким огоньком, теплящимся в окошке.
Глаз истинного художника тем и отличен, что замечает рассеянное повсюду прекрасное и открывает его нашему глазу. И теперь, любуясь где-йибудь над рекой зрелищем лунной ночи или закатом, горящим между чёрными стволами деревьев, не говорим ли мы: «Будто на картине Куинджи»?
Для современников художника его картины были радостным откровением. Они отвечали страстному желанию новизны, каким было охвачено тогда общество. И всё же шумный успех картин Куииджи в то время, когда первым и едва ли не единственным мерилом искусства было мерило идейности и граждаиствеиности, может на первый взгляд показаться странным.
Секрет воздействия картин Куинджи таился не только в поразительной иллюзии света. «Сами по себе луна и солнце, — писал Крамской, — не предмет для живописи». «Но, — говорил он о произведениях Куинджи, — глядя на такие картины, я могу сделаться лучше, добрее, здоровее».
В это замечание стоит вдуматься.
* * *
Мне всегда казалось, что невозможно по-иастоящему понять картины художника, не вникнув поглубже в него как человека, в его жизнь, в его характер, в его судьбу.
Вот главная черта характера Куииджи: он был добр.
Он любил птиц. Ежедневно в определённый час он выходил на улицу с мешком корма, и птицы знали это. Как только раздавался традиционный выстрел пушки на верках Петропавловской крепости, отмечавший полдень, целые тучи пернатых слетались чуть ли не со всего города к дому на Шестой линии Васильевского острова. В небольшой квартире Куинджи одна из комнат служила птичьим лазаретом — там он отхаживал больных и полузамёрзших воробьёв, галок и ворон в студёные зимние месяцы.
Он любил людей — и, не на словах, а на деле.
«Это... это что же такое? — спрашивал он по-мариупольски горячо и певуче. — Если я богат, то мне всё возможно: и есть, и пить, и учиться, а вот если денег нет, то значит — будь голоден, болен и учиться нельзя, как было со мной.. Но я добился своего, а другие погибают. Так это же не так, это же надо исправить, это вот так, чтоб денег много было и их дать тем, кто нуждается, кто болен, кто учиться хочет...»
То были не пустые слова.
Чтобы «денег много было», Куииджи пускался на всякое, вплоть до покупки земли и доходных домов. А разбогатев, не стал жить барином. Жил он по-прежнему скромно и даже стеснённо, а деньги свои пускал на общее благо, щедро помогая молодым художникам (да и не только художникам). В 1904 году он внёс сто тысяч рублей на проведение ежегодных весенних конкурсов для молодых живописцев.
Ои был вольнолюбив и независим. Когда в Петербурге разразились студенческие волнения, окончившиеся стачкой, Куинджи был уволен из состава профессоров академии и подвергнут домашнему аресту «за близость к студентам и авторитет среди бастовавших».
Президент академии великий киязь Владимир не подавал ему руки. Зато молодёжь отвечала ему горячей любовью.
Когда он, бывало, приезжал на академическую дачу близ станции Подсолнечной, где учащиеся-пейзажисты писали летом этюды, там начинался шумный всеобщий праздник, и грузный бородач («отец», как его называли) резвился азартно вместе со всеми и уезжал, провожаемый оживлённо галдящей толпой учеников.
И среди яркого жизненного успеха, на вершине славы и признания, ои вдруг — сорокалетиим, в расцвете сил и таланта — решил «уйти со сцены» и твёрдо объявил, что отныне и до конца жиэии ие выставит более ни одной картины.
Так он и поступил. Когда изумлённые друзья спрашивали о причинах
М. А. Врубель. Гадалка.
неслыханного решения, он отвечал: «У меня спрашивают, почему я бросил выставляться. Ну, так вот это так: художнику надо выступать на выставках, пока у него, как у певца, голос есть. А как только голос спадёт, надо уходить, не показываться, чтобы не осмеяли. Вот я стал Архипом Ивановичем, всем известным, ну, это хорошо, а потом увидел, что больше так не сумею сделать, что голос стал как будто спадать. Ну, вот и скажут: «Был Куинджи, и не стало Куннджи». Так вот я же не хочу так, а чтоб навсегда остался один Куинджи».
Таким он и остался навсегда — человеколюбцем, чья доброта и бескорыстная широта натуры как в зеркале отразились в его картинах.
Рядом с исправными, но скучными пейзажами Клодта, рядом с чужеземными холодными ландшафтами Боголюбова или Беггрова картины Куинджи звучали величественным гимном природе, её одухотворённой красоте, порождающей в человеке чувство радости бытия.
И не в ошеломляющих эффектах была главная сила Куинджи. В его прощальной картине «Днепр утром» (последней показанной на выставке при его жизни) нет ни луны, ни багрового заходящего солнца — ничего, кроме поросшего выгоревшей травой, полевыми цветами и чертополохом берега да заречных далей, окутанных мглистой дымкой. Куда уж проще!
И однако, остановись перед этой картиной, испытываешь особую радость — так бывает, когда очутишься ранним утром на высоком берегу над рекой, над неоглядными просторами, напоёнными мягким светом, и стоишь в счастливом молчании.
* * *
Куинджи остался верен своему слову. Двадцать девять лет (вдумайтесь в эту цифру!) он не выставлялся, хоть не прекращал работы ни на один день, и только самые близкие друзья, которым он изредка показывал новые свои холсты, были свидетелями непрекращающихся упорных исканий.
В эти годы он написал полный чувства покоя пейзаж «Дубы», который можно увидеть теперь в Аенинградском Русском музее. Там же хранится и неоконченное «Ночное», где тонко уловлен тот предрассветный миг, когда всё ещё погружено в синеву ночи и только небо у горизонта чуть тронуто занимающейся «розовоперстой» зарёй...
Но всё это казалось ему лишь повторением найденного, уже открытого людям; гордое самолюбие искателя не позволяло ему повторять не только других, но и самого себя.
Отказавшись участвовать в выставках своими картинами, он в остальном ничуть не переменился. Был по-прежнему весел, общителен, отзывчив; по-прежнему любил музыку. Ходил на квартетные вечера к Владимиру Маковскому. «Так хорошо, что ещё жить хочется», — говорил он, наслушавшись.
Но жить ему оставалось недолго. Как у большинства впечатлительных, бурных, полнокровных, горячо переживающих свои и чужие беды натур, у него оказалось надорванным сердце.
— Посмотрите, какие мускулы, — говорил он навещавшим его в дни болезни друзьям, — грудь какая! Я ещё богатырь, а нет сердца.
Перед смертью он вскочил с постели, заторопился куда-то, выбежал в переднюю — и упал.
Когда было вскрыто его завещание, то оказалось, что все свои немалые средства (около двух миллионов рублей) он завещал Обществу поощрения художников, оставив жене весьма скромную пенсию.
«За гробом Куинджи шло много незнакомых людей, получавших от него помощь, — вспоминал один из его друзей художник Минченков, — а над домом кружились осиротевшие птицы».
ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ
Когда на склоне своей жизни Толстой, обрушиваясь на пустое, бессодержательное «искусство ради искусства», причислил и пейзажную живопись к искусству такого рода, Репин решительно возразил ему. Пейзаж дорог нам не только потому, говорил он, что изображает верно природу, но и потому, что в нём отражается впечатление художника, его личное отношение к природе, понимание её красоты. Лучшие художники-пейзажисты всем своим творчеством подтвердили правоту Репина в этом споре.
Со времён Васильева русский пейзаж будил в людях благородное чувство любви к родной земле, неожиданно открывая прекрасное в обыденном и тем самым помогая человеку стать, как выразился Крамской, «лучше, добрее и здоровее». А разве не в этом состоит главная цель искусства?
Рядом с чутким к изменчивым настроениям природы Васильевым творил его учитель Шишкин. Можно ли представить себе художников более разных в своём «личном отношении» к природе, понимании её красоты?
«Шишкин нас просто изумляет своими познаниями, — писал Крамской. — Я думаю, что это единственный у нас человек, который знает пейзаж учёным образом, и только знает. Но у него нет тех душевных нервов, которые тук чутки к шуму и музыке в природе...»
Картины Шишкина подкупали современников именно этим исключительным знанием природы.
Его огромные полотна были как бы обстоятельно рассказанными повестями о жизни могучих корабельных рощ, тенистых дубрав и раздольных полей с клонящейся под ветром спелой рожью.
В своих рассказах Шишкин не упускал ни одной подробности, и нельзя не подивиться той безупречной верности, с какой он изображал всё: возраст деревьев, их характер, почву, на которой они растут, и как обнажаются цепкие корни на кромках песчаных обрывов, и как лежат камни-валуны в чистых водах лесного ручья, и как расположены пятна солнечного света на округлых стволах и зелёной траве-мураве...
Но в этом неторопливом и ясном повествовании не хватало того, что Крамской образно называл «стрункой, которая могла бы обращаться в песию».
Шишкин был, если можно так выразиться, трудолюбивым прозаиком русского пейзажа. Васильев стал первым его поэтом.
И это благотворное поэтическое начало не заглохло. Первая, несмелая ещё песня была подхвачена другими, новыми голосами.
* * *
В 1882 году, когда Куинджи выставил свою «прощальную» картину, друг Тургенева М. В. Олсуфьев посетил писателя, жившего в то время во Франции, под Парижем.
Тургенев был болен, невесел. Он тосковал, думал о России.
«Первое, что бросилось мне в глаза, — вспоминал Олсуфьев, — это моя старая знакомая картина Василия Дмитриевича Поленова «Московский дворик».
Кому же не знакома теперь эта картина, этот небольшой зелёный дворик, затерявшийся среди тихих переулков Арбата!
Ясный летний день. Всё будто дремлет, пригретое ласковыми лучами солнца: перевесившиеся через забор деревья, старый белый дом, трава с протоптанными тропинками, покосившийся сарай, пятиглавая церковь с золотыми луковками, лошадёнка, впряжённая в телегу. У колодца бродят сонные куры. Розоватые облачка дремлют в небе...
180 Однако то, что видел Олсуфьев у Тургенева во Франции, было не самой картиной (она уже тогда находилась в Третьяковской галерее), а лишь одним из этюдов к ней. И вот как этот этюд попал к Тургеневу.
В 1876 году Василий Дмитриевич Поленов вернулся на родину после нескольких лет заграничного пенсионерства. Он окончил академию вместе с Репиным, вместе с ним получил золотую медаль и вместе с ним томился заграничным житьём и рвался в Россию. «Никто более меня не желает вернуться на родину, — писал он из Франции, — чтобы моим трудом доказать на деле мою горячую любовь к ней и искреннее желание быть, насколько могу, ей полезным».
Вернувшись, он решил вместе с Репиным и Васнецовым поселиться в Москве, подальше от академии, от петербургской чинности, от официального надзора.
Однажды, бродя по арбатским переулкам в поисках квартиры, он зашёл в один из домов, на двери которого висела записка: «Сдаётся», и прямо из окна увидел озарённый солнцем дворик с прикрытым крышкой колодцем и виднеющейся за сараем церквушкой. «Я тут же сел и написал его», — вспоминал он впоследствии.
Эта строчка красноречиво свидетельствует о том неотразимом впечатлении, какое захватило художника и так ясно выразилось в его картине.
«Это тургеневский уголок», — говорил Поленов, и говорил так не потому лишь, что именно здесь, вблизи Арбата и Девичьего поля, начиналось действие знаменитого тургеневского романа «Дым». «Тургеневским» было в картине Поленова всё, от внешних примет до самой души, до воздуха, до последнего облачка в небе. «Тургеневским» был сам взгляд художника, полный умиротворённой любви ко всему родному — пусть неяркому, неприметному, но родному.
Когда Иван Сергеевич Тургенев приехал из Парижа в Москву на открытие памятника Пушкину, к нему приходили десятки людей, для которых имя писателя, его романы, повести и рассказы стали чем-то неизмеримо дорогим и близким. Был среди этих людей и Поленов. Тогда-то он, в знак любви и признательности, подарил Тургеневу этюд, о котором вспоминал Олсуфьев.
И Тургенев увёз с собой в Париж драгоценный уголок родной земли, с её небом, воздухом, с её красками и запахами, с её белоголовыми ребятишками и привычным теплом родного солнца — со всем тем, что так отзывается в сердце человека, когда он после долгого отсутствия входит в дом, где прошло 182 его детство, где он рос и впервые познал душой значение слова «родина».
Гаршин не зря назвал живопись «самым задушевным из пластических искусств».
Думая об этом свойстве живописи, о её способности отвечать, отзываться самым глубоким человеческим чувствам, я всегда вспоминаю левитановскую полоску вечернего луга с луной и стогами в ялтинском доме Чехова и «Московский дворик» у больного и тоскующего Тургенева в далёком предместье Парижа.
* * *
Василий Дмитриевич Поленов был одним из обаятельнейших людей среди своих друзей-современников.
Широкообразованный (одновременно с академией он окончил юридический факультет университета), необычайно трудолюбивый, он в высшей степени обладал необходимейшим для художника свойством: он был любознателен.
Он не замыкался в пределы какого-либо определённого жанра; его интересовало одновременно всё: историческая картина, портрет, пейзаж, театральная декорация... И во всех этих столь различных видах искусства он стремился найти что-то новое, что-то своё.
Его картина «Христос и грешница» была запрещена цензурой и снята с выставки передвижников за то, что он изобразил Христа без сияющего нимба вокруг головы, изобразил попросту человеком, проповедующим терпимость н милосердие.
Но эта картина, при всей её человечности и нравственной чистоте, не стала (да и не могла стать) действительным успехом художника — так же как и восточные пейзажи, написанные во время поездки в Египет, Сирию и Палестину. За солнечно-яркими красками этих картин не видно было того, что покоряет нас в «Московском дворике», где мастерство так естественно соединилось с чувством.
Как важно и необходимо художнику обрести себя, найти свою ноту, пропеть свою единственную, ту, что дано пропеть ему и никому более!
Быть может, ни перед чьими картинами не понимаешь этого так ясно, как перед картинами Поленова, когда среди ярких, красивых, лазурно-белобронзовых восточных этюдов и пейзажей и среди исторических сцен вдруг увидишь «Ранний снег», «Заросший пруд» или «Бабушкин сад» с их негромкой, но истинной, от сердца к сердцу идущей поэзией.
К слову, о «Бабушкином саде». Для тех, кто любит живопись Поленова и эту картину, интересно будет узнать, что деревья, видные слева над забором в «Московском дворике», — это деревья «бабушкиного сада» — одного из обедневших дворянских гнёзд, рассыпанных тогда по всей России.
Найдя в сердце Москвы этот тихий, как бы отгороженный от всего мира уголок, Поленов не просто списал его с натуры. Картина заросшего буйной молодой зеленью старого сада с обветшалым барским домом и фигурами бабушки с внучкой на заглохшей аллее внятно говорит и об уходящем прошлом, и о вечном, неизбежном обновлении жизни.
* * *
Брюллов утверждал, что рисовать надо уметь прежде, чем быть художником. Репин говорил другое: «Надо быть наперёд человеком, настоящим светлым человеком, а уж потом художником».
Таким «настоящим светлым человеком», человеком прежде всего, и был Поленов.
Он был доброжелателен, отзывчив, верен слову и дружбе. Я уже рассказывал, как настойчиво он выручал в тяжёлую минуту друга художников Мамонтова.
Его честность была честностью художника-гражданина. В 1876 году он поехал добровольцем на фронт в штаб генерала Черняева, командовавшего сербскими войсками в их освободительной борьбе против турецкого ига. Там этот высокий темноглазый красавец вскоре стал известен своим спокойным бесстрашием и получил черногорскую медаль «За храбрость».
А в 1905 году, после Кровавого воскресенья, он вместе с Валентином Александровичем Серовым написал знаменитое письмо:
«В собрание Академии художеств. Мрачно отразились в сердцах наших страшные события 9 января. Некоторые из нас были свидетелями, как на улицах Петербурга войска убивали беззащитных люден, и в памяти нашей запечатлена картина этого кровавого ужаса. Мы, художники, глубоко скорбим, что лицо, имеющее высшее руководство над этими войсками, пролившими братскую кровь, в то же время стоит во главе Академии художеств1, назначение которой вносить в жизнь идеи гуманности и высших идеалов. В. Поленов, В. Серов».
1 Великий князь Владимир, президент Академии художеств, был главнокомандующим войсками гвардии и Санкт-Петербургского военного округа.
Гражданственность издавна была благороднейшей чертой русских художников. Подтрунивая над Шишкиным, «лесовиком», ничем по-настоящему не интересовавшимся, кроме своих пейзажей, Репин в молодости насмешливо напевал:
Мы живём среди полей
И лесов дремучих...
Василий Дмитриевич Поленов тоже любил жить среди полей и лесов, но это никогда не мешало ему думать о людях, о народе.
В 1913 году он писал Шаляпину: «В небольшом кружке близких по духу людей возникла мысль помочь пробуждающемуся народу в его стремлении к свету, в его жажде чего-то нового, высокого, в потребности жить не только жизнью материальной, но и духовной... И вот искусство, по нашему глубокому убеждению, есть одно из самых могучих для этого средств. Многостороннее и доступнее всего оно проявляется на сцене, на нём соединяется в одно целое: поэзия, музыка, живопись, пластика и т. д. Поэтому ближайшей нашей задачей стало: содействие устройству деревенского, фабричного и школьного театра».
Этому делу Поленов бескорыстно отдал много труда и немало лет жизни.
Он ставил спектакли, где играли рабочие и дети из сиротских домов. Для таких театров он создал новый тип специальных простых декораций и в виде альбома распространил его по России. Он тратил на это всё, что зарабатывал живописью, картинами.
Поселившись под старость в имении «Борок» под Тарусой, он продолжал свою просветительную деятельность: построил две школы в ближних деревнях, ставил спектакли для окрестных жителей.
Тут, на берегах Оки, он и написал «Золотую осень» и «Ранний снег».
Кто побывал хоть раз в этих местах — в деревне Бехово, названной теперь его именем, в его доме, ставшем теперь музеем, на берегу реки, откуда широко открываются полные неброской прелести просторы средней России, — тот ещё яснее поймёт и полюбит Поленова, «настоящего светлого человека», народного художника в истинном значении этого слова.
ПРОДОЛЖЕНИЕ РОДА
Когда Поленову исполнилось пятьдесят лет, он получил письмо от одного из своих учеников, заканчивавшееся словами:
«Дай вам бог долго поработать и по-прежнему вносить в искусство непосредственность, свежесть, правду. Сделанное вами в качестве художника громадно, значительно, но не менее значительно ваше непосредственное влияние на московское искусство. Я уверен, что искусство московское не было бы таким, не будь вас».
Звали ученика Исааком Ильичом Левитаном. Ему суждено было продолжить дело, начатое Саврасовым, Васильевым, Поленовым.
Как и многие другие его сверстники, Левитан учился на медные гроши, но, кроме материальной нужды, испытал ещё всю унизительность национального гнёта. Пробившись из белорусского захолустья в Московское училище живописи и ваяния, он ночевал под скамьями в классах и кормился на три копейки в день.
Он начал учиться у Алексея Кондратьевича Саврасова через два года после того, как тот написал своих знаменитых «Грачей».
Сорокатрехлетний бородач, любимец студентов, Саврасов был человеком тонких чувств, но слабого характера. Семидесятые годы в России были тяжёлым испытанием для людей такого склада. Светлые надежды сменялись горьким разочарованием, и нужна была немалая сила духа, чтобы во время удушения последних проблесков свободы сохранить веру в будущее и волю к борьбе.
Не всем это удавалось. Иные, как Перов, под ударами жизни уходили от наболевших вопросов, искали убежища в религиозной или исторической живописи. Другие попросту ослабевали, теряя силу двигаться вперёд. Третьи, как Саврасов, топили горькую думу в вине.
Всё чаще и чаще в кабаках и трущобах Хитровки появлялся этот замечательный художник, и недалёк был день, когда, ученики увидели его стоящим у входа в училище с протянутой дрожащей рукой.
— Подайте бывшему профессору... — бормотал оборванный нищий, в котором с трудом лишь можно было узнать творца «Грачей» и «Просёлка».
Такова была судьба одного из наблюдательнейших и сердечнейших русских живописцев.
Но картины, как и книги, имеют свою судьбу, отдельную от судьбы их создателей.
Саврасовскне «Грачи» возвестили весну русской живописи, «Московский дворик» был как бы согрет теплом её летнего дня. Левитан прибавил к этому грустную поэзию осенних красок.
Тонкий знаток человеческой души, Стендаль однажды сказал: «Тот не художник, кому не доступно чувство печали».
Левитану это чувство было доступно в высокой степени, что легко понять, если вдумаешься в его судьбу н в его смутное, нерадостное время. Он был любимейшим учеником Саврасова, но нз училища его выпустили всего лишь с дипломом учителя чистописания. Полиция дважды выдворяла его из Москвы (как не имеющего «права жительства») — не только когда он был студентом, но даже тогда, когда его картины известны были уже во всех концах России. Судьба не баловала его ни крепким здоровьем, ни простыми житейскими радостями. Он был одинок и несчастлив даже в недолгие годы достатка и славы.
Было бы, однако, ошибкой объяснять этим «левитановскую» грусть. Он был сыном своего времени; личные беды его были частицей общих бед и невзгод.
«Он смотрел на природу глазами измученного народа», — писал Паустовский. Он любил её сыновней любовью, быть может ещё более сильной и глубокой в хмурые дни ненастья.
Вот почему от его картин — даже самых грустных, даже таких, как «Над вечным покоем», — не веет тоской, безысходностью.
Печаль Левитана согрета любовью, она призывает не к отчаянию, а к раздумью.
Она — как минута молчания среди шума жизни, минута глубокой сосредоточенности в себе.
Левитана не раз сравнивали с Чеховым (чему немало способствовала и сердечная дружба, связывавшая этих людей).
Но бывает, приходится слышать, что для подобных сопоставлений нет достаточного основания; что следовало бы говорить скорее о различии, нежели о сродстве, потому что-де всё творчество Чехова — о человеке, а в пейзажах Левитана людей нет.
Быть может, такие утверждения не стоили бы возражений, если б тут не было затронуто существенное различие между «искусством слов» и «искус-190 ством красок».
В самом деле, возьмите хотя бы левитановскую «Владимирку». Казалось бы, что может рассказать человеку о человеке эта пустынная дорога, убегающая вдаль под облачным серым небом, среди побуревшей зелени полей и перелесков? Но не слышим ли мы, глядя на этот пейзаж, кандальный звон тысяч и тысяч ссыльных, протоптавших эту дорогу?
Долгие годы «Владимирка» была этапным путём арестованных, пересылаемых из Москвы (или через Москву) в Сибирь. Пешком, прикованные по восемь — двенадцать человек к железному толстому пруту, проходили здесь многие тысячи революционеров.
Не об этом ли безмолвно напоминает картина? И не раскрывается ли за дальней далью этого пейзажа иная даль — даль сочувствия, сострадания, даль глубоких раздумий?
Но может быть, всё же впечатление, производимое этой картиной, оказалось бы сильнее, если б художник изобразил на дороге одну из тех сцен, какие мы только что представили себе?
В Киевском музее русского искусства висит небольшая картина Маковского «На этапе», где есть всё — и дорога, и небо, и арестанты с ребёнком; нет лишь одного: того непостижимого, за душу берущего чувства разлуки, какое исходит от левитановской картины...
Дело, как видно, в том, что литература и живопись выражаются каждая своим языком, и нельзя мерить общей меркой искусство слов и искусство красок.
«Всякий неглупый человек очень хорошо знает, — писал Васильеву Крамской, — что есть вещи, которые слово выразить решительно не может... Если всё можно сказать словом, то зачем тогда искусство, зачем музыка?»
В самом деле, как опишешь словами левитановский «Март»? Снег, деревья, дом, лошадёнка, впряжённая в сани... Но как передать ту «весну света», тот живой трепет пробуждающейся природы, то предчувствие перемен, каким полна эта картина?
Как описать «Золотую осень» — густую синь реки, ораижево-жёлтое горение листьев? Что скажешь о «Летнем вечере», где нет ведь ничего, кроме пустого выгона с придорожным плетнём и где так исчерпывающе выражен тот миг заката, когда земля уже подёрнулась вечерной тёплой тенью, а последний луч солнца ярко горит на перекладине ворот?
Чтобы рассказать всё это, нужны ие слова, а краски. Этим-то оружием 192 владел Левитан, как Чайковский — звуками, как Чехов — словом.
Перечитывая недавно книгу Репина «Далёкое — близкое», я встретил фразу, которую прежде почему-то не замечал, а теперь вдруг как бы остановился с разбегу — так поразила меня верность мысли, выраженной самым кратким и неожиданным образом. Вспоминая о красоте лунных ночей на Волге, Репин пишет: «Луна, как и искусство, очаровывает нас, обобщая формы, выбрасывая подробные детали».
Это неожиданное и странное на первый взгляд сравнение особенностей лунного освещения с искусством указывает на одно из драгоценных свойств настоящей живописи - — доверие к воображению, к способности зрителя верно «дорисовать» картину, досказать недосказанное художником.
Живопись Левитана в высокой степени обладает этим свойством. В отличие от многих предшественников и современников, он не вдавался в подробности, не выписывал каждую былинку, каждый листик, каждое облачко в небе. В его пейзажах есть нечто гораздо более важное: они будят чувства — от тихой грусти до светлой улыбки; они пробуждают в каждом из нас свои особые воспоминания. Онн не просто знакомят нас с картинами родной природы — они делают эту природу спутницей наших мыслей, неотделимой частью нашей личной жизни, нашей судьбы.
Есть у редкостного художника слова Ивана Алексеевича Бунина повесть воспоминаний, повесть первой любви — «Лика», и там — несколько строк, которые не могу теперь ни привести, ни напомнить:
...Я часто читал ей стихи.
— Послушай, это изумительно! — восклицал я. — «Уноси мою душу в звенящую даль, где, как месяц над рощей, печаль!»
Но она изумления не испытывала.
— Да, это очень хорошо, — говорила она, уютно лёжа на диване, положив обе руки под щёку, глядя искоса, тихо и безразлично. — Но почему «как месяц над рощей»? Это Фет? У него вообще слишком много описаний природы.
Я негодовал: описаний! — пускался доказывать, что нет никакой отдельной от нас природы, что каждое малейшее движение воздуха есть движение нашей собственной жнзни. Она смеялась.
...Я читал:
Какая грусть! Конец аллеи Опять с утра исчез в пыли.
Опять серебряные змеи 194 Через сугробы поползли.
Она спрашивала:
— Какие змеи?
И нужно было объяснять, что это — метель, «позёмка...».
Вдумайтесь, вслушайтесь в эти строки. Тут сама поэзия вместе с любовью стучится в сердце, — надо раскрыться навстречу, чтобы понять, всей душой ощутить, что и впрямь нет никакой отдельной от нас природы, что каждое малейшее движение воздуха есть движение нашей собственной жизни.
Эти слова вспоминаешь всегда перед картинами Левитана.
ОТРАДНОЕ
В 1888 году на московской Периодической выставке появились две картины, сразу же привлёкшие зрителей необычайной солнечностью и юной свежестью красок.
Одна из них изображала коротко остриженную девочку в розовой блузе, за покрытым белой скатертью столом, на котором лежат три крупных персика. На другой изображена была девушка постарше, сидящая, прислонясь головой к морщинистому стволу старой липы в кружевной тени летнего парка.
Это были «Девочка с персиками» и «Девушка, освещённая солнцем» Серова, и сегодня всё такие же свежие, юные, привлекательные.
Чем же так покоряют нас эти два бесхитростных портрета?
Прежде всего, мне кажется, разлитым в них обаянием нравственной чистоты. Глядя на эти картины, я испытываю то же отрадное чувство, какое наполняет меня, когда я вспоминаю чеховскую Мисюсь из «Дома с мезонином». Я не знаю, как лучше описать это чувство; оно похоже на счастье. Счастье дышать утренним чистым воздухом, глядеть на пронизанную солнечным светом листву, видеть добрую юность.
Свет добра озаряет серовские картины, он разлит в воздухе, овевающем смуглое и зарумянившееся, как персик, лицо девочки в розовой блузке; он трепещет тёплыми пятнами на лице «Девушки, освещённой солнцем», он отражён в её взгляде, чуть грустном и полном доброжелательного внимания к жизни. «Я хочу, хочу отрадного, — говорил, вступая на путь большого искусства, Серов, — и буду писать только отрадное...»
Двадцать трн года было ему, когда он писал «Девушку, освещённую солнцем».
Это было как раз то, в чём нуждалась тогда русская живопись, чего ей недоставало. Не об этом ли думал Крамской, говоря: «Нам непременно нужно двинуться к свету, краскам и воздуху»?
Когда русские живописцы повели борьбу за правду, простоту и доступность искусства, они выдвинули на первый план идею и чувство. Но искусство имеет и третью основу — форму. В горячем споре с академизмом эта сторона искусства порою забывалась.
Перову, Мясоедову, Максимову важнее всего было открыто и прямо выразить свои мысли, пусть даже ие очень приятным языком. Как бы в противовес академической цветистости, их живопись была скудна, черновата, землиста.
Но уже Крамской обратил внимание своих товарищей на опасный разрыв между истиной содержания и талантливостью выполнения.
Он сам остро чувствовал в себе этот недостаток и с горечью признавался, что не сумел овладеть в достаточной степени главным оружием живописца — цветом.
«Нужен голос, громко, как труба, провозглашающий, — писал он. — что без идеи нет искусства, но в то же время и ещё более того, без живописи, живой и разительной, нет картин, а есть благие намерения, н только».
Слова эти были как нельзя более своевременны.
* * *
Сохранился рисунок Репина, изображающий Серова в возрасте тринадцати лет. Мне кажется, достаточно взглянуть на этот рисунок, чтобы понять характер мальчика — диковатого, нелюдимого, исподлобья глядящего пристальным н упорным взглядом.
Он был сыном известного русского композитора, крупного теоретика музыки, автора опер «Рогнеда», «Юдифь» и «Вражья сила», в чьём доме всегда полно бывало музыкантов, художников, певцов. Он с детства дышал воздухом искусства и рано потянулся к карандашу и кисти.
Девять лет было ему, когда мать привела его к Репину, жившему тогда в Париже. Она верила в Репина и не ошиблась. Репин не только оценил дарование мальчика. Он как бы сразу разгадал и его натуру, замкнутую и своенравную.
Серов рано лишился отца. Мать, пианистка, страстно преданная музыке, увезла сына за границу (в Мюнхен, а затем в Париж), где он рос без сверстников, без шумных детских игр, без тепла отчего дома, — рос, забывая родной язык. Некрасивый, большеносый, молчаливый, он был похож на одинокого нахохлившегося птенца. Но за неприветливой внешностью таилось доброе и чуткое сердце.
Репин не стал «натаскивать» мальчика, дрессировать его на академический лад. Он попросту сажал его рядом с собой (сам он писал тогда свою картину-сказку «Садко») и ставил какой-нибудь натюрморт.
Когда ученики-иовички допытывались у Рембрандта, в чём секрет мастерства, как следует учиться писать, тот неизменно отвечал с лукавой усмешкой: «Берите в руку кисть и начинайте...»
Репин, как видно, тоже держался этого мудрого правила. Впоследствии Серов не раз вспоминал, как много дали ему репинские уроки, его доверие, его неназойливые, мягкие, но всегда верные советы, а главное — его личный пример.
Бережливость, с какой учитель относился к дарованию ученика, не замедлила сказаться, и уже в ранних юношеских работах Серова наметилось всё то, что сделало впоследствии его живопись столь привлекательной и своеобразной.
Достаточно взглянуть на карандашный набросок с Репина, сделанный тринадцатилетним Серовым, чтобы увидеть, какой в нём таился портретист. А листы его юношеских альбомов говорят ие только о наблюдательности и меткости, но и об особенном, «серовском» изяществе, деликатности и благородстве рисунка.
Лишь тогда, когда всё это было выявлено и закреплено, Репин решился послать своего воспитанника в академию.
«Может показаться странным, — писал Игорь Грабарь, — что именно Репин направил Серова в академию, в ту самую дореформенную старую академию, против которой он десять лет спустя начал вместе с А. И. Куинджи и И. И. Толстым ожесточённый поход...» Но, посылая в академию Серова, Репин не скрывал от него всех её недостатков. Он хотел лишь, чтобы его ученик отточил св.ое умение рисовать у такого блистательного педагога, каким был Чистяков.
Мы уже говорили об этом «человеке с лицом тверского мужика и черепом Сократа» (как назвал его Грабарь), обучившем несколько поколений русских художников. Павел Петрович Чистяков был умён и чудаковат. Он любил повторять: «Ученики — что котята, брошенные в воду: кто потонет, а кто и выплывет...» Но за кажущейся бессердечностью этой присказки крылось всё то же мудрое доверие к собственным силам ученика.
Думая о Чистякове, я вспоминаю первого своего учителя рисования — Александра Григорьевича Канцерова. Воспитанник старой академии, он, как и многие другие неудачники, попал в провинцию и стал школьным учи-"J98 телем. В нашем городе на него оглядывались: ои иосил широкополую чёрную
шляпу, художническую бархатную блузу без пояса и шнурованные сапоги до колен.
Жил он на булыжной окраине, в покосившемся домике, чисто выбеленные комнаты которого были увешаны этюдами и картинами. Туда я и пришёл однажды зимой, неся под мышкой папку с картинками, тщательно срисованными из журнала «Нива».
Александр Григорьевич, насмешливо щурясь и пощипывая бородку, просмотрел содержание папки, а затем подозвал дремавшего на сваленных в углу картонках кота.
Этот кот, по кличке Люцифер, был, как и его хозяин, с причудами.
Когда Александр Григорьевич положил перед ним мои взявшие уйму труда рисунки, Люцифер тщательно обнюхал их и принялся рвать когтями.
— Ну вот, — развёл руками Александр Григорьевич. — Видишь?
Он без дальних слов отправил остатки моих трудов в жарко потрескивающую печь, а затем сунул мие в руки доску с прикнопленной четвертушкой александрийской бумаги, карандаш, положил на край стола половину луковицы и сточенный иож. Сам же взял виолончель, сел в сторонке и стал играть «Осеииюю песию» Чайковского.
Мие пришла на память эта забавная сцеиа, когда я впервые узнал, как встречал Чистяков «новеньких».
«Придя в мастерскую, — рассказывал Грабарь, — новенький в восторженном настроении садился перед моделью и начинал её рисовать, а иногда и прямо писать. Являлся Чистяков, и, когда очередь доходила до него, учитель принимался разбирать каждый миллиметр начатого этюда, причём свою уничтожающую критику сопровождал такими прибаутками, словечками, усмешками и гримасами, что бедняка бросало в холодный пот и он готов был провалиться от стыда и конфуза в преисподнюю. В заключение Чистяков рекомендовал бросить пока и думать о живописи и ограничиться одним рисованием, да притом ие с живой натуры, которой ему всё равно ие осилить, и даже не с гипсов, а «с азов». Ои бросал перед ним на табуретку карандаш и говорил: «Нарисуйте вот карандашик, оно не легче натурщика будет, а пользы от него много больше...» На следующий вечер снова являлся Чистяков, в течение десяти минут ухитрявшийся доказать «новенькому» воочию, что ои не умеет нарисовать и простого карандаша. «Нет, — говорил он ему, — карандашик-то для вас ещё трудненек, надо что-нибудь попроще поставить». И ставил детский кубик».
С помощью своей системы Чистяков воспитывал в учениках уважение к рисунку — первооснове искусства — и приучал их к мысли, что в искусстве иет и ие может быть ничего лёгкого, что «всё одинаково трудно, всё одинаково интересно, важно и увлекательно»
Он приучал смотреть на рисование ие как иа развлечение, а как на суро-200 вую и точную науку, имеющую свои законы, «стройные и прекрасные».
Те ученики, которым удавалось одолеть нелёгкую чистяковскую систему, прощали впоследствии своему учителю его насмешливость, его жестокие подчас выходки и сохраняли на всю жизнь светлое воспоминание о «тесной, душной и фантастически пыльной мастерской мудрого академического кобольда».
Серов принадлежал к немногим, которыми Чистяков гордился. Он говорил, что подобной всесторонней одарённости не встречал ещё ни в одном человеке. К концу первой зимы учения Серов стал таким уверенным рисовальщиком, каких немного было в России.
Чистяковская школа сказалась впоследствии, как и репинская. Она позволила Серову соединить свободу и широту письма с тем необыкновенно изящным и безошибочно точным рисунком, что лежит, как фундамент, в основе его картин и портретов.
Как только Серов почувствовал себя достаточно окрепшим, он оставил академию. Его тянуло к свободе, к действительной жизни, и он погрузился в неё с той жадностью, с тем стремлением запечатлеть, какое всегда отличает художника — сына своего времени.
ТАЛАНТ И ТРУД
Как часто мы произносим слово «талант», не задумываясь по-настоящему над глубоким значением этого слова!
В самом деле, в чём состоит, в чём выражается талант художника? Одни скажут: в способности рисовать, верно улавливая внешнее сходство людей и предметов. Другие прибавят к этому природный дар различать недоступные обычному глазу оттенки красок. Что ж, и первое и второе в какой-то степени верно. Но всё же речь тут идёт, на мой взгляд, лишь о второстепенных признаках, о том, что скорее можно было бы назвать одарённостью.
Что же касается таланта, то я не встречал более сжатого и вместе с тем глубокого определения, чем то. какое даёт этому понятию герой одного из романов братьев Гонкур1, художник Шассаньоль.
1 Братья Гонкур (Эдмон и Жюль) — французские писатели XIX века. Речь идёт о романе «Манетт Саломон».
«Талант, — говорит он. — это способность к новизне... способность вложить то, что ты делаешь, немного того рисунка, который ты схватишь и уловишь сам в нынешних линиях жизни...»
Достаточно пройти по залам любого музея, чтобы убедиться в справедливости этих слов. История живописи насчитывает многие тысячи произведений и многие сотни имён. Но над этой горной грядой возвышаются, подобно вершинам, лишь те, кому дано было сказать новое слово — новое и своё. Те, кому дано уловить и запечатлеть черты и дух своего времени.
Серов принадлежал к талантам такого рода. Портретная галерея, которую ои создал, рисует облик современной ему России с такой проиикновеииостью, что, кажется, если бы искусство той эпохи ие оставило ничего — ни романов, ни повестей, ии воспоминаний, — то по одним серовским портретам возможно было бы разгадать душу времени, уловить его беспокойный пульс. Серов писал адвокатов, купцов, банкиров, светских красавиц, аристократов, учёных, членов царской фамилии, артистов, писателей, композиторов. Он был, если можно так выразиться, портретистом «верхнего слоя» русского общества. Но как разнороден этот слой!
Взгляните на портрет обер-прокурора Победоносцева. С какой разящей правдивостью разоблачён этот утончённый иезуит, какой жестокий и холодный взгляд кроется за золотыми очками, за всей мнимо благородной внешностью этого человека, простёршего над Россией свои «совиные крыла».
И какой внутренней свободой, духовной раскованностью дышат написанные в те же годы портреты Горького, Шаляпина, Станиславского!
Россия конца века и кануна революции глядит иа нас глазами тяжко вросшего в землю промышленника Морозова, высоколобого поэта Бальмонта, глазами разряженной в меха и шелка княгини Орловой, глазами Марии Николаевны Ермоловой, «трибуна свободы», любимицы молодёжи.
Сановный князь Голицын, надменно покручивающий ус, седобородый председатель I Государственной думы Муромцев, откинувший голову в порыве либерального красноречия, самоуверенный «денежный туз» Гиршман; Римский-Корсаков, весь ушедший в мир нарождающихся звуков; писатель Николай Лесков, чьё короткое астматическое дыхание как бы слышишь, глядя иа этот необыкновенно живой портрет...
Нет слов, русская живопись издавна богата была прекрасными портретистами. Но портреты Серова отличаются от портретов Левицкого, Кипренского, Перова или Крамского настолько же, насколько его время было отлично от прошлых времён. Всё, что подтачивало и разъедало изнутри верхушку русского общества в канун грозных событий 1905 года, так или иначе обнаруживается в серовских портретах.
Дух времени светится в печально-насторожённом взгляде Леонида Андреева. Духом блестящего и гиблого времени веет от изысканных поз и нарядов русских красавиц аристократок. Жеищииы Серова утончённо изящны, но в их глазах, даже когда они улыбаются, звучат десятки немых вопросов.
«Ои был слишком правдив, чтобы ие чувствовать отвращения ко всякой фальши и ходульности», — говорил о Серове Грабарь. Сам Серов говорил о себе: «Я — злой»... Но его «злость» вовсе не была злостью в житейском смысле этого слова. То была беспощадность правды, и недаром о Серове говорили, что у него «опасно писаться», — это действительно было опасно для тех, кто хотел бы скрыть своё истинное лицо за шелками и кружевами, за блеском золотого шитья, за величественностью позы или мнимо значительным выражением.
Серовскими портретами, их смелой и сочной живописью можно любоваться бесконечно. Но общее впечатление, производимое его творчеством, делается куда полнее, когда сопоставишь его портреты с пейзажами. Тот разительный контраст, та пропасть, что разделяла «верх» и «низ» русской жизии, — не выразилось ли всё это в простых «портретах» родной природы?
Рядом с многоликой панорамой высшего света возникали картины милой сердцу художника деревенской России, с её серыми деньками, потемнелыми избами, с мохнатыми лошадёнками, с бабами на снегу, полощущими бельё в студёной воде, с новобранцами, уходящими «служить царю и отечеству» под горький плач матерей и иевест...
Так Серов улавливал и запечатлевал во всём черты своего времени, запечатлевал по-иовому, по-своему, внося в русскую живопись вместе с богатством правды то особенное, «серовское» богатство красок, которые можно оценить только перед лицом его картин.
Когда мы, остановившись перед той или иной картиной, произносим: «Это Репин», или: «Это Серов», или же: «Это Левитан», то тем самым говорим ие только о принадлежности картины, о том, что её написал Левитан, Серов или Репин. Сами, быть может того ие сознавая, мы вкладываем в свои слова гораздо более обширный смысл. Говоря так, мы как бы признаём, что картина есть выражение личности художника, живая частица его «я».
Чем ярче индивидуальность художника, чем глубже его талант, тем отчётливее «просвечивает» в картине его личность и тем определённее — с первого взгляда — мы узнаем его произведения. Одиако если бы нам пришлось в подробностях растолковать кому-либо, что именно так отличает, скажем, живопись Репина от живописи Серова, мы испытали бы вполне понятное затруднение.
Есть вещи, трудно передаваемые словами. Можно тщательнейшим образом описать наружность человека: цвет его волос, форму носа, каждую морщинку и каждую родинку — и всё же описание не заменит вам живого видения.
И всё-таки, если бы мне предложили в самых кратких словах сказать о самом отличительном свойстве живописи Серова, я рискнул бы ответить: «Наибольшая выразительность при наименьшей затрате изобразительных средств». Глядя на его холсты, наслаждаешься необыкновенной лёгкостью 206 письма. Лица иа его портретах, руки, одежда, кресла, канделябры — всё кажется вылепленным буквально считанными, широкими, точными и не стоившими усилий мазками.
Но мало кто знает, сколько труда вкладывал этот художник в каждый сантиметр своих полотен. Серов был едва ли не единственным в истории мирового искусства живописцем, затрачивавшим на некоторые портреты до ста сеансов,- — - и, разумеется, вовсе не от неумения.
«Я не столько не умею писать быстро, сколько не хочу», — говорил он со своей застенчиво-угрюмой усмешкой. Свой юношеский этюд «Волы» он писал едва ли не месяц («мёрз иа жестоком холоде, но не пропускал ни одного дня») лишь потому, что, как ему казалось, он «высмотрел у природы нечто такое, чего раньше никогда не замечал».
Это «нечто такое» Серов искал повсюду, вглядываясь в жизнь и выискивая в ией не открытую до него, неведомую ещё правду и красоту.
Ои твёрдо верил, что человек ждёт от живописи ие иллюзии, не подделки — «чтоб как живое», — а более значительного. Что глаз человека «воспитан» прежними поколениями художников и с течением времени всё свободнее читает язык живописи, наслаждаясь и красотой густого, сочного, не заглаженного мазка, и тем, как скупо, одним смелым и точным ударом кисти передано живое мерцание взгляда, и тем, как бесконечно разнообразны могут быть оттенки даже такого, казалось бы, будничного цвета, как серый.
Говоря о таком художнике, не хочется играть словами, но, право же, мие всегда чудилось что-то «нарочное» в самом звучании его фамилии, будто именно ему на роду написано было открыть невиданную свежесть дивных серых тоиов: то жемчужных, то розоватых, то сизо-лиловых, прохладных и тёплых, как бы впитавших в себя понемногу от всех красок жизни...
Вот почему каждый холст Серова был и остаётся праздником для тех, кто любит и цеиит искусство. Его живопись несёт нам радость откровения. Оиа не просто отражает видимый мир — она преображает его, как летний живительный ливеиь, после которого в серо-голубом воздухе так свежо зеленеет листва деревьев, так бархатисто темнеют их стволы и напитавшаяся влагой лилово-коричневая земля, а мокрые крыши домов голубеют, ловя изменчивые краски неба с бегущими по омытой сииеве облаками.
Возвышенная, прекрасная, как осень в богатом своём убранстве... обширная, как Вселенная, яркая музыка очей, живопись, — ты прекрасна!
Н. В. Гоголь
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
ХУДОЖНИК И ЗРИТЕЛЬ
Художник обязан скрыть от публики те усилия, которых ему стоит произведение, — писал однажды Крамской. — Свобода и лёгкость — непременное услоцие наслаждения зрителя...»
Но лёгкость лёгкости рознь. Размышляя об этом, думая о сложной взаимосвязи между художником и зрителем, я вспоминаю ещё одну сцену из далёких дней моего детства.
Как-то в школе нам объявили, что приехал и выступит перед нами столичный художник-виртуоз. Что означали эти слова, никто как следует не понимал. Но тем сильнее разъедало нас любопытство.
После уроков все собрались в зале. Школьный сторож Кузьма вынес на сцену столик, два мольберта с поставленными на них чертёжными досками, толстую стопку александрийской бумаги.
Затем появился сам «виртуоз». Это был полный румяный мужчина в чесучовой блузе-толстовке, с кудрями до плеч и выпуклыми глазами, сизыми, как слива «венгерка». Он вышел, неся в руке лакированный плоский ящик, живо раскланялся, поставил ящик на стол, щёлкнул медными застёжками и раскрыл его жестом циркового фокусника. В ящике рядами лежали цветные палочки-мелки.
«Виртуоз» накрепил кнопками к доскам два листа «александрийки», затем — опять-таки жестом фокусника — набрал полную горсть мелков, и тут начались чудеса.
Аисты бумаги стали на наших глазах с необыкновенной быстротой превращаться в картины-пейзажи. Цветные мелки будто сами бегали по шершавой «александрийке», вырисовывая деревья, траву, тропинки, пышные сливочные облака в небесах и синюю воду.
Мы сидели с раскрытыми ртами и взрывались аплодисментами, когда «виртуоз», закончив очередной лист, раскланивался с чарующей улыбкой.
Казалось, чудесам не будет конца. Раскланявшись, он сменял готовые пейзажи чистыми листами бумаги, и вновь на глазах у нас возникали как бы сами собой невиданной яркости малиновые закаты, избушки в снежных шапках среди сахарно-голубых сугробов, бирюзовые озёра с лебедями и апельсиново-лимонные осенние рощи.
Наконец «виртуоз» приступил к своему коронному номеру. Сдвинув мольберты вплотную, он прикрепил к доскам два свежих листа и стал орудовать обеими руками, правой и левой, малюя одновременно два пейзажа — летний и зимний.
И тут вдруг из первого ряда поднялся сидевший там наш учитель рисования Александр Григорьевич.
Долговязый и тощий, в своей вытертой на локтях бархатной блузе и шнурованных сапогах, он направился, горбясь, к выходу через весь зал. Его седоватая бородка вздрагивала, губы кривились. Выражение нестерпимой обиды, написанное на его худом, обычно едко-насмешливом лице, я запомнил надолго и вспоминал не раз впоследствии.
Вспоминал, когда бился над первыми своими этюдами, над каким-нибудь простеньким на взгляд мотивом. Вспоминал, размышляя о непримиримой вражде между ремеслом и искусством. Вспоминал, думая о поверхностной лёгкости, о заученных приёмах, за которыми не кроется ничего действительно важного или хотя бы искреннего и которые тем не менее подкупают порою
зрителя так же неотразимо, как подкупила когда-то нас, несмышлёнышей из трудшколы, ловкость рук заезжего мастака.
Умение отличить в искусстве настоящее от поддельного, понять разницу между действительной красотой и «красивостью» — не простое дело.
Многие полагают, что понимание живописи даётся само по себе, не требуя никаких усилий. Но это так же неверно, как и то, что ребёнок, едва научившийся складывать слоги в слова, может наслаждаться поэзией Пушкина или прозой Тургенева.
Есть дистанция между первой детской песенкой и симфонией Чайковского — только пройдя эту дистанцию, начинаешь понимать, какие сокровища человеческих чувств кроются в музыке.
В каждом из нас природой заложена способность воспринимать прекрасное. Но эта способность, как и все другие природные способности человека, нуждается в развитии.
Ошибкой было бы думать, что жизнь искусства, его достижения, удачи или неудачи зависят только от художника, от его таланта, желаний, упорства в достижении цели.
Кроме всего этого, художнику необходима уверенность в том, что его творчество будет понятно, что его искания будут верно оценены, что он делает нужное людям дело. Необходимо то, что Крамской называл «однородностью умственной атмосферы между художником и обществом, для которого он работает».
Вкладывая в свои творения частицу себя, своих чувств и мыслей, художник ждёт от зрителя встречных движений души, ждёт сочувствия, ждёт понимания.
Вот почему, говоря об искусстве писать, нельзя не сказать и о нелёгком искусстве видеть.
* * *
«Яркой музыкой очей» назвал живопись Гоголь. Почему же именно музыкой? Случайно ли сопоставление этих двух искусств?
«Ваши картины — это музыка», — говорил, в свою очередь, Крамской Поленову. «Колорит картины должен располагать зрителя, как располагает аккорд музыки», — утверждал Репин. «Созвучие, аккорд, гармония», — нередко повторяем и мы, применяя музыкальные термины к произведениям живописи.
В чём же дело, чем сродни музыка живописи?
Слово «колорит» знакомо, должно быть, многим. Но не все, я думаю, уясняют себе верное значение- этого слова. Под колоритностью нередко подразумевают яркость (а иногда пестроту). Между тем эти понятия вовсе не равнозначны.
Чтобы сделать свою мысль яснее, начну с простейших примеров.
Как известно, сочетание чёрного с красным принято как траурное; тем самым оно порождает в нас определённое чувство (или настроение). Тот же чёрный цвет, взятый в сочетании с жёлтым, говорит уже о другом, напоминая, скажем, раскраску осы. Есть весёлые созвучия — голубое с жёлтым" (ясное небо и поле спелой ржи); есть созвучия суровые, грозовые (серо-сине-зелёные краски штормового моря). Есть созвучия весенние и осенние, радостные и печальные, внушённые нам природой и впечатлениями жизни.
Есть ещё одно важное свойство красок — оживляться, замирать, усиливаться, слабеть, вспыхивать или гаснуть от соседства друг с другом. Возьмите в отдельности оранжевый и синий, а затем приблизьте их вплотную один к другому, и вы убедитесь в справедливости моих слов.
Свойство красок меняться в соседстве с другими и под влиянием света имеет своё научное объяснение. Но сейчас я хочу говорить не о науке, а о чувствах. О чувствах, пробуждаемых в нас сочетанием красок, их взаимодействием, короче — обо всём том, что составляет душу живописи: её колорит.
Ещё один «музыкальный» пример. Звук (нота или, вернее, тон), взятый в отдельности, остаётся звуком, тоном, не более. Несколько же музыкальных звуков, взятых в определённом сочетании, могут составить мелодию или аккорд. А мелодии и аккорды обладают, как известно, чудесной способностью «настраивать» нас на определённый лад, влиять на наши чувства.
Такова же, в сущности, цель живописного колорита.
Вот мера общности живописи с музыкой, давшая некоторым увлекающимся людям основание сопоставлять семь цветов спектра с семью нотами простой гаммы.
Вряд ли следует идти так далеко в сопоставлении живописи с музыкой. Но в то же время нельзя не обратить внимания на ту тягу к музыке, какой всегда отличались живописцы.
Среди художников, о которых я пишу в этой книге, не было, кажется, ни одного, кто не любил бы всей душой музыку, не вдохновлялся бы ею.
Вспоминая о детстве, Крамской рассказывал о звуках флейты, на которой летними вечерами играли, бывало, в соседнем саду. «Как это было хорошо! Никогда лучшего артиста я потом не слыхал и никогда такого восторга, спирающего дыхание, в моей жизни потом не повторилось».
Когда Репин писал свою конкурсную картину «Воскрешение дочери Иаи-ра», он просил брата играть ему «Лунную сонату» Бетховена. Звуки музыки рождали в нём смутное воспоминание о смерти девочки-сёстры — быть может, поэтому картина вышла такой правдивой, такой музыкальной, такой «бетховенской» в своих суровых созвучиях.
Широту волжских просторов Репин сравнивал с запевом «Камаринской» Глинки. А замысел картины «Иван Грозный и сын его Иван» накрепко связывал с музыкальной трилогией Римского-Корсакова «Антар», с её тремя главными темами: любовь, власть и месть.
Многие из передвижников сами были хорошими музыкантами. Суриков отлично пел сибирские песни, аккомпанируя себе на гитаре. Маковский, Мясоедов, Ярошенко и пейзажист Дубовской составили постоянный квартет. Я уже упоминал о том, как любил Куинджи бывать на «квартетных вечерах» у своих товарищей. А Поленов и сам был композитором — писал музыку для спектаклей в мамонтовском кружке.
Я хотел бы добавить к сказанному, что и мой первый учитель, Александр Григорьевич Канцеров, был страстным любителем и знатоком музыки. Он обычно играл на виолончели во время уроков. Ему я обязан первыми понятиями о гармонии звуков, о гармонии красок. Он открыл мне доступ к богатству, без которого моя жизнь была бы во сто крат скуднее.
Но богатство искусства очень существенно отличается от всех прочих богатств. Оно пробуждает в человеке неодолимое желание делиться с другими. И от этого не беднеешь, напротив — становишься как бы богаче.
ОБ ИСКУССТВЕ ВИДЕТЬ
Живопись учит нас видеть. Пройдите по залам музеев, повнимательнее всмотритесь в картины, и вы почувствуете, увидите, поймёте, как с течением времени менялось зрение живописцев, а вместе с тем и зрение человека.
Вы увидите, как на смену плоскостной раскраске средних веков приходит объёмная, полнокровная живопись Возрождения. Вы увидите, как с веками меняется и обогащается само понимание цвета.
В те времена, когда живопись служила религии, художникам незачем было чересчур пристально вглядываться в окружающий мир. Они жили отвлечёнными представлениями о добродетели и грехе, об ангельской красоте и дьявольском уродстве. Отвлечёнными от жизни были и их картины с бестелесными фигурами, расположенными в пространстве без воздуха, без теней и света.
Для средневековых живописцев цвет был чем-то раз и навсегда определённым, неизменным: красный так уж красный, чёрный так чёрный, жёлтый так жёлтый — независимо от места действия, времени дня. года или положения людей и предметов в пространстве.
Спору нет, даже с помощью такой условной, плоскостной живописи художники средних веков умели выражать свои мысли и чувства, своё понимание прекрасного. Их похожие на драгоценную мозаику картины порою изумляют звучностью красок, тонким изяществом линий. Но сам обращённый к небу взгляд этих живописцев принадлежит средним векам. История же не стоит на месте. С появлением новых идей всегда требовались новые средства для их выражения.
Возрождение как бы сняло с человеческих глаз пелену. Новое время обратило взгляд живописца от небес к земной жизни. И если раньше люди выглядели на картинах бесплотными ангелами, то теперь даже ангелы обретали облик живых людей.
В начале XV века во Флоренции жил юноша по имени Томмазо, сын местного нотариуса, с детства мечтавший стать художником. Страсть к искусству была так сильна в нём, что он не мог и не желал думать ни о чём другом. Он был неряшлив, рассеян, безразличен ко всему, кроме живописи. Он был бескорыстен, добр и раздавал всё, что имел, друзьям, которые его любили, хоть и называли за неряшливость и задумчивую рассеянность пренебрежительным прозвищем «Мазаччо».
Под этим именем он и вошёл в историю искусства как гениальный художник, впервые отказавшийся от плоскостного изображения людей и предметов, впервые показавший, что живопись способна передавать объём и глубину.
Жизнь Мазаччо была трагически короткой: он умер при загадочных обстоятельствах двадцати семи лет от роду. Он, в сущности, успел выполнить (да и то не до конца) одну лишь большую работу: по заказу флорентийского купца Бранкаччи расписал фресками капеллу при церкви Санта Мария дель Кармине.
Но и этого оказалось достаточно, чтобы капелла Бранкаччи стала на долгие годы местом паломничества художников и всех, кто любит искусство.
Живопись Мазаччо была откровением. Она воочию показала, что краски способны не только правдиво передавать формы зримого мира, но ещё и рассказывать о человеческих страстях и характерах. Фигуры, написанные Мазаччо, казались необыкновенно живыми. «Эти тела дышат жизнью», — с удивлением говорили о них.
Эпизоды церковных легенд Мазаччо изобразил как сцены реальной жизни; он искал натурщиков для своих фресок на флорентийских улицах, и современники художника легко могли узнать себя среди разноликих персонажей его картии.
Но самым ошеломляющим было впечатление глубины, игра света и тени, мягкость переходов одной формы в другую, совершенно недоступная предшественникам гениального флорентийца. Серебристо-дымчатая, воздушная живопись Мазаччо учила людей видеть мир по-новому, и недаром великие художники Возрождения — Леонардо, Микеланджело, Рафаэль — приходили спустя много лет в капеллу Бранкаччи, чтобы подумать перед творениями Мазаччо, вникнуть в его тайны, поучиться у него.
Но, учась, каждый из великих вносил в искусство частицу себя, своего характера, вносил идеи, краски и чувства своего времени.
Когда рассматриваешь творения художников именно так — как принадлежащие своему времени звенья в длинной цепи исканий, — то насколько же вернее, осмысленнее делается впечатление, производимое ими! Вместе с Рафаэлем ты учишься ценить покойную гармонию линий, вместе с Микеланджело постигаешь бурную силу движения. Леонардо приобщает тебя к волшебству света, мягко рисующего форму, а Тициан прибавляет к этому обаяние солнечных красок.
Тициан Вечелли первым из художников убедительно показал, что цвета, краски не существуют в природе сами по себе, в том чистом и неизменном виде, в каком применяли их живописцы средних веков. Своим гениальным глазом он уловил связь между цветом и светом. Уловил то, что лишь спустя три века было обосновано наукой: цвет в природе возникает как сочетание множества живых, меняющихся и взаимодействующих оттенков.
Именно это взаимовлияние изменчивых красок природы и стало основой колорита и живописи, точно так же как взаимодействие музыкальных тонов
стало основой слуховой гармонии. И точно так же, как безграничны возможности создания новых мелодий из семи нот музыкальной гаммы, так безграничны и возможности «обширной, как Вселенная», живописи, извлекающей свои неисчислимые созвучия из семи цветов радуги, вспыхивающей в небе под лучами солнца.
* * *
«Замечаете ли вы, — писал однажды Крамской Васильеву1, — что я ни слова не говорю о ваших красках? Это потому, что их нет в картине совсем, понимаете ли, совсем...»
1 По поводу картины «Дорога в горах»
Не знаю, возможна ли большая похвала для живописца.
В самом деле, что скажешь об отдельных нотах, из которых сложены ноктюрн Шопена или «Аппассионата»? Что скажешь о красках, с помощью которых написаны рембрандтовские картины? Их нет, они исчезают вместе с прикосновением кисти художника к холсту, сплавляясь в тот чудесный сплав, что называется живописью.
Вглядываясь в картины Тициана, Веласкеса, Рембрандта, начинаешь понимать силу колорита, верного природе, но в то же время послушного воле художника, его характеру, его замыслу. Начинаешь всё отчётливее понимать, что именно в этом разнообразии, в этих постоянных поисках новизны и совершенства заключён залог вечной жизни искусства. Как ни прекрасна излучающая тёплый свет рембрандтовская живопись, искусство мало чего стоило бы, если б все другие художники походили на Рембрандта.
Подражание никогда ещё не подвинуло искусства вперёд ни на шаг. Эта мысль руководила Крамским, когда он писал Суворину, хвалившему старых мастеров в противовес нынешним, современным: «Аегко взять готовое, открытое, добытое уже человечеством, тем более что такие люди, как Тициан. Рибейра, Веласкес, Мурильо, Рубенс, Ван Дейк, Рембрандт, показали, как надо писать. Да, они показали, и я не менее вас понимаю, что они писать умели, да только... ни одно слово, ни один оборот речи их, ни один приём мне не пригоден...»
Ещё раньше он писал Стасову: «Задов повторять, очевидно, уже не приходится, потому что ни одна манера старых мастеров не подходит к новым задачам. Можно только с завистью смотреть на них, а самому разыскивать новое. С новыми понятиями должны народиться новые слова...»
Так было всегда. С новыми понятиями неизбежно рождались и новые средства выражения, и как ни прочны бывали традиции, они неизбежно нарушались теми, кто двигал живопись вперёд.
В отличие от своих предшественников, писавших всегда прозрачными красками, Тициан стал применять в «светах» (то есть наиболее освещённых местах) густые. Когда его спрашивали, почему он пишет странной растрёпанной кистью, похожей на метлу, он отвечал: «Чтобы писать по-другому, чем Рафаэль и Микеланджело, которым я не собираюсь подражать». И это вовсе не от стремления быть во что бы то ни стало оригинальным. Без этих технических новшеств Тициан попросту не смог бы выразить своё новое понимание цвета.
Особенность техники Рембрандта также тесно связана с «новыми понятиями», с новым взглядом на жизнь, с самим содержанием рембрандтовских полотен. Привыкшие к гладкой поверхности картин, современники насмешливо говорили о его портретах, что их «можно приподымать рукой за нос»: такими, мол, горами нанесена на них краска.
Между тем именно эта беспокойная бугристость, именно этот густой, «мерцающий» мазок придаёт живописи Рембрандта её волнующий драматизм. А необычная по тем временам суровая сдержанность красок позволяет сосредоточиться на том главном, что составляет душу и смысл живописи Рембрандта, на лице человека.
* * *
Мудрено ли, что новому русскому искусству, народившемуся в шестидесятые годы, понадобились «новые слова» для выражения новых мыслей?
То, что казалось подходящим для «Прощаний Гектора с Андромахой» или «Битв Самсона с филистимлянами», никак не годилось для воплощения сюжетов, волновавших в то время общество.
Крестьянские зипуны невозможно было писать теми же приёмами, что античные драпировки.
В академических классах учились по болонским рецептам XVI века: нанеся рисунок на грунтованный холст, прорабатывали его до скульптурной выпуклости «гризалью», то есть одной какой-нибудь тёмной краской (чёрной или коричневой), смешиваемой с белилами. Затем по этому «подмалёвку» лессировали, то есть крыли прозрачными тонкими слоями соответствующих тонов, и, наконец, деликатно прописывали в «светах» более плотными мазками.
Такая техника придавала картинам именно тот вид, какой имела болонская живопись.
Гладкость письма высоко ценилась в академии, равно как и чистота тонов при тщательности рисунка.
Однако же в картинах Сурикова вы не найдёте и следа академической гладкости. Суриков не «раскрашивал» прозрачными лессировками. Работая над картиной, он не пользовался заученными приёмами, не разделял насильно форму и цвет, как это делали академисты. Он не готовил тона на палитре.
Он смешивал краски прямо на холсте, одновременно рисуя форму и выявляя цвет.
Присмотритесь к суриковским картинам, и вы уловите это горячее густое кипение, в котором сплавляются воедино многие тысячи оттенков, как сплавляются звуки, рождающие симфонию.
Посмотрите, как написана бархатная одежда Морозовой — чёрная и вовсе не чёрная, вся в зеленовато-синих холодных отсветах, с глубокими густо-лиловыми тенями; не рождают ли эти краски ощущение стужи так же, как сизая дымка, сквозь которую мы видим разноликую уличную толпу?
Эта сизо-голубоватая дымка изморози объединяет все оттенки одежд и лиц, сливает их с холодным зимним пейзажем, студёные краски которого делаются ещё холоднее благодаря горящему золотом окладу церковного образа, что виднеется в правом верхнем углу картины. Золотисто-жёлтый платок склонившей голову женщины как бы вторит этой жаркой ноте сочувствия среди леденящей жестокости.
Протест против лживой академической гладкописи поначалу привёл к некоторым крайностям. Скудость цвета, черноватая жёсткость живописи Перова, Прянишникова, Мясоедова и других дала повод Стасову сетовать на «мутный колорит» некоторых картин передвижников и даже огорчённо воскликнуть однажды: «Вообще русской школе краски не дались!»
К счастью, это было не так. С течением времени русская школа доказала, что ей доступна не только высокая гражданственность, но и высокое мастерство, что правда жизни может и должна быть соединена с правдой художественной.
Вместе с Репиным, Суриковым, Аевитаном, Серовым русская живопись двигалась к свету, воздуху, краскам, не теряя при этом ни сердечности, ни простоты.
«ВСЁ В ПРОШЛОМ»
В 1889 году на выставке передвижников появилась картина «Всё в прошлом» — её можно увидеть и теперь в Третьяковской галерее, рядом с другими картинами художника Максимова.
Майский день. Обеднелая усадьба. Во дворе, под кустом буйно цветущей сирени, поставлено кресло. В нём — старуха, владелица дома, что виднеется в глубине, — белого, как сказочное видение, помещичьего дома с облупившимися колоннами и наглухо заколоченными окнами и дверьми.
Она сидит в старинном кружевном чепце и бархатной чёрной накидке, протянув ноги, откинув назад голову и прикрыв глаза. По её изжелта-бледному лицу блуждает слабая старческая улыбка. Быть может, ей видится былое, быть может, слышатся тихие звуки полонеза или мазурки, молодые голоса, весёлый смех... Быть может, она вспоминает первый поцелуй в аллее заглохшего теперь, задичалого сада? Всё в прошлом — и у иее, и у дремлющей на земле собаки, и у старой няньки, доживающей рядом с барыней свой век в бревенчатом флигеле, где прежде была людская.
Картина полна грустной поэзии и трогательных подробностей, она чем-то напоминает «Бабушкин сад» Поленова. Но нет в ней той светлой ноты, той мудрой веры в обновление жизни, что прозвучала в поленовской картине. В сущности, и для самого художника, когда он писал эту сцену, всё уже было в прошлом.
Жизнь Василия Максимовича Максимова стоит того, чтобы рассказать о ней хотя бы коротко. Он происходил из бедных крестьян. Был мальчиком отдан в монастырскую иконописную мастерскую. Стал послушником, готовился к постригу и, возможно, сделался бы одним из безвестных русских «богомазов»-монахов, если б не повстречал однажды в поле близ монастыря дочь местного помещика.
Вася Максимов был плечист и по-русски красив; под чёрной скуфьёй вились кольцами русые кудри. Он без памяти влюбился в «барышню», да и та, видно, не осталась равнодушна; приходила в условленный час то в поле, то в ближнюю рощу, пока не дознались родители. О том, как отнеслись они к дочерним встречам, говорить нечего. Максимов бежал из монастыря и, прощаясь, поклялся, что сделается «всамделишным» художником, вернётся к любимой и тогда уж никто и ничто не сможет их разлучить.
Дорога теперь была перед ним одна; в Петербург. Он пробился в академию. Весиу, лето и осень жил на Неве, на барке с сеном («прорыл там нору и устроился хорошо»). На щи с кашей зарабатывал, раскрашивая пряники в кондитерской («три копейки с дюжины»). На зиму снимал угол у добросердечной немки, бравшей недорого и кормившей в долг.
В академии Максимова, как он вспоминал, с самого начала «тянуло на русское». «Душа переворачивалась, — рассказывал ои, — как поставишь, бывало, рязанского мужичка и выкраиваешь из него Ахиллеса быстроногого». Да что поделаешь! Приходилось «выкраивать»...
Тайком от профессоров он писал «картинки из русского быта». Одну из них увидел у него как-то приятель, студент университета, сын богатых родителей, и купил за семьдесят рублей. Правда, только тридцать дал деньгами, а в счёт остального — сюртук, брюки, сорочку, ботинки и шляпу-цилиидр.
Когда академический швейцар увидел впервые Васю в этом наряде — глазам не поверил: «Максимыч, да ты ли это?» В сюртуке и цилиндре Максимов был и вправду похож на «всамделишного» художника. Вскоре он и стал им, «дописавшись до медалей», благополучно окончив академию, и, на счастье, как раз в то время, когда русская живопись повернулась лицом к действительности.
Он стал выставляться у передвижников. Его картины из крестьянской жизни имели успех. Некоторые из них вы можете увидеть теперь в Третьяковской галерее, в Ленинградском Русском музее.
Они отличаются таким знанием деревенской жизни, каким мало кто из товарищей Максимова располагал. В этих картинах нет «героев», нет главных и второстепенных действующих лиц. И действительный герой — деревенский люд, нарисованный с искренней сыновней любовью. Здесь всё до мелочей мило и близко художнику, всё так и дышит русской стариной. Но ветер времени нёс перемены в самые дальние и глухие углы. Многое, казавшееся неизменным и нерушимым, рушилось и разлеталось, как та патриархальная крестьянская семья, что изображена в картине Максимова «Семейный раздел».
Менялось многое и в искусстве, а Максимов не мог ни понять, ни принять душой наступающие перемены. Он стал отставать от своих товарищей, а преодолеть отставание не сумел. Новое, молодое казалось ему враждебным (скажем, живописные искания Куинджи). «Нашему брату, лапотнику, более делать нечего», — говорил он обиженно. А жизиь и искусство двигались тем временем вперёд. Максимов стал уходить в сторону, запил и в конце концов погиб в безвестности.
Незавидной оказалась и судьба другого старейшего передвижника — Григория Григорьевича Мясоедова.
Как и Максимов, он прошёл школу ученических нищенских лет с раскрашиванием пряников и обедами за шесть копеек в обжорке. К^к и Максимов, он посвятил свою живопись крестьянской доле.
Он был умён, широко образован, вольнолюбив и резок в суждениях. Смолоду славился своей прямотой. Президента академии князя Владимира он чуть ли не в глаза называл жандармом, а членов совета — царскими лакеями. Он, как вы помните, и был одним из зачинателей Товарищества передвижных выставок и постоянным членом его правления.
Картины Мясоедова бывали добросовестно выписаны и всегда правдивы, но, как говорил Крамской, в них не хватало «живого нерва». В них недоставало той поэзии чувств, поэзии красок, без которых бытовая живопись остаётся всего лишь «рассказом в лицах», наглядным довеском литературы.
Особенности характера Мясоедова — его резкость, беспощадная прямота, упорство, — словом, всё, что в молодые годы помогало двигаться к общей цели, к старости стало приобретать другую окраску.
Как и Максимов, Мясоедов не понимал и не хотел понять изменений в жизни и в искусстве, не хотел и не мог смириться с неизбежным движением искусства вперёд, с появлением новых талантов, выражавшихся не на том языке, к какому он привык и какой считал единственно правильным. «Раньше меня и за живопись хвалили, — ворчал он, — а теперь каждый гимназист отчитывает: и черно, и скучно...»
Но что поделаешь, на выставках появлялись всё новые имена, в русское искусство входило солнце, входила сверкающая краска. Вслед за Серовым, Левитаном, Коровиным появились размашистый Архипов, светлый и тихий Нестеров; ярким вихрем ворвался Малявин, а Мясоедов не хотел понять и не принимал всего этого, считая живопись молодых «штукарством».
Дело в конце концов дошло до серьёзных столкновений внутри товарищества. Однажды, когда общее собрание передвижников баллотировало новых членов — Сергея Малютина и Елену Поленову, — Мясоедов на правах «члена-основателя» отвёл эти кандидатуры и возражал против них с таким тяжёлым и необоснованным упорством, что понудил тем самым Серова, 222 Архипова, Васнецова и Левитана уйти из товарищества.
Не помогли протесты Репина, Поленова и других членов совета. Мясоедов был непреклонен и довёл спор до такого накала, что все, кроме него, заявили о выходе из совета товарищества.
Оставшись в единственном числе, Мясоедов поступил соответственно своему характеру: освирепел, решил оставить занятия живописью и уехал в Полтаву, где у иего был собственный дом с большим садом.
Спустя несколько лет в Полтаву прибыла передвижная выставка товарищества — как обычно, в сопровождении уполномоченных для этого художников.
Друзья разыскали Мясоедова. Они нашли его в сплошь засыпанном яблоками запущенном доме. Он очень постарел, стал заговариваться и даже временами забывал своё имя. Но, увидев товарищей, вдруг воспрянул, ожил, забеспокоился, помчался в земское собрание хлопотать о помещении для выставки...
Посмотрев выставку, ои переменился разительно. Вдруг решил вернуться в Петербург, задумал картину «Пушкин на вечере у Мицкевича»... Но время было упущено, мастерства и вовсе не стало, картина не удалась.
Современники рассказывали, что иногда по вечерам на Васильевском острове можно было увидеть высокую тощую фигуру Мясоедова, бредущего по тротуару. Шуба, болтавшаяся на нём, как на вешалке, странно оттопыривалась иа животе: под ней висела привязанная ленточкой через шею скрипка-альт. Это значило, что старик идёт на «квартетный вечер» к Маковскому.
Там по-прежнему играли Гайдна, Моцарта, Бетховена, Глинку. Нередко Мясоедов фальшивил в игре, звучало «си» вместо «си бемоль», квартет расстраивался, Маковский возмущённо стучал смычком, Дубовской укоризненно брал на фортепьяно верную ноту.
— Это вы всё врёте, и рояль ваш врёт, — отмахивался в таких случаях Мясоедов.
Ему и тут казалось, что он один прав.
И всё же его любили — за честность, за прямоту, за славное прошлое и даже за стариковскую ворчливость.
Наигравшись вдоволь, он вздыхал:
— Мажор меня не трогает, в большинстве пустота, живу лишь, когда слышу правдивый минор, отвечающий всей нашей жизни...
Но в том-то и дело, что, как ни тяжело складывается порою жизнь, человеку свойственно отыскивать в ней светлые стороны. И эта неугасимая потребность людей утешаться, радоваться, любить прекрасное всегда находила и будет находить своё выражение в искусстве.
Рядом с грустней песней в народе всегда рождалась удалая. Рядом с гневными и скорбными строфами Пушкина, Лермонтова, Некрасова звучали их светлые гимны солицу, разуму, красоте человека.
Так и в живописи. Рядом с обличительными, бичующими холстами, рядом с «Неравным браком», «Проводами покойника», «Привалом арестантов», «Крестным ходом в Курской губернии» и десятками других картин неизбежно должны были появиться поэтичные пейзажи Васильева, Поленова, Куииджи, Левитаиа. Должна была народиться свежая, будто летним дождём омытая живопись Валентина Серова; должны были появиться и такие влюблённые в жизнь художники, как другой ученик Репина, Кустодиев.
Глядя на картины этого замечательного русского живописца, трудно поверить, что их писал человек, долгие годы прикованный параличом к поставленному на колёсики креслу, — столько в них жизнелюбия и доброго, озорного веселья.
Он писал пейзажи, портреты, сцены русского провинциального быта: воскресные чаепития, людные ярмарки, масленичные гулянья, купцов, купчих, приказчиков и мещан, — писал, как бы лукаво прищурясь, порою с необидной мудрой усмешкой и всегда с неистребимой любовью к людям, к миру яркому и прекрасному.
Вместе с его картинами, напоминающими то вятскую расписную игрушку, то народный лубок с его наивно-чистыми красками, в русскую живопись как бы ворвался весёлый шум деревенского праздника, когда позабыты горести и невзгоды, когда свободно льются звуки гармони-трёхрядки, а в хороводе мелькают яркие пятиа праздничных платьев.
В такие минуты и небо сииеет гуще, и солнце светит ярче, и люди делаются добрее.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
1
Январским днём 1913 года в Третьяковской галерее появился странный посетитель.
Высокий, бедно одетый, с прилипшими к бледному лбу прядями тёмно-русых волос, он долго стоял перед «Боярыней Морозовой», держа правую руку за бортом потёртого пиджака, затем перешёл к репинской картине «Иван Грозный и сын его Иван» и тоже долго смотрел, вглядываясь в неё возбуждённо блестящими глазами.
И вдруг, крикнув: «Довольно крови!» — ринулся к холсту и трижды ударил выдернутым из-за пазухи сапожным ножом.
Звали этого человека Абрам Балашов.
Наутро имя его замелькало во всех газетах. Москва была потрясена случившимся, никто не мог понять причину покушения на одну из люби-мейших картин галереи. Всеобщее волнение можно было сравнить лишь с тем, какое охватило парижан после исчезновения из Аувра Леонардовой «Джоконды». Повсюду разгорались жаркие споры, кружили самые разноречивые слухи. В конце концов стали вырисовываться некоторые существенные подробности.
Как выяснилось, Балашов был человеком весьма нескладной судьбы. Старообрядец-раскольник, любитель старинных икон и книг, сам с юных лет занимавшийся иконописью, он был исключён из художественного училища и казался психически ненормальным — и, возможно, действительно был таким, поскольку можно считать ненормальным человека, болезненно чувствительного к злу и несправедливости, доведённого до отчаяния уродствами русской действительности.
Балашов испытывал неодолимую ненависть к насилию духовному и физическому и подавлению нравственной свободы. Не зря он стоял так долго у суриковской картины: ему, старообрядцу, как нельзя более ясен был её смысл. Но там, в розвальнях, с яростно воздетой рукой, он видел лишь жертву.
В репинской же картине Балашов увидел само лицо насилия и в приступе нахлынувшего безумия трижды ударил в это лицо ножом.
И вышло так, что метил он как бы не в картину, а в то зло, против которого она была направлена.
Крик Балашова: «Довольно крови!» — лишь повторил вслух те тайные слова, какими кричал каждый сантиметр репинского холста, каждый сантиметр картины, которая по доносу обер-прокурора Победоносцева была ещё в 1885 году личным распоряжением Александра III снята с выставки в Москве с указанием «не допускать для выставок и вообще не дозволять распространение её в публике».
2
Несколько слов об истории создания этой картины.
Во второй половине февраля 1881 года Репин приехал из Москвы в Петербург на традиционное открытие передвижной выставки. Открытие состоялось как раз в тот день (1 марта), когда народовольцам удалось убить Александра II, проезжавшего в карете по набережной Екатерининского канала. Спустя месяц и три дня Репин видел, как пятеро осуждённых — Желябов, Перовская, Кибальчич, Михайлов и Рысаков — поднялись на эшафот.
Казнь «первомартовцев» (так называли в народе исполнителей покушения) произвела на Репина тяжелейшее впечатление. Вернувшись в Москву, он снова принялся за давно начатую картину «Арест пропагандиста». В его мастерской стоял и «Отказ от исповеди» — сцена, в которой он хотел воздать должное несгибаемой воле и гордому бесстрашию революционеров.
Но этими двумя картинами не исчерпывались чувства, переполнявшие теперь художника. Гибель пятёрки бесстрашных, свидетелем которой был Репин, волна кровавых расправ, последовавших за событиями 1 марта 1881 года, — всё это потребовало отозваться картиной, где сам царь был бы показан как тиран и сыноубийца.
Последним толчком к созданию такой картины послужила музыка.
В августе 1882 года на открытии Всероссийской художественной выставки исполнялась симфония Римского-Корсакова «Антар». Дирижировал сам композитор.
«Его музыкальная трилогия — любовь, власть и месть — так захватила меня, — вспоминал потом Репин, — и мне неудержимо захотелось в живописи изобразить что-нибудь подобное по силе... Современные, только что затягивавшиеся жизненным чадом, тлели ещё не остывшие кратеры... Страшно было подходить — несдобровать... Естественно было искать выхода наболевшему трагизму в истории».
Спустя несколько лет Крамской говорил:
«Историческую картину следует писать только тогда, когда она даёт канву, так сказать, для узоров по поводу современности, когда исторической картиной затрагивается животрепещущий интерес нашего времени...»
Эти слова были сказаны именно по поводу репинской картины.
Она писалась вдохновенно, «шла залпами», как говорил сам художник. «Чувства были перегружены ужасами современности, — признавался он, — и порою одолевало разочарование в своих силах, в своей способности передать эти чувства...»
Репин то упрятывал от самого себя картину, то снова бросался в атаку. «Никому не хотелось показывать этого ужаса... Я обращался в какого-то скупца, тайно живущего своей страшной картиной».
Но вот наконец он решился показать её ближайшим друзьям. Вечером в его мастерской собрались Крамской, Ярошенко, Шишкин... Репин долго устанавливал перед задёрнутой картиной лампы, затем раздёрнул занавеску.
«Гости, ошеломлённые, долго молчали, как очарованные в «Руслане» на свадебном пиру. Потом долго спустя только шептали, как перед покойником... Я наконец закрыл картину. И тогда даже настроение не рассеивалось... особенно Крамской только разводил руками и покачивал головой. Я почувствовал себя даже как-то отчуждённым от своей картины: меня совсем не замечали...
— Да, вот... — произносил как-то про себя Крамской».
В картине запечатлён был тот миг, когда царь Иван IV в припадке гнева ударом окованного посоха убил своего сына.
Это случилось только что. Вот только что рухнул на устланный коврами пол царевич, и отец-убийца ринулся к нему в порыве ужаса и запоздалого раскаяния. Откатился посох, опрокинуто кресло. Царь приподнял умирающего сына, зажал рану рукой, но поздно. Трагедия свершилась, мы видим последние её мгновения.
Если бы Репин ограничился лишь показом бессмысленной жестокости, лишь прямым осуждением царя-убийцы, картина осталась бы описанием факта трёхсотлетней давности, она была бы страшна, и не более. Но истинный художник за оболочкой явлений всегда ищет их глубинную суть. Сила репинской картины в той глубине и сложности человеческих чувств, чт'о обнаружились в миг нечаянного убийства. Сила её — в борьбе двух стихий: человечности и зверства.
Чего стоят ужас, отчаяние и даже исступлённое раскаяние тирана-отца в сравнении с тем, что отразилось на лице сына?
Он пытается приподняться, опираясь о пол слабеющей рукой; он переступил уже за черту страха и физической боли, он как бы хочет улыбнуться, утешить. И эта тень виноватой улыбки, эта тень мучительного стыда за человека, за отца своего, этот светящийся немым укором угасающий глаз потрясают внимательного зрителя куда больше, чем испачканный кровью лоб Г розного и другие страшные подробности картины — - этой трагической «симфонии в красном» с её бесчисленными оттенками, от жарко алых до холодных розовых — в одежде царевича, как бы охваченного уже холодом смерти.
Известно, что царевича Ивана Репин написал с друга своего, Всеволода Михайловича Гаршина (в Третьяковской галерее можно увидеть неподалёку от картины и портрет-этюд). Для Грозного же позировал Григорий Григорьевич Мясоедов, и современники без труда могли узнать его характерный кривой нос и резко вылепленный череп с покатым лбом, крупными ушами и темнеющими височными впадинами.
3
Именно в это лицо и ударил трижды нож Балашова — от безумно выкаченных глаз книзу, глубоко раздирая холст.
Казалось, картина погибла навсегда. Но Игорь Эммануилович Грабарь, бывший тогда попечителем галереи, решил попытаться восстановить картину.
За дело взялись наиболее умелые реставраторы, с помощью самого Репина, немедленно приехавшего в Москву. Более полугода длилась работа,
и наконец наступил день, когда, к радости москвичей, картина оказалась на прежнем своём месте, целая и невредимая. Поздней осенью ближайшие друзья чествовали Репина в Москве по случаю этого радостного для всех события.
Репину было тогда шестьдесят девять лет. Задумчивый и чуть печальный, он прошёл в молчании по залам Третьяковки, где собрано было лучшее из того, что создал он, что создали его сверстники и современники, его учителя и ученики.
Минуло ровно пятьдесят лет с того памятного дня, когда Иван Николаевич Крамской с товарищами вышел из мертвящих стен академии на просторы жизни.
Полстолетия — небольшой как будто срок, а сколько сделано, какой пройден путь!
Нет уже рядом Крамского. Давно ушёл «чудо-юноша» Федя Васильев. Нет Перова, Саврасова, Ярошенко, нет нелюдимо-застенчивого Серова. Нет Левитана с его горящими тёмным печальным огнём глазами. Нет шумного добряка Куинджи и многих других.
Но их творения живы, они по-прежнему взывают к чувствам, будят мысли, зовут людей к истине, справедливости и добру.
к к к
Случай с репинской картиной взволновал и друзей и недругов, заставил всех оглянуться, подумать о сделанном передвижниками.
«Даже не верится, что такая могучая картина могла пострадать, — писал в те дни художник Рерих, чьи взгляды резко отличались от взглядов Репина и его товарищей. — Национальное достояние, произведения искусства не оцениваются денежными суммами. Ими гордится народ».
Да, верно, картины замечательных русских художников — наша гордость. Они несут нам радость познания, приобщают нас к прошлому, учат нас видеть, понимать и ценить прекрасное и правдивое. Но, кроме того (и это не менее важно), они во весь голос говорят о неиссякаемой способности человека искать и находить новые формы для выражения новых идей.
Искусство движется вместе со временем, оно ничего общего не имеет с окостенелыми, застывшими формами. «Оно живое, вечно меняющееся».
Этими словами Ивана Николаевича Крамского я и хотел бы завершить свой рассказ.
«Я ХОЧУ, ХОЧУ ОТРАДНОГО...»
Послесловие Т. Головановой
Лицо времени... Трудно дать более удачное название книге, которая на протяжении не столь уж значительного времени выдерживает с успехом несколько изданий и. следовательно, не теряет ни своего интереса, ни своего значения, ни своего читателя.
«Лицо времени» Леонида Волынского — это полные увлекательных подробностей и глубоких мыслей рассказы о творчестве и судьбах художииков-передвижников, которым история уготовила роль смелых новаторов, поломавших рутинные традиции далёкого от жизни академического искусства и положивших начало живописи, близкой своему времени, правдивой и демократичной.
Книга познавательно широка: в ней представлена жизнь русской императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге за сто лет и история бунта 14 учеников академии против её творческих оков, буита, состоявшегося 9 ноября 1863 года и приведшего к значительным событиям в истории русского изобразительного искусства: возникновению Коммуны Крамского, а затем Товарищества передвижных выставок — колыбели многих выдающихся талантов второй половины XIX века.
«С этого дня я и начну рассказ о художниках н картинах, входящих в нашу жизнь вместе с первыми строфами Пушкина и Некрасова, вместе с образами Гоголя, Тургенева, Толстого, со всем тем, что с годами накрепко сливается в одном слове — Родина». В приведённых словах автора — определение ие только общего патриотического пафоса его книги, но и масштаба, с которым он подходит к историко-культурным явлениям; поступательное движение русской живописи постоянно рассматривается им в связи с процессами литературными — отечественными и европейскими.
Подвижные ритмы духовных подъёмов и спадов, находящие выражение в смеие идей и настроений, в выборе тем, сюжетов, в самой фактуре художественных произведений, Л. Волынский прослеживает на протяжении всей истории русской живописи второй половины XIX века и начала века XX.
Порвавшие с академией ученики (Крамской, Корзухин, Шустов, Морозов, Литовченко. К. Маковский, Журавлёв, Дмитриев-Ореибургский, Веииг, Аемох, Григорьев, Песков, Петров. Крейтан), отказавшиеся участвовать в конкурсе иа золотую медаль и выполнить работу на заданную тему, были детьми своего века. Их свободомыслию способствовало поражение России в Крымской войне, обнажившее перед всеми страшную правду о николаевском царствовании. «Этих людей, — по справедливому наблюдению автора, — воспитали не выспренние оды Державина или романы Марлииского, а пламенные статьи «неистового Виссариона», тургеневские «Записки охотника». «Севастопольские рассказы» Толстого, гражданственная поэзия Некрасова. Их любимыми героями, образцами для подражания были Рахметов и Базаров».
Л. Волынский штрих за штрихом воссоздаёт жизненные и творческие судьбы Крамского, Иванова, Ге, Мясоедова, Перова, Прянишниковаг Маковского, Саврасова, Репина, Васильева, Ярошенко, Сурикова, Куинджи, Левитана, Серова и многих, многих других русских художников, оставивших значительный след в истории отечественного искусства. Смеиа зрителя — полотна художников впервые выносились из залов императорской академии на ярмарки, на всенародное обозрение в малых и больших городах — круто изменила самый характер живописи: она стала правдивее, ближе к жизни, появился психологически углублённый портрет современника, теплее и разнообразнее стали пейзажи.
Иногда одна картина как бы аккумулировала в себе эпоху, драматизм своего времени. Такой представлена в книге картина П. А. Федотова «Свежий кавалер».
Другая знаменитая картина — «Явление Христа народу» Александра Иванова — открывала широкую перспективу поисков новых путей в живописи.
Удивительные слова и образы находит А. Волынский, когда говорит о художниках-пейзажистах. сумевших так совершенно передать поэзию русского пейзажа, ощущение слиянности с родной природой. Такими мы видим репродуцированные в книге пейзажи Саврасова, будто звенящие птичьими голосами и пахнущие талым весенним снегом («Грачи прилетели»); зовущие «дальние дали» Васильева («Мокрый луг»); с тургеневским лиризмом изображённые московские уголки Полеиова («Московский дворик», «Бабушкин сад»); эффектно освещённая «Берёзовая роща» Куинджи и задушевно-простой в своей живописи «Днепр утром»; волнующие раздумчивой глубиной, щемящей грустью полотна Аевитаиа, столь близкие по настроению, как это тонко замечает автор, творчеству И. А. Бунина. Особое внимание уделено в книге истории портретного искусства — от его «первого дня»: портретов кисти Аргунова, Антропова, Рокотова, Левицкого до галереи славных людей XIX века, увековеченных талантливой рукой Ореста Кипренского.
Отдельная глава посвящена образам русских женщин, их выдающимся и незаметным судьбам, их радостям и невзгодам.
Грустны и трагичны по колориту «Неравный брак» Пукирёва, «Приезд гувернантки в купеческий дом» Перова, «Торг» Неврева. В другом эстетическом ряду — образы русских революционерок: «Вечеринка» Владимира Маковского, «Курсистка» Н. Ярошенко. Портрет П. А. Стре-петовой того же Ярошенко выражает духовную красоту великой русской актрисы.
Страницы, посвящённые портретному творчеству Серова, может быть, самые проникновенные в книге. Рассказывая о двух его картинах («Девочка с персиками» и «Девушка, освещённая солнцем»), экспонированных на московской Периодической выставке в 1888 году, — почти сто лет тому назад! — А. Волынский как-то по-особому выделяет их эмоциональную силу воздействия, их неумирающую свежесть: «Я не знаю, как лучше описать это чувство; оно похоже на счастье. Счастье дышать утренним чистым воздухом, глядеть на пронизанную солнечным светом листву, видеть добрую юность».
Свет добра озаряет серовские картины... «Я хочу, хочу отрадного, — говорил, вступая на путь большого искусства, Серов, — и буду писать только отрадное...»
Это было как раз то, в чём нуждалась тогда больше всего русская живопись, чего ей недоставало. Не об этом ли думал Крамской, говоря: «Нам непременно нужно двинуться к свету, краскам и воздуху»?
Это стремление к краскам, свету и воздуху в высшей степени характерно и для времени, когда писалась книга, — лица нашего времени. Вспомним исполненное жизиеутверждения, яркое, вечно юное творчество М. Сарьяиа, освещённые солнцем, пронизанные светом и воздухом полотна С. Герасимова, Т. Яблонской, А. Дейнеки, А. Пластова, А. Грицая...
Книга Л. Волынского «Лицо времени» насыщена не только историческим, но и актуальным содержанием. То же можно сказать и о других его книгах. Это «Страницы каменной летописи» — о памятниках русской архитектуры, «Зелёное дерево жизии» — о французских художни-ках-импрессионистах, «Семь дней» — о сокровищах Дрезденской художественной галереи, «Дом на солнцепёке» — о жизни и творчестве голландского художника Ван Гога И этюды об украинском, болгарском, грузинском, армянском искусстве. Нравственная просветлённость, чувство связи времён, вера в ценность человеческого труда и таланта — вот те черты мироощущения Л. Н. Волынского, которые ассоциируются с близким ему признанием художника Серова: «Я хочу, хочу отрадного...»
«Мие всегда казалось, что невозможно по-настоящему понять картины художника, не вникнув поглубже в него как человека, в его жизиь, в его характер, в его судьбу...» Эти слова, очень характерные для Леонида Наумовича Волынского, в то же время могли бы быть путеводной нитью для рассказа о нём самом, ибо и в его творчестве, в большом деле его жизии, как в чистом кристалле преломились характер и судьба человека замечательного.
Главным и любимым делом Леонида Волынского было искусство, которому он служил и как художник и как писатель. Но любят искусство многие и служат ему тоже многие. Важно, какие особые черты проявились в этой любви и в этом служении. И тут надо говорить не только о великолепном знании художественного «лица времени» и «страниц каменных летописей», хотя этими знаниями Л. Н. Волынский и обладал в совершенстве; ие только об его умении рисовать — ои учился живописи с детства, и этот опыт приоткрыл ему доступ в тайны художественного мастерства, — но прежде всего о глубоком, мудром проникновении в другие тайны — тайны человеческого сердца.
В самом деле, что бы ии делал Леонид Наумович — писал ли декорации для театра, или иллюстрировал книги (а он с успехом занимался долгие годы и тем и другим), или создавал книги о художниках, он делал это неравнодушно. Он умел тронуть заветные струны души зрителя или читателя, чем-то порадовать, над чем-то заставить задуматься.
Вот почему так волнуешься, когда читаешь Волынского, и почему склоняешься к нему самому «по чувству приязни», будь то рассказ об одной картине или о событиях далёкого прошлого, запечатлённых в архитектурных памятниках; рассказ о друзьях детства писателя или о трагических днях пережитой им войны.
«Страницы каменной летописи» по-летописному вобрали в себя неторопливое, исполненное живой души сказание о чудесах русского зодчества: о среброглавой красавице Кижского погоста — Преображенской церкви; о белокаменных кружевах Покрова на Нерли и о многих других архитектурных шедеврах русского Севера, центральной России. Киевской Руси. Автор подмечает человечность архитектурного языка, его зависимость от народной психологии, народного быта, фольклора.
В книге «Зелёное дерево жизни» А. Волынский с особенной любовью рассказывает о французских художниках конца XIX века, чьи краски светлы и радостны, о художниках,
щедро одаряющих людей силой чувств, радостью бытия. Писатель приглядывается к мельчайшим подробностям жизни художников, чтобы понять, откуда берутся на свете доброта, самоотверженность таланта.
Как хороши, как поэтичны краски, в которых писатель видит мир живой и мир, отражённый в живописи. Быть может, потому Волынскому н удалась так блестяще книга о французских импрессионистах, что поэзия собственного мировосприятия здесь соединилась с наблюдательностью умного и благодарного зрителя, почувствовавшего в полотнах Клода Мойе, Ренуара, Писарро близость художников к природе, к вольному воздуху, к свету. Суть этой поэзии — в радостном, доверчивом отношении самого писателя к жизни, к её созидательным силам, к вечному цветению «зелёного дерева жизни».
В какой мере живопись передаёт жизнелюбие, в такой мере она и близка Волынскому, в какой мере оиа исполнена сочувствия людям, их радостям и печалям, в такой мере она и добра.
В автобиографической повести «Сквозь ночь» запечатлей рассказ о войне с фашизмом, о событиях, пережитых автором иа фронтах Отечественной войны. А. Н. Волынский оказался в плену и ценой героических усилий возвратился в ряды Советской Армии.
Всё увиденное, испытанное, прочувствованное привело писателя к постижению незыблемой нравственной истины: фашизм — несчастье, дурная болезнь человечества, вроде чумы.
Как о тягчайшем преступлении века рассказывает писатель в книге «Семь дней» о событиях, связанных с Дрезденской картинной галереей.
Автор с небольшой группой советских бойцов совершили истинный подвиг: проявляя незаурядную находчивость и настойчивость, они помогли Советской Армии разыскать и спасти от гибели многие сотии замечательных картин, шедевров мировой живописи, подготовленных фашистами к уничтожению. Повествование об этом замечательном факте биографии Волынского и группы его товарищей своеобразно переплетается с рассказом о великих живописцах, об их картинах, о тайнах живописи и об умении разгадывать эти тайны.
Как бы оценивая смысл всей своей деятельности. А. Н. Волынский пишет в книге «Семь дней»:
«Велика сила искусства: оно связывает поколения, оживляя прошлое, оно помогает людям познать себя и окружающий мир, оио рассказывает о жизии далёких стран, о неугомонном стремлении человека к совершенству, о его мечтах и борьбе за лучшее будущее. Оно объединяет людей».
Таков профессиональный портрет Аеонида Наумовича Волынского. Но за каждым штрихом этого портрета встаёт и его человеческая сущность, неотделимая от профессиональной. Кто имел счастье знать этого человека, тот помнит, как обаятелен был его облик. Жестокая болезнь преждевременно пресекла эту прекрасную жизнь.
Т. Голованова,
кандидат филологических наук
_____________________
Распознавание, ёфикация и форматирование — БК-МТГК.
|