|
Сделал и прислал Кайдалов Анатолий.
_____________________
СОДЕРЖАНИЕ
Вступление...3
Откуда он взялся?...6
Один для всех...22
Не ты, так кто яке?...37
Великий лекарь...54
Было дело...61
Три письма, пришедшие в один день...77
Человека обидели ...84
Мне нравится это слово...92
Не только мечта...106
Когда ты дочитаешь эту книжку до середины, тебе встретится история Серёжки. По времени она очень короткая: всего несколько часов Серёжкиной жизни. Но за эти несколько часов совершенно неожиданно для себя он стал преступником: участвовал в нескольких грабежах и даже видел, как его новые «друзья» поднимают руку на человека...
Но не спеши начинать книжку с середины. Начни её всё-таки лучше с начала. Тогда ты узнаешь, какие законы нарушил Серёжка и что случается с теми немногими, кто становится на этот дурной путь.
Ты узнаешь, откуда взялся закон и чьи интересы он выражает. Как он принимается и как исполняется, как помогает воспитанию лучшего в человеке. Кто его нарушает и кто помогает найти нарушителя и воздать ему по заслугам. Каким станет закон в будущем.
Хочу только честно предупредить тебя: эта книжка — не лёгкое чтение, где погони и выстрелы из-за угла. Над ней надо подумать. Потому что речь в ней идёт об очень серьёзных и совсем не весёлых вещах — о том, что мешает нам жить, учиться, работать, отдыхать; о том, что каждый из нас может сделать, чтобы таких помех на нашем пути становилось всё меньше и меньше.
Возможно даже, что ты не во всём со мной согласишься. Это не беда. Пиши, убеждай, — мы поспорим. Ведь в споре, как известно, рождается истина.
Автор
О чём эта книга?
О преступниках?
О том, как их ищут и находят?
О том, как потом они отвечают за свои поступки?
Да, разговор пойдёт и об этом. Но не только об этом. Прежде всего — о другом.
Так о чём же?
Не спеши получить ответ, лучше сам ответь сначала на вопрос: знаешь ли ты, что такое закон?
Как видишь, вопрос не из лёгких. Это слово «закон» ты, конечно, слышал, и не раз. Про одного человека говорят: «Он нарушил закон». Про другого: «Он поступает всегда по закону». Но попробуй толком объяснить, что оно означает, это слово. Видишь, не так всё просто.
Но, может, и не к чему объяснять? Ты не берёшь чужое разве потому, что есть закон, который это запрещает? Ты не хулиганишь разве потому, что за это могут наказать? Ты не рвёшь цветы в городском саду разве из-за того, что со всех сторон на тебя глядят устрашающие таблички: «Цветы не рвать. За нарушение штраф»? Ты не мусоришь на улице разве всё из-за штрафа?
Никогда не поверю. Совесть не позволяет! Совесть, а не все эти письменные запреты.
С самых малых лет каждый человек усваивает, что негоже пускать в ход кулаки, посягать на чужое добро, непристойно вести себя, — словом, усваивает те правила человеческого общежития, которые называют элементарными, то есть самыми простыми, естественными, доступными любому и каждому.
Люди исполняют их без напоминания, не заглядывая в книги, где всё это написано. Ведь для мало-мальски культурного человека такое поведение само собой разумеется, как само собой разумеется поздороваться при встрече со своим знакомым или извиниться, если неосторожно причинил беспокойство. Никто ведь не лезет для этого в справочник: и без того все знают, как в подобных случаях надо себя вести.
Но бывает и так, что человек нарушает закон, вовсе того не желая — просто потому, что не знает его. Ручаюсь, что о некоторых законах ты не имеешь ни малейшего представления, хотя их совсем не мешало бы знать.
Вспоминается одна история, которой мне как юристу пришлось заниматься.
История более чем противная: два негодяя забрались ночью в склад промтоварного магазина и украли оттуда множество ценных товаров. По чистой случайности эту картину наблюдал некий гражданин, живший по соседству с магазином: ему не спалось и он сидел у открытого окна, любуясь луной. В одном из воров он узнал своего знакомого.
Этот случайный свидетель никогда не брал чужого. И, конечно, в душе он возмутился. Потом лёг и заснул. Наутро он шепотком поделился «интересной новостью» со своими приятелями, а вскоре и вовсе забыл о ней: мало ли что случается на свете — не будешь же во всё совать свой нос!..
Прошло какое-то время. «Забывчивого» гражданина вызвали в милицию и попросили вспомнить события той недоброй ночи. Он «вспомнил», но не до конца: ни за что не хотел назвать имя того, кого узнал в одном из воров. «Вот ещё!.. — сказал он. — Что, мне больше всех надо? Потом он мне ещё отомстит...
Не допытывайтесь, всё равно не скажу...»
Как же поступили с этим трусом?
Пристыдили? Конечно, но этого мало!
Ты, наверно, удивишься — так же, как удивился жалкий «герой» этой истории, — если я скажу, что его отдали под суд. Когда ему сообщили об этом решении, он закричал: «А меня-то за что? Разве я воровал? Ну, поругайте, пожалуйста... А при чём же здесь суд?»
Скрывать преступление, о котором тебе доподлинно известно, всегда бессовестно. Не всякое молчание — золото. Порядочные люди обычно перестают подавать такому молчальнику руку.
Но не только бессовестно: закон требует от каждого, кто случайно или не случайно оказался очевидцем преступления, рассказать о нём по требованию властей.
Быть свидетелем на суде — важный гражданский долг: свидетель помогает установить истину, помогает воспроизвести подлинную картину минувшего, а значит, покарать виновного и оградить от незаслуженной обиды честного человека.
Возможно, наш «герой» никогда и не слыхал про этот закон. Но есть давнее правило — оно существует и сегодня: «Никто не может отговариваться незнанием закона».
Если вдуматься в эту фразу и попытаться раскрыть её смысл, то она зазвучит примерно так: «Не имеет значения, знал ты про закон или нет. Если закон нарушен, изволь за это отвечать».
Не удивляйся, пожалуйста, тому, что существует такое
правило. А если бы его не существовало? Преступнику достаточно было бы сказать, что он и слыхом не слыхивал про какой-то ещё закон. И его пришлось бы отпускать с миром.
К тому же закон не требует от человека ничего такого, чего не требуют от него и общепринятые правила нравственности, правила морального долга.
Люди негласно условились между собой, что эти правила знает каждый, что каждый как бы сверяется с ними, решая, как в таких-то случаях надо поступить и как, наоборот, поступать не надо.
Кто нарушает юридические законы, тот нарушает и законы совести. «Не знать» их невозможно.
Нельзя не знать и сам закон. Ведь ты живёшь в обществе, ты член этого общества — можно ли быть «свободным» от действия его закона?
Вот про него-то, про наш советский закон, эта книга.
ОТКУДА ОН ВЗЯЛСЯ?
А было время, когда никаких законов вообще не суще-ЁЁЕДГЖ ствовало. Даже слова такого не было в языке.
Но люди обходились без законов совсем не потому, что жили в некий «золотой век», как это пытался представить известный французский мыслитель XVIII столетия Жан-Жак Руссо. Всё объяснялось гораздо проще.
Эпоха «золотого беззакония» относится к очень далёким временам, когда люди находились ещё на самой низшей ступени своего экономического и культурного развития. Вся жизнь их сводилась только к добыче пропитания.
Они охотились и ловили рыбу. Сейчас люди тоже охотятся и ловят рыбу, находя в этом удовольствие, спортивное напряжение, полезный, здоровый отдых. Тогда же всё это превращалось в мучение. Орудия, с помощью которых убивали зверя, были самими примитивными. Нередко зверь одолевал человека. Об охоте в одиночку нельзя было и думать. Люди вынуждены были жить сообща, совместными усилиями обеспечивая себе еду, шалаш, который
укрывал от непогоды, огонь, который нужно было поддерживать непрерывно.
Орудия принадлежали всем. Никому и в голову не могло прийти назвать их только своими — что он мог сделать в одиночку, этот чудак, который вдруг изобрёл бы слово «моё»?
Вот этот век Руссо и называл «золотым»: людям была чужда жадность, они не стремились урвать кусок чужого, их не одолевали корысть и зависть — они резвились на лоне природы, наслаждаясь свободой.
Над этой идиллической картинкой подтрунивал современник Руссо — великий философ Вольтер; он говорил, что после чтения книг Руссо ему хочется стать на четвереньки и убежать в лес.
И в самом деле завидовать нашим предкам не приходится: жили они впроголодь и меньше всего ощущали свободу. Они даже не понимали, что это такое.
Законов в первобытном обществе, конечно, не было, но были неписаные правила общежития — обычаи, укоренявшиеся на протяжении многих десятков и сотен лет. Никто не принуждал исполнять их, но они тем не менее строго соблюдались, ибо каждый сознавал, что они разумны, полезны, необходимы. Сила привычки, уважение к старшим — вот что обеспечивало их действенность.
Но шло время. Орудия труда становились всё совершеннее. Люди начали постигать тайны природы. Они научились пахать землю, разводить скот, изготовлять одежду. Они стали добывать продуктов больше, чем было нужно для поддержания
жизни всех членов общины. С этими продуктами надо было что-то делать. Люди сообразили, что их можно выгодно обменивать — получать другие продукты у другой общины.
Запасы излишков сосредоточивались r руках верхушки — старейшин, военачальников, жрецов. Появились бедные и богатые. Богатые хотели стать ещё богаче. Они захватывали землю, скот, продукты, орудия труда. В междоусобных войнах они больше не убивали пленных, а заставляли работать на себя. Та же участь постигла и бедняков в «своей» общине.
Чтобы удержать и закрепить этот порядок, столь удобный для правящей и богатой знати, она, эта самая знать, стала устанавливать правила, выражающие её волю: не интересы всех, как это было с обычаями первобытного общества, а интересы господствующего меньшинства; не те интересы, что были направлены на добычу равного пропитания для всех, не те, что обеспечивали равную защиту от сил природы, а те, что ограждали богатства и привилегии имущих.
На добровольное исполнение этих правил рассчитывать уже не приходилось. Ведь добровольно исполняется лишь то, что осознано как нужное, целесообразное. Здесь же было нечто прямо противоположное. И, естественно, бедняки, пленники, рабы не хотели добровольно исполнять то, что противоречило их интересам. Появилась потребность обеспечить принудительное исполнение навязанных большинству правил, то есть установить ответственность (жестокую ответственность!) за отказ повиноваться предписаниям властителей.
Так родился закон.
С самого начала закон открыто провозгласил классовое неравенство. Раньше месть за обиду была одинаковой, страдал ли старейшина или рядовой член общины: неё члены рода воздяпали по заслугам обидчику или его близким.
Постепенно кровная месть заменяется выкупом, причём перечень «обид» начинает походить на меню.
Вот, к примеру, отрывок из древнейшего русского закона — так называемой «Русской правды»: за убийство «простого» свободного человека плати 40 гривен, за убийство «княжьего мужа» (дружинника) — 80, а за убийство раба — всего лишь 5 гривен его хозяину. Не так уж много — чуть больше, чем за убийство скотины...
Всего лишь один пример, но посмотри, как откровенно, как цинично выражен в нём классовый характер закона, пришедшего на смену родовым общинным обычаям. Ясно, не правда ли, почему исполнять эти законы добровольно соглашались лишь те, в чьих интересах они были изданы. Но таких было ничтожное меньшинство.
Большинство же приходилось держать в повиновении, в страхе, заставлять его исполнять ненавистные законы против своей воли. Но это невозможно без специального аппарата принуждения — армии, суда, тюрем, без специальных людей, которые следят за исполнением законов властителей и принимают меры к обузданию непокорных.
Так вместе с законом возникает государство — аппарат принуждения.
Недостатка в слугах не будет — холуи найдутся всегда и с радостью возьмутся рьяно охранять интересы своих хозяев...
Пройдёт много тысяч лет, сменятся различные экономические уклады и общественные формации, на смену одному классу придёт господствовать другой. Но суть государства, как и суть закона, останется неизменной: государство будет раем для меньшинства, для тех, кто стоит у власти; закон будет добрым к этому самому меньшинству, потому что он будет выражать его желание, его волю. Для огромного же большинства государство останется тюрьмой, а законы, царящие в нём, будут для народа злы и ненавистны.
Но вот свершится Великая Октябрьская революция, и на развалинах эксплуататорского государства утвердится общество свободных и равных людей, общество, в котором нет угнетающих и угнетённых, нет людей, чьи интересы противостоят друг другу.
Это государство создаст совсем другие законы. Не будем спешить — о них ещё речь впереди. Им посвящена целиком эта книжка.
Но вот что хочется сказать уже сейчас.
Представь себе, что ты узнал о каком-нибудь отвратительном преступлении — неважно, кто совершил его: знакомый или человек, который тебе вовсе не известен. Присмотрись к тому, как реагируют на это другие люди. Присмотрись и к самому себе: что ты подумал, как оценил это событие.
Убеждён, что и ты и другие искренне возмутились бы, решительно осудили бы такой поступок, ибо он не только противоречит закону, но и совести, тем представлениям о добре и зле, о плохом и хорошем, которые сложились в твоём сознании, стали неотъемлемой частью твоей души.
И эта твоя оценка, разумеется, полностью совпала бы с той оценкой, которую дали тому же поступку другие люди.
Так получается оттого, что наш закон выражает не только общую волю народа, но и общую мораль — единые нравственные взгляды всего советского общества. Предательство, воровство, хулиганство строго воспрещаются и строго караются законом. Законом... Но прежде всего — совестью, сердцем, душой каждого честного человека.
А вот в обществе эксплуататорском вовсе не всякое нарушение закона вызывает одинаковую реакцию у всех людей.
Конечно, сытые и правящие негодуют — это на их интересы посягнул тот, кто вступил в конфликт с законом.
Ну, а для бедных и угнетаемых это далеко не всегда так. Преступник порой в их глазах вызывает не гнев, а жалость, сострадание, боль. И действие, которое он совершил, достойно порой вовсе не позора, а восхищения.
Вот несколько хорошо известных тебе примеров.
В 1864 году царский суд подверг жестокому наказанию великого русского писателя и революционера Николая Гавриловича Чернышевского. Он должен был пройти унизительную процедуру так называемой гражданской казни, а затем отправиться в сибирскую каторгу.
Сейчас стало доподлинно известно, что обвинения против Чернышевского были сфальсифицированы от начала до конца, что царская охранка сфабриковала ряд грубых подделок, только для того чтобы расправиться с одним из честнейших людей России.
Но суть даже не в этом. Допустим, что обвинения были справедливыми.
И что же? Ведь Чернышевский обвинялся в том, что он был автором и распространителем пропагандистской листовки-воззвания, где рассказывалась трагическая правда о бедственном положении народа.
С точки зрения правителей это было, конечно, из ряда вон выходящей дерзостью, тяжким преступлением против власти. И, значит, заслуживало презрения и позора.
Но с точки зрения обездоленных, с точки зрения попираемых полицейским сапогом это был мужественный поступок, достойный славы.
Вот почему во время «гражданской казни», когда жандарм сломал над головой Чернышевского шпагу, на эшафот полетели не проклятья, а букеты цветов. И вместо ропота возмущения в толпе, по словам современников и очевидцев, слышались глухие рыдания.
А ведь речь шла об одном из самых вопиющих нарушений закона... Но — чужого закона. Ненавистного закона. Закона, выражающего мораль угнетателей.
Другой пример — всемирно известное восстание моряков броненосца «Потёмкин». Мятежный корабль отказался подчиниться приказам царских сатрапов и поднял на мачте флаг революции — красный флаг.
С точки зрения закона это было неслыханное преступление — нарушение воинской присяги, предательство, измена. Почему же тогда простые люди, рискуя своей жизнью, укрывали потемкинцев от глаз полицейских ищеек, оплакивали судьбу тех, кто попался в лапы царской юстиции?
Ясно почему. Потому, что в душе эти люди не осуждали, а одобряли поступок матросов легендарного броненосца, считали его не только глубоко нравственным, но и героическим. И при этом их нисколько не смущал тот факт, что формально «мятежники» преступили закон: какое им было дело до закона, защищавшего интересы притеснителей, — ведь потем-кинцы выступили в защиту интересов униженного и оскорблённого человека!..
Пример третий. Летом 1917 года Временное правительство издало закон, предусматривавший смертную казнь за отказ воевать с немцами. Этот закон ввели потому, что несправедливая империалистическая война была крайне непопулярна в народе.
Народ требовал мира. Солдаты массами покидали окопы и возвращались к своим домам.
Временное же правительство, отражая интересы буржуазии, интересы империалистов, вовсе не собиралось прекращать войну и заключать мир. Выслуживаясь перед своими союзниками, оно призывало к продолжению войны «до победного конца». Но воевать должно было не Временное правительство, не его глава — крикун и позёр Керенский, а простые люди в солдатских мундирах. И, чтобы заставить их воевать, солдатам стали угрожать смертной казнью.
Но солдаты всё-таки бросали оружие. И это было, конечно, нарушением закона. Однако в глазах миллионов людей такой поступок вовсе не был позорным. Напротив, он встречал понимание, он вызывал сочувствие, желание помочь, поддержать. Потому что смертная казнь за «дезертирство» казалась в тех условиях справедливой только империалистам и их прислужникам. В представлении же народных масс она была глубоко безнравственной. Народ не признал, не принял этот варварский закон. И господин Керенский ничего не мог с этим поделать.
Нетрудно привести и другие примеры — история их знает немало. Но и тех, что приведены, пожалуй, достаточно, для того чтобы сделать важный вывод: в обществе, где существуют классы с разными интересами, классы, конфликтующие друг с другом, существуют и разные взгляды на добро и зло, разная мораль. А закон там только один — тот, что навязан эксплуататорами и выражает их интересы. Мораль большинства и закон, обязательный для большинства, не только не совпадают, а находятся в состоянии непрерывной войны.
Но у нас нет недружественных классов. Наше государство общенародное. В нём живут единомышленники — люди, идущие к одной цели. Интересы у них общие. И взгляды на добро и зло тоже общие.
Поэтому закон выражает не мораль какой-либо одной группки, какого-либо одного слоя, а мораль всех и каждого, единую коммунистическую мораль. Это приводит к тому, что наш закон исполняется добровольно — без понукания, без принуждения, без насилия и угроз. Лишь к очень немногим государство вынуждено ещё применять меры принуждения.
Я долго раздумывал, какой бы привести пример соответствия наших законов нравственным воззрениям советских людей. Пример поярче, поубедительней. Но какой выбрать? Ведь каждый закон отражает наши взгляды на то, что такое хорошо и что такое плохо.
Случай неожиданно помог мне сделать выбор.
...В мой кабинет вошёл человек лет тридцати пяти.
Он вежливо поздоровался, по-хозяйски расположился в кресле и, застенчиво улыбаясь, попросил защиты от несправедливости.
Да как же можно отказать в такой просьбе!.. Я выразил готовность немедленно прийти на помощь и принялся слушать его рассказ.
И что же я услышал?
Мой посетитель оказался инженером. Да не простым инженером, а главным — на строительстве крупного комбината. А у этого инженера была мама. Она жила совсем в другом городе. И наш инженер не видел её много лет: он был слишком занят. Так занят, что не имел даже времени написать ей письмецо. Только к Новому году посылал поздравительную открытку: мама значилась у него в списке лиц и учреждений, которым полагается слать сердечные новогодние пожелания.
И вдруг мама побеспокоила его посреди года. Это было нарушение многолетней традиции. И ои удивился. А потом возмутился: мама намекала на то, что ей уже под семьдесят, что работать ей стало тяжело и что надобно бы ей немного помочь.
Инженер отказался. Он считал себя ещё неоперившимся птенчиком. Он не чувствовал себя прочно стоящим на ногах. К тому же в его бюджете был рассчитан каждый рубль. И каждая копейка. Дополнительные расходы были ему не по карману.
Мама не поняла его трезвых рассуждений. И состоялся суд. Он длился недолго: инженера обязали выплачивать своей маме определённую сумму ежемесячно. Между прочим, весьма скромную сумму.
Инженер пришёл в ярость. И, мужественно сдерживая гнев, он явился ко мне с ослепительной улыбкой. Он просил защитить попранную справедливость. Он считал, что в этом я ему должен помочь.
Нет, я не выгнал его, хотя мне очень, очень хотелось это сделать. Я пытался растолковать ему закон, который закрепляет элементарное правило нравственности, доступное всем мало-мальски порядочным людям: взрослые дети обязаны помогать престарелым и больным родителям, точно так же, как родители помогают своим маленьким детям вырасти, получить образование, найти место в жизни.
Элементарное правило нравственности, ставшее законом.
Этот закон приходится вспоминать редко: немногие забывают о своём сыновнем и дочернем долге. У подавляющего большинства не возникает необходимость сверяться с этим законом: люди исполняют его, не задумываясь и, возможно, даже не предполагая, что он есть.
И только тому, кто отступает от требований этого закона, приходится о нём напомнить. И не просто напомнить — заставить выполнять.
Молодой инженер не хотел это делать добровольно — даже после нашей двухчасовой беседы он всё ещё кричал о «несправедливости». Тут уж ничего не поделаешь: из его зарплаты будут принудительно вычитать определённую судом сумму и посылать его маме. Не уверен только, что ей будет приятно именно так получать деньги от сына. Что может быть горше для матери, чем сыновнее бессердечие, жестокость, наглое и самодовольное свинство?
Для чего я рассказал тебе про этот отвратительный случай? Просто для того, чтобы наглядно показать нравственную основу нашего закона, его соответствие людской совести — не совести одного какого-либо человека или группы людей, а совести всего народа, непримиримого к злу, зато горячо откликающегося на добро, на порядочность, на правду.
Можно ли представить, что найдётся человек, в ком поступок инженера, нарушившего закон, вызовет сочувствие, понимание, одобрение?
Трудно, не так ли? Это всё оттого, что закон воплотил моральный принцип, присущий всем советским людям.
Не все, конечно, нравственные принципы общества отражены в законе, а лишь самые важные. Такие важные, что отступление от них немедленно вызывает реакцию органов государства — милиции, прокуратуры, суда, заставляющих нарушителя принудительно исполнить свой нравственный долг, а в отдельных случаях и наказывающих его со всей строгостью, которая предусмотрена законом.
Большинство же правил морали, правил социалистического общежития исполняются «сами собой» и поддерживаются силой общественного мнения — без всякого вмешательства государства.
Ты легко можешь убедиться и этом на примерах, взятых нз повседневной жизни.
Приходилось ли тебе видеть, с каким осуждением смотрят люди в трамвае на краснощёкого здоровяка, не уступившего место женщине или старику. Да не просто смотрят, нет — активно вмешиваются в это вроде бы «не своё дело»: делают замечания, стыдят, возмущаются. И здоровяк сникает, тушуется, начинает что-то бормотать в своё оправдание и, наконец, вскакивает с места. Сила общественного мнения вынудила его исполнить правило поведения, негласно установленное людьми.
Или такой случай. Какой-нибудь паренёк проболел несколько недель, отстал от своих товарищей по классу. Казалось бы, ясно: ему нужно помочь догнать тех, кто ушёл вперёд, чтобы снова идти с ними в ногу. И вот самый способный ученик, тот, кому все предметы даются с завидной лёгкостью и кому проще всего помочь своему товарищу, уклоняется от этого «бремени», не желает протянуть руку попавшему в беду.
Нет, его никто формально не может заставить это сделать. Но почему же он тогда — пусть нехотя и, возможно, даже проклиная всех в душе — всё-таки вызывается помочь? Да потому, что он увидел возмущение всего класса, почувствовал, как тотчас к нему охладели его бывшие товарищи, которым уже не в радость и не в гордость стали его пятёрки. Пятёрки — для себя, знания — для себя, душевная жадность, глубоко чуждая нравственности советского человека...
Пережить коллективное осуждение, хотя бы и молчаливое, не так-то просто. Опять сила общественного мнения подчинила себе нарушителя нашей нравственности, посягнувшего на одну из заповедей морального кодекса строителя коммунизма:
«Коллективизм и товарищеская взаимопомощь: каждый за всех, все за одного».
Подавляющее большинство правил поведения нигде не записано. Они сложились в течение многих лет человеческого общежития, вошли в привычку, в обиход. Они настолько сами собой разумеются, что люди обижаются, когда им про них напоминают, назойливо тычут в глаза, грозятся навлечь какие-то кары за их забвение.
Ну, вот, скажем, кто не знает, что неприлично сморкаться в кулак или ходить в нечищеных ботинках? Надо ли где-то записывать, чтобы ты про это не позабыл?
Наивный вопрос, не правда ли? А вот в одном подмосковном Доме культуры какой-то ретивый администратор отпечатал на машинке свод правил поведения, включил туда кстати и «правила» насчёт носовых платков и ботинок и стал торжественно вручать своё сочинение каждому, кто переступал порог этого дома. И люди отказались туда ходить. Их оскорбляла подозрительность директора, который в каждом госте видел невежу и нарушителя. Ведь и без указующего перста люди ведут себя пристойно. Они руководствуются обычаем, привычкой, негласным уговором, сложившимися хорошими условностями, в основе которых лежит уважение к человеку.
Уважение к человеку как раз и позволяет каждому решить, как надо ему поступить в том или ином случае, если никаких писаных правил, формальных запретов и ограничений не существует.
Не все же можно предусмотреть! Мало ли в каком положении, р каких обстоятельствах может оказаться человек! Но всегда, при любых условиях ему должно служить маяком едва ли не главнейшее из главных, важнейшее из важных, первейшее из первых правил коммунистической нравственности: уважай человека.
Случается, что иные забывают это золотое правило. Но люди всегда находят способ о нём напомнить.
Как-то мне пришлось побывать в одном пашем южном городе. В это время там созвали сразу несколько совещаний и конференций, так что все гостиницы оказались переполненными.
И мне с трудом удалось найти место в гостиничном зале, временно превращённом в большую коммунальную квартиру. Нас собралось туда на ночёвку, кажется, двенадцать человек.
Одиннадцать уже мирно спали, досматривая очередной сон, когда хлопнула дверь и под потолком вспыхнула множеством лампочек огромная старинная люстра. Наш двенадцатый сосед, не обращая никакого внимания на разбуженных им людей, протопал к своей кровати, повозился возле тумбочки и снова вышел.
Мы погасили за ним свет и натянули на головы одеяла. Но не успели закрыть глаза — всё повторилось сначала: опять свет, опять громкий стук каблуков, опять хлопанье дверьми и скрип кровати.
Но когда наш сосед проделал то же в третий раз, мы, не сговариваясь, поступили иначе.
...Он повернул выключатель и замер у двери. Одиннадцать человек полусидели в кроватях и молча смотрели на него в упор. Этой пытки «герой» вынести не мог. Он поспешно выключил свет и на цыпочках прокрался к своему месту. Кажется, он понял, что правила общежития — не отвлечённое понятие из назидательных бесед, а живая реальность.
Я сказал уже, что обычаи выполняются людьми без принуждения, — просто потому, что так принято, условлено, установлено с молчаливого уговора. Но, конечно, не все обычаи хороши, и, значит, не все обычаи следует исполнять. Наоборот, есть такие, с которыми надо бороться, найдя в себе смелость пойти против того, что кажется общепринятым.
У меня есть знакомые ребята — -они учатся в восьмом классе одной из московских школ. Недавно они побывали на производственной практике в железнодорожном депо.
Это было радостное событие в жизни ребят — они впервые переступили порог большого настоящего предприятия, впервые почувствовали истинную цену своим рукам. И поэтому их нисколько не удивило предложение мастера — отметить сообща это торжественное событие.
После конца смены все собрались в цеху, за тонкой фанерной перегородкой, где валялись покалеченные стулья и заржавленные металлические болванки. Пришёл мастер, пришло несколько рабочих. Ну, и как же, ты думаешь, решили старшие товарищи отметить с младшими их праздник?..
Они предложили им напиться. Испробовать, так сказать, всё сразу: и сладость труда, и «сладость» похмелья. «Так принято, — объяснили они ребятам. — Так издавна заведено. Надо это дело обмыть. Таков обычай».
Кое-кто отказался. Другие не нашли в себе силы возразить: что уж тут, мол, поделаешь — обычай!..
Но обычай обычаю — рознь.
Есть хорошие обычаи — и старые, вековые, и новые, сложившиеся в наши дни, в нашем обществе — обществе, строящем коммунизм.
И есть дурные обычаи, уходящие корнями в проклятое прошлое с его духовной бедностью, с его глухой, унылой то-
ской, заглушаемой алкоголем. Раньше хозяевам было выгодно спаивать рабочих — это отвлекало их от размышлений о своей судьбе, сковывало их силы, мешало революционной борьбе. От тех времён достались нам в наследство и грубость, и чёрствость, и корысть. Религиозный дурман н многое, многое другое. Но дурные традиции, пережитки прошлого в сознании людей живучи.
Их нужно уметь различать и бороться с ними, не считаясь с тем, что у этих обычаев такой преклонный возраст.
Ты спросишь: да как же отличить хороший обычай, которому надо следовать, от плохого, с которым надо бороться? Где там у них опознавательные знаки?
Никаких знаков, конечно, нет. Здесь нужна самостоятельность, нужна смелость суждений. Надёжным советчиком и верным компасом на этом пути могут служить известные слова Владимира Ильича Ленина, сказанные им в речи на III съезде комсомола ещё в 1920 году: нравственным является всё, что служит интересам классовой борьбы пролетариата, интересам строительства коммунизма.
Итак, нравственно или безнравственно? Ты всегда найдёшь правильный ответ на этот вопрос, если спросишь себя несколько иначе: делает ли это человека лучше, чище, добрее, культурнее или, напротив, унижает его, топчет, хищнически растрачивает его силы? Укрепляет братские взаимоотношения между людьми или озлобляет людей, вносит дух стяжательства, зависти, лести?
Смело вступай в бой с дурными обычаями. Это дело архиважное. Чем скорее мы победим в себе и в окружающих нас людях все и всякие пережитки прошлого, тем скорее мы приблизимся к тому прекрасному будущему, имя которому — коммунизм.
Но если плохие обычаи, как бы цепки и привязчивы они ни были, соблюдать не нужно, то с законом дело обстоит совершенно иначе. Хорош он, по твоему мнению, или плох, нравится или не нравится — это твоё личное дело.
Не совсем личное, конечно. Можно критиковать закон. Можно добиваться его пересмотра или даже полной отмены. И есть такие законы, которые открыто критикуются в печати, на собраниях, в письмах, адресованных Центральному Комитету партии, Правительству, Верховному Совету.
Но до тех пор, пока закон действует, пока его не отменили, никто не может освободить сам себя от его обязательной силы.
Почему?
Это такой серьёзный вопрос, что одной фразой на него никак не ответишь. Давай лучше начнём новую главу. Она и будет ответом.
ОДИН ДЛЯ ВСЕХ
Однажды Владимиру Ильичу срочно понадобилось для работы несколько книг. Вообще-то книги эти были не такими уж редкими — разные словари, пособие по древней истории, — но в ту пору достать их было не слишком просто: шёл двадцатый год.
Многие библиотеки были разрушены, опустошены. Случалось, что ценными книгами растапливали печки-«буржуйки», чтобы вскипятитй воду, отогреть закоченевшие пальцы. Только одна библиотека мужественно и бережно хранила свои сокровища. Это была библиотека Румянцевского музея — так тогда звалась ныне всемирно известная и всенародно любимая «Лепипка».
Там и надеялся раздобыть нужные книги Ильич. Дело это было, однако, нелёгким: как выкроить время, для того чтобы пойти в библиотеку? Время, которого не хватало даже для самых неотложных государственных и партийных дел? А выдача книг на дом правилами библиотеки не предусматривалась.
Наверно, кое-кому эта сложность покажется надуманной, даже смешной. Что значит — «не предусматривалась»? На всякое правило бывает исключение. «Простым» людям книги на дом не выдаются? Хорошо, пусть так. Но какое всё это имеет отношение к главе правительства, к Ленину?
Да, Ленина все знали, бесконечно уважали и любили. Да, он был главой правительства. Но ему и в голову не могло прийти, чтобы требовать или даже просить для себя исключений из общих правил. И не только потому, что он был человеком редкой скромности. Он был ещё человеком высочайшей культуры и высочайшей принципиальности. А для культурного н принципиального человека соблюдать существующие правила так же естественно, как дышать: попросту — иначе нельзя жить.
Ленин всё-таки получил книги — получил на одну-един-ственную ночь. Их привезли к нему после закрытия библиотеки, а уже утром, к началу работы, книги снова стояли на полках.
Вождь революции, тяжелобольной, измотанный нечеловеческим напряжением сил, предпочёл не спать, работать сутки подряд, но не нарушать порядок — тот, что один для всех: для рабочего и академика, для крестьянина и главы государства.
Секретарь Ленина Лидия Александровна Фотиева вспоминает: «Пользуясь неограниченным авторитетом и любовью трудящихся, Владимир Ильич никогда не злоупотреблял своим положением и не допускал для себя каких-либо изъятий из установленных правил, порядков и законов».
Никогда! Это не преувеличение. Это правда.
Вот ещё один случай из жизни Ильича. Он произошёл за два с лишним года до истории с книгами — весной 1918 года.
Ленин пошёл получать зарплату и с удивлением узнал, что ему вместо положенных пятисот рублей выписали восемьсот. Навели справки. Оказалось, что повышение зарплаты произвёл управляющий делами Совета Народных Комиссаров В. Д. Бонч-Бруевич: пятьсот рублей были тогда весьма скромной суммой и он хорошо знал, что Ленин часто недоедал, что, говоря по-человечески, он просто нуждался в деньгах.
Поступок Бонч-Бруевича, продиктованный любовью к Ильичу, заботой о его здоровье и благополучии, был, однако, незаконным.
Совет Народных Комиссаров ещё 23 ноября 1917 года — сразу после провозглашения Советской власти! — принял постановление, которое ограничило зарплату членам правительства предельной суммой — пятьсот рублей. И, конечно, управляющий делами Совнаркома не имел никакого права самолично вносить поправки в постановление правительства, какими бы добрыми ни были его намерения.
Владимир Ильич, разумеется, отказался от незаконного повышения своего заработка. Более того, он объявил Бонч-Бруевичу строгий выговор за его поступок. И тем самым показал не только пример бескорыстия, но и — это главное! — пример глубокого уважения к закону, нарушать который не позволено никому.
Будучи непоколебим в своей верности закону, Ильич требовал того же и от других.
Как-то Ленин получил записку от ответственного сотрудника Совнаркома.
Автор записки просил Ленина помочь устроить на работу одну женщину, крупную специалистку, чей опыт и знания могли принести немалую пользу.
Обычно Ленин быстро и охотно откликался на такие просьбы — десятки, согни людей каждодневно чувствовали дружеское участие Ильича, его заботу, его помощь. На эту же записку Ленин откликнулся иначе.
Дело в том, что этой женщине пришлось бы работать в одном учреждении со своим близким родственником. Между тем давно замечено, что не всегда человек может быть требователен к брату или сыну так же, как к «чужому», к «постороннему».
Семейственность часто вредит делу. Потому-то ещё в начале революции Совнарком издал декрет, которым строго ограничил совместную службу родственников.
Из-за этого и решился обратиться к Ленину сотрудник Совнаркома. Декрет «мешал» принять женщину на работу.
А женщина эта, отмечалось в записке, нужная специалистка. Так вот — «нельзя ли обойти декрет»?
Ленин ответил: «Обойти декретов нельзя: за одно такое предложение отдают под суд».
За одно только предложение! Хотя бы даже оно исходило от столь ответственного и уважаемого товарища, каким был автор записки.
Потому что и уважаемые и неуважаемые в равной степени подчиняются закону.
Потому что закон — свят!
Ну, а правильно ли это? К чему ещё какие-то святыни? А может, этот самый закон человеку не помогает, а мешает? Может, он не даёт ему исполнить своё желание? Вполне хорошее желание. Как тогда быть?
Что же, очень возможно, что закон действительно кому-то помешает исполнить своё желание. Возможно даже, что в этом желании не будет ничего плохого — ведь люди в большинстве своём стремятся к хорошему.
И всё-таки...
Давайте-ка, прежде чем делать выводы, познакомимся с письмом Славы Чернышёва, пятнадцатилетнего паренька из Ростовской области. Он прислал его недавно в редакцию одной газеты, где я это письмо и прочитал.
Письмо очень длинное, так что вряд ли есть смысл приводить его полностью. Лучше я коротко перескажу содержание, сохраняя весь ход Славиных рассуждений.
Учился Слава плохо. В пятом классе сидел два года, «задержался» и в шестом. Учёба ему будто бы не давалась. Впрочем, тут же Слава честно добавляет: «Да, по правде говоря, нет у меня к ней никакого интереса».
Отчего же нет?
А вот отчего: «К чему это вообще нужно учиться? Толк один: пойдёшь вкалывать на завод или землю копать... Мускулы нужны, одним словом. А зачем мускулам Пушкин?..»
После этого глубокомысленного вопроса Слава переходит к своей главной «беде»: «Короче, школу я решил бросить, чтобы зря не тянуть мочалу, и подался на шахту. Пора работать! На шахте и только на шахте: там день рабочий короче, а денег зато платят больше».
На работу, однако, Славу не приняли. Вот он и негодует: «Директор сказал, что нет такого права принимать в шахту пятнадцатилетпнх. А я сильнее другого тридцатилетнего... Считаю, это глупо из-за каких-то параграфов мешать человеку работать. Что тут плохого, если я хочу жить самостоятельно, а не сидеть на родительской шее?.. Напечатайте, пожалуйста, про этого директора, что он формалист и букпоед; за такие дела его надо крепко пробрать».
Вроде бы всё верно? Одни хотят учиться, другие нет. Вот этот юноша не хочет. Жаждет сам зарабатывать на хлеб. Ему мешает какой-то формалист. Взгреть бы того формалиста, не правда ли?
Ох, не правда! Совсем не правда!
Есть в этом письме такие суждения, с которыми даже неловко спорить. Например, вот это: «Зачем мускулам Пушкин?..» Я бы поспорил, да боюсь отклониться в сторону. К тому же, думаю, каждый и без меня сумеет убедить Славу Чернышёва в том, насколько нелепо, насколько дико звучит эта его «звонкая» фраза.
«Зачем?..» Да хотя бы для того, чтобы просто грамотно писать. Ведь, признаюсь, мне пришлось порядком отредактировать его письмо, исправить ошибки, расставить точки и запятые. Приведи я это письмо в Славиной орфографии, ты не удержался бы от смеха. Не каждвш может в слове из четырёх букв сделать пять ошибок. Попробуй — ничего не получится. А Слава сумел. Вот что значит — «не хочу учиться!..»
Но вернёмся к главной теме нашего разговора. Впрочем, нет, ещё одно маленькое отступление.
Человек собрался «на завод или землю копать». И наивно думает, что ему нужны одни только мускулы. Это здорово, конечно, что он сильней другого тридцатилетнего. Можно только позавидовать хорошей, доброй завистью. Только что он сделает одними мускулами-то, когда и на заводе, и на фабрике, и в шахте, и на поле — всюду работают умные, точные и тонкие машины, с которыми меньше всего приходится разговаривать языком мускулов, зато куда больше — языком Науки.
Нет, не то время, чтобы знания были ...
нужны одним врачам да инженерам. Сегодня без них совсем некуда податься.
Раньше неучей пугали: пойдёшь мешки носить да лес пилить... Теперь и туда дорога закрыта: там тоже работают сложнейшие машины. Как справишься с ними?..
Ну, хватит отступлений, ближе к делу.
Итак, бездушный бюрократ-директор не принимает на работу жаждущего трудиться паренька. Заметьте: рабочие на шахте нужны!
Слава не пишет, что все места заняты, что нет потребности в рабочих руках. Значит, нужны люди, а директор Славу всё же не берёт. «Параграфы» ему мешают.
Какие ещё параграфы?
Параграфами Слава иронически именует закон. Верно, есть такой закон, что мешает директору, даже если бы он и хотел, принять Славу на работу.
Это закон, за который давно боролись честные люди России.
Закон, за который до сих пор безуспешно борются прогрессивные силы во многих капиталистических и колониальных странах.
Закон, с которого начала свою короткую и героическую жизнь бессмертная Парижская коммуна.
Закон, существующий с первых дней Великого Октября.
Прекрасный закон. Благородный закон. Человечный закон.
Он запрещает тяжёлый физический детский труд. А труд горняка, труд под землёй, — это тяжёлый труд.
Не случайно же там короче рабочий день и более высокая зарплата. Не случайно таким особым почётом окружены у нас шахтёры, не случайно многие из них награждены высокими правительственными наградами.
Героический груд! Но тяжёлый. Всем открыты пути в шахту. Но не раньше, чем с восемнадцати лет.
наше здоровье. Поблагодарим директора, честно соблюдающего этот закон.
А уж если кого и следует пробрать, так это именно Славу. Ибо Слава не только незаслуженно напал на ни в чём не повинного директора, а сам оказался в роли нарушителя закона.
Какого, как ты думаешь?
Ну конечно же, закона о всеобщем обязательном восьмилетием обучении.
Подумать только! Десятилетиями люди мечтали о законе, который обеспечил бы всем детям реальное право учиться. Сколько пролито материнских слёз, сколько загублено талантов из-за того, что государство не давало возможности учиться «кухаркиным детям», сдирало втридорога за каждый шаг на пути к знаниям, устанавливало неслыханные рогатки для тех, кто стремился к вершинам науки.
И вот — нет никаких рогаток, нет различия между «кухаркиными» и «профессорскими» детьми, нет платы за обучение. Есть чудесное право — учиться.
Право, которое является обязанностью: ни одного человека, не окончившего восемь классов!
Это — требование Программы партии.
Это — требование закона.
Слава с ним не в ладах. А закон между тем защищает Славины интересы. Так что это только кажется, будто закон против Славы. Он за него!
Порадуемся же закону, охраняющему наше здоровье.
Потому что для неокрепшего организма, несмотря на самые здоровые мускулы, эта нагрузка непосильна. Рано или поздно она даст себя знать.
Знаешь ведь, как бывает. Заболел человек — врач говорит ему: нельзя есть мясо, или яблоки, или варенье. Потерпи, говорит, недельку. Выздоравливай, а потом ешь себе на здоровье.
Так нет же, непременно сейчас, немедленно подай ему запретный плод.
Случалось с тобой такое? Наверно, случалось. И как ты тогда ненавидел злодея врача! Верно ведь?..
А на самом деле врач был тебе большим другом, чем ты сам. Он видел дальше, чем ты, больше, чем ты, лучше, чем ты. Он выносил тебе свой «приговор», зная опыт поколений. Он был во всеоружии знаний.
Законы тоже принимаются не с бухты-барахты.
Принятие закона — итог большой работы, а состоит она в том, чтобы узнать мнение народа, его волю, его потребности. Да не просто узнать, а сформулировать в виде точного, ясного, всем доступного и самого справедливого правила, такого, которое принесло бы радость честным людям, ну и, конечно же, доставило бы неприятности людям нечестным.
Жила-была милая семейка: папа, мама и сын. Папа утром уходил на работу, сын шёл в школу, мама отправлялась в поход по магазинам.
Обычная картина, не правда ли?
Обычная, да не совсем.
Маму в магазинах не очень-то интересовала колбаса и картошка. Она искала совсем другие вещи: платочки, кофточки.
К чему скрывать: многие не прочь купить эти красивые и необходимые предметы, но не все находят.
Богаче стали люди, больше у них денег, а промышленность не всегда поспевает выпускать нужные им товары.
Вот этим и пользовалась мама из той самой милой семейки.
Мама знала, что и сколько покупать: коли кофточки, так сразу десять, двадцать штук. Коли платки — и того больше. Не для себя, конечно. Для других: она всем готова сделать одолжение.
Такое уж у неё щедрое сердце.
Знаем мы это «одолжение», эту «любезность», за которую ещё надо заплатить двойную цену.
Счастье этой семейки длилось недолго: спекулянтку
схватили за руку и на несколько лет отправили перевоспитываться.
Пусть возьмётся за ум, пока не поздно.
Я не думаю, что преступница и её семья в восторге от такого закона.
Нет, наверное, она клянёт его и поносит. Только будем ли мы ей сочувствовать?..
Ты зашёл в магазин и спросил то, что тебе нужно. «Нет, — говорят, — такого товара». А он есть! Он лежит под прилавком и ждёт бездельницу, которая встретит потом тебя у дверей и тебе же продаст его по цене поистине баснословной.
И её ещё жалеть, её, спекулянтку, которая наживается на наших трудностях? Нет уж, увольте...
Не бойся «нельзя», записанного в законе! Оно тебе ничем не грозит. Ты и без этого «нельзя» не сделал бы ничего плохого. Ведь ты — честный человек!
«Нельзя» боятся лишь те, кого не устраивают в жизни достойные и прямые пути. Те, кому милее путь обмана и корысти — вроде той спекулянтки, о которой шла речь.
И когда карающая рука закона опускается на её плечо, ей, конечно, неудобно, но зато удобно миллионам честных людей. Это их желания выражает закон, это их интересы он ограждает.
Быть может, ты спросишь: а как узнают волю народа — ведь в стране двести тридцать миллионов человек! Что же — каждого спрашивают?
На то существует много способов.
Внимательно изучаются письма, непрерывным потоком идущие в партийные и правительственные органы, в Верховный Совет, в редакции газет и журналов.
Избиратели дают наказ своим депутатам, чтобы те отстаивали их пожелания.
Голос представителей народа — это голос самого народа.
Многочисленные общественные организации — например, профессиональные союзы, объединяющие людей, работающих в определённой области производства (скажем, в металлургии, в лесной промышленности и т. д.), учитывают пожелания своих членов и доводят о них до сведения правительства.
Юристы докладывают о недостатках, вызванных отсутствием того или иного закона.
Всё это учитывается, исследуется, анализируется, обобщается.
В высшем законодательном органе страны — в Верховном Совете СССР — есть специальные комиссии, разрабатывающие проекты законов. Они так и называются: «Комиссии законодательных предположений». Депутаты, работающие в этих комиссиях, с помощью юристов — учёных и практиков самой высокой квалификации — готовят законы, выражающие волю всех советских людей.
Но проект, подготовленный ими, вовсе не сразу становится законом. Ибо зачастую, когда речь идёт об особенно важном, особенно принципиальном законе, затрагивающем интересы огромного большинства людей, возникает потребность ещё раз выслушать мнение сотен тысяч и миллионов граждан, снова
и снова проверить, насколько точно отражены чаяния каждого человека.
И тогда проект закона выносится на всенародное обсуждение. Такова, например, история последнего закона о школе.
Речь шла о самом важном: быть ли школе связанной с жизнью, готовить людей, способных активно включиться в производительный труд на благо своей страны, умеющих практически применять полученные ими знания, или зубрилок, выучивших от сих до сих, белоручек, чурающихся «чернового» труда, зазнаек, высокомерно поглядывающих на людей от молота и плуга.
Я, конечно, порядком сгущаю краски, намеренно заостряю тот спор, который разгорелся вокруг проекта нового закона. Но по сути своей спор шёл именно об этом: кого должна готовить школа? И как она должна это делать?
Казалось бы, сие касается одних лишь учителей. Кому же ещё знать, как учить и чему учить? Но нет, спорили не только учителя. Множество людей (и среди них, кстати, немало школьников) высказывали свои мнения насчёт тех или других положений проекта, который был опубликован в газетах для всенародного обсуждения.
Иные статьи проекта подвергались критике. Вносились поправки, уточнения. Под влиянием критики кое-что в проекте было исправлено, изменено. И только после этого он был представлен Верховному Совету СССР.
Последние поправки... Последние уточнения... Лес рук поднимается в Большом Кремлёвском Дворце — депутаты единодушно голосуют за новый закон, определяющий жизнь школы, а значит, жизнь миллионов мальчиков и девочек, ныне сидящих за партами, а завтра отправляющихся в самостоятельный путь.
Всенародно обсуждался не только закон о школе.
Как обеспечить спокойную старость людям, много и честно поработавшим на своём веку?
Ты думаешь, эти вопросы интересовали только учителей и родителей? Только престарелых? Нет! Если бы это больше никого не касалось, разве пришли бы 40 с лишним миллионов человек на собрания, где обсуждались проекты новых законов? Разве два с половиной миллиона человек предложили бы свои замечания, да притом такие важные, что о них потом говорилось с трибуны Верховного Совета СССР?
И вот законы приняты. По справедливости их можно назвать результатом творчества миллионов, плодом коллективного разума советских людей.
Совсем недавно принят новый закон, который вносит много нового в нашу экономику, в хозяйственную жизнь страны.
Проект этого закона не выносили на массовые митинги и собрания. Особенность будущего закона подсказала другую форму его обсуждения.
В течение многих месяцев о самых важных сторонах проекта оживлённо спорили ка страницах газет и журналов экономисты, руководители промышленности, партийные работники, инженеры, рабочие.
А потом, чтобы окончательно убедиться на практике в правильности будущего закона, проделали такой опыт. Выбрали несколько заводов в разных городах страны и предложили им работать по новому закону. Закону, который был ещё только в проекте!
Прошло несколько месяцев, и сама жизнь показала, насколько удачным оказался этот опыт. Новый способ подготовки закона позволил своевременно устранить его слабые стороны, избежать ошибок.
Так, в результате деловой, спокойной работы, родился
окончательный вариант закона, который и был одобрен Пленумом ЦК партии, а затем принят Верховным Советом СССР.
С каждым годом практика всенародных обсуждений будет всё больше и больше расширяться. Программа Коммунистической партии Советского Союза предусматривает, что это «должно стать
системой», то есть, иначе говоря, войти в повседневный обиход. Впредь будут всенародно обсуждаться не только законы всего государства, но и проекты решений местных органов власти — например, правила поведения в общественных местах.
Конечно, эти проекты будет обсуждать не вся страна, а те, кого будущее решение коснётся: жители города, области, района. Все они выскажут свои мнения, свои пожелания, поделятся своими наблюдениями и мыслями.
Так родится решение, обязательное для всех жителей, но и подсказанное ими же, обсуждённое ими же, принятое ими же. И, конечно, основанное на законе.
Что же касается важнейших законопроектов, то их будет обсуждать всё население страны, в самом буквальном смысле этого слова.
В Программе партии сказано, что для этой цели будет проводиться референдум. Этим латинским словом, позаимствованным ещё из терминологии древних римлян, называют всенародное голосование «за» или «против» закона.
Проект важнейшего закона своевременно опубликуют в газетах. На собраниях, в печати — каждый желающий выскажет свои доводы: одни — «за», другие — «против». С этими доводами смогут ознакомиться все граждане. А потом, в заранее установленный день, как это бывает при выборах, все, ктс достиг совершеннолетия, придут в специальные помещения для голосования и опустят в урну свои бюллетени. Тайно, подчиняясь лишь голосу своей совести, они выскажут своё отношение к закону. Только собрав большинство голосов, проект закона станет законом.
Это будет высшая форма демократизма, высшее проявление воли народа.
Наверно, и тогда окажутся такие, кому новый закон придётся не по душе. Что же делать? Хочется или не хочется, а придётся подчиниться.
В обществе, строящем коммунизм, нет места для анархизма. «Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя». Так говорил Ленин.
Совершеннолетие — это когда тебе восемнадцать. Оно пе за горами — время летит быстро. Не успеешь оглянуться, и уже настал твой черёд прийти к избирательной урне и сказать: быть закону или не быть.
Не думай, что это пустая формальность, этакая милая забава: опустить бюллетень в ящик. Эта бумажечка не простая: в ней то, что, быть может, на многие годы определит жизнь человека — твою, твоих близких, твоих друзей, знакомых и незнакомых.
Отнесись же серьёзно к той короткой минуте, когда ты возьмёшь в руки карандаш, чтобы зачеркнуть «да» или «нет». Готовься к ней заранее — сегодня, сейчас.
Осознай всю ответственность этого шага — скоро, совсем скоро тебе предстоит быть вершителем судеб своей страны, своего народа.
Я знаю, ты будешь достоин этой трудной обязанности, этой великой чест.
НЕ ТЫ. ТАК КТО ЖЕ?
лаву, которую ты только что прочёл, я дал почитать ещё в рукописи одной знакомой девочке. Зовут её Лена. Она училась тогда в седьмом классе.
Каждый раз, когда я бываю в гостях у её папы и мамы или когда они с Леной приходят в гости ко мне, Лена, просит меня рассказать что-нибудь «интереснепькое» из судебной жизни.
А «интересненькое» для неё совсем не только поиск загадочного преступления. Её волнуют вещи поважнее: откуда эгот самый преступник взялся, что он за человек, зачем пошёл по плохому пути.
Вижу — серьёзный человек эта Лена. Пусть, думаю, почитает главу и скажет своё мнение.
Мнение было такое:
— Вот вы пишете, что закон один для всех. А папа рассказывает — у них на заводе шофёр человека сбил, и ему ничего за это не сделали.
— Да, — подтверждает папа, который сидит тут же и слушает наш разговор. — Было такое дело, верно. Шофёр не простой, а директорский. Пятый год у нас работает. Выпил, видно, где-то, ну и вечером, по дороге в гараж, наскочил на старушку. По счастью, всё обошлось хорошо — старушка отделалась синяками да царапиной. Шофёра, конечно, отправили в милицию. Он позвонил директору, тот — ещё кому-то, и дело замяли...
— Ага, — говорит Лена, — вот вам и закон!..
Вспоминаю, что о похожих случаях мне приходилось слышать и раньше.
Человек терзает всю квартиру — скандалит, ругается, бьёт жену и детей, оскорбляет соседей. И что же? Те молчат.
То ли боятся его грозных кулаков, то ли считают, что нельзя вмешиваться в «чужое семейное дело».
Скандалист бахвалится: «Законы не про меня писаны». И соседи вторят ему, шёпотом делясь друг с другом: «Закон ему не указ. Никакого с ним нет сладу».
Да откуда же будет «слад», когда каждый считает, что его хата с краю?!
Или так. Улица. А может, парк. Или, скажем, трамвай. Полно народу. И все ведут себя пристойно. Но находится один подвыпивший молодчик, который буйствует вовсю. То он «просто так», за здорово живёшь, пристаёт к окружающим, то сквернословит, а то даёт и волю рукам.
Взять бы его за шиворот, прикрикнуть, а не послушается — наказать. Есть, к счастью, способы приструнить дебошира. Так нет же — молчат.
А если и найдётся человек, который захочет вмешаться, тут же объявятся заступнички, сердобольные благожелатели — начнут увещевать человека, пожелавшего исполнить свой элементарный долг. Скажут ему с укоризной: «Оставьте его. Подумаешь, дело какое... Ну, напился... Со всяким бывает... Он что — на ваши пьёт?.. Вы что — ему подносили?..»
А потом будут сплетничать: от хулиганов-де житья не стало. Закон им-де не указ. Никакого с ними, видите ли, нет сладу... Так бывает не всегда. Далеко не всегда. Но бывает.
Случалось тебе видеть или слышать такое? Наверно, случалось. Тогда скажи, пожалуйста, — но только честно, положа руку на сердце, — как ты думаешь: закон ли в этом всем виио-ват? Или те, кто не хочет помочь выполнять его?
Болтать легче, чем делать. Эта истина известна, наверно, с сотворения света.
И всё же болтуны ещё не перевелись: что бы ни случилось, каждый раз они готовы винить кого угодно, но только не себя, выдумывать всякие небылицы, по не вмешиваться активно в жизнь.
...Я сказал папе Лены:
— Почему вы молчите? Видите безобразие и молчите?
Он ответил:
— Жалко парня, понимаешь. Шофёр он замечательный. Машина у него в руках, как послушная игрушка. Гонит её — ветер в ушах свистит. Ценный работник...
— Так что же, — спрашиваю, — если ценный работник, значит, может своей игрушкой людей давить?
— Э, брат, — отвечает, — зачем передёргиваешь? Никого он не давит. Поцарапал немножко, это верно. Да ведь мало ли что может случиться... Вы, законники, кроме параграфов, ничего и видеть не хотите!..
Ох, думаю, и этот параграфами попрекает. Погоди, посмотрим, что ещё получится.
Времени прошло не так уж много — приходит Лена с папой в гости. Говорит прямо с порога:
— Хотите знать конец про шофёра?
— Какой конец? — спрашиваю. — Какой шофёр?
— Да тот самый, что старушку поцарапал, помните? В тюрьме он.
— Ну, уж это слишком, — говорю. — Зачем же в тюрьму, если только поцарапал?
— Да не поцарапал — насмерть задавил. И не старушку, а двух ребят, что улицу переходили. Снова наехал, понимаете? Пьяный был...
Размышляю над этой историей. Значит, ценного работника пожалели. Нарушение закона ему сошло с рук. Он решил, что законы не для него. Они — для простых смертных. А он не простой. Он — ценный...
И что же в итоге? Распоясавшийся лихач совершает новое — на этот раз тягчайшее — преступление. Теперь его ждёт
суровое, очень суровое наказание. Так мстит за себя пренебрежение к закону, нежелание прислушаться к его предостерегающему зову.
Окажись рядом люди с более развитым чувством уважения к закону, да и просто, если хочешь знать, более дальновидные, они бы поняли, что доброта — не всегда во всепрощении. За сравнительно небольшое нарушение закона шофёра можно было бы и не отдавать под суд: достаточно было публично пробрать его, скажем, на общем собрании, лишить права водить машину на какой-то срок.
Всё это, конечно, не очень приятно. Зато справедливо. Зато лишает человека уверенности в своей безнаказанности. Делает его осмотрительным. Заставляет исправлять ошибки и стараться не допускать их впредь.
Как ты думаешь, зачем я тебе всё это рассказываю? Ведь ты вроде не занимаешься наказанием виновных. Ведь от тебя вроде не зависит, кого будут судить. Ведь с тобой вроде не советуются, как надо и как не надо исполнять закон.
Если ты так думаешь, то напрасно. Это только кажется, будто от тебя ничего не зависит.
В обществе эксплуататорском, где армия, суд, полиция противостоят народу, где закон не выражает волю народа, а зачастую противоречит ей, человек не чувствует себя причастным к тому, что — «не его дело».
Есть полиция — она следит за порядком.
Есть суд — он наказывает нарушителей закона.
Есть армия — она усмиряет непокорных.
А при чём здесь он, «простой», «маленький» человек?..
Но у пас нет ни простых, ни маленьких. Каждый — хозяин своей страны. И вести себя в пей он должен по-хозяйскп.
Вот почему так бурно развивается па наших глазах интереснейшнй процесс — процесс приобщения всех и каждого к управлению страной, к выполнению тех задач, которые раньше были делом одних лишь государственных служащих, получающих за это деньги.
Приведу лишь один пример — он, по-моему, самый наглядный.
Вряд ли надо объяснять, что значит жильё для каждого человека. И вряд ли я раскрою секрет, если скажу, что не у всех с жильём обстоит вполне благополучно.
Строится у пас квартир сейчас так много, что наши гости из-за рубежа отказываются верить даже своим глазам: такого размаха жилищного строительства история ещё не знала.
И всё-таки квартир не хватает: страна огромная, потребности большие, а строить жилые дома в таком масштабе мы начали сравнительно недавно.
Так что для многих проблема жилья — это проблема номер один.
Но как определить, кто действительно нуждается в улучшении жилищных условий, а кто предъявляет пока непомерно большие претензии. Кому нужно дать квартиру скорее, а кто может и подождать? Кто нуждается в трёх комнатах, а кто может пока ограничиться и одной?
Раньше это решали органы государства, потому что именно оно строит дома и распределяет квартиры. Но с недавнего времени это важнейшее дело взяла под контроль общественность. То, что прежде составляло исключительно обязанность государства, стало делом каждого его гражданина.
На заводах, фабриках, в учреждениях, институтах, при домоуправлениях и местных Советах создаются комиссии из представителей общественности, которые решают все вопросы, связанные с распределением квартир.
Решают по совести и строго на основе закона.
Решают не келейно, укрывшись в тиши кабинета за обитой войлоком дверью, а публично, на глазах у всех.
Решает не один какой-нибудь человек, а много — во избе» жание ошибок, для того чтобы соблюсти беспристрастность.
Решают те, кто сам, быть может, и не заинтересован в получении квартиры. Просто их долг — принять участие в важном общественном деле. Государственном деле. Человеческом деле.
И так — во всём. Программа партии ставит сейчас задачу реально осуществить завет Ильича, который ещё на заре революции считал необходимым, чтобы все граждане поголовно участвовали в суде и в управлении страной.
Ибо не может быть в Советском государстве тех, кто управляет, и тех, кем управляют.
Есть мы, вершители судеб своей страны и, значит, своих собственных судеб.
Мы все, которые в ответе за каждого человека, в том числе и за того шофёра, которого погубили, не наказав вовремя, «простив» допущенное им нарушение закона!
Мы все, от которых зависит и принятие законов, определяющих нашу жизнь, и их соблюдение.
Вот почему я утверждал и утверждаю, что всякое нарушение закона касается тебя, даже если оно, на первый взгляд, не имеет к тебе ни малейшего отношения.
Имеет! Ибо ты — гражданин своей страны.
Её радость — это твоя радость.
Её боль — это твоя боль.
Её закон — это твой закон.
Защищать его — дело каждого. И, значит, твоё!
...В январе 1961 года в Ленинград приехал московский школьник Боря Ильин. Он приехал погостить к родным па каникулы. Раньше ему не приходилось бывать в Ленинграде.
И эти короткие десять дней он мечтал провести интересно и весело.
На то и каникулы! На то и Ленинград, чтобы дать своим гостям массу удовольствий — сколько тут теафов, выставок, музеев с мировой славой, памятных мест, каждое из которых — страница истории. Увы, друг, увы... Не суждено было Боре увидеть всё это.
Вечером со своими новыми приятелями — ленинградскими школьниками — он вышел погулять во двор. Уже было темно.
Разноцветные квадраты окон придавали таинственную прелесть этому тихому заснеженному саду, окружённому громадами старинных домов. Ребята сидели на скамейке, радуясь зимнему вечеру, и рассказывали друг другу о себе, о школе, о друзьях.
Тишину расколола непристойная брань. Нежданно-негаданно во двор ввалились великовозрастные балбесы, от них за версту несло водкой. Здесь же, во дворе, не обращая внимания на женщин, детей, стариков, они продолжали начатый ещё раньше спор. Впрочем, можно ли назвать спором бессмысленную ругань, быстро перешедшую в драку?
Боря был не из тех, кто может, посмеиваясь, наблюдать, как бесчинствуют хулиганы, или удалиться прочь, дабы не расшатать свои слишком тонкие нервы.
Незадолго до этого он стал народным дружинником, человеком, который добровольно принял на себя благородное и трудное дело — помогать охране общественного порядка. И хотя в тот момент он не был на посту, хотя на его рукаве не горела алым пламенем красная повязка, хотя он приехал развлекаться и отдыхать, а не обуздывать хулиганов, — Боря был не в силах молчать, когда на его глазах куражатся преступники. Он смело пошёл к ним — остановить, разнять, помешать преступлению. Хулиганы убили его. Этих зверей потом приговорили к расстрелу.
Может, и впрямь этому юноше, чей геройский поступок никогда не будет забыт, не надо было вмешиваться «не в своё дело». Ведь лично его никто не трогал. Что, ему больше всех надо?..
Видно, больше всех, раз другие позорно молчали, делая вид, что их это не касается. Да как же может не касаться честного человека брань, висящая в воздухе, как может не касаться его кулачная расправа, поножовщина? Можно ли смотреть равнодушно, как негодяи топчут закон? Закон-то наш! Улица — наша. Двор — наш! Почему их нужно отдать хулигану? Потому что он сильнее?
Вздор, не сильнее! Он мелкий и презренный трус. Он, по точной русской пословице, молодец против овец, а против молодца — и сам овца. Встретив дружный отпор, хулиган немедленно пасует, превращается в хныкалку, выклянчивающего прощение. Окажись против той банды в девять человек не один Боря — худенький мальчик невысокого роста, с неустоявшимся тенорком, — а хотя бы три-четыре человека (не говорю уже — все, кто был тогда во дворе), и получилось бы иначе. Ведь побеждает не тог, кто сильнее физически, а тот, кто сильнее духом.
С распоясавшимися хулиганами — анархиствующими подонками, не признающими правил человеческого общежития, — борьба началась ещё с первых дней Октября. К этому призывал Ленин.
Великий гуманист А. М. Горький сравнивал хулиганов с «вредными насекомыми», отравляющими жизнь, он говорил, что хулиган, не стыдящийся своих поступков, «более вреден, чем бациллы заразных болезней».
Маяковский поставил своё разящее перо на службу этой важнейшей задаче: «Пишу про хулиганов, как будто нанятый, целую ночь и целый день», — рассказывал он друзьям.
Можно сказать, конечно: ну, какое было дело Маяковскому до хулиганов? Кто просил Борю Ильина мужественно идти нм навстречу?
Да никто не просил. Впрочем, нет, это неверно, просили: совесть просила. Да не просто просила — требовала. Точно так же, по зову совести, добровольно вступают сотни тысяч, миллионы людей в народные дружины по охране общественного порядка.
Они отдают этому нелёгкому, а порой и опасному делу свой досуг, свои силы, свои знания, ибо понимают, что, если каждый будет кивать на другого, мы никогда не одолеем такое зло, как хулиганство, как преступность.
Но мы одолеем его! Потому что рассуждающих так, по счастью, мало, а тех, кто в любую минуту готов стать на пути преступника, кто всегда на переднем крае борьбы за законность, — миллионы.
Это признают не только друзья, но и враги.
Не так давно одна реакционная французская газета писала: «СССР сейчас, по-видимому, настолько созрел, что правительство могло бы возложить на сознательных граждан часть ответственности, которая обычно лежит на государстве».
Спасибо за признание, скажем мы. Только почему «могло бы»?
Оно уже это сделало и каждый день делает всё больше и больше.
Вот, к примеру, товарищеские суды. Эти слова знакомы едва ли не каждому.
Нередко на улице, во дворе, в подъезде можно встретить объявление, приглашающее на заседание товарищеского суда.
Для человека, не знакомого с советской действительностью, само сочетание этих слов кажется странным. Как это так — «товарищеский суд»? Испокон веков суд был делом государственным. Кому же ещё, если не государству, определять, нарушен ли его закон.
А вот у нас есть не только государственный суд, но и суд товарищей, суд тех самых сознательных граждан, на которых, по словам французской газеты, и можно возложить «часть ответственности» (совсем немалую часть!) за соблюдение законности.
Дело в том, что в нашем обществе человек, недостаточно стойкий, недостаточно прочно усвоивший себе требования морали и закона, приобщается к ним, главным образом, не с помощью наказания, а с помощью убеждения и воспитания. У нас человеку разъясняют его ошибки, помогают понять, на какой ложный путь он вступил, дают возможность исправиться самому. Конечно, всё это при условии, что человек ещё только споткнулся, что он ещё не перешагнул черту, отделяющую честных людей от воров, хулиганов, мошенников. К таким преступникам нужны меры покруче. Но об этом речь ещё впереди.
Так вот, товарищеские суды как раз тем и занимаются, что помогают человеку, приблизившемуся к этой роковой черте, вовремя остановиться. Их внимание привлекают такие дурные проступки, которые ещё не переросли в преступления.
Ведёт, скажем, человек праздный образ жизни — бездельничает, пьянствует, вертится в компании таких же, как он сам, прожигателей жизни.
Это ещё не преступление. Но это уже тревожный звоночек. Не протяни руку этому человеку, тина безделья засосёт его. А от праздности и пьянства один шаг до преступления.
Не дадут у нас человеку сделать этот опасный шаг. Вызовут его в товарищеский суд.
По, пожалуй, надо тебе объяснить поточнее, чго это вообшс такое — товарищеский суд.
Объяснение несложное. Просто собираются, скажем, все сотрудники одного учреждения, все работники одного завода, все студенты одного института, все жители одного дома, или нескольких домов, или улицы и выбирают из своей среды самых достойных, тех, чья совесть безупречна, чей жизненный опыт велик, кто добр и справедлив.
Они — суд, потому что занимаются делами малоприятными, теми, что принято называть изнанкой жизни, и не просто занимаются, а решают, виновен ли человек или не виновен, а ежели виновен, то как именно с ним поступить.
Они — не обычный суд, а суд товарищеский, и не только потому, что работают, учатся или живут вместе с «подсудимым», а ещё и потому, что подход их к этому самому «подсудимому» дружеский, и меры, которые они к нему применяют, тоже меры товарищеские: выговор, предупреждение, порицание, предложение извиниться... Да и судят они в присутствии коллектива, в присутствии всех товарищей того, кто держит ответ за свой проступок.
Не думай, что это пустяки — предстать перед таким судом, послушать, что тебе скажут, и удалиться восвояси с выговором, от которого будто бы ни жарко ни холодно. Это, конечно, не так. Держать ответ перед коллективом — большое испытание духовных и моральных качеств человека. Прошедшие через это испытание уверяют, что иногда легче принять наказание, чем выслушать обличающие речи товарищей. Суровое, но справедливое и в то же время заботливое слово оказывает на человека, если только он не скатился глубоко в пропасть, серьёзное воздействие. Оно возвращает его коллективу, возвращает на правильный жизненный путь.
Как-то мне пришлось узнать такую историю. За очередное хулиганство должны были судить одного молодого рабочего.
На его счету к этому времени было уже немало прегрешений. Но ни штрафы, ни «пятнадцать суток» на него не действовали. Он только посмеивался и даже чувствовал себя чуть ли не героем.
И вот однажды он вышел, как говорится, далеко «за рамки» и должен был предстать перед народным судом как закоренелый хулиган, которому грозит пять лет лишения свободы. А до судебного заседания его привезли на комбинат, где он работал.
Сколько горьких, возмущённых и справедливых слов он услышал на общем собрании рабочих! Никогда не забуду, как из зала вышел небольшого роста паренёк в опрятной спецовке, поднялся на сцену, где сидел подсудимый, и, глядя на него ненавидящими глазами, тихо сказал: «Слушай ты, подлюга!..»
Волнение сжало ему горло, и он замолчал. Но такая сила была в этих его словах, взгляде, фигуре, что преступник не выдержал, согнулся, спрятал от зала своё пылающее краской стыда лицо. От ухарского вида нашего «героя» не осталось и следа.
Собрание всё же обратилось к суду с просьбой о смягчении ему наказания: решили поверить в человека ещё один — последний — раз.
«Зачем меня сюда привезли?.. — прохрипел он. — Лучше б сразу судили, лучше б срок дали, чем такое затеять...»
Его приговорили к условной мере наказания, и он остался работать на комбинате. С тех пор прошло много месяцев. Он не имеет ни одного замечания. По единодушному отзыву рабочих его поведение безупречно. Влияние товарищей оказалось сильнее любой кары.
Боюсь только, как бы ты не подумал, что есть какая-то особая группа людей, именуемых общественностью, группа, к которой ты не имеешь никакого отношения. Нет, общественник — это не должность, на неё нельзя поступить, как на
службу. Общественник — это и ты, и я, и мой приятель, и твой сосед. Каждый гражданин, если только в нём развито чувство ответственноеги за судьбу своей страны, если только он испытывает потребность активно участвовать в её жизни, если он готов помогать развитию всего хорошего и бороться со всем плохим, — каждый такой гражданин и есть общественник. А для служения обществу не существует дежурных часов: общественник дежурит всегда — в любую минуту своей жизни.
Недавно в одном из сёл Молдавии преступники проникли через разбитое окно в помещение местного Совета и похитили сейф с деньгами. Раскрыть это тяжкое преступление помогли ученики сельской школы. Прежде всего они, взявшись за руки, оцепили здание сельсовета. Это было нужно для того, чтобы до прибытия следователя сохранить в неприкосновенности те следы, которые оставил преступник. Ведь следы остаются всегда, как бы преступник ни старался их замести. Любой ничтожный пустяк, вроде волоска или клочка бумаги, может дать в руки следователя нить, потянув за которую он доберётся до цели. Важно только следы сохранить — это долг каждого человека, столкнувшегося с преступлением, долг, который отлично сознавали ребята из того молдавского села.
Прибыл следователь — видит свежие чернильные пятнышки на подоконнике. Сразу возникла мысль: а что, если в сейфе были чернила, которые разбрызгались, пока его тащили через окно. Тогда деньги должны быть тоже вымазаны чернилами. Не за эту ли ниточку тянуть, чтобы распутать клубок загадок?
Потянули — и не ошиблись.
Опять на помощь пришли ребята. Они получили ответственное задание: в магазинах, столовых, закусочных, в кино и на станции железной дороги — всюду, где только возможно, незаметно следить, не платит ли кто-нибудь деньгами, запачканными чернилами.
Школьники выполнили это задание блестяще: уже на второй день они «засекли» в гастрономе незваного гостя с пачкой вымазанных денег...
Разоблачение вора было теперь уже делом несложным.
Конечно, не каждый день может случиться такое: в масштабах нашей страны подобные преступления — редкость, не они, совсем не они определяют наше Сегодня.
Но это не значит, что каждый может сидеть сложа руки и ждать, когда его позовут искать вора с зачерниленными деньгами.
Случалось ли тебе видеть, как иные башибузуки варварски уничтожают природу? Думаю, многим приходилось быть свидетелем такой милой картинки, какую я недавно наблюдал в подмосковном лесу.
Приехала из города весёлая компания, чтобы культурно провести воскресенье. И показала истинно высокий класс культуры! Все деревья окрест были обглоданы так, словно подверглись нашествию жвачных... Вытоптаны цветы... Сломаны молодые саженцы... На вековых дубах экскурсанты тесаками вырезали свои бессмертные имена, чтобы их не забыли потомки. А вдобавок ко всему прямо под деревьями пришельцы разожгли костёр и, не затушив его, ушли купаться.
Недалеко ушли, между прочим. Звенигородские школьники, честно несущие «зелёный патруль» в своих прекрасных лесах, настигли нарушителей и призвали их к ответу. Народные дружинники и милиция, прибывшие по сигналу ребят, помогли горожанам усвоить, как следует относиться к нашим оощим природным богатствам. Штраф на месте и крепкие слова сослуживцев, до сведения которых доводят о таких позорных фактах, обычно запоминаются хорошо...
Помощь в охране природы не требует затраты больших усилий. Она доступна каждому. Зато польза от неё огромна.
Не все ещё умеют ценить то прекрасное, что окружает нас, и — вольно или невольно — хищнически относятся к национальному достоянию.
Кое-где без всякого смысла и надобности вырубаются леса, загрязняются реки и озёра, уничтожаются ценные животные, редкие породы рыб.
Это не просто безжалостно, глупо, дико. Это — преступно. Целый ряд законов, в том числе недавно принятые во всех союзных республиках законы об охране природы, требует от каждого человека бережного отношения к земле, её недрам, лесам и водам, к нашим «меньшим братьям» — зверью, к безгласным рыбам, страдающим от иных любителей слишком лёгкого лова.
Кстати, эти законы были приняты по требованию самых разных людей, объединившихся в своей любви к природе. Страстное «слово о бессловесном», сказанное писателями Л. Леоновым и К. Паустовским, гневные письма трудящихся, требовавших обуздать варварское отношение к лесным и водным богатствам, дали в конце концов
есть угроза остаться мёртвой буквой, если ему на помошь не придёт каждый из нас. Не дать губить природу, помешать нарушителю, задержать браконьера — это значит, помимо всего прочего, спасти многие тысячи рублей, принадлежащие государству. Почётный и ответственный долг! Если не ты его выполнишь, то кто же?..
А не покажется ли тебе это мелким, пустячным делом?
Ну, глушит кто-нибудь рыбу самодельным снарядом, что тут такого? Пусть себе глушит — рыбы хватит на всех.
Или рубит лес. Что страшного? Лесов-то много.
И рыбы и лесов у нас много. Но из-за таких вот хищников их становится меньше. Нельзя думать только о себе. Надо заботиться и о других, живущих рядом, и о тех, кто придёт нам на смену, — о далёких потомках. Что оставим мы им в наследство? Добрым ли словом они помянут нас?
Мне захотелось привести пример хозяйского отношения человека к своему дому — дому, именуемому родной страной. И я вспомнил об одном письме, которое отправил Ленину Алексей Максимович Горький. Это было 2 апреля 1920 года.
А. М. Горький писал: «Простите, что пристаю с «пустяками»... Со времени наступления Юденича на улицах Петрограда валяются и гниют десятки тысяч холщовых мешков с песком, из которых были состряпаны пулемётные гнёзда и площадки. Мешки — испорчены, загнили, а на бумажных фабриках не хватает тряпки.
На местах разрушенных деревянных домов валяется и ржавеет не один миллион пудов железа.
При ломке домов стёкла окон и дверей не вынимают, а бьют, — ныне оконное стекло стоит 1000, 1200 руб., — здесь погибают десятки миллионов денег. Но дело, конечно, не и деньгах, а в том, что надо же приучать людей бережно относиться к своему благосостоянию!..
Право же, это не «пустяки», в конечном-то счёте!»
Надо полагать, Горькому было чем заняться в ту нелёгкую весну двадцатого года. Надо полагать, великого писателя и организатора советской литературы не так уж прямо касались проблемы тряпок и стекла. Надо полагать, никто не просил его следить за тем, как на пустырях ржавеет железо.
Да разве надо просить об этом честного человека, патриота своей страны, который чувствует себя её хозяином? Всем интересоваться, всё видеть, помогать всему хорошему, бороться со всем плохим — такая же его естественная потребность, как есть и пить.
Наверно, ты слышал о народном контроле. Эти слова не сходят сейчас со страниц газет, десятки раз на день их упоминают по радио, по телевидению.
Что же такое — народный контроль? Это воплощение ленинской идеи о рабоче-крестьянской инспекции, то есть о всенародной проверке нашего хозяйства, порядка работы различных государственных органов, проверке исполнения законов, решений и директив, соблюдения дисциплины. В этой проверке участвует весь народ. Не только его представители, избранные в специальные комитеты народного контроля (таких комитетов создано множество во всех республиках, областях, районах), но и каждый гражданин с развитой общественной жилкой. Каждый, кто хочет внести свою лепту в наше общее дело, кто хочет помочь, чтобы жизнь стала лучше.
Быть всегда на посту! Это не только долг. Без этого, по-моему, просто неинтересно жить.
ВЕЛИКИЙ ЛЕКАРЬ
Шла читательская конференция по книге писателя Г. Медынского «Честь». Споров было немало, хотя почти все выступавшие склонялись к тому, что книга эта хорошая, честная, добрая, что она пронизана заботой о человеке, стремлением оградить его от дурных соблазнов, бороться за его судьбу.
Но вот раздался голос одного паренька:
— Не понимаю, для чего столько возятся с этими преступниками? Уговаривают, перевоспитывают... А вот раньше, говорят, вору отрубали руку, и дело с концом. По-моему, это лучше и быстрее.
Быстрее... Тут трудно, конечно, возразить. Но только — лучше ли?
Верно, было такое дело: рубили руки, ноги, головы. Членовредительство и смерть были «модным» наказанием и в незапамятные, и в более близкие нам времена. Пытками, устрашением пытались бороться правители с посягательством на свою власть, на свои богатства да и просто с ослушанием непокорных.
Но касалось это далеко не всех. Там, где знатный вельможа мог откупиться деньгами, бедному и незнатному приходилось класть руку, а то и голову на плаху.
К примеру, в средневековой Франции, по закону короля Генриха IV, за нарушение правил охоты в королевских лесах «благородные» подвергались штрафу, а «неблагородные» — сечению розгами до крови, ссылке на галеры, вечному изгнанию и даже смертной казни.
Если чиновник брал взятки, крал государственное имущество, он чаще всего оставался безнаказанным, реже — получал
ничтожное наказание. Но за домашнее воровство виновного слугу карали смертью.
Так было не только в средневековой Франции, а под разными широтами и в различные исторические эпохи: у дикарей, где простолюдин платил жизнью, если дерзал пройти по тени, отбрасываемой вождём племени, или закурить трубку от горящего перед ним огня; и в Риме, где так карали за недостаточно горячую похвалу талантам императора; и в Европе нового времени, где неповиновение крестьянина какому-нибудь чиновнику рассматривалось уже как «оскорбление величества».
И в древние, и в позднейшие времена делались попытки «теоретически» объяснить такое неравенство перед законом. В древнеиндийском кодексе Ману это, например, «объяснялось» так: «Брамин (жрец) вышел из головы божества, — поэтому он по праву может повелевать остальными; воин, вышедший из руки божества, обязан повиноваться брамину и защищать его, как рука защищает тело и исполняет волю головы; купец, вышедший из кармана божества, обязан поддерживать брамина своей торговлей; судра (рабочий), происходящий из ступни божества, должен служить всем, не думая о награде». А вывод отсюда таков: кража у брамина влечёт суровое наказание, брамин же волен брать имущество судры, так как судра вообще не имеет и не может иметь собственности.
Очень ли далеко ушли эти смехотворные «теории», оправдывающие классовое неравенство, от положения, существующего при современном капитализме, положения, которое нагляднее всего выражено в американской пословице: «Если вы украли булку, вас посадят в тюрьму; если же вы украли железную дорогу, вас выберут сенатором»...
Советская власть уничтожила не только неравенство людей перед законом, она отказалась и от чуждых нравственным воззрениям народа идей устрашения, жестокости, мести. Преступность — многовековое зло, порождённое волчьими условиями существования в эксплуататорском обществе, которое метит ещё своими «родимыми пятнами» и иных советских людей.
Опыт десятков поколений показал, что с этим злом бессмысленно и несправедливо бороться при помощи свирепых мер наказания, этакой всеобщей рубкой рук — ив прямом и в переносном смысле.
Наблюдательные люди уже давно заметили, что страх перед жестокой карой не остановил ни одного человека, задумавшего совершить преступление.
Рассказывают такой, например, случай, происшедший почти три столетия назад в Париже. На площади, при огромном стечении народа, вешали некоего знаменитого вора, прославившегося своими дерзкими кражами. Чиновник, руководивший казнью, перед экзекуцией объявил, что так будет поступлено с каждым, кто пойдёт по пути злодея. Когда же казнь свершилась и люди стали расходиться, оказалось, что у многих исчезли кошельки: увлечённые зрелищем казни, они позабыли о своих карманах. Этим и воспользовались сновавшие в толпе ворюги, которых нисколько не смущали ни угрозы королевского чиновника, ни вид эшафота, ни бесславный конец их лихого коллеги.
Если бы с преступностью можно было бороться одними лишь суровыми законами, эту проблему давно бы решили: ведь принять закон — не очень уж сложное дело. И законы такие принимали, и голов порубили немало, да вот толку от этого не было никакого.
Не надо, конечно, думать, будто наказание вообще не должно быть суровым. Оно может быть и мягким и суровым —
лили, бы только было справедливым. Ибо цель его — не в мести («око за око, зуб за зуб»). Совсем не в мести.
Цель в том, чтобы исправить, перевоспитать человека, показать ему великую силу и красоту труда, научить его исполнять законы, уважать правила социалистического общежития.
Она в том, чтобы никому не повадно было идти по дурному пути.
Но наказание, как сказано в советском законе, «не имеет целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства».
Расскажи об этом, пожалуйста, тому ворчуну, что готов хоть сейчас самолично начать рубить руки. Разъясни ему непременно, что мы живём не в средневековье, что оступившийся — член нашего общества и, если только он не дошёл до окончательного падения, должен воспитываться нами, а не изгоняться из наших рядов. Если же не сможешь найти своих убедительных слов, приведи слова великого Горького: «Советская власть не мстит преступнику, а действительно «исправляет» его, раскрывая перед ним победоносное значение труда, смысл социальной жизни, высокую цель социализма, который растёт, чтобы создать новый мир».
У меня есть хороший знакомый, немолодой уже человек. Это один из лучших инженеров прославленного ленинградского завода. Он имеет ордена, грамоты, медали — так высоко отмечен его образцовый и вдохновенный труд.
Когда-то, тридцать с лишком лет назад, он был тоже довольно известен. Только знали его совсем другие люди и «слава» его тоже была совсем другой. Он был злостным преступником, грабителем, вожаком воровской шайки.
Его поймали. И сделали всё, чтобы вернуть на честный путь, а не расправиться, не отомстить за те немалые беды, которые он принёс.
Этот человек не за страх, а за совесть трудился на строительстве Беломорско-Балтийского канала, а потом — канала Москва — Волга. Он был один из тех, кому писал А. М. Горький: «Вашей работой вы хороните проклятое прошлое, — всей душой желаю вам поскорее пережить настоящее и сохранить силы ваши для строительства будущего, — будущего, когда вы, свободные, познавшие великое значение социалистического труда, примете участие в деле дальнейшего украшения и обогащения вашей родины».
Тот, о ком я рассказываю, как и многие-многие его товарищи, сохранил силы, потому что познал радость труда, человеческого участия в его судьбе. Он осознал всю мерзость своего преступного ремесла и навсегда похоронил «проклятое прошлое». Неужто было бы лучше отрубить у него руку?
В капиталистических странах широко распространена подлая «теория», сочинённая итальянским мракобесом Ломброзо. Этот «учёный» уверял, что преступниками люди не становятся в результате объективных условий существования общества, а рождаются — так сказать, ещё с пелёнок готовые к убийствам и грабежам. И есть будто бы даже зримые, всем доступные приметы «типичного преступника»: скошенный лоб, косящие глаза, вытянутый подбородок... Представляешь, как легко становится бороться с преступностью, когда есть опознавательные знаки нарушителей закона...
Шутки шутками, а смеха мало. Это попытка оправдать общество, повинное в существовании преступности, чтобы переложить вину на природу, порождающую преступников, как диких зверей. Потому что вредных, диких зверей можно уничтожать — это право человека. Вот к чему клонит сей «теоретик» убийств, почитаемый в капиталистическом мире. Теперь, думаю, понятно, в какой компании невольно оказываются сторонники крутых мер, болтовню которых тебе, возможно. приходилось слышать. Жестокость — плохое лекарство. Ксть совсем другое снадобье — оно и целебнее и важнее. Кго зовут Любимым Делом.
Любимое Дело — великий лекарь. Оно излечивает горе, врачует физические и душевные раны, предотвращает от многих пагубных соблазнов. Оно настолько увлекает человека, что тот отдаёт ему весь жар своей души, свои мысли, своё время.
Не зарегистрировано, кажется, ни одного случая, чтобы увлечённый полезным делом человек стал грабить или хулиганить. Напротив, попавшие на скамью подсудимых, как правило, бездельники, лодыри, лентяи...
А если заинтересовать человека, найти ему дело по душе?
Жил-был парень, по имени Константин. В свои семнадцать лет он умудрился иметь уже три судимости. Отбывал сроки, его выпускали, но он и не думал рвать со своим прошлым. Отпуская Константина в третий раз, начальник колонии спросил:
— Когда тебя снова ждать: через неделю или через месяц?
Прошла неделя, и месяц, и год — этого парня начальник колонии больше не дождётся (чему он, конечно, рад, как и все мы). Не дождётся, потому что на вахту заступили челябинские комсомольцы.
В Челябинске родилась благородная идея: брать шефство над «споткнувшимися», чтобы помочь им вернуться к честной жизни.
Шефы встретили Константина буквально у ворот колонии. Это были его сверстники: старшеклассники, рабочие, студенты. Они не напускали на себя ложной солидности, не разговаривали с ним менторским тоном. Они вели себя как товарищи.
Провели его по цехам, сказали: «Смотри, выбирай, — может, что-нибудь понравится. А не понравится, подберём другое...»
Ему ничего не понравилось.
Зато однажды, проходя с Константином по двору, ребята заметили, с каким восхищением наблюдает он за работой верхолазов — рядом строилось многоэтажное здание.
И судьба Константина была решена: он стал строителем-верхолазом. С прошлым было покончено навсегда.
Или другой случай. На киностудию пришёл наниматься паренёк. Он просил дать ему какую угодно работу. Но в отделе кадров посмотрели его документы, увидели, что он недавно вернулся из заключения, и отказали.
Очевидцем этого разговора случайно был кинорежиссёр, человек не только большого таланта, но и большой души. Он посоветовал пареньку оставить документы и зайти дня через два.
Тем временем он по телефону связался с колонией, где паренёк отбывал наказание, и попросил подробно рассказать о нём. Но ничего вразумительного ему ответить не смогли. Тогда режиссёр поинтересовался, что этот паренёк в колонии читал. Выяснилось: Жюля Верна да ещё журналы «Советский экран» и «Вокруг света». И всё стало ясно.
Режиссёр вскоре отправлялся на Север в опасную, но увлекательную экспедицию — снимать документальный фильм. Он добился, чтобы «подозрительного субъекта» включили в съёмочную группу.
Бывший карманный вор оказался не только сметливым и дисциплинированным учеником, не только преданным порученному делу и влюблённым в него, но и мужественным человеком: одному из участников экспедиции, провалившемуся под лёд вместе с тяжёлой киноаппаратурой, он спас жизнь.
Можно ручаться, что человек, познавший счастье любимого дела, никогда не станет преступником.
Гуманизм закона велик, но, конечно, не беспределен. Тог,
кто совершает тягчайшие преступления, тот, кто, будучи про щенпым, испытав снисходительность и мягкосердечие обще ства, не желает взяться за ум, — пусть не взывает к гуманности. Ибо гуманным надо быть не только к преступнику, но и и его жертве, к тем, кто страдает от его похо&дений.
Зато каждый, кто искренне осознал ошибку, кто искрение желает её исправить, кто искренен в своих намерениях всегда быть в ладах с законом, может рассчитывать на доброту, на ту веру в человека, без которой нельзя себе представить социалистический строй.
БЫЛО ДЕЛО...
Серёжка сидел на подоконнике и разглядывал улицу.
Всю ночь шёл снег, намело огромные сугробы, а утром стало подтаивать. Небо опустилось на крыши соседних домов и теперь надвигалось на мостовые. Через запотевшее стекло Серёжка видел, как из тумана выплывали и тут же снова ныряли в него фигурки прохожих с развевающимися полами пальто.
Потом опять началась метель.
А в комнате было уютно, тепло. Из кухни тянуло пряным запахом печёного теста. Мать ежеминутно заглядывала в духовку, где уже давно томился праздничный пирог. Сестра Юлька в перчатках, чтобы не повредить свой первый в жизни маникюр, стаканом вырезала из теста ровные кружочки для пельменей.
И только Серёжке нечем было заняться.
Каток, заваленный снегом, не работал, школа уже была закрыта на каникулы, а на кино не было денег. Заскакивал к нему Борька Клоков, хотел посидеть, похвастаться новыми марками, которые прислал ему брат, просто поболтать, но мать его выгнала.
— Зайдёшь в будущем году, — сказала она, — Серёжка мне по хозяйству помогает, — и легонько подтолкнула Борьку к двери. — А тебя драть надо, — сердито посмотрела она на Серёжку. — Со всякой шпаной водишься да ещё домой тянешь.
Серёжка молчал, отвернувшись к окну, словно весь этот разговор его не касался.
«Ну чего взъелась? — думал он про себя, сохраняя на лице полнейшее равнодушие. — Что я, маленький?» — мысленно повторял он, не зная, как втолковать матери, что ему уже пятнадцать лет, что он — восьмиклассник, что ребята выбрали его даже заместителем старосты и что не грех бы ей всё это давно понять.
Вдруг мать сказала:
— Ладно уж, вот тебе полтинник, сходи в кино: ведь охота небось, а молчишь...
Серёжке очень хотелось гордо отказаться, но сил для этого не нашлось, и он смущённо взял деньги, чуть слышно промямлив:
— Спасибо...
— Вечно мальчишкам поблажки, — сердито бросила Юлька.
Юлька кончала в этом году школу.
Ей нравилось подчёркивать, что она может идти когда и куда хочет, а Серёжке для этого надо ещё расти и расти. Поэтому, если мать разрешала погулять и Серёжке, Юлька сердилась: ей казалось, что это как-то принижает её самостоятельность.
На этот раз материнское великодушие особенно задело её: как-никак хлопотливый день, Серёжка бы должен помочь, а тут, нате вам пожалуйста, — кино!
— Мы, значит, работаем, а он в кино пойдёт! Интересно получается... — рассерженно сказала Юлька. — Как мы туг вдвоём управимся?
— Пускай сбегает, — примирительно сказала мать. — Какая от него польза? Только под ногами болтается.
Идти в кино одному было скучно.
Серёжка обегал всех знакомых ребят, но кого не оказалось дома, других не пустили родители. Пришлось идти одному.
Когда кончился сеанс, на улице уже стемнело. Метель утихла, но временами налетал ветер, пронзительный и колючий. Он раскачивал опрокинутые чашки подвесных фонарей, и жёлтые пятна, перепрыгивая с сугроба на сугроб, выхватывали из тьмы светящиеся снежинки.
Только что Серёжка прожил полтора часа в мире приключений.
Ему казалось, что он тоже участвовал в погоне, расшифровывал загадочные следы, стрелял из засады, он весь был «там» — в камышовых зарослях, в выгоревшей от зноя степи, на захолустном полустанке, где в мирный щебет ласточек ворвался сухой и злобный кашель пальбы.
Он ничего не замечал вокруг.
И только когда стал переходить улицу и из вынырнувшей перед его носом машины раздался свирепый окрик шофёра: «Куда ж ты лезешь!» — Серёжка вспомнил, что пора возвращаться, иначе мать заругается. Он вздохнул, поглубже засунул руки в карманы и лениво поплёлся домой.
В широком подъезде, освещённом тусклой, засиженной мухами лампочкой, возле батареи центрального отопления стояла группа ребят. Серёжка узнал Бориса Клокова, Генку Заливина и Петра Денискина. Четвёртый парень был незнакомый: козырёк надвинутой по самые брови кепки оставлял его лицо в тени.
Денискина только что выпустили из тюрьмы. Он сидел за хулиганство.
Когда несколько месяцев назад его осудили, десятки людей вздохнули свободно. Но вскоре неунывающий Денискин по-
явился снова. Его освободили досрочно и даже выдали бумажку: две размашистые подписи и печать официально подтверждали, что Денискин раскаялся и исправился.
Это был упитанный коренастый парень лет двадцати, с насмешливыми, презрительно сощуренными глазами и вечно двигающейся перекошенной челюстью. Казалось, он всё время что-то жуёт и никак не может дожевать. Был он большим любителем говорить загадками, что создало ему среди ребят славу таинственного и опытного человека. Он и раньше был мастер выдумывать всякие истории и хвастаться своей опытностью в разных житейских вопросах. Теперь же он держался совсем профессором. По его рассказам выходило, что в исправительно-трудовой колонии не жизнь, а малина, только знай ешь да пей. А он, Пётр Денискин, был там вообще на особом положении, поскольку он — личность выдающаяся.
Об этом рассказал Серёжке Борис. Сам же Серёжка избегал встреч с Денискиным. Как-никак тот сидел в тюрьме, да и по летам они не схожи.
— Кого я вижу! Сергей! Заходи — гостем будешь, — насмешливо протянул Денискин, едва Серёжка вошёл в подъезд.
— Смотри как вымахнул... Прямо Тарзаном стал... — Ои ощупывал Серёжку глазами, точно прицеливался, и рот его кривился в прыгающей улыбке. — А забывать старых друзей нехорошо, брат, нехорошо.
Нет, они с Серёжкой никогда не были друзьями. Но на всякий случай Серёжка ответил:
— С чего это ты взял? Я и не забывал.
— Тама! — обрадованно воскликнул Денискин. — Стало быть, с тебя пол-литра.
Ребята засмеялись, а незнакомый парень даже захрюкал от радости, и кусочек светящейся сигареты запрыгал у него в зубах.
— Ладно, не плачь. Это мы просто под мышкой щекочем, — мирно сказал Денискин и добавил, обращаясь к ребятам: — А ну, цыц, вы, сеньоры!
Он не повысил голоса, даже не повернул головы, но смех сразу же смолк.
Ребята с интересом наблюдали, как Пётр Денискин потешается над Серёжкой.
Борис старался не смотреть на Серёжку: ему было не по себе.
— Да ты не бойся, — продолжал Денискин, видя, что Серёжка не решается подойти. — Здесь все свои. Вот Каланча, видишь? Свой... Теперь гляди — Заливала. Обратно свой. А это... — Денискин ткнул пальцем в незнакомого, — это мой братеник, будьте знакомы.
— Братеник? — удивлённо переспросил Сергей.
Он знал всех братьев Петра — семья Денискиных жила по соседству, но этого парня он видел впервые.
«Братенику» опять стало смешно, и он захрюкал.
Денискин небрежно взял его левую руку и поднёс к глазам Сергея. Бледным синим пунктиром на тыльной стороне ладони была изображена решётка, а рядом с ней — кинжал, вокруг которого вилась змея. Потом Денискин показал свою левую руку: на ней тоже была решётка и змея.
— Понял? — Денискин заглянул Серёжке в глаза.
Серёжка кивнул головой, хотя он ничего не понял.
«Братеник» выплюнул сигарету и сосредоточенно заковырял спичкой в зубах.
Набравшись храбрости, Серёжка спросил Денискина:
— Будешь на работу поступать или пойдёшь учиться?
— Учиться? Хм... Оно бы, конечно, неплохо. Только я, брат, уже учёный. Все науки прошёл... Хватит. Теперь мы работать будем. Верно я говорю, Пузан, поработаем?
«Братеник», захлёбываясь от смеха, пробормотал:
— Поработаем... На Доску почёта запишемся.
Серёжка не понял: всерьёз они или шутят.
Наверху открылась дверь, раздались шаги. Ребята разом затихли.
— Сергей, ты, что ли? — свесившись через перила и вглядываясь в полумрак, спросила Юлька.
— Ну, я, — недовольно ответил Серёжка.
— - Хватит шататься, иди помогать. Давай быстро!..
— Это сестра его, — шепнул Борька, — такая зануда...
Серёжка быстро зашагал по ступенькам, вобрав голову в плечи и не оглядываясь.
— Беги, беги! — крикнул вдогонку Денискин. — Сейчас тебя сестричка на горшочек посадит...
Громкий хохот покрыл его слова.
«Они тоже считают меня маленьким, — зло думал Серёжка, едва сдерживая подступающие к горлу слёзы. — И смеются. Все смеются... Ну хорошо, пусть ростом маленький, но разве в росте дело? Все ребята гуляют, а я — сиди дома. Теперь скажут: маменькин сыночек».
Эта мысль томила его всё время, пока он помогал матери и сестре расставлять сдвинутую при уборке мебель.
Не было ещё и девяти часов, а уже пришёл дядя Паша — двоюродный брат отца со своей женой. Он всегда старался казаться этаким бодрячком, суетился, шумел и без умолку тараторил.
Вот и сейчас он ни с того ни с сего начал заигрывать с Серёжкой: «А ну, племяшок, поборемся!» И они стали бороться, свалились на диван, потом на пол. Когда дяде Паше это надоело, он засуетился вокруг стола, заглядывая в каждую вазочку, в каждый графинчик.
— А водочки-то маловато! — заметил он и хитро подмигнул жене, хотя на всех семейных торжествах вторую рюмку он обычно выпивал, моршась и кряхтя. — Ну-ка, Серёжка, сгоняй за горючим.
— Ладно уж тебе, — покровительственно сказала жена дяди Паши. — Тоже мне пижон! Не знаешь, что ли, не продадут ему водку.
— Спасибо за разъяснение, — ответил дядя Паша. — Насколько мне известно, ещё не было случая, чтобы за деньги чего-нибудь не продавали. Хоть детям, хоть не детям. Закон — это одно, а жизнь — другое. — Дядя Паша понизил голос и осторожно покосился на дверь: нн магери, пи сесгры в комнате не было. — А ну-ка. Серёжка, получай новогодний подарок.
Хрустящая бумажка появилась в его руке.
— Два твоих, а на остальные — поллитровочку. Кстати, можешь пошататься, атмосферной подышать. Не бойся, я отвечаю...
Зажав деньги в кулак, Серёжка бегом спустился по лестнице — он был рад, что вырвался на улицу.
Внизу, на том же месте, что и два часа назад, о чём-то шептались, попыхивая огрызками сигарет, Денискин и его компания.
— Да-а... интересное кино! — процедил Денискин, не спуская глаз с Серёжкиных денег. — Все детки будут встречать Новый год, а нам с тобой, Пузан, кровью заработавшим хорошую жизнь, придётся глотать кислород. И это называется справедливостью!.. — Он неопределённо повёл рукой. — На одном конце деньги, на другом — нищета. Так нас учит Гоголь. Или Гегель, точно не помню. И главное — деньги попадают в руки детей, и они их тратят — подумать только — на молочко!
— Ну да! — обиделся Серёжка. — На молочко... Что я, вина не пью, что ли?
— Факт — не пьёшь, — вставил Борис. — Я-то знаю.
— Нет, пью! — тихо сказал Серёжка.
— Говорят, трус ты большой, — ухмыльнулся Денискин. Он пожевал губами, сплюнул и добавил: — А трусы все непьющие, это уж точно.
— Я трус? — воскликнул Серёжка, и горло его перехватило от жгучей обиды. — Это я трус? Да я, если ты хочешь знать, пол-литра могу сразу выпить!..
— Вот потешил, — презрительно усмехнулся Заливин. — Сразу пол-литра — и до свиданья, мама, не горюй!
— А ну, цыц! — сказал Денискин и протянул Серёжке пачку дешёвеньких сигарет. — Пьёшь, пьёшь, — добавил он снисходительно. — Закуривай.
Серёжка в своей жизни не выкурил ни одной папироски, но в такой момент отказаться было нельзя.
Полумрак подъезда спасал Серёжку: чуть отвернувшись, он мог делать вид, что затягивается, хотя на самом деле, подержав дым во рту, он узенькой струйкой медленно выпускал его, всеми силами стараясь удержаться от распиравшего его кашля.
Первым нарушил молчание Пузан:
— Ну, Петюня, решай!
Денискин не ответил. Он сосредоточенно дымил, изредка бросая отрывистый и колючий взгляд то на Серёжку, то на Бориса, то на Генку. Загасив сигарету о подошву сапога, он сказал, обращаясь к Серёжке:
— Слушай, давай старый год вместе проводим, а?
— Старый? — переспросил Серёжка. — Верно, старый — с вами, а к Новому — домой успею. Давай!
— Тогда выкладывай! — Денискин требовательно протянул руку.
— Чего? — не понял Серёжка.
— Червонцы, ясно? Каждый вносит свой пай.
Серёжка заколебался.
— Эх, ты! — укоризненно сказал Денискин. — Вот видишь, как до денег, так — в кусты. — И вдруг он перешёл на полушёпот. Ребята придвинулись к ному, обступив тесным кольцом. — Ладно, Серёжку от пая мы освобождаем. Свои монеты он нам просто даёт взаймы, а потом —
касса будет. В общем, Серёжа, не горюй, деньги сполна получишь. Голосую. Против пет? А воздержавшихся? Ясно. Вот видишь, какая у нас демократия. Гони, Серёга, монету.
— Ребята, а как же... я домой?.. — Серёжка говорил растерянно, позабыв, как он пыжился ещё минуту назад.
Все снова прыснули. Серёжка замолчал.
— Эх ты, дурья голова, — сказал Денискин. — С тобой как с человеком, а тебе ещё соску сосать.
И отвернулся.
Серёжка облизал губы и хрипловатым шёпотом проговорил:
— Хорошо, идём.
...В грязной забегаловке было почти пусто. Обычно наполненная многоголосым пьяным шумом, который то и дело с густыми клубами пара выплывал на улицу, эта тесная комнатушка сегодня выглядела особенно неприветливой. Ребята разместились у самого дальнего угла стойки, и Денискин уверенно потребовал у буфетчицы чёрного хлеба, солёных огурцов и пять пустых стаканов.
«Не даст, ни за что не даст», — испуганно подумал Серёжка, но буфетчица поставила на стойку гранёные стаканы и пошла выполнять заказ.
Денискин честно разделил принесённую бутылку водки на пять равных частей и, звонко чокнувшись со всеми, сказал многозначительно:
— За фарт!
Серёжка никогда не думал, что так трудно заставить себя опрокинуть в рот эту прозрачную жидкость. Но, боясь новых насмешек, он зажмурил глаза и выпил всё до дна. И вдруг лица ребят, потолок, буфетная стойка качнулись и поплыли перед глазами. Потом застыли опять на своих местах. Стало весело и жарко.
Тыча вилкой в ускользавший огурец, Серёжка сказал хвастливо:
— Во! А ты говорил — не пью!..
Он не слышал, о чём шепчутся ребята. В голове гудело, ему хотелось петь, делать что-то необычное.
Много позже Серёжка с трудом припоминал, как Денискин что-то говорил ему на ухо и он ему что-то отвечал, как потом они все вместе о чём-то спорили, соглашались, опять спорили, как он лихо расплачивался дядиной пятёркой, уже не боясь ни буфетчицы, ни чёрта, ни дьявола...
И опять раскачивались на ветру фонари, и от танцующих по мостовой жёлтых пятен улица стала похожей на карусель. Серёжка шёл, не разбирая дороги, вслед за Денискиным и остальными. Первая хмельная волна прошла. Стало ясно всё, что сейчас должно произойти. Ему хотелось остановиться и закричать: «Стойте!» — но он не остановился и не закричал.
«Что я делаю? Что я делаю?» — стучало в висках, и в ответ словно слышался ехидный голос Денискина: «Говорят, трус ты большой?»
«Я им покажу — трус! Кто трус? Я трус? Мы ещё увидим, кто трус!» Серёжка про себя с кем-то спорил, обижался, настаивал, убеждал, даже клялся и плакал, но всё шёл и шёл — так долго, так далеко, будто на край света...
Улица кончилась. Дальше был пустырь с рытвинами и ямами.
Детом он был завален грудами битого кирпича, ржавыми консервными банками, бутылочным боем. Серёжка любил здесь играть в прятки — лучшего места нельзя было и придумать. Он любил и просто слоняться без всякого дела по ямам и кирпичным горкам. Пустырь казался тогда затерянным в океане островком, некогда цветущим и богатым, а теперь погребённым под развалинами великолепных дворцов...
Сейчас всё занесло снегом, ничего не было видно, только впереди, далеко-далеко, переливалась цепочка огней.
Порывистый ветер, подымая снежную крупу, бил в лицо...
По пустырю почти никто не ходил, особенно зимой, по очень нетерпеливые изредка пересекали его, чтобы сократить путь до трамвайной остановки: посёлок вырос, а довести до него линию трамвая ещё не успели.
Возле большой мусорной груды, занесённой с наветренной стороны снегом, Денискин остановил свою команду. Все присели на корточки, и Серёжка присел тоже. Борис — тот просто согнулся в три погибели. Его рост, который мог бы создать ему славу грозного волейболиста, был сейчас только помехой. Молчали. Присевший с краю Денискин вглядывался в темноту. Совсем ушедший в своё кургузое пальтецо Пузан тоже обшаривал местность глазами, покачиваясь из стороны в сторону. Над самым ухом Серёжки тяжело сопел Заливин.
— Идут! — сказал тихо Денискин. — Пузан, у тебя готово? Все по местам. Как подойдём — Каланча налево, Генка направо, Сергей назад. Брать будем только я и Пузан. Ну, смотрите мне!..
Денискин грязно выругался. И, хотя говорил он вполголоса, в его интонации, ругани, во всём его облике была такая злоба, такая остервенелая сила, что Серёжке стало страшно. Но он опять подумал: «Я не трус. Нет, я не трус!» — и стал следить за каждым движением Денискина, ожидая его приказаний.
— Повело! — скомандовал Денискин. — Все разом! Ну!..
Прижимаясь друг к другу, они вышли из своего убежища
и преградили дорогу трём женщинам. Когда подошли вплотную, Серёжка попытался разглядеть их лица, но в темноте не смог ничего увидеть.
— Назад, смотри назад! — прохрипел Пузан.
Серёжка мгновенно повернулся и стал напряжённо глядеть в сторону посёлка, невольно вслушиваясь в каждый звук,
в каждый шорох за своей спиной. Он слышал, как Денискин сказал:
— Деньги, часы, кольца, серьги — живо! И чтоб без шума! Кто пикнет — не встанет. Ясно?
На мгновение всё стихло. Потом тоненький, дрожащий голосок произнёс:
— Отдайте им всё, девочки.
Опять стало тихо. Серёжке хотелось обернуться, но, помня окрик Пузана, он не решался.
— Долго ты будешь копаться? — угрожающе спросил кого-то Денискин.
И ему ответил голос Пузана:
— Чего ты смотришь на неё — рви с ухом!
Серёжка чувствовал, как краска заливает ему лицо. «Неужели ему не стыдно? Ведь девчонки! Только бы скорей это кончилось, только бы кончилось!»
— Куда свёрток-то тянешь — это ж дамские туфли?! — услыхал он резковатый женский голос.
— Отдай, Клава, пусть берут, — умоляюще отозвался голосок потоньше.
Тут снова вмешался Денискин:
— Молчи! Не твоё дело! А ты без разговорчиков — давай сюда... Ну, теперь не оглядываться, бегом! Молитесь, что целы остались.
Мимо Серёжки, быстро удаляясь, промелькнули три ссутулившиеся, понурые женские фигурки...
Подождав, пока они скроются из виду, ребята двинулись дальше. Серёжка уныло смотрел под ноги, боясь взглянуть на ребят.
— На нищих напоролись, эх ты, начальство! — насмешливо процедил сквозь зубы Пузан.
— Молчи, гад! — ответил Денискин. — Кто знал...
Они ругались между собой, не обращая внимания па остальных.
Возле высокой заснеженной кучи мусора, похожей на ту, которая уже служила для них укрытием, все остановились, снова присели на корточки и стали ждать. На этот раз недолго.
Опять скомандовал Денискин, все вышли из засади, и опять Серёжка, уже без понукания Пузана, стал тревожно оглядываться по сторонам, страшась окружающей тьмы и в то же время надеясь на неё.
— Деньги, часы — быстро! — выпалил Денискин.
И тогда за своей спиной Серёжка услышал дребезжащий, очень печальный голос:
— Что ты, сынок? Опомнись, сынок, откуда у старухи деньги?...
— Кому сказал — быстро! — повторил Денискин всё так же неумолимо.
— Ребятки, что вы, ребятки, пожалейте... У меня двое сынов на фронте полегли, ребятки... — Женщина говорила часто-часто, чтобы успеть высказать самое главное, и в голосе её слышались слёзы. Серёжка стал кашлять, чтобы не слышать этих причитаний. Старуха всё умоляла:
— Ребятки, не троньте, ребятки...
— Мама! — испуганно крикнул кто-то мальчишеским тенорком, — Отдай им, ну, отдай же...
— Нет, нет, ребятки, не надо... — бормотала старуха, и Серёжке казалось, что это никогда не кончится.
— Каланча, обыщи её! — скомандовал Денискин.
— Ироды! Ироды проклятые, погодите, найдут на вас управу... Вот вам мои копейки...
Подхваченный ветром, её голос летел над пустырём.
— Заткнись! — рявкнул Денискин. — Ножа захотела?!
— Мамочка, не надо, мамочка! — закричал мальчишка. — Мамочка, ну не надо же...
— Ничего, переловят вас всех, иродов, погодите. На, подавись, проклятый, на, на!..
Вдруг женщина осеклась, тяжело вздохнула, застонала, а Денискин крикнул: «Бежим!» — и сорвался с места.
Серёжка побежал вместе со всеми, увязая в рыхлом снегу, стараясь не отстать, подгоняемый доносившимся сзади пронзительным мальчишеским криком:
— Мама, что с тобой, мама?!
Он задыхался от бега, от волнения. Ему казалось, что за ними гонятся, что сейчас их поймают и всё будет кончено. Страх гнал его вперёд. Наконец раздался спасительный шёпот Денискина:
— Стой!
Они оказались на дороге. Это была неудобная, плохо мощённая дорога, поэтому машины шли по ней редко, — шофёры предпочитали делать крюк и ехать в объезд. Летом здесь начали строить барак для дорожно-строительных рабочих — предполагалось приводить дорогу в порядок. Но работы так и не начались, а возведённый деревянный сруб остался до нового сезона.
Прячась от показавшейся в прорванных тучах луны, Денискин остановился возле этого строения. Едва отдышавшись, Серёжка спросил Денискина:
— Чего ты с той старухой сделал, а?
— Ты ещё мне поговори — тогда узнаешь!
Перед глазами Серёжки в тусклом и косом луче света едва блеснуло узкое лезвие финки. Блеснуло — и скрылось. Больше вопросов Серёжка не задавал. Он встретился — близко-близко — со взглядом Заливина и прочёл в нём то же, что испытывал сам, — страх.
Но как ни страшен был Денискин, Серёжка видел сейчас в нём. единственную надежду на спасение, полагаясь на его опытность и умение выйти сухим из воды.
Услышав приказ Денискина возвращаться домой поодиночке, Серёжка робко сказал:
— А я с тобой, Петька, можно?
Денискин двинул его локтём в бок так, что у Серёжки перехватило дыхание, а Пузан добавил брезгливо:
— Да отвяжись ты, щенок, наконец!..
— Кто-то идёт, — взволнованно сказал вдруг Заливин.
Резко выделяясь па залитом лупой снежном поле, медленно приближались две фигуры. Когда луна скрывалась в облаках, фигуры пропадали, потом появлялись снова. Нсмнот погодя можно было разглядеть идущих под руку мужчину и женщину. В свободной руке мужчина нёс маленький чемоданчик.
Потом стали долетать их голоса — обрывки слов, смех: звонкий, девичий и сдержанно-снисходительный, мужской. Серёжка боялся вздохнуть. Рядом с ним, слившись со стеной, безмолвно стояли остальные.
Девушка и её спутник шли по дороге с противоположной стороны барака.
Голоса продолжали звучать в чистом морозном воздухе, но уже ничего не было видно.
Луна снова скрылась в тучах. Тогда Денискин коротко бросил:
— За мной!
— Не надо! — шепнул Серёжка, схватив его за руку.
Денискин, оттолкнув его, прохрипел:
— За мной! Все за мной! Семь бед — один ответ! — и выбежал из укрытия.
А дальше было вот что: девушка сделала шаг назад и вдруг её нога взлетела вверх. Денискин взвыл. Удар пришёлся ему в живот.
Не давая опомниться, девушка схватила его руку, в которой была зажата финка, и крикнула:
— Чего стоишь, Алёша, бей же, ну!..
Парень словно ждал команды. Он сбил с ног Денискина и повернулся к Серёжке...
Всё это длилось считанные секунды.
Сражённый боксёрским ударом под «ложечку», Серёжка медленно опустился на землю, судорожно глотая воздух, и последнее, что он увидел, прежде чем потерял сознание, — клубок сцепившихся тел, беззвучно катающихся по снегу, и два широких снопа автомобильных фар, разрезавших ночную тьму...
Вскоре Серёжка сидел на скамейке в большой комнате с обшарпанными обоями. Закусив губу, он плакал, стыдясь своих слёз.
Взлохмаченный, без единой пуговицы на пальто, Борис Клоков тупо смотрел, как Заливин прижимает грязный платок к подбитому глазу.
Поодаль развалился Денискин. Он всё так же двигал челюстью, презрительно чмокал, нагло улыбался, изредка бросая вокруг злобные взгляды.
Пузана не было.
Молоденький милиционер стоял возле скамьи, не спуская глаз с арестованных. За столом сидел капитан и заканчивал протокол. Около чернильницы лежали серьги, часы, смятые денежные бумажки, лакированные дамские туфельки...
Зазвонил телефон. Капитан взял трубку, послушал и, похвалив своего невидимого собеседника, сказал, обращаясь К задержанным:
— Дружка вашего поймали. Теперь, кажется, всё... Если женщина выживет, твоё счастье, Денискин. Отделаешься пятнадцатью годами.
Денискин хрипло засмеялся.
— Выкручусь... Досрочно выпустят... Это я умею, как большой... — и, небрежно сплюнув, заржал.
Большие руки капитана, лежавшие на столе, сжались в кулаки, потом медленно разжались. Не поднимая глаз, он тихо сказал:
— Кончилось это время, Денискин. Придётся сидсчь сполна.
А за дверью плакала женщина. Серёжке хотелось не слышать отчаянных материнских рыданий, он зажал уши, но сквозь стены, сквозь плотно сжимавшие голову ладони, прорывался этот надсадный, мучительный, до боли знакомый крик:
— Что ты наделал, Серёженька?! Сыночек мой, что же ты наделал?!
Крик осёкся...
Капитан повернул голову к окну и прислушался. Из висевшего на улице репродуктора донёсся перезвон кремлёвских курантов. Голос диктора торжественно и сердечно провозгласил:
«С Новым годом, товарищи!»
ТРИ ПИСЬМА, ПРИШЕДШИЕ В ОДИН ДЕНЬ
сторию Серёжки я услышал несколько лет назад, когда всю эту компанию судили за участие в разбое и за покушение на убийство. Мне пришлось тогда защищать Серёжку, хотя, по правде говоря, страшно хотелось отлупить его прямо здесь же, при всём честном народе.
Но лупить, увы, не положено, зато положено было сказать о нём все возможные слова, которые могли бы облегчить его участь. Это тоже, кстати, одно из проявлений гуманизма, законное стремление обеспечить полную справедливость приговора: суд выслушивает не только плохое о подсудимом, не только то, что говорит о его вине, но и всё хорошее, всё, что может в глазах суда оправдать его или уменьшить грех, лежащий на его душе.
Мне как раз и предстояло сказать эти слова в защиту Серёжки.
Потом был приговор; Денискин и Пузан получили по пятнадцать лет на каждого, остальные ребята — поменьше, а Серёжке, как самому меньшому да притом случайно втянутому в преступление пареньку, оказали доверие: оставили его на свободе, определив ему три года условно.
Условно — это не прощение. Это доверие. Судьи как бы говорят человеку: на первый раз мы не будем карать тебя строго, поглядим, поймёшь ли ты, что случилось с тобой. Не поймёшь — не взыщи: к тому наказанию, что получишь за новое преступление, прибавятся и эти три условных года. Поймёшь — про них скоро забудут, ибо кто плохое помянет, тому, как известно, глаз вон. Смотри не подкачай — ты сам хозяин своей судьбы.
Хочешь знать, подкачал ли Серёжка? Я тоже захотел узнать об этом. И не только о Серёжке. Но прошло немало лет — следы «героев» того судебного процесса затерялись. Я написал много писем, стараясь снова напасть на их следы. На три письма пришёл ответ — там конец истории.
Вот они, эти письма, которые по случайному стечению обстоятельств я вынул из почтового ящика в один и тот же день.
«Вчера неожиданно получаю конверт, на котором чуть ли не двадцать разных штемпелей и печатей. Это, оказывается. Ваше письмо, которое гонялось за мной целый месяц из города в город и всё же догнало. Спасибо, что не забыли меня, хотя за это время таких, как я, было у вас, наверно, порядком.
Вы-спрашиваете про мою жизнь. Жизнь моя была, как сказка, да только сказку эту совсем неинтересно читать. Но раз вы просите, я попробую вкратце описать свои приключения.
Вышел я тогда из суда ошалелый от радости. Два дня голова кружилась, всё не верил, что обошлось. Мать ругается, отец говорит: «В школу иди». Да как же, думаю, в школу? Умру от стыда!.. Как ребятам к глаза посмотрю?!
Лягу в постель, закроюсь с головой — слёзы душат, просто сил нет никаких. На суде не плакал, а дома не могу сдержать себя. Кажется, лучше бы со всеми в колонию пошёл, работал бы с утра до ночи, пока не дали бы мне документ, что нет за мной больше вины. А тут — ни то ни сё, вроде и виновен и нет, раз можно снова в школу идти как ни в чём не бывало. Да ведь я-то знаю, что было...
Хотите ругайте, хотите нет, но в школу не пошёл, хоть ребята и звали и учительница была дома несколько раз. Ни с кем не говорил: запирался в ванной и не отвечал, сколько ни просили.
Потом стал думать, что дальше делать. В школу не хожу, на улицу мать не пускает. Получается какая-то самодельная тюрьма. С тоски помереть можно.
Стал проситься, чтобы меня отправили куда-нибудь. Мать сжалилась, послала к тётке в деревню. Устроился там работать в колхоз — как раз весна пришла, люди на поле нужны были. Все, конечно, интересовались: откуда? что? зачем? «Да так, — говорю, — воздух городской мне вреден. Оттого, мол, и приехал». — «Ишь ты, — отвечают, — какие нежности с эдаких-то лет». Но по-хорошему, без злобы.
Только-только привык, обживаться стал, с ребятами подружился, — происходит такой случай. Сидим на обеде в тенёчке, закусываем, бригадир наш дядя Миша газету вслух читает. И вот он доходит до статьи про то, как судили за воровство каких-то ребят. Чувствую, всё во мне дрожит, хлеб в горло не лезет, того и гляди, заплачу. Кончил дядя Миша читать, наступает тишина. И тут одна тётенька — самая хорошая и добрая из всех — говорит: «Я бы этих негвдяев своими руками всех передушила!»
И как посмотрит на меня!..
Может, конечно, она просто так посмотрела, случайно. Не скажу точно, не знаю. Но я опять покой потерял: узнали, думаю, про всё. Теперь в каждом слове стал чудиться упрёк, в каждом взгляде — осуждение.
Ну, и пошло. Удрал к дяде, в город Тамбов. На работу не берут — мал, в школу идти боюсь — начнут расспрашивать, почему год пропустил, документы из старой школы затребуют, все узнают.
Словом, мотался от тёти к дяде, пока не вышел срок получать паспорт. Дали его без всяких разговоров, и тут я осмелел, решил поступать на работу — хоть бы сначала и учеником.
Иду на завод, в отдел кадров. «Валяй, — говорят, — ребята нужны». И дают анкету заполнить. А в анкете вопрос: судились ли, за что, когда? Сердце — в пятки. Бочком пробираюсь к двери и бегом...
В тот вечер мы с дядей обо всём поговорили (я уже совсем у другого дяди жил — в Белоруссии). Он мне говорит: «Скажи всю правду, ничего не бойся. Будь, мол, что будет. Думаю, — говорит, — хорошо будет. Так или иначе, а правда всегда лучше обмана. Камень с души свалится, когда правду скажешь. Давай, мол, не бойся».
Рискнул. Отнёс анкету «со всей правдой» — смотрю, что будет.
«Зайди, — говорят, — завтра».
А завтра такой ответ: места все заняты. Раньше, значит, были, а больше нет. Это мне говорит один парень из отдела кадров. Над его столом привинчена табличка: «Старший инспектор». И он всё время этой табличкой любуется, а на меня даже не смогрпт. Дураку ясно, что места есть, да только не для меня.
«Вот, — говорю дома, — чго значит правда».
Дядя как стукнет по сголу: «Много ты, — говорит, — понимаешь, сосунок, не марай, — говорит, — слово, люди за правду на смерть шли, ясно?»
И утром пошёл в райком партии. И всё уладилось. Нет, оказывается, такого закона, чтобы судимым не давать работу. А инспектора того скоро сняли. Не знаю за что, но сняли.
Поставили меня учеником слесаря. Не буду рассказывать, что за работа. Сами, наверно, знаете. Трудно было, но интересно. Я всё смотрел, не косится ли кто. Да нет, никто и внимания не обращал.
Мне подумалось сначала, что просто никто про меня ничего не знает, но однажды подходит мастер и говорит: «Кончай бездельничать, учиться надо».
Я что-то там бормочу, а он мне в ответ: «Во-первых, я терпеть не могу недоучек, во-вторых, для чего тебе дали сокращённый рабочий день, а в-третьих, уж не хочешь ли ты в свободное время заниматься старыми делами?»
Всё мне ясно стало, но я на него не обиделся. Ни в чём он меня не упрекал, относился, как отец родной.
И верно, думаю, что время зря терять? Его у меня было хоть лопатами греби. Работал по шесть часов, как все несовершеннолетние, а платили за полный рабочий день. Отпуск полагался — тридцать дней в году, и только летом. Это нам, ребятам, привилегия по закону. Всегда, если надо, в школу отпускали, даже график специально для нас меняли, чтобы удобнее было учиться. А если какой начальник возразит, сразу приходят из профсоюзного комитета, кричат: вы что, законов не знаете?
Разве один я был такой?! Ползавода училось. И взрослые и ребята.
Пошёл в школу, опять в восьмой класс, из которого меня забрали. Подзабыл многое, но ничего — помогли мне.
А тут ещё разряд получил, работа стала интереснее. Про старое стал совсем забывать. Если и вспомню, так словно это не со мной было, а с кем-то другим, про которого я прочитал в книжке.
Да только пришлось вспомнить ещё раз по-настоящему. Подходит снова наш мастер и говорит: «Если в комсомол надумаешь вступать, я тебе Дам рекомендацию». Я, конечно, с удовольствием, да вот примут ли? «Давай, — говорит мастер, — выкладывай на собрании всю правду, тогда и примут».
Ну, я послушался, рассказал, как было дело. Одни кричат: «Знаем, знаем», другие: «Вот это да! Хвост какой за Серёгой, оказывается... Кто бы мог подумать!..»
Кричали и спорили чуть ли не час. Вопросов было — не успевал отвечать. Да как я мог? Да зачем? Да что я тогда думал? Да что теперь думаю?
Всё рассказал по правде, ничего не утаил. Решил тогда: будь что будет.
Приняли, конечно...
А недавно перешёл работать на железную дорогу. Жаль было с ребятами расставаться.
Но захотелось поездить по белу свету. Нынче — здесь, завтра — там. Интересно!
Недавно мать приезжала в гости, праздник у меня проводила. Смотрит на меня, слёзы капают, говорит:
«Что ж это, сынок, праздник, а ты дома сидишь. Сходил бы в компанию, погулял...»
Вот как говорить стала! Видно, времени действительно прошло немало...
Так и идёт жизнь. Я доволен. А про других ребят по нашему делу мне ничего пе известно.
Извините, если что не так написал.
С комсомольским приветом
Сергей».
«Здравствуйте, уважаемый гражданин!
Это я, Клоков Борис Васильевич, которому Вы писали письмо. Добрый день!
Гражданин защитник, письма от Вас я не ожидал, но если Вам интересно знать про меня, я не возражаю. Отвечаю на Ваши вопросы.
Я просидел в колонии не весь срок, а только половину. Освободили досрочно за хорошую работу. Сначала не хотели отпускать, потому что я не учился и имел нарушения, а потом всё-таки отпустили.
Конечно, меня предупредили, что это только условное освобождение. Сказали, что остальной срок прибавят, если поймают снова. Я это, конечно, пропустил мимо ушей, так как больше попадаться не собирался. Если Вы помните дело, то знаете, что я особенно ни в чём не виноват. Меня тогда несправедливо осудили. Я жаловался, но всё было бесполезно.
Когда меня отпускали, то сказали: не попадайся. Что я — дурак, чтобы попадаться? Говорю: я и тогда ни в чём не был виноват, чего мне теперь бояться? Мне ответили: ладно, как знаешь, наше дело предупредить.
Когда приехал домой, решил сначала отдохнуть. Имею, кажется, право. Ходил в кино, на вечера в Дом культуры, с ребятами в парке гулял — всё было честь по чести.
Только собрался устраиваться на работу, меня опять забирают и дают срок. И опять про старое вспоминают. А я опять ни в чём не виноват. Просто ребята попросили спрятать какие-то вещи: положи, говорят, их под кровать или ещё куда на день-другой. Ну, я и взял: что мне, жалко?
Посмотрел, конечно, что за вещи. Ну, были там платья, кофточки разные, ещё что-то — сейчас уже не помню. Я спросил потом ребят: откуда взяли? Да так, говорят, гостили в одной квартире.
Когда судили второй раз, судья меня попрекал: разве не знал, что вещи украденные? Так ведь мне-то какое дело: не я же воровал.
А меня ни за что опять посадили. Несправедливо, по-моему.
Если можно, похлопочите, чтобы меня отпустили. Сижу зря, кругом невинный.
Борис Клоков — Каланча».
«На Ваш запрос сообщаем, что гражданин Денискин Пётр Иванович, отбывая наказание за разбой и покушение на убийство, совершил побег из места заключения и, следуя по железной дороге, совершил новое тягчайшее преступление: убийство с целью грабежа. Суд, рассматривавший дело в связи с новым преступлением Денискина, приговорил его к высшей мере наказания — расстрелу. Ходатайство Денискина о помиловании было отклонено Президиумом Верховного Совета СССР, так как Денискин неоднократно судился и, упорно не желая исправляться, встал на путь совершения злодейских преступлений. Даже из ходатайства о помиловании было видно, что он нисколько не понял всей меры своей вины.
Приговор приведён в исполнение.
Председатель областного суда П. Караваев».
ЧЕЛОВЕКА ОБИДЕЛИ
Передо мной — журнал сорокалетней давности. На пожелтевшей странице еле различимый, стёршийся список — длинный стол, крытый сукном, за столом — трое мужчин внимательно слушают четвёртого, худенького, маленького человека неопределённого возраста в огромных, пол-лица закрывающих, очках. Позади, где-то в глубине комнаты, виднеется ещё несколько лиц.
Снимок сопровождает короткая пояснительная заметка — её нельзя читать без улыбки.
Оказывается, этот человек в очках и те, чго еле видны па плохом снимке, — соседи. Они живут в одной общей, коммунальной, квартире. Живут не дружно, но и не так уж враждебно: не дерутся, не ругаются.
И всё же — что-то ведь привело их всех в суд? Какую печальную повесть выслушивают те трое судей, что сидят за длинным столом?
Вся повесть умещается в двух строчках: жильцы упорно именовали своего тощего соседа не иначе как «очкариком». И, сколько он ни просил их, не отказывались от этой привычки. Им нравилось дразнить его.
Тогда он привёл их в суд.
Ты посмеялся над этой забавной историей? Я тоже. Ну, а теперь довольно смеяться, давай говорить всерьёз.
Конечно, окажись кто-нибудь из нас на месте того человека, мы поступили бы иначе. Мы не приняли бы близко к сердцу эту довольно невинную, хотя и глупую шутку, может, даже нашли бы силы посмеяться над самим собой. Ведь, наверно, и впрямь это выглядело комично: огромные очки на маленьком лице. И человек с чувством юмора должен был бы сам это заметить. Вообще, это великое дело — уметь подметить в себе смешное и не бояться самому поиронизировать на этот счёт.
Но, во-первых, не у всех есть чувство юмора. А во-вторых, вспомни, какое было время. Совсем недавно свершилась революция, и «простой», «маленький» человек впервые почувствовал себя Человеком с большой буквы.
Совсем недавно любой «аристократ» мог именовать его, как заблагорассудится, мог придумать для него любую оскорбительную кличку.
Теперь он, этот «маленький» человек, осознал своё достоинство, ощутил свою гордость, почувствовал высокий смысл в таких простых, обычных вещах, как уважительность в обращении, как право иметь имя, отчество, фамилию.
И поэтому даже такую невинную кличку — «очкарик» — он считал оскорблением. И был прав. И судьи поняли его — они приговорили оскорбителей к денежному штрафу.
Сейчас вряд ли кто обидится на такую кличку. Он просто подумает: «Неужели не мог сочинить что-нибудь поумнее?» Б крайнем случае вмешается общественность и разъяснит, как должны обращаться друг к другу порядочные люди.
Но вот совсем недавний случай. В суд пришла женщина, потребовавшая сурово наказать соседку за нанесённое ей тягчайшее оскорбление.
Какое же оскорбление? Обидчица в присутствии многих людей назвала её бездельницей, лентяйкой, отлынивающей
от работы. А такую обиду человек стерпеть не может. И «бездельница» пришла в суд.
Хороша бездельница!.. Суд установил, что она — труженица, добросовестная работница, отмеченная много раз почётными грамотами. Но вот она заболела, и ей пришлось на два месяца оставить работу, чтобы поправить своё здоровье.
Для человека труда нет сильнее оскорбления, чем слыть лентяем.
Суд понял, какую жгучую обиду нанесла этой женщине склочница, и наказал её.
А как же иначе?! Ведь была попрана честь человека.
Честь... Достоинство... Это не пустые слова. «Личное достоинство каждого гражданина охраняется обществом», — сказано в Программе КПСС, включившей требование уважать человека в моральный кодекс строителя коммунизма.
Уважать человека — это так же естественно, как дышать.
А вот иные дышать дышат, а человека не уважают. И даже не могут понять, что это значит.
Всё же есть одна «малость», которую можно требовать — понимаешь, требовать! — от каждого.
Вот эта «малость»: не обижать другого, бережно относиться к его мнениям, чувствам, привычкам, не лезть к нему в душу своими холодными перстами. «Не делай другому то, что ты не хотел бы, чтобы он сделал тебе», — учит древняя народная мудрость, вполне сохранившая своё значение и для наших дней. Можно привести и другую: «Имей стыд перед самим собой, и тебе не придётся краснеть перед другими». Точно и здорово сказано!
Эти мудрости усвоены всеми — за самым маленьким исключением. Те же, кто входят в это «исключение», ощущают на себе карающую руку закона — он строг, он суров, когда дело касается посягательства на человеческую личность.
Быть может, случалось тебе встречаться со сплетником? Не случалось? Счастливый человек... А мне вот пришлось: я учился тогда в шестом классе.
К нам пришёл новенький. Мы вернулись в школу после зимних каникул и застали его в пустом классе: ещё за полчаса до звонка он уже сидел на первой парте — розовый, пухлый, голубоглазый, с милой лучезарной улыбкой. «Алик! — отрекомендовался он, вежливо приподнимаясь. — Очень приятно, будем знакомы».
Через несколько дней мы узнали, как приятно ему было с нами познакомиться.
Вызывают одного из наших ребят — Колю Соловьёва — к директору.
Говорят — захвати с собой портфель. Не очень-то приятно, когда вот так, за здорово живёшь, директор вызывает прямо с портфелем. Начинаешь соображать, за что это тебя собираются выгонять из школы. И если даже не чувствуешь за собой никакой вины, всё равно страшновато: почему именно тебя? Почему с портфелем?
В кабинете директор говорит:
— Ну-ка, открой портфель. Покажи свою новую авторучку.
А тогда, надо сказать, авторучки были редкостью — не то
что сейчас. И, хотя в школе писать ими не разрешали, каждый, у кого они были, не мог удержаться от соблазна похвастаться такой драгоценностью перед приятелями. В тот день Коля как раз показывал нам авторучку — ему подарил её дядя, вернувшийся из дальней командировки.
И — надо же! — в тот самый день пропала авторучка у другого шестиклассника, из параллельного класса.
Директор спрашивает:
— Скажи правду: у кого ты взял ручку?..
Пришлось вызывать в школу Колиного дядю, чтобы он объяснил «происхождение» ручки. А потом мы узнали, что это Алик кому-то шепнул, что вот, мол, у одного ручка пропала, а у другого в тот же день появилась. И для вящей убедительности поклялся, что сам видел, как Коля её утащил.
Ребята хотели тогда устроить Алику «тёмную». Я был против, и меня послушались. Ах, как я жалею, что был против...
Он пе мог не посплетничать. То наябедничает, будто Лена Бурлацкая списала сочинение, то вдруг на уроке поднимет руку и объявит, что у Игоря Ульянова в кармане шпаргалка, то сочинит сказку о том, как Сева Левченко симулирует воспаление лёгких...
Потом я перешёл в другую школу и потерял нашего кляузника из виду. Но не такой он был человек, чтобы дать себя забыть.
Прошло много лет. Я стал студентом юридического факультета и, кажется, па четвёртом курсе проходил практику в суде. Перебирая старые дела, я наткнулся на одно, с обложки которого меня хлестнула по глазам знакомая фамилия.
Не может быть!..
Но почему — не может? Он! Он самый! Достукался...
Летом вместе с другими студентами Алик помогал колхозникам убирать урожай и ни за что пи про что объявил па каком-то собрании, что бригадир ворует овощи с колхозного огорода. Бригадир потребовал проверки.
Клеветника отдали под суд, и наш голубоглазый Алик укатил под конвоем в места не столь отдалённые, чтобы там поразмыслить над тем, как жить дальше. Клевета не прощается. Оскорбление — тоже.
Бранное слово, ранящее человека, оскорбительная кличка, сплетня, подлый слушок, клевета — как всё это недостойно человека, чуждо нашей морали. Человек живёт не один — он живёт в обществе других людей, тех, кого мы зовём братьями, товарищами, друзьями.
Одно доброе слово — и человек становится способным на чудеса.
Одно злое, оскорбительное слово, один жест невнимания, неуважения — и на душе остаётся горький осадок, и сердце щемит от обиды.
Не обижай человека! Не обижай — это бессовестно. И не только бессовестно — преступно!
Тот, кто сознательно оскорбил человека, кто оклеветал его, облыжно обвинив в заведомо не существующих грехах, может быть сурово наказан.
Но и тот, кто сделал то же самое без злого умысла, пусть даже искренне веря в правдивость своих «разоблачений», не может спать спокойно, если всё это было неправдой, если он напрасно обидел человека.
Есть разные способы защитить справедливость — способы, установленные законом. Можно заставить публично извиниться, публично признать свою ошибку. Можно потребовать объявить во всеуслышание и даже напечатать в газете, что обвинения против такого-то человека оказались ложными, что он ни в чём не виновен. Тем самым в глазах товарищей, знакомых, в глазах всего общества восстанавливается честь человека, его доброе имя.
Не так давно в зарубежном журнале мне попалось изложение одного судебного дела. Там тоже шла речь про обиду: один домовладелец, сильно недолюбливавший другого и мечтавший ему насолить, приобрёл собаку, которую назвал именем своего «врага».
Поскольку жили они по соседству, несчастный тёзка собаки то и дело слышал своё имя в сочетании с разными бранными словами: это хозяин собаки, занимаясь дрессировкой, столь оригинальным способом оскорблял человека.
И нет ничего удивительного в том, что оскорблённый отправился в суд.
Как ты думаешь, о чём же он просил, чего он добивался, обивая судебные пороги?
Нет, не только наказания для обидчика, не только того, чтобы собаке дали другую кличку. Не только и не столько. Он требовал ещё в свою пользу кругленькую сумму, такую кругленькую, что ахнули даже видавшие виды чиновники в чёрных мантиях.
Оказывается, этих денег как раз и стоила та самая обида, которую нанёс жалобщику хозяин злополучной собаки.
Пожалуйста, не спрашивай меня, как коего господина У. в том, что тот будто бы обокрал господина Z. На господина У. это подействовало так сильно, что он заболел. А поправившись, сумел доказать свою невиновность.
И чего же он теперь добивался? Не только того, чтобы господин X. возместил ему расходы на лечение (это было бы справедливо). Он добивался куда большего: огромной суммы, в которую он оценил своё «потрясение от оскорбления» и печаль многочисленных родственников, оплакивавших его внезапную болезнь.
Право, так и хочется спросить: почём нынче слезинка, господа?..
У нас нет прейскуранта обиды, меню горя и слёз. Мы защищаем честь не деньгами, а всей силой закона, всей силой общественного мнения, защищаем любыми мерами, достойными человека. Защищаем даже тогда, когда тот, кто ранил душу другого, преследовал добрые цели. Потому что вовсе не «все средства хороши», как утверждает старая поговорка. Хороши только хорошие средства — извини за дурной каламбур, но иначе не скажешь.
Ты слышал, наверно, такое словечко — «стиляги». Так называли и называют духовно бедных, пустых людей, всё внимание которых сосредоточено на сверхмодной одежде, сверхмодной внешности, сверхмодных манерах. Собственно, ничего действительно модного у них нет: ведь мода — это прежде всего вкус, изящество, скромность, простота. А наши доморощенные стиляги в своих попугайских одеждах представляют собой скорее карикатуру на моду и вызывают больше жалость и улыбку, чем гнев.
Но всё это, конечно, не значит, что с таким кривляньем,
легкомыслием, дурным вкусом её надо бороться. Надо! Но как?
Некоторые молодые дружинники избрали такой способ. Чуть увидят на ком-нибудь брюки, по их мнению, слишком узкие или слишком короткие, сейчас же бегут к нему с ножницами в руках и режут эти брюки вольным способом: кто — вдоль, кто — поперёк. Или так: не понравится им чья-нибудь крикливая причёска, опять хватаются за ножницы. Раз-два — и шевелюра «стиляги» теряет несколько кокетливых прядей.
Об этой манере слишком ретивых блюстителей нравственности узнала общественность. Знаешь, какой поднялся шум!.. Газеты выступили с возмущёнными статьями. В некоторых городах прошли общественные суды над владельцами бойких ножниц. С иных сняли повязки дружинников. Пострадавшим были принесены извинения.
И всё это при том, что никто не собирался защищать «стиляжничество» и что все разделяли те чувства, которые волновали провинившихся дружинников. Но каждый понимал, что эти ножницы не воспитывали, не разъясняли, не помогали формированию хорошего вкуса, а лишь унижали достоинство людей. И, значит, их вмешательство в борьбу за моду, в борьбу за мораль было незаконным. А всё незаконное так и остаётся незаконным, в какие бы одежды оно ни рядилось.
МНЕ НРАВИТСЯ ЭТО СЛОВО...
ак-то мне рассказали забавную историю, случившуюся в одном учреждении. Там работал молодой экономист, недавний выпускник университета. И вог через два года, после того как его направили на работу в это учреждение, произошёл скандал.
Совсем не потому, что он плохо относился к своим служебным обязанностям.
Некоторые считали его работу скучной: всё цифры, ведомости, планы... Он гак не считал. И когда настала пора идти в отпуск, — отказался. Он сказал:
— В отпуске люди отдыхают. А я ещё не устал. Вот устану, тогда и пойду.
Это показалось разумным. Да и в самом деле: человек, что называется, дорвался до самостоятельной работы. Пусть потрудится, если нравится. Молодой ещё, может, и правда не уморился.
Прошёл год, и повторилось то же самое. На счету у нашего экономиста уже двухмесячный отпуск, а он всё не хочет отдыхать.
— Не устал, — объясняет он, — ну, что поделать, если не устал?.. Подождите ещё годик, тогда я укачу куда-нибудь в Крым сразу на три месяца и отдохну вволю.
— Нет, брат, — говорят товарищи из профсоюза, — ничего из этого не выйдет. Придётся отдыхать сейчас.
Экономист возмутился:
— Как это так — придётся? А я, может быть, не хочу. И, в конце концов, отдых — это что: право или обязанность?
Товарищи ему объясняют:
— И право и обязанность. Вообще, смотря для кого. Для тебя, например, обязанность, раз ты такой несознательный.
— Да не всё ли равно, — горячится экономист, — как отдыхать: по месяцу в году или три месяца подряд через каждые три года.
— А ты сообрази, — отвечают, — не всё ли равно: обедать каждый день или съедать по семь обедов сразу каждое воскресенье?
Это всё — быль, не шутка. И случай — не единственный. Члены профсоюзных комитетов, специальные инспекторы
по охране труда следят за тем, чтобы точно соблюдать законы, ограждающие человека от непосильных нагрузок, законы, которые так организуют его работу, чтобы она не шла ему во вред.
Ведь здоровье «принадлежит» не каждому в отдельности, оно, по словам Ленина, — «казённое имущество», а такое богатство полагается беречь.
Так право на отдых оказывается и обязанностью — обязанностью беречь себя, ибо хищническое, расточительное использование своих сил, здоровья, возможностей приносит вред не только самому человеку, но и всему обществу.
Сказать по правде, заставлять отдыхать приходится куда реже, чем заставлять работать, хотя труд — тоже не только право, но и обязанность всякого человека. Это прямо записано в Конституции — основном законе страны.
Вспоминаю свой разговор с одним парнем. Этот парень жаловался на несправедливость. Ему предъявили неслыханные требования — потребовали, чтобы он устроился на работу. Иначе, сказали ему, не взыщи: примем меры.
Он спросил меня:
— Разве я не свободный человек?
— Свободный, — говорю. — Совершенно свободный.
— Значит, я могу не хотеть работать?
— Можешь, — отвечаю. — Можешь хотеть, а можешь и не хотеть.
— Разве можно заставить меня хотеть то, чего я не хочу?
— Нельзя, — говорю. — Очень сожалею, но нельзя.
— Ну, так как же?
— А. ты, — говорю, — не хоти, а работай. Раз не можешь полюбить труд — самое интересное и важное, что есть в жизни, — придётся работать нехотя. Заставить хотеть нельзя, заставить работать можно. Потому что есть закон. И его тебе придётся исполнять, хочешь или не хочешь. Может, когда-нибудь и поймёшь, чго плевать в потолок, конечно, легче, чем работать, но работать всё-таки интереснее.
Парень ушёл, не попрощавшись. К соглашению, как говорится, мы тогда не пришли. Потом его как бездельника выдворили из Москвы, и волей-неволей ему пришлось взять в руки то ли лопату, то ли вилы. Не знаю, что уж там произошло, но, говорят, он недавно получил медаль за образцовую работу. Всякое случается... Кое-кто, надо сказать, не вполне правильно понимает наши законы на этот счёт. Нигде не записано, кому положено врачевать, кому шить костюмы, кому писать стихи.
Выбирай ту работу, которая нравится, ту, к которой способен, добивайся своей цели — пожалуйста.
Но совсем не работать нельзя.
Ибо кто не работает, тот не ест. И это не просто прекрасная фраза, афоризм, вместивший в бесхитростную формулу вековую народную мудрость. Нет, это цитата из закона — из Конституции, которая обязательна к исполнению и для тебя, и для меня, и вообще для каждого.
Ты скажешь: так ведь есть же такие — не работают, а едят.
Я отвечу: есть. Немного, но есть. Вот они-то и грезят о «свободе» ничегонеделанья. В трудовом обществе нет такой свободы. Что поделаешь — нет...
Если человек сам не трудится, никаких ценностей не создаёт, а живёт в полном достатке, то это значит, что он живёт за счёт труда других, он обкрадывает тех, кто трудится. А быть обворованным не так уж приятно, и люди труда не желают такого вора считать своим товарищем и кормить его задарма.
Кто скажет, что их требование несправедливо?
Я знавал одного бездельника, который ушёл из школы, поскольку ему надоело выслушивать упрёки за двойки: так он объяснял потом свой уход.
На работу он, конечно, тоже не устроился — понимал, что и там не обойтись без упрёков: недаром его любимой поговоркой была идиотская «шутка» тунеядцев — о том, что-де работа дураков любит. Наш герой к дуракам себя, разумеется, не причислял.
В его жизни мало что изменилось. Он ел то же самое, что раньше, одевался так же, как раньше, развлекался так же, как раньше. И при всём при том не знал никаких хлопот.
Нельзя сказать, чтобы он стал преступником: он не грабил, не мошенничал, даже не стоял на бойком углу с протянутой рукой. Он добывал деньги для своей «сладкой жизни», казалось бы, честным путём: от чрезмерно любвеобильных паны и мамы. Всё-то им казалось, что сынок их бедненький, слабенький, нервный. Зачем раздражать его, зачем от него что-то требовать? Как бы он не рассердился, не заболел!..
Проходит год, другой, сынку уже перевалило за восемнадцать, а он всё никак не может определиться. Да и зачем определяться? Живёт на всём готовом, в деньгах отказа нет.
Вызывают усатого «мальчика» в милицию, интересуются, сколько ещё собирается сидеть на родительской шее. Ему бы извиниться или хоть покраснеть... А он только огрызается:
— Да вам-то какое дело?! Как хочу, так и живу. Не преступник, кажется...
...Мы познакомились с ним в суде.
Как было сказано в судебной повестке, рассматривалось «дело о паразитическом образе жизни гражданина Кривен-
ко М. А.». Гражданином Кривенко М. А.
как раз и оказался наш незадачливый герой. На какой-то момент мне даже стало его жалко: он никак не мог понять, чего от него хотят.
Ему говорили:
— Есть закон, по которому все обязаны трудиться.
А он отвечал:
— Ну, и что?..
Ему говорили:
— Вас предупреждали трижды о том, что вы должны устроиться на работу и жить на свои трудовые деньги.
А он отвечал:
— Ну, и что?..
Ему говорили:
— Вы здоровый, молодой человек — и бездельничаете.
А он отвечал:
— Ну, и что?..
Ну, и что? Да ничего: будет работать. Потому что несколько лет назад принят закон, специально касающийся таких вот прожигателей жизни.
Те, кто уклоняется от общественно полезного труда, ведут праздный образ жизни — словом, все те, кого в народе метко называют тунеядцами, могут быть выселены на несколько лет в определённые районы страны. Там они обязаны трудиться. Не будут трудиться — примут к ним меры покруче.
Надо прямо сказать, тунеядцев выселяют не в Сочи и не в Ялту. Есть у нас в стране места посуровей, поглуше, без пальм и магнолий, без газа и теплоцентралей. Именно там бездельники, не пожелавшие честно работать в родном городе, приобщаются к труду, к тем азам человеческого существования, которые доступны любому, но которые они сами не смогли — не захотели! — понять.
И это — не борьба с тунеядцами, это борьба за них, за то, чтобы у них открылись глаза и они увидели бы истинную красоту мира, чтобы стали они достойны общества, в котором живут, и того прекрасного слова, с которым обращаются друг к другу во всём мире люди труда — слова «товарищ».
Этот закон применяется всё реже и реже. Не потому, что ослабла борьба с бездельем и праздностью, а потому, что поубавилось тунеядцев. Люди становятся всё сознательнее, всё культурнее — понимают, что без труда невозможно жить. Да и закон сыграл свою роль. Немалую роль!
Закон не случайно так решительно борется с бездельем. Ведь оно тесно связано с другим злом, от Которого тоже пора решительно избавляться.
Чтобы было яснее, о каком зле идёт речь, расскажу про одну встречу, которая была у меня в городе Ростове.
Я ездил туда в командировку и побывал в нескольких школах. Мы долго говорили с ребятами о том, что я собирался писать в этой книге.
Кое о чём даже поспорили. Но это не мешает — ведь в споре, как известно, рождается истина.
И вот после одной из таких встреч ко мне подошла девочка, которая весь вечер молча сидела в углу.
— Можно поговорить с вами? — попросила она. — Только с вами. Без свидетелей...
Она о многом хотела рассказать, эта славная девочка, по имени Таня. Тяжёлый камень лежал на её душе.
У Тани — папа и мама, два брата и сестрёнка. Есть ещё бабушка — папина мама и дедушка — мамин папа. И тётя кажется, папина сестра.
Эта большая дружная семьи живёт под одной крышей:
недавно они построили большущий двухэтажный дом и разместились в его многочисленных комнатах.
Семья Тани пользуется всеми благами современной техники — от телевизора до электрополотёра, от холодильника до стиральной машины.
Они любят красиво одеваться. Каждый месяц почтальон приносит в дом журналы мод, изданные в Москве и Ленинграде, Таллине и Риге, Праге и Софии, и лучшие модели воплощаются затем в костюмы и платья, которые делают ещё красивее и без того красивых членов этой семьи. Первоклассные портные и портнихи сбиваются с ног, чтобы отлично выполнить заказы столь солидных клиентов.
Любимое занятие семьи — автопрогулки. Из гаража, что воздвигнут напротив особняка, выкатывает голубая «Волга», и, немного поспорив о том, кому где сидеть, взрослые и дети отправляются на свежий воздух.
Тебе это нравится? Мне тоже. Да и какому чудаку не понравилось бы так жить?! И Тане, между прочим, это нравилось не меньше, чем нам с тобой. Она с радостью переезжала в новый дом, с радостью надевала новые платья, смотрела телепередачи, каталась на «Волге».
Но она была разумным человеком и не могла не задать себе очень простой и очень важный вопрос, уместившийся всего в одно слово: откуда?
Дело в том, что ни дома, ни машины, ни телевизоры, как это, быть может, ни печально, пока ещё не раздают «за так». Всё это стоит денег, и денег немалых. Чтобы приобрести ценные вещи, люди подчас работают годами, откладывая потихоньку свои трудовые рубли и ожидая, пока наберётся нужная сумма.
Впрочем, что я тебе разъясняю эти азбучные истины? Ты ведь и без меня знаешь, что и как достаётся честно работающим людям.
Таня тоже знала это.
Она была в ладах с арифметикой. И однажды, уединившись в своей комнате, она с карандашиком в руке произвела несложные подсчёты.
Из девяти человек (а именно столько было в Таниной семье) работал один папа. Будем говорить прямо: если на плечах у одного работяги восемь едоков — это тяжёлая ноша даже для того, кто зарабатывает сотни.
Но Танин папа не зарабатывал сотни. Он был продавцом газированной воды.
Стоп! Нужно маленькое разъяснение.
Уж не подумал ли ты, прочтя эти слова, что я хочу неуважительно отозваться о всех продавцах или хотя бы только о тех, что утоляют нашу жажду в знойный солнечный день?
Не надо так думать! Каждая профессия почётна, каждый труд заслуживает уважения — без продавцов страна так же не может прожить, как и без инженеров.
Но сегодня ещё нет полного экономического равенства — того, что будет при коммунизме. Два человека работают, скажем, по семь часов, а получают за это по-разному. Почему?
Да потому, что одинаковый по времени их труд дал разные результаты. За те же семь часов рабочий-многостаночник перевыполнил норму и добился большой экономии государственных средств, шахтёр подарил стране тонны угля, учёный сделал важный шаг на пути к открытию, которое укрепит техническое могущество нашей родины. Вклад же иного работника может быгь более скромным. И вознаграждение его будет соответственно меньшим.
Итак, Танин пана занимался вполне почётной работой, но оплачивалась она — скажем откровенно — не очень высоко.
Так откуда же, откуда появилась у него возможность вести жизнь, недоступную для многих и многих его сограждан ?
Вот что тревожило Таню, и вот о чём ей хотелось поговорить со мной наедине.
Было не так уж трудно догадаться, откуда взялись те таинственные капиталы.
Таня тоже понимала это без моей подсказки. Её интересовало другое: как ей поступить? Она была не только разумным, но и честным человеком, и пользоваться ворованным ей стало невмоготу.
Нет, я не посоветовал ей бежать доносить на своего папу — по-моему, это безнравственно, нечеловечно. Хапугу помогут разоблачить и другие. Мы не так уж бедны, чтобы заставлять дочерей следить за своими отцами.
Но молчать, когда на их глазах творится беззаконие?! Нет, молчать они не должны.
Я так и сказал Тане: «Прояви смелость, твёрдость, решительность. Скажи отцу прямо, что ты всё понимаешь и что жить на нечестные деньги ты не будешь. И, если даже тебе придётся уйти из дому, — не бойся. В беде тебя не оставят. И жизнь свою ты начнёшь честно. А это — важнее всего».
Таня не смогла воспользоваться моим советом. Хотела, но не смогла. Оказалось, что к этому времени в прокуратуре уже начали присматриваться к новоявленному «капиталисту» и в один прекрасный день попросили его сообщить, откуда он берёт деньги для такой роскошной жизни.
Выражение «деньги не пахнут» естественно родилось в обществе, где богатство является главным и единственным мерилом человеческого достоинства, определяющим место человека среди других людей. Это то общество, для которого характерна такая картина, нарисованная Карлом Марксом: «Пусть я... хромой, но деньги представляют мне 24 ноги и я уже не хромой; я дурной, нечестный, бессовестный, тупой че-
ловек, но деньги в почёте — значит, благ и их владелец... Деньги, кроме того, освобождают меня от труда быть нечестным, предполагается, что я — честен».
Честен не потому, что нажил деньги честным путём, — это как раз никого не интересует. Происхождение капитала — твоё личное дело.
Наоборот, чем мутнее источники обогащения, тем лучше: значит, ты человек «с инициативой», со смекалкой, позволившей тебе облапошить ближнего. Браво тебе, умница, молодец!..
Оттого-то деньги и «не пахнут»: неважно, как они достались, лишь бы достались. «Блажен, кто имеет», — говорили ещё древние римляне.
Мы тоже за тех, кто имеет. Нам интересно лишь — откуда имеет? Что имеет? И почему?
На эти вопросы Танин папа ответить не мог. Его деньги дурно пахли, и никто не захотел считать его честным человеком только потому, что он их имел.
Следствие собрало неопровержимые доказательства того, что скромный продавец газированной воды изо дня в день обкрадывал государство и нас с тобой. Он не только разбавлял сироп. И не только уменьшал вдвое его порцию на стакан. И не только завышал цену. И не только прикарманивал сдачу. Даже газ — эти самые пузырьки, которые делают воду такой приятной на вкус, — он превратил в барыш. Ибо газ тоже стоит денег. И чем меньше пузырьков в стакане, тем больше копеек в кармане хапуги.
Припёртый к стене, Танин папа сознался в своём преступлении. Пришлось ему понести суровое наказание. А заодно и расстаться со своей виллой...
Скажи, ты понял, какая связь между этой историей и тем, о чём шла речь в начале главы? Там говорилось о людях, вообще по работающих, о праздношатающихся лоботрясах. Но ведь Танин папа работал!..
Когда я говорил о работе, то имел в виду честный, добросовестный труд — с полной отдачей всего себя делу, которому служишь.
От каждого по способностям, — написано на знамени нашего общества. Только такой труд заслуживает уважения и признательности.
А человек, заражённый ядом приобретательства, может принести немало зла и себе и другим.
Себе — потому что для него тускнеют все краски мира, потому что он перестаёт идти в ногу со временем, потому что живёт он в вечном страхе: а вдруг не достанется? А вдруг не получится? Вдруг отнимут?
Другим — потому что он один жаждет владеть тем, что принадлежит многим, потому что в своём стремлении «преуспеть» он идёт на сделки с совестью и охотно пускается на обман и прочие мерзости ради собственного обогащения. И, хотя не всегда эта алчность приводит к преступлению, она чаще всего выбирает нечестные, незаконные пути.
Ты слышал, конечно, такое словосочетание: «частная собственность»? И такое: «личная собственность»?
Думаешь, разница только в словах?
Между ними — множество различий, и, захоти я рассказать об этом подробно, пришлось бы писать новую книгу. Но кое о чём всё же нельзя умолчать и в этой.
Для «частника» его собственность — источник обогащения. Он может пускать её в «дело» — что-то покупать, потом с выгодой перепродавать, бросаться в разные аферы и махинации, извлекать проценты, барыши.
Мы уничтожили такую собственность — она перестала у нас существовать вместе с исчезновением эксплуататорских классов — тех, что росли на этой самой собственности, как на дрожжах.
А личная собственность, которую наш закон укрепляет и бережёт, — это нечто совсем другое. Это то, что рождено личным трудом и служит удовлетворению личных потребностей человека: мебель, одежда, обувь и много-много иных , вещей и предметов, необходимых в быту, облегчающих и украшающих жизнь, — словом, то, что является естественным результатом честного труда на благо всего общества.
За этот труд, умножающий народное богатство, общество и выделяет часть средств на личные нужды каждого члена коллектива.
Но — на личные нужды, а не на то, чтобы делать бизнес.
Для большей ясности давай разберём один подлинный случай, которым мне пришлось заниматься не так давно.
Случай этот произошёл в Москве, в одном из крупных столичных институтов. Среди других студентов там училась и Светлана Л., девушка из города Ставрополя, что на Северном Кавказе.
Относились к ней очень хорошо: была она способной студенткой, отзывчивым человеком, весёлым и верным товарищем.
А после того как случилось у неё большое горе — умерла мать (Светлана потеряла отца во время войны), стали относиться ещё теплее: кто не знает, как важно доброе участие в трудную минуту...
Но как раз с тех пор Светлану словно подменили. Не то чтобы она стала плохо учиться или отплатила чёрной неблагодарностью за товарищескую заботу.
Проото почувствовали друзья — есть теперь у Светланы какие-то другие интересы, есть что-то такое, что отдалило её от коллектива, сделало чужой. То начнёт вдруг рассказывать, сколько стоит ремонт крыши (с чего бы это?), то встревожится: «Бесстыдники! Сколько времени денег не шлют!» — то
похвастается сберкнижкой ла дорогой обновой, что заведомо студенту не по карману.
Всё объяснилось много позже, когда товарищи успели сильно разочароваться в своей бывшей подруге. Вообще-то ничего особенного не произошло: просто нежданно-негаданно стала Светлана домовладелицей.
Когда-то, давным-давно, Светлана жила в этом старинном двухэтажном доме, переходившем из поколения в поколение. Шло время, жильцы один за другим покидали этот дом, а взамен их вселялись новые. Хозяйке дома — Светланиной маме — они платили за квартиру.
Но вот мама умерла, и хозяйкой стала Светлана.
Теперь она по почте и телеграфу собирала дань со своих многочисленных жильцов.
Светлане уже и учиться-то неохота: зачем? Ведь совсем задарма — что называется, лёжа на печке, — она может получать денег з два раза больше, чем ей станут платить после окончания института. Чем не рай?
Её не смущает, что это деньги не трудовые, что не очень-то к лицу современной студентке выступать в роли содержателя доходного дома, что, в конце концов, у неё есть квартира в Москве — зачем ей ещё дом в Ставрополе, где она не живёт уже много лет?
Её не смущает... Ибо она успела вкусить страшный яд стяжательства — знаешь, как трудно спастись от этого яда?..
Трудно, но не невозможно. Нашлось лекарство — им был закон. Состоялось решение суда, и дом у Светланы забрали.
— За что же забрали? — спросила меня Светлана. — Ведь дом-то мой!
«Мой»... Страшное слово, разъедающее душу. Сколько жизней загублено из-за него, сколько пролито слёз! И всё ради того, чтобы достать, раздобыть, получить, приобрести...
«Мой дом — моя крепость». Мой дом... Мой, а не твой... Мой... Мой... Мой...
«Наш» — мне нравится это слово.
НЕ ТОЛЬКО МЕЧТА
аш разговор подходит к концу. Остаётся только заглянуть в Завтра, в то совсем уж недалёкое будущее, когда воплотится в действительность вековая мечта человечества о самом прекрасном строе на Земле — о коммунистическом строе, который, по словам Программы Коммунистической партии Советского Союза, «стал величайшей силой современности, обществом, созидаемым на огромных пространствах земного шара».
Это время и впрямь недалеко! Ты будешь ещё молодым человеком, когда в нашей стране утвердится общество, о котором грезило не одно поколение людей.
Для того чтобы приблизиться к нему, надо, конечно, ещё немало потрудиться. Ведь одним из важнейших принципов этого общества является принцип наивысшего из всех возможных видов равенства людей, когда каждому человеку обеспечивается получение решительно всего, что ему нужно: и продуктов, и одежды, и жилья, и предметов удовольствия и комфорта, .и возможностей отдыха и развлечений. И, конечно, в первую очередь безграничные возможности для приложения своих способностей, для выбора любимого дела, для занятия увлекательным трудом.
Представляешь, как много надо построить домов, фабрик, заводов, как сильно надо увеличить общественные богатства, чтобы создать условия для перехода к такому распределению материальных благ?
А ведь это непременно случится. Сбудутся пророческие слова Фридриха Энгельса, который ещё много десятилетий назад писал: «...при коммунистическом строе и при увеличении количества средств поддержания жизни, люди должны-будут дойти до того, что гордые требования равенства и права будут казаться столь же смешными, как смешно, когда теперь кичатся дворянскими и тому подобными наследственными привилегиями... Тому, кто будет настаивать, чтобы ему с педантической точностью была выдана причитающаяся ему равная и справедливая доля продуктов, — тому в насмешку выдадут двойную порцию».
И неужто мы возьмём в это прекрасное будущее хапуг, обманщиков, хулиганов? Ни за что на свете! Со всеми этими субъектами, отравляющими ещё наше Сегодня, сегодня же и надо расстаться. Поезд, отправляющийся в коммунизм, доверху нагружен разными хорошими вещами, без которых нам никак не обойтись. Для плохих в нём просто нет места.
Как видишь, нам предстоит поработать не только над тем, чтобы создать изобилие материальных благ.
Нам надо избавиться и от всего дурного, что есть ещё в некоторых из нас, надо приучить всех людей к сознательному соблюдению дисциплины, чтобы каждый (понимаешь, каждый!) не мог даже представить себе, что это значит — нарушить установленный порядок.
Чтобы соблюдение его было бы не бременем, обузой, вынужденной мерой, а чем-то естественным, самим собою разумеющимся, таким же обычным правилом поведения человека, как обычно и сейчас не шуметь, когда люди спят, или броситься на помощь неумелому тонущему пловцу...
При коммунизме сложатся, как сказано в Программе КПСС, «единые общепризнанные правила коммунистического общежития, соблюдение которых станет внутренней потребностью и привычкой всех людей». Эти правила поведения постепенно придут на смену нынешним юридическим законам. Ведь закон — это не простое правило поведения. Попробуй его нарушить, и, как ты уже знаешь, тотчас придут в движение многие рычаги государственной машины — они заставят тебя соблюдать его, накажут за то, что ты от него отступил.
А с полной победой коммунизма отпадёт потребность и в государстве. «Коммунизм, — говорится в Программе партии, — это высокоорганизованное общество свободных и сознательных тружеников, в котором утвердится общественное самоуправление».
Общественное!.. Это значит, что управлять обществом будет в буквальном смысле слова каждый из нас, занимаясь тем, что ему больше всего по душе: один — хозяйством, другой — наукой, третий — культурой.
Коммунистическое общество отнюдь не будет обществом анархии, безделья и праздности.
Каждый, кто может работать, будет участвовать в общественном труде.
Каждый будет помогать росту народного богатства.
И каждый будет следить за тем, чтобы все без исключения честно трудились и соблюдали правила поведения.
Впрочем, отступление от правил окажется поистине редчайшим, почти невозможным событием, таким исключительным, что его практически можно даже не принимать в расчёт.
Ну, а если всё же такое случится, то каждый очевидец, сосед или товарищ по работе, быстро пресечёт нарушение и восстановит порядок, причём сделает это с такой же лёгкостью и простотой, с какой любая толпа цивилизованных людей даже в современном обществе разнимает дерущихся. Для этого не потребуется пи суд, пи милиция, пи прокурор.
Коммунизм не объявят по радио. Его не введут специальным декретом. Мы будем приближаться к нему постепенно, шаг за шагом. Он вырастет на наших глазах.
И каждый из нас вложит в его прекрасное здание хотя бы один кирпич.
Только не думай, что всё это будут делать другие. Коли ты не поможешь, и я не помогу, и он не поможет, то кто же тогда будет строить коммунизм?
Чем же ты можешь помочь?
Да хотя бы тем, что осознаёшь всё значение дисциплины, поймёшь высокий смысл требований закона, не только сам ни разу не переступишь его черту, но и других остановишь от этого шага. Поступай всегда так, и это будет означать, что ты в чём-то уже научился жить по-коммунистически — так, как завтра будут жить все.
А Завтра делается Сегодня.
_____________________
Распознавание, ёфикация и форматирование — БК-МТГК.
|
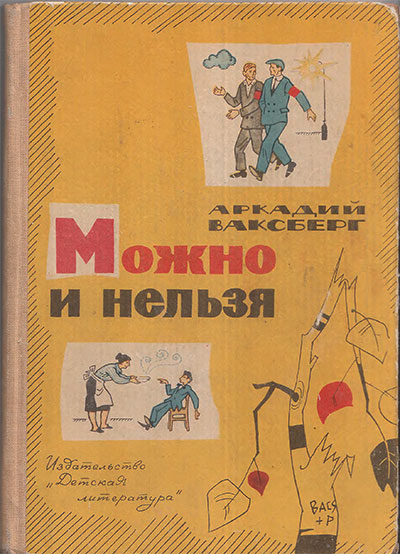
 ПРОСЬБА ссылаться на страницы, но не на ФАЙЛЫ!
ПРОСЬБА ссылаться на страницы, но не на ФАЙЛЫ!











