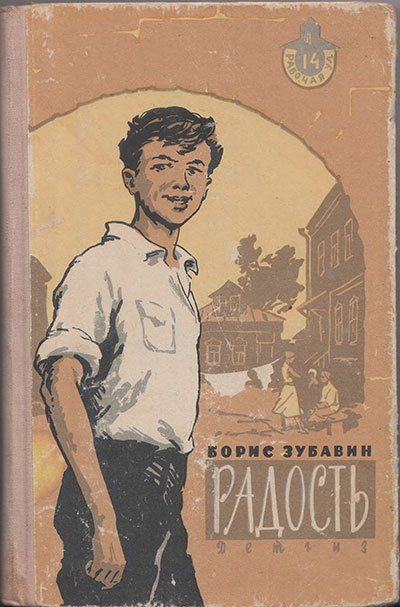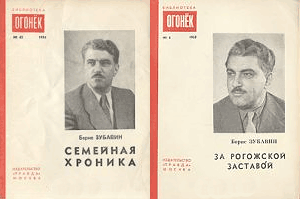|
Сделал и прислал Кайдалов Анатолий.
_____________________
Человек вступает в жизнь. Он полон счастливых надежд, представляет её себе радостной и прекрасной, доверчиво тянется к людям, считая всех их столь же честными, бескорыстными и добрыми, как и сам он.
Но оказывается, не всё в жизни так легко и просто. Пришлось столкнуться с разными людьми - равной ушными, стяжателями, лицемерами. Как же поступить, чтобы жизнь не засосала тебя в болото, а была бы настоящей, радостной и прекрасной?
ОГЛАВЛЕНИЕ
Часть первая
НА РАБОЧЕЙ УЛИЦЕ
Глава первая. Востриковы... 3
Глава вторая. Соседи... 8
Глава третья. Брызгалов — человек дела...16
Глава четвёртая. Между прочим... 28
Часть вторая
ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ
Глава пятая. После бала... 34
Глава шестая. Первый день...45
Глава седьмая. Чёрт знает что...57
Часть третья
ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ
Глава восьмая. Альфред Колотушкин, бригада Лапшина
Павлик Кудрявцев и Моргунов...76
Глава девятая. Большие неудачи ...88
Глава десятая. Продолжение больших неприятностей... 101
Глава одиннадцатая. «Добрые дела» Моргунова... И4
Глава двенадцатая. Друзья познаются в беде... 126
Глава первая ВОСТРИКОВЫ
В одном из старых, некогда окраинных уголков Москвы есть квартал, почти сплошь состоящий нз Рабочих улиц: первой, второй, третьей и так далее. С одной стороны от них пролегает шоссе Энтузиастов, заполненное опрометью мчащимися автомобилями, автобусами, троллейбусами, трамваями, с другой — высится серый бетонный забор железной дороги, с грохочущими за ним вагонами электричек и дальних поездов, с третьей — широко раскинулись подъездные пути и склады товарной станции.
Все эти улицы застроены чинёными и перечиненными домами, где кирпичными, где деревянными (деревянные чинены даже по нескольку раз), иногда в три этажа, но больше двухэтажными. Во дворах домохозяйки развешивают на верёвках, протянутых вдоль и поперёк, бельё, мальчишки играют в футбол, а их отцы не менее старательно и самозабвенно забивают «козла».
Во дворах же под общей крышей, как правило сделанной из самых различных и никуда больше не годных материалов, выстроились дощатые сарайчики, именуемые дровяными, в которых, между прочим, летом на самодельных топчанах н жёстких железных койках преотлично отсыпается немало обитателей этого густонаселённого квартала.
Парадный вход на эти улицы с площади Ильича.
Живут здесь люди самых различных профессий и снециальностей: металлурги, шофёры, водители тепловозов, химики, станочники, ткачихи, бухгалтеры, люди добрые и злые, весёлые и хмурые, знаменитые, случается, на всю страну и совершенно безвестные. Все они, как правило, знают друг друга из поколения в поколение и многие работают почти рядом е домом — на «Серпе и молоте», на вагоноремонтном, на Москабеле, на железной дороге, в трамвайном депо, на химике фармацевтическом имени Семашко, или, как здесь говорят, «у Семашки».
Сейчас этот квартал частично подновился многоэтажными домами, однако суть дела не изменилась: уголок этот так и остался пока старым и довольно своеобразным.
Иа одной нз таких улиц, в двухэтажном доме с толстыми, как ему и положено, стенами и маленькими окнами, в небольшой комнате жила вдова, кладовщица с «Серпа и молота», Надежда Васильевна Вострикова с сыном Гришей, только что перешедшим в девятый класс. Отец Гриши, шофёр, пять лет назад весенней слякотной ночью за городом попал со своим самосвалом в кювет, полный талой воды и мокрого снега, провозился с машиной до утра, сильно промочил ноги, слёг в больницу, где и скончался.
Родных у Востриковых никого не было во всей Москве.
Надежде Васильевне шёл тридцать пятый год. Она была невысока ростом, сероглаза, здорова, энергична, вздер-
нутый носик, чуть припухшие губы и коротко подстриженные русые волосы придавали её лицу несколько легкомысленное выражение.
Однако по характеру своему она была женщиной практичной, расчётливой, хозяйственной, видимое легкомыслие было обманчивым. Тем не менее смерть мужа не оставила у неё никакого следа: погоревала, сколько положено для приличия, и успокоилась. Мужем она была всегда недовольна. На это у неё имелись свои основательные причины. Что толку в том, рассуждала, например, она, что у него много боевых орденов? Ещё когда за них давали деньги, куда ни шло, а сейчас какой от них прок? Как ей было обидно, когда он, дослужившись до чина майора, вернулся из Германии с пустым чемоданом и трофеев привёз всего-навсего часы-будильник и губную гармошку. По её глубокому убеждению выходило, что он человек бесхозяйственный, неумелый и, вместо того чтобы пользоваться привилегиями, смотрел на всё сквозь пальцы, жил по-дурацки и именно поэтому, демобилизовавшись, пошёл опять в шофёры, словно другой работы ему, майору, не смогли бы подобрать. Шофёр из него, по её мнению, тоже получился без царя в голове, так как домой он приносил только лишь зарплату. Её раздражало, что он не хочет заботиться о благополучии семьи, о достатке. Ведь как, в самом деле, хорошо можно было бы жить, воспользуйся он теми возможностями, которые предоставляются ему самой судьбой как шофёру самосвала. Почему он не «калымит», не приписывает ездок, не подкручивает спидометр, не торгует лишним бензином, то есть не делает того, что делают, слышала она, некоторые другие шофёры и что всем им обходится совершенно безнаказанно и в то же время приносит выгоду. Ей казалось, что муж её живёт не своим
умом, а слушается во всём соседа, сталевара Прямкова, своего дружка, которому легко рассуждать о всяких мора-лях, зарабатывая раза в три больше шофёра.
Замуж за Вострикова она не вышла, а выскочила. Встречалась, ездила в Измайлово на танцы совсем с другим парнем, Ваней Брызгаловым, но как-то поссорилась с ним из-за сущих пустяков и назло ему вышла замуж за Вострикова, с которым и таицевала-то всего раза четыре, но который вдруг признался си в любви и сделал предложение. Конечно, сделай ей предложение Прямков, приятель Вострикова, парень насмешливый и ничего из себя не представляющий, она бы ещё подумала, но Востриков ей нравплся тем, что он высокий, видный из себя, застенчивый, хорошо одевается и не употребляет спиртного. Разве могла она знать, что он такой бесхозяйственный? Между прочим, с Брызгаловым, которого она по-настоящему любила, знала много лет, так как жила в одном с ним доме в Дангауэровскои слободке, после замужества Надежда Васильевна не встречалась ни разу. Было слышно, Брызгалов с матерью тоже вскоре переехал куда-то.
Гриша, по школьному прозвищу Петушок, выдался ростом в отца и уже теперь был на голову выше матери. Петушком его прозвали вот по какому случаю.
Однажды на уроке русского языка разбирали предложение: «Во дворе громко кричит петух». Учительница, написав эту фразу на доске, спросила:
— Кто кричит?
— Петух, — нестройно отозвался класс.
— Значит, это будет?..
— Подлежащее, — тянул класс.
— Подлежащее, правильно, — подтверждала учительница, подчёркивая слово «потух» такой жирной чертой, что от мела даже полетели крошки. — Что делает петух?
— Кричит, — отвечали ученики.
— Кричит. Стало быть, это будет?..
— Сказуемое, — раздавался нестройный хор.
— Сказуемое, — подтверждала учительница, подчёркивая слово «кричит» двумя чертами.
Оставалось определить обстоятельство образа действия. Но тут, повернувшись к классу лицом, учительница заметила, что Гриша Востриков перешёптывается со своим соседом и, стало быть, в разборе предложения не участвует.
— Востриков, — быстро сказала она, — как кричит петух?
На доске было совершенно ясно написано — «громко». Но вопрос учительницы застал Гришу врасплох. Он действительно не следил за разбором предложения и, очень смущённый, поднялся, откинув крышку парты, силясь поскорее сообразить, о чём идёт речь.
— Я спрашиваю, как кричит петух? — опять повторила свой вопрос учительница, не спеша прошлась между партами и остановилась возле Гриши. — Как кричит петух, ну?
Класс насторожился. Все ребята повернулись к Грише и, как это бывает в подобных случаях, уставились на него с любопытством, беспокойством, нетерпением, а некоторые (в классе всегда находятся такие) с язвительной усмешкой.
— Ку-ка-ре-ку, — сказал Гриша, нерешительно и виновато поглядев на учительницу и пожав при этом плечами.
В классе наступило такое веселье, что учительница не смогла успокопть ребят до самого звонка.
Гришу с того дня все стали звать Петушком. Первой его назвала так Лиза Прямкова, Гришина соседка, которая жила с ним в одной квартире. Будучи человеком добродушным, Гриша нисколько за это не обиделся на неё. Он был в том лучезарном и бесшабашном возрасте, когда над проявленпями жизни только-только начинают задумываться, только-только с восхищением и удивлением прислушиваться к её шумному пульсу, принимая те огорчения и радости, что несёт она, ещё с лёгким и беспечным сердцем; когда твои обязанности в этой жизни так ещё не сложный ограничиваются лишь школьными занятиями да мелкими поручениями матери: сходить в булочную на Тулинскую улицу, где всегда продают свежий хлеб, купить на Рогожском рынке картошки и моркови, иногда вымыть Посуду. Последнее поручение Гриша выполнял пе оч:ень охотно и так, чтобы за этим занятием не застала его весёлая пересмешница Лиза Прямкова. Он был убеждён, что для уважающего себя мужчины заниматься таким делом совестно. Впрочем, Гриша в этом не был исключением, поскольку так думают если уж не все, то по крайней мере три четверти населяющих мир мальчишек.
Боль утраты отца давно притупилась, как и всякая другая боль в лёгком мальчишеском сердце, но в памяти об отце осталось много хорошего. Гриша гордился своим отцом.
Гордился тем, что он закончил войну майором, командиром гвардейского стрелкового батальона, трижды был равен, а среди его многочисленных наград есть даже орден Александра Невского; гордился тем, что и шофёром отец был тоже, как говорил Прямков, дай бог каждому, права имел первого класса, и портрет его не сходил с Доски почёта автопарка. Словом, Гриша любил своего отца н теперь старался быть похожим на него. И, когда мать с огорчением и досадой говорила: «Ты, Гриша, вылитый отец», — для него это было самой большой похвалой.
Так и жили вдвоём — мать и сын. И сыну казалось, что всё это будет продолжаться вечно — маленькая комнатка в старом доме на Рабочей улице, кино в клубе имени Семашко, купанье в кусковском пруду, куда так хорошо проехаться на электричке.
Он, конечно, не мог предположить, что жизнь его скоро круто изменится.
Глава вторая СОСЕДИ
Кроме Востриковых, в квартире жили ещё Прямковы, Самохины и Раздоровы.
Старики Самохины просыпались раньше всех, хотя спешить им было некуда — оба давно уже коротали время на пепсии. В доме все звали их просто дедушкой и бабушкой. Так и говорили: «Дедушка Самохин, бабушка Самохина». У бабушки, женщины ещё бойкой и шустрой, люди делились на плохих и хороших. Средины не было.
Если она говорила о какой-нибудь соседке: «Она какая-то не такая, не люблю я таких», — значит, соседка — женщина вздорная и безоговорочно должна быть отнесена к плохим людям. Впрочем, хороших, «таких» людей, по мнению бабушки, было несравнимо больше.
Во всяком случае, на той улице, на которой она прожила всю спою жизнь. Попив не спеша чайку, вымыв посуду, бабушка выходила во двор посидеть на лавочке и, случалось, проводила там по нескольку часов кряду, с утра до обеда и с обеда до ужина, имея таким образом все условия, чтобы не спеша разобраться в проходивших мимо людях.
В это время дедушка от нечего делать сапожничал и без отдыха пел песни.
Чинить ботпнки и туфли к нему шли даже с соседних улиц. Работал он грубо, но зато обувь после его ремонта носилась дольше, чем новая. За починку же брал сущие пустяки, много меньше, чем в мастерской по прейскуранту.
Это был весёлый, старательный и ещё сильный старик с пожелтевшими от табачного дыма усами. Пел он басом, от усердия таращил голубые глаза, особенно когда исполнял «Шотландскую застольную» или про Ермака. И люди, проходя мимо распахнутого окошка, из которого, словно из громкоговорителя, летело на улицу «...и беспрерывно гром гремел», сопровождаемое дробным стуком сапожного молотка, говорили обычно: «Гляди, как пенсионер даёт».
К сапожному ремеслу дедушка Самохин, несколько десятков лет проработавший на шихтовом дворе завода «Серп и молот», обратился не сразу. Сперва он начал играть в карты.
За последние годы в Москве значительно возросли штаты пенсионеров. Пенсионеры, в основном, пишут романы о любви н мемуары или играют... Играют в шашки. в шахматы, в домино, играют на бульварах, во дво рах, на крылечках, играют старательно и самозабвепио. Не отстали в этом деле н пенсионеры с Рабочих улиц. Компания, в которую включились, выйдя на пенсию, дедушка с бабушкой, играла в карты, в «козла» с шамай-кой, где шестёрка треф является высшим козырем, а смысл игры заключается в том, чтобы изловчиться и убить этой шестёркой даму треф, или, как её называют, первую даму.
Сталя ходить друг к другу в гости. Сегодня играют у одной четы, завтра — у второй, послезавтра — у третьей, потом всё повторяется с начала. Ро время игры пыот чай с конфетами и с вареньем, опоражнивают пару бутылок красненького, а иной раз н водочки, закусывают. Словом, у дедушки с бабушкой начался сплошной праздник. Поиграв так три недели без выходных, дедушка сказал: «С меня хватит» - и решил заняться делом.
Стали подыскивать для него дело. Думали, гадали н пришли к выводу, что лучше всего разводить кроликов. Занятие это оказалось очень увлекательным и таким хлопотным, что дни летели незаметно. Сперва надо было научиться, как разводить, какую породу разводить, как строить клетки, чем кормить и так далее. Купили пять книг по кролиководству, и дедушка две недели изучал их, всё время удивляясь тому, какое это, оказывается, выгодное дело — кролиководство. За один лишь год от одной только пары можно было получить столько мяса, по вкусу и питательности не уступающего куриному, что его, наверное, хватило бы на всех соседей. Потом надо было построить клетки, для чего требовались доски, гвозди, петли, железная сетка. Одни лишь гвозди дедушка выбирал четыре дня, слоняясь по магазинам с утра до вечера. На Таганке, например, они показались ему длинноватыми; дедушка поехал в Марьину рощу, но там гвозди были толстоваты. Так он изъездил почти всю Москву, побывал даже в Перове и в Бабушкине, пока круг его странствий по столичным хозяйственным магазинам не замкнулся невдалеке от дома, на Рогожском рынке, где, к огорчению дедушки, оказались необходимые ему гвозди.
Не прошло таким образом и месяца, как две клетки для кроликов уже были готовы и торжественно водружены в дровяном сарае, а ещё неделю спустя, после того как дедушка целое воскресенье протолкался на Птичьем рынке, в клетках появились четыре лопоухих пушистых зверька.
С этого всё и началось. Дедушка уже прикидывал в уме, когда должно появиться на свет первое потомство, как вдруг выяснилось, что ему продали трёх самцов и одну самку. Пришлось строить третью клетку и покупать ещё двух самок. Но только дедушка справился с этой задачей, как кролики ни с того ни с сего начали болеть и пх надо было везти в ветеринарную лечебницу. Пять кроликов всё-таки сдохли, остался лишь один самец. К этому времени дедушка успел так разочароваться в своём новом занятии, что, сказав: «С меня хватит», — подарил самца Грише Вострикову, а тот отнёс его в школу юннатам.
Начались поиски повой работы, и после долгих мучительных размышлений было решено стать сапожником.
Сперва дедушка отремонтировал все свои и бабушкины старые ботинки, какие только нашлись в сарае, потом стал просить соседей, чтобы они давали ему работу, за которую он с них ничего ие возьмёт, кроме стоимости израсходованных гвоздей, дратвы и кожи. Скоро об этом бескорыстном надомнике узнали на многих Рабочих улицах, и с тех пор в заказах у дедушки не было нужды.
Вслед за Самохиными поднималась Матрёна Осиповна Раздорова, толстая, с двойным подбородком и пухлыми щеками женщина. Она была так сварлива и вечно чем-нибудь недовольна, что, наверное, даже её муж, Пётр Петрович, ие взялся бы, пожалуй, вспомнить, когда последний раз видел на её лице улыбку. Дедушка Самохин говорил про неё: «Матрёна у нас жешщша серьёзная».
Ей было уже за сорок, работала она машинисткой в одной из контор района, говорила басом, не хуже дедушки Самохина, только с такой брезгливой поспешностью, что не всегда можно было понять, о чём она толкует. Было известно, Что она староверка, ходит молиться в какую-то свою церковь. Каждую весну, в так называемое прощёное воскресенье, вернувшись от заутрени, присмиревшая от усталости, она вставала посреди кухни и, не глядя ни на кого, но всем по очереди кланяясь в пояс, просила нараспев: «Прости-ите...»
Просила прощения даже у Гриши и у Лизы Прямко-вой. Грише, когда Матрёна Осиповна кланялась ему, делалось стыдно за неё, человека взрослого, грамотного. Он краснел и не знал, куда деваться, а Лнза нисколько не смущалась, принимала эти поклоны как должное и снисходительно, с благосклонной улыбкой баловницы отвечала: «Пожалуйста, тётя Муся, о чём разговор».
Муж Матрёны Осиповны, Пётр Петрович, модельщик с вагоноремонтного (от него всегда так славно пахло стружками, скипидаром и клеем), был прямой ей противоположностью и не верил ни в бога, ни в дьявола. Дважды в месяц, в получку, он праздновал день железнодорожника, то есть заходил с приятелями в пивные и выпивал там, как он объяснял, «свою порцию». Когда же пивные и возле рынка, и на площади, и на Тулинской улице закрыли, полагая, вероятно, что в районе вдруг не осталось ни одного «выпивохи», Пётр Петрович с приятелями остались верны себе и честно продолжали справлять день железнодорожника. Только теперь они водку покупали в магазине, а стакан брали у знакомой газировщицы. Мной раз «порция» Петра Петровича принимала несколько увеличенный размер. Это сразу всем бросалось в глаза, потому что, прпдя домой и став на кухне как раз там, где обычно его дородная супруга просила у соседей прощения, он предлагал «сделать ползунка».
Ползунком у весёлого Петра Петровича называлась пляска, во время которой танцор должен был упереться руками в пол и выделывать ногами всевозможные кренделя.
Пляска обычпо не получалась, поскольку Петру Петровичу не только на руках — на ногах было трудно стоять. Во всяком случае, Гриша так ни разу и не видел, как Пётр Петрович «делает» своего любимого ползунка, а тот, ничуть не огорчаясь, тут же начинал хвалиться, будто знает такое слово, что может вывести из любого помещения всех крыс.
— Вот скажу слово и пойду как ни в чём не бывало, — с кичливостью объяснял он, — и они, ати самые крысы, стало быть, сейчас же побегут за мной, вроде втих самых, стало быть, дворняжек. Хоть десять, хоть сто — так сейчас же все и побегут сломя голову сзади меня по всем улицам, и никакие троллейбусы или там, к примеру скажем, грузовики им нипочём.
— Врёшь ты всё, несомненно, — замечал дедушка Са-мохин. — Хотя врёшь складно.
Это почему же я вру? — удивлялся Пётр Петрович. — Вот я тебе, слушай, такую историю сейчас расскажу... — И уж в который раз принимался рассказывать про то, как на некоей базе гастронома развелось много крыс и с ними ничего не могли поделать: крысоловки ставили, специальными снадобьями травили, котов завели — ничто пе помогало. — Плевали, к примеру скажем, они, крысы, стало быть, на все зти мероприятия. Смекаешь, в чём тут дело? Не смекаешь? Сейчас я тебе объясню, тогда, может, ноймехиъ. И приходит ко мне, стало быть, заведующий. «Пётр Петрович, Пётр Петрович, сделай одолжение, отведи крыс от нашей базы куда-нибудь подальше, сил наших никаких не стало».
— Что-то ты у меня на глазах всю жизнь вроде бы мотаешься, — сомневался дедушка Самохин, — а я не помню такого случая.
— А он ко мне не домой приходил. он меня, может, в этот самый, стало быть, в ресторан для такой беседы приглашал. Ты слушай, не перебивай. Ты что думаешь? — вдруг обращался он к Грише.
— Ничего, — поспешно говорил тот, застигнутый врасплох этим неожиданным вопросом.
— Ничего? — переспрашивал Пётр Петрович и, тыча пальцем в грудь Грише, торжествующе произносил: — В тот же день у них пе осталось ни одной крысы, всё как есть сломя голову убежали за мной. Я их без остановки в Реутово отвёл. Ох, и народу же собралось, когда я с ними по улицам шёл! Тысячные толпы. Весь трапспорт парализовался. Ты, наверное, на работе в это время был, — с сожалением говорил он дедушке Са-мохину, — а то бы и ты увидел. Тут самое главное что? — вновь вдруг обратился он к Грише. — Самое главное в этом деле — « не останавливаться и чтобы никакие светофоры тебе не мешали, хоть даже, это самое, стало быть, красный свет, а ты должен идти. Остановишься — всё пропало. Крысы сейчас же ономнятся и повёрнут назад, а по второму разу их никаким словом не выманишь.
— Это всё сказки, — говорил Гриша, однако всегда внимательно слушая Петра Петровича. «А вдруг он всё это в самом деле может?» — нет-нет да и проносилось в его голове.
— Я тебе показал бы сказки, — нисколько не обижаясь, говорил Пётр Петрович. — Жалко крыс у пас в доме нет.
— Вот и получается в вашей семье сплошное разногласие, — замечал дедушка Само-хин, — Сам ты колдун, Матрёна вроде бы святая, а сын комсомолец.
Сын Раздоровых, Сергей, служил на флоте, скоро должен был демобилизоваться, я это очень беспокоило Матрёну Осиповну.
Причины для беспокойства были довольно значительные. Дело в том, что у Раздоровых, как, впрочем, и у всего населения Рабочих улиц, было пе благополучно с жилищной площадью. Комната, которую занимали Раздоровы, хотя и имела четыре окна (два выходили на улицу, два — во двор), но в ней даже вдвоём не очень-то можно было разгуляться. А когда вернётся Сергей, да ещё женится, да ещё внуки пойдут, тогда как? У бедной Матрёны Осиповны при одной только мысли о невестке голова шла кругом.
Третьими соседями Востриковых были Прямковы: Евгений Фёдорович Прямков, сталевар с «Серпа и молота», в прошлом — закадычный друг Гришиного отца, человек известный, про которого не раз писали в газетах, имевший спокойный характер и несколько насмешливый склад ума; его жена Клавдия Андреевна, аппаратчица с химзавода, стройная, чуть располневшая в последние годы, черноволосая, чернобровая красавица, и их дочь Лиза, сверстница и одноклассница Гриши, красивая, как мать, и насмешливая, как отец. Это дружная, счастливая семья, и автору, поскольку они так счастливы, даже написать о них нечего. Быть может, если только добавить лишь то, что слушать рассказы Петра Петровича про крыс иной раз выходил в кухню и Прямков, прислонялся широким плечом к дверному косяку, прислонялся так прочно, словно врастал в косяк, и начинал серьёзно и обстоятельно узнавать о подробностях. Как, например, крысы переходят трамвайные линии, не пугаются ли минских самосвалов и так далее. Пётр Петрович, чувствуя в Прямкове внимательного, заинтересованного собеседника, отвечал многословно, с радостью, и ему никогда не могло прийти в голову, что Прямков лишь ради шутки выспрашивает у него всё это.
Кончались подобные бахвальства Петра Петровича, по обыкновению, тем, что в кухню, хлопнув дверью, влетала Матрёна Осиповна, хватала своего разговорчивого супруга за плечи и, сердито, торопливо бася: «Спать, спать, спать!» — заталкивала его в комнату. Блаженная, беспомощная улыбка растекалась в такие минуты но лицу Петра Петровича.
— Мусёк, Мусёк, Мусек, — лишь говорил он, безропотно подчиняясь супруге и исчезая за дверью.
БРЫЗГАЛОВ — ЧЕЛОВЕК ДЕЛА
В квартире существуют свои нехитрые, но твёрдые, неизвестно даже когда и кем заведённые обычаи, которых, тоже неизвестно почему, все придерживаются. Звонок, например, бездействует с тех самых пор, как Гриша и Лиза помнят себя, а возможно даже, что он умолк ещё и раньше, но его никто пи разу ие взялся чинить, просто потому, что никто в нём не нуждался: входная дверь и зимой и летом не запирается с утра до полуночи. Летом её и вовсе не закрывают, и она день-деньской гостеприимно распахнута настежь. Впрочем, здесь многие жнвут так запросто, с распахнутыми для всех дверями, как обычно живут в деревнях или далёких посёлках, где знают друг друга, как говорится, со всех сторон и даже вдоль и поперёк.
По воскресеньям пекут пироги, женщины с озабоченными лицами рано утром начинают топтаться возле духовки, и по запахам, просачивающимся из кухни во все комнаты, можно, проснувшись, безошибочно определить, что наступил праздничный, нерабочий день.
Грише нравились праздники, и он просыпался в эти дни с особенным, ни с чем пе сравнимым чувством лёгкой, светлой радости. Ему вообще нравилось жить в старом доме на Рабочей улице, где все так хорошо знают друг друга, где такие нехитрые, простые и прочные обычаи; нравились старики Самохины, Прямковы, Пётр Петрович, даже Матрёна Осиповна. Но в воскресенье это славное чувство любви ко всему, что окружает его, само собою, без всякого усилия с его стороны, приумножалось и крепло. В такие дни решительно всё радовало Гришу. Он радовался тому, что будет есть горячий пирог, что за окном безмятежное солнечное утро, что во дворе, возле дровяных сараев, под старым корявым тополем скоро прочно усядутся за самодельный, врытый в землю, шаткий стол и Прямков, и Пётр Петрович, и другие мужчины и до вечера будут стучать но этому зябко вздрагивающему столу костяшками домино. Всё было обычным, обязательно повторялось из воскресенья в воскресенье, как хорошая добрая традиция, и бабушка Самохина обычно говорила в такие пни всем женщинам, даже на минутку вышедшим из дома:
— Иди-ка сюда, на лапочку, посиди отдохни. Я тут каждый день сижу, вот как хорошо! Всё-то я в своей жизни уже переделала, теперь только и осталось спдеть да дожидаться...
Чего дожидаться, она не досказывает, но её все прекрасно понимают и, охотно присаживаясь рядом с ней, говорят, но обычаю здесь, грубовато и откровенно:
— Да ладно, что ты... Тебе теперь только ц жить да жить.
— Вот и я нро то, — соглашается бабушка с улыбкой. — А всё-таки и к месту пора.
В одно из таких воскресений Гриша проснулся и потянул носом воздух.
Как всегда, комната от иола до потолка была пропитана густым, тёплым запахом пирогов.
В трусах, без рубашки, босой, крепкий, по-мальчишески длиннопогий, с взлохмачеппой спросонья головой, выбежал он в кухню. А здесь пирогами пахло уже вовсю. Пироги Самохивых, Востриковых и Прямковых, прикрытые полотняными полотенцами, стояли на кухонных столах, на плите кипели чайники, а возле духовки, дождавшись очереди, в неизменном своём байковом халате, который то ц дело распахивается у неё, возилась сердитая Матрёна Осиповна.
— Давно бы нора, — сказала мать, с улыбкой оглядывая стройную фигуру сына. — Уж и чайник вскипел.
— Я сейчас. - отозвался Гриша, подходя к умывальнику, около которого стояла уже умывшаяся, с полотенцем, перекинутым через плечо, Лиза. Ну-ка, - сказал он ей и слегка, бесцеремонно (меж ними давно уже установились эти нарочито грубоватые отношения) потянул за руку в сторону.
Он уже нагнулся над раковиной, подставил ладони, сложенные лодочкой, под тяжёлую, прохладную струю, когда Лиза, отойдя на несколько шагов, остановилась и, глядя на его загорелую спину, сказала:
— Подумаешь какой! Можно бы и повежливее, Петушок.
— Петушок? — весело переспросил Гриша, оборачиваясь и набирая в пригоршню воду. — Я — Петушок?
И тут произошло нечто из ряда вон выходящее: Матрёна Осиповна, вытащив из духовки противень с пирогом,
распрямилась, и вся вода из Гришиной пригоршни, которую он предназначал для Лизы, оказалась на её груди.
— Да что же ты делаешь! — закричала на сына Надежда Васпльевна.
Лиза зажала рот руками и убежала в комнату, а Матрёна Осиповна, потерявшая от неожиданности и негодования дар речи, уставилась на Гришу столь выразительно грозным взглядом, что тот, оторопев, растопырив мокрые руки, забормотал:
— Я... простите, тётя Муся... Я хотел не вас, тётя Муся...
Как ни покажется на первый взгляд странным, но именно это бессвязное бормотание и спасло его. Дело в том, что Матрёна Осиповна не любила своего грубого, неинтеллигентного имени и стыдилась его. Всем в квартире было известно, что ей доставляет необыкновенное удовольствие, когда её называют Марией, а особенно Мусей. Пётр Петрович часто пользовался этим обстоятельством, когда, приняв с приятелями «свою порцию», возвращался с очередного празднования дня железнодорожника. И теперь, стоило Грише произнести это чарующее строгую Матрёну Осиповну пмя, как гнев, клокотавший в её груди, так и остался невысказанным.
Наевшись пирога и напившись чая, уже давно оправившись от смущения, с лёгким, радостным чувством свободы и той праздничности, которое возникало в нём каждое роскресенье, Гриша вышел из дома. Возле сараев, в тени старого корявого тополя, единственного дерева, росшего во дворе, с остервенением, весельем я грохотом «забивался козёл». На лавочке рядом с бабушкой Самохиной сидела Лиза. Она была в лёгком ситцевом сарафане, туго стягивавшем её талию. Чёрная толстая коса была перекинута на грудь, ц Лиза от нечего делать то заплетала, то расплетала её конец тонкими смуглыми пальцами.
— Влетело? — с лукавой усмешкой в чуть продолговатых, влажных, тёмных глазах дружески спросила она у Гриши.
— Нисколько, — пожал тот плечами, садясь рядом с ней.
Депь начинался долгий и жаркий, небо было безоблачно, тюлевые занавески на распахнутых окнах обоих этажей и даже сочные большие листья тополя висели недвижно.
Слышалось, как неутомимый дедушка Самохин стучит молотком и поёт: «Бетси, нам грогу стакан...»
— Ишь как разоряется, — с восхищением сказала бабушка. — Даже в выходной никакого угомона нет.
На улице заиграл аккордеон, мимо ворот со смехом, говором прошли нарядно одетые парни и девушки — собрались на массовку в Царицыно.
Гриша предложил Лизе:
— Поехали купаться.
— А кто ещё? — охотно спросила Лиза.
— Найдём.
— Я не против.
Гриша тут же отправился в соседний двор собирать ребят.
Такой уж здесь был порядок, что купаться в Кусково ездйли большими весёлыми компаниями. Скоро такая компания, с озорством подталкивая друг друга, уже втискивалась на платформе «Серп и молот» в битком набитый пассажирами ещё на Курском вокзале вагон электрички.
Это было в девять часов, а в половине первого, когда Гриша, ничего ещё не подозревавший о том, какие изменения в его жизни произойдут именно в этот праздничный, солнечный и пыльный день, наплававшись и нанырявшись в теплом, взмученном сотнями людей пруду, лежал на трапо неподалёку от берега, как раз напротив музея, размещённого в Шереметьевском дворце, мать его, Надежду Васильевну, посетил незваный гость Иван Иванович Брызгалов.
Посещению его предшествовали следующие обстоя-телыва. Три педели назад Надежда Васильевна случайно встретилась с Брызгаловым в метро. Хотя они не виде-лисьмного лет, сразу узнали друг друга и приятно обрадовались встрече. Брызгалов был в полотняном кителе с серебряными железнодорожными пуговицами, и Надежда Васильевна решила, что он какой-нибудь начальник.
— Как ты живёшь? — спрашивала она, смутно улыбаясь и то опуская глаза, то взглядывая на своего рослого черноволосого собеседника, в его голубые, насмешливые и бесцеремонно рассматривавшие её глаза, в которые она когда-то была так влюблена. — Есть жена, дети?
— Нет, я не женат, — засмеялся он.
— А как здоровье тёти Паши?
— Мать живёт — хлеб жуёт, что ей делается.
— Ты всё такой же, нисколько ие изменился.
— Да н ты тоже. Только, может, немного... — Он помолчал, подбирая нужное слово, прищёлкнул в нетерпении пальцами, вновь оглядел её весёлыми глазами с ног до головы. — Поправилась, может, немного.
Это польстило ей.
— Ну, а ты как? - спросил он в свою очередь.
— Что я, — безнадёжно махнула она рукой. — Какая моя жизнь вдовья.
— Ну-у? — воскликнул он. — Без мужа живёшь?
Вздохнув, сделав скорбное лицо, она рассказала, какой
у неё был муж, как он ничуть не заботился о семье и как ей трудно сейчас растить сына. Не рассказала — пожаловалась.
— О-о, какие дела, — промолвил он, выслушав её, и тут же, взглянув на часы, сказал, что, к сожалению, больше пе может задерживаться, так как спешит по очень важному делу, но будет рад видеть её и, как он многозначительно добавил, вспомнить прошлое.
Через несколько дней они встретились в Измайловском парке.
Это был тот самый парк, куда они в молодости чуть не каждый вечер ездили на тайцы. Теперь о танцах, разумеется, и речп ие могло быть, они лишь степенно прогуливались но аллеям.
Не прошло и четверти часа, а Надежда Васильевна уже знала, что он живёт за городом в собственном доме, всё хозяйство ведёт мать Прасковья Фёдоровна, сам же он часто отлучается, бывает — на неделю и больше, поскольку работает проводником мягких вагонов скорых курортных поездов. Её несколько разочаровало, что он всего лишь проводник, а не начальник, как она думала раньше, однако то, что у него свой дом, сад, хозяйство, дало ей повод взглянуть на нею с уважением.
После некоторых колебаний Брызгалов предложил Надежде Васильевне откушать мороженого, но, подойдя к киоску, так долго рассматривал выставленные на прилавке цены, что ей стало даже неловко перед продавщицей. Выбрав плитку фруктового (оно оказалось самым дешёвым), Брызгалов ие спеша отсчитал деньги. Сам он от мороженого отказался.
— У меня горло больное, — с той нарочитой небрежностью, в какой легко угадывается фальшь, объяснил он. — Как поем холодного, так и начинаю хрипеть не хуже громкоговорителя.
Она вспомнила, что он и раньше был скуп и ии разу, например, не купил ей билета на танцплощадку. Впрочем, она и тогда н теперь не осуждала его, так как и сама любила говорить, что деньги любят счёт, и, уж если лишняя ассигнация попадала ей в руки, можно было быть уверенным, что на пустяк эту ассигнацию она не истратит.
Несколько дней спустя они снова встретились в том же парке, потом встречи их участились, и её уже не покидало возникшее однажды беспокойное ощущение, будто Иван Иванович всё время как бы приглядывается, приценивается к ией. Она догадывалась, почему; его пристальное внимание смущало и волновало её.
И вот Брызгалов, даже не спросив на то разрешения, вдруг явился к ней в дом.
Несмотря на жару, он был в темпо-спием костюме и при галстуке. Бегав на пороге, оглядел своим оценивающим, бесцеремонным взглядом небогатое убранство комнаты: кровать, покрытую пикейным одеялом, старенький диванчик, кустарный коврик, на котором изображены плывущие по неестественно синему озеру не то гуси, не то лебеди, стол у окна, и, задержав взгляд на портрете майора, висевшем на стене над столом, непонятпо усмехнулся и спросил у Надежды Васильевны, с удивлением, радостью и растерянностью стоявшей перед ним:
— Не ждала? Я завсегда так. Люблю появляться враз, словно из-под пола.
— Проходи... почему же, — отозвалась она. — Мы гостям всегда рады.
Иван Иванович прошёл к дивану, сел и опять взглянул ца портрет майора.
— Много же он орденов поднабрал.
— Да толку-то было чуть, - - проговорила она, тоже взглянув на портрет.
— Непрактичный, стало быть, человек.
Садясь рядом с ним и горестно, виновато усмехнувшись, она пожала плечами.
— Ну вот что, — начал он после некоторого молчания. — Я человек дела и люблю говорить напрямки: да — да, нет — нет. Выходи за меня замуж. Ну?
— Сразу нельзя, что ты... — смущённо ответила она, сияющими глазами глядя на него. — Так вот сразу и выходи!
— А что долго думать? Мы с тобой не дети, знаем друг друга давно, так что вот тебе моё предложение.
— Я прямо и не придумаю. Так всё неожиданно. Ты ведь знаешь, я не одна. У меня сын.
— А что сын? Сына не обидим. Дом большой, места всем хватит: четыре комнаты, веранда, кухня, то да сё.
— Я прямо и не знаю.
— Я тебе что говорю, ты слушай меня. У нас хозяйство,.матери не управиться, стареть начала, и у неё зта самая гипертония — голова болпт часто, так что тебе надо всё взять в свои руки. Всё будет твоё. Сад! Одних яблонь двадцать штук. Вишни, сливы, клубника, смородина всякая, малина, крыжовник. Словом, ягод всяких — ешь не хочу! Огурцов насолим, помидор, капусты нашинкуем — всё своё. Молоко, сметана — тоже своё, пей не хочу. Яички прямо из-под курочек, свеженькие, тёпленькие, не хуже диетических. Вот я тебе что предлагаю. Я тебя не на пустое место зову, только управляй, руководи всем делом, будь хозяйкой.
Он говорил с увлечением, восторгом, и, но мере того как он говорил, Надежда Васильевна, внимательно слушавшая его, сама того не замечая, псе больше и больше поддавалась очарованию той картины, которую он столь щедро, не скупясь на краски, нарисовал перед ней сейчас. Как действительно всё время ие доставало ей всего этого! Подумать только — жила, жила, и вдруг свой собственный дом, сад, сама себе хозяйка...
— Я очень цветы люблю, — проговорила она с мечтательной улыбкой, и не столько отвечая ему, сколько тем мыслям, которые, нахлынув, охватили её разум широкой, радостной волной.
— А о цветах и разговору быть не может. Полон сад. Шпалерами от калитки до крыльца стоят. Тут тебе и пионы, и гвоздяка, и гладиолусы всех сортов — от белого до чёрного, и нарциссы, а к осени — астры и ещё эти самые, как их, шапками такими ещё... Как заморозок, так сразу чернеют, одно наказанье... Как их?
— Георгины, — подсказала она.
— Правильно, георгины, — подхватил он. — А захочешь, и другие сажай, кто возразит?
— Как ещё тётя Паша посмотрит...
— Я про тебя с матерью говорил. Одобряет. Словом, заживём за милую душу. Ты слушай меня. — Брызгалов уже понял, она вот-вот готова согласиться. — Что у тебя сейчас? Какой заработок? Пустяк. А ответственность? Она, наоборот, большая. Только и жди, как бы под статью не угодить. А ради чего? Ради каких интересов? Да и хватит работать. Посиди дома, отдохни, почувствуй себя настоящей хозяйкой, вольным человеком.
— А как же с комнатой?
— А на что она тебе, комната? — Он опять по-хозяйски, оценивающе огляделся. — Комнату сдадим, пускай другие пользуются. Да и жалеть-то тут нечего. Домишко ваш, того и гляди, завалится, зимой небось дует во все щели, как в решето.
— Так-то ничего, с полу только.
— А с полу не холод? В общем, я тебе всё сказал. Меня ты знаешь, слово теперь за тобой. Как решишь, так и запишем.
Дай хоть подумать.
— Думай, только не очень. — Он поднялся. — Я пока пошёл, другие дела есть, а завтра вечером приду за ответом. Так?
— Ладно, — сказала она, снизу вверх доверчиво р радостно глядя на него. — Пусть будет так.
Иа пороге, уже взявшись за дверную ручку, он задержался и, обернувшись, как бы между прочим епросил, показав глазами на стену:
— За этой стеной кто проживает?
Раздоровы.
— Капитальная стена?
— Какая там капитальная, из досок. Это ведь когда-то всё одной комнатой было.
— А семья у них большая?
— Двое пока, но скоро сын вернётся из армии.
— Ну, до завтра, — сказал он, кивнув на прощание, и вышел.
Она поднялась, прошлась по комнате, в возбуждении приговаривая:
— Вот так дела, вот так дела...
Потом долго рассматривала себя в зеркало, всё с тем же лихорадочным возбуждением думая: «Как же быть? Как же быть?»
Предложение Брызгалова казалось заманчивым, доводы, приведённые им, — убедительными, а перспектива резкой перемены жизни к лучшему (она не сомневалась в том, что к лучшему) — приятной. И тем не менее Надежда Васильевна, как ни было ей всё это по душе, не могла сразу решиться. Надо было посоветоваться.
И вот полчаса спустя после ухода Брызгалова в её комнате собрались Прямковы, Самохины и Раздоровы. Это было давнишним обычаем — решать серьёзные вопросы, кого бы они ни касались, сообща, всей квартирой.
— Кто он такой? — прежде спросил дедушка Самохин.
— Это мой старый знакомый, — вкрадчиво ответила Надежда Васильевна, — мы с ним встречались ещё до моего замужества, дружили. А сейчас он работает проводником.
— Не велика шишка, — сказал дедушка.
— Ты подумай насчёт сына, — вступила в разговор Клавдия Андреевна. — Идёте в чужую семью, а он парень большой.
— А что о нём думать? — сердито возразила Матрёна Осиповна. - О себе надо думать. Сын вырастет, ничего ему не сделается, безобразничать только будет поменьше, а у неё, — она кивнула в сторону Надежды Васильевны, — век не очень велик, да и женихов не гак много теперь.
- У тебя, Матрёна, всегда псе наоборот, — отмахнулся от неё дедушка.
— Мусёк... — робко начал было, откашлявшись, Пётр Петрович.
Но супруга его, обиженная бесцеремонным замечанием дедушки, на сей раз не поддалась этой откровенной лести и свирепо цыкнула на пего:
— А ты помолчи, горе-крысолов.
— Иди, Надюша, иди, — ласково проговорила бабушка Самохина, которая всем людям желала лишь добра. — Если жизнь поворачивается к лучшему, грех отказываться. Только учти, чтобы всё было законно, честь по чести, как у людей, чтоб записаться.
— Это конечно, — поспешно, с радостью подхватила Надежда Васильевна. — Комнату, он сказал, сдадим в домоуправление.
— Как же это, а? — Матрёна Осиповна, раскрасневшись, возбуждённым взглядом оглядела присутствующих, словно призывая их быть свидетелями бесчинства, исподволь задуманного соседкой.
Все молчали.
— Въедет неизвестно кто, — решительно продолжала она, — может, семья вдвое больше, а тут и так теснота, повернуться негде...
— Мусёк, — укоризненно проговорил смущённый Пётр Петрович, — тут, это самое...
— А, — махнула она рукой, — тебе никогда ни до чего нет дела. А тут и так чуть не друг на дружке живём.
И опять наступило неловкое молчание.
— А что же ты скажешь? — обратилась Надежда Васильевна к Прямкову, не проронившему пока ни слова, с мрачным видом стоявшему возле двери, по обычаю подперев её плечом и скрестив на груди руки.
— Что я и таком случае могу посоветовать тебе, Надежда, — проговорил тот, оттолкнувшись от двери и сунув руки в_ карманы брюк, подошёл к столу, за которым сидела, словно председатель собрания, его жена. — Ты знаешь, он ведь был моим другом. — Прямков указал глазами на портрет майора. — Ио жизнь — штука сложная. Что касается тебя, то бабушка, конечно, права: выходи замуж. Может, это и верно — к лучшему. Я только вот насчёт Гриши. Клавдия уж говорила, — он взглянул на жену, — как бы там не затюкали парня.
— Он сам кого хочешь затюкает. — вмешалась Матрёна Осиповна.
Прямков, лишь покосившись на неё, продолжал:
— Всё-таки жить надо ие только ради себя, о других полагается думать. И не только думать, а может, чем и поступиться ради них.
— Что ты, этого никогда не будет, — горячо и поспешно возразила Надежда Васильевна, не поняв последних его слов. — Они люди хорошие, добрые, самостоятельные, я давно знаю и его и его мамашу, сколько лет в одном доме на Дангауэровке прожили.
— А насчёт комнаты, — перебил её Прямков, — хоть Марья Осиповна вроде и не в жилу высказалась, не нам, конечно, распоряжаться, кого сюда поселить вместо вас, но, поскольку скоро вернётся Серёжа Раздоров, а стена меж вами не капитальная, тесовая, вот вы, — кивнул он Петру Петровичу и Матрёне Осиповне, — и начинайте хлопотать, чтобы комнату отдали вам.
— Значит, что же мне-то посоветуете? — спросила Надежда Васильевна, тревожно и заискивающе оглядев присутствующих.
— А что же, — сказал дедушка Самохин, поднимаясь с дивана. — Сама понимай: раз комнату твою начали делить, стало быть, выходи. Гришку только смотри не давай в обиду.
В это время широко распахнулась дверь, и на пороге с разбегу встал Гриша. На его загорелом, возбуждённом, с капельками пота над верхней губой лице при виде стольких людей, собравшихся вместе и, стало быть, обсуждавших что-то чрезвычайное, быть может даже касавшееся его, выразилось удивлённо и беспокойство.
У Прямкова, взглянувшего на Гришу, защемило сердце, и, проходя мимо, он похлопал паренька по плечу тяжёлой, словно литой, ладонью и сказал:
— Такие-то, брат, дела.
Когда они с матерью остались вдвоём, Гриша всё с тем же беспокойством спросил:
— Что это вы тут?
Она пытливо и в то же время смущённо взглянула на него и сказала:
— Сынок, я выхожу замуж. Сядь. Я тебе всё расскажу.
Не спуская с матери удивлённых глаз, он машинально
опустился на первый попавшийся стул. «Замуж? — пронеслось в его голове. — Зачем? А как же я? Мать выходит замуж! Замуж?» Это слово, самое обычное и определённое, когда его употребляли по отношению к посторонним женщинам, сейчас, когда оно коснулось его матери, приобрело для Гриши странное, пепопятпое и обидное значение. Он уже чувствовал, что вслед за этим словом, вслед за тем
поступком матери, который объясняет это слово, в их жизни наступят непредвиденные перемены. Он ещё не знал, какие, но чувствовал, что наступят и что сам он никак не сможет повлиять на них или воспротивиться им. Всё это обидело и ещё больше встревожило его.
— Он хороший, Иван Иваныч, вот увидишь, — говорила тем временем мать, — у них свой дом, большой-боль-шой, и сад тоже большой, там привольно, смотри как будешь шить, — в отдельной комнате, и мне легче будет, трудно сейчас одной... — Она говорила таким тоном, словно в чём-то провинилась перед сыном и в его властп — осудить или простить её.
— Как хочешь, — сказал он, стараясь не встречаться с матерью взглядом, чувствуя, что ни осудить, ни поддержать её не в силах, потому что и сам не знает, как быть, как поступить в этом неожиданном случае.
— Куда же ты? — с тревогой спросила она, увидев, что Гриша направляется к двери.
— К ребятам, — сказал он первое, что пришло ему в голову, на самом же деле, стоило узнать, что она выходит замуж, как ему сделалось неловко, неудобно быть с нею.
Что-то вдруг произошло меж ними — меж сыном и матерью.
Во дворе было так жарко, что под тополем вынуждены были прекратить игру. Только на лавочке, в тенп соседнего дома, мужественно сидела бабушка Самохина. Гриша, её зная, куда деваться, нос гнил на крыльце, потом пересёк двор и сел на лавочку. Он никак не мог собраться с мыслями, понять, что теперь должно случиться с ним. Казалось невероятным, что вскоре предстоит расстаться с этим вот старым домом, с Рабочей улицей, со школой, с поездками в Кусково, с кинокартинами в клубе имени Семашко; казалось невероятным, обидным и тревожным, что вместо всего этого, считавшегося неотъемлемой частицей его беспечно протекавшей, счастливой мальчишеской жизни, будет другое, но уже не такое, и такого уже не будет никогда. И никогда больше ие будет у него тех прежних, простых и дружеских, отношений с матерью.
Он сидел, устало опустив руки меж колен, охваченный горькой обидой, смятением и тревогой. Бабушка Самохина, давно приглядывавшаяся к нему с болью в сердце, прекрасно понимавшая, что творится с ним, сказала!
— А ты не серчай на мать, не надо. Так-то, может, и тебе лучше будет. Отчимы, они, конечно, всякие бывают, а хороших всё-таки больше.
— Да я не серчаю, — отозвался он. — Просто, знаете, как-то так жалко всего.
— А ты мужайся, — посоветовала бабушка.
Действительно, ничего иного ему не оставалось, как только мужаться.
Глава четвёртая МЕЖДУ ПРОЧИМ
С будущим отчимом Гриша встретился на следующий день. Уже вечерело. Они с матерью, вернувшейся с работы, обедали, когда в дверь кто-то постучал и, не дожидаясь разрешения, открыл её. На пороге стоял высокий темноволосый человек в форме железнодорожника. Из-под густых бровей смотрели зоркие и, как показалось Грише, нахальные глаза.
— Ох! — смущённо и в то же время радостно, вдруг покраснев, произнесла мать, кладя ложку и поднимаясь.
— Здравствуй, — сказал пришелец, бесцеремонно усаживаясь на диван. — Я за твоим ответом, как договорились.
— Что же, — сказала мать, теребя передник. — Я согласна, Ваня. — Она помолчала в смущении. — Вот, — кивнула в сторону тоже переставшего есть и пе сводившего с пришельца строгих глаз Гриши, — это сын, Гриша.
— Хорошо, — невесть что одобрил пришелец. Оглядел Гришу, перевёл взгляд на портрет майора и добавил: — На него похож.
— Может, пообедаешь с нами? — спросила мать. — Мы только сели, у нас суп с бараниной.
Она так необычно засуетилась, ставя на стол чистую тарелку, что Грише стало неловко за неё, и он опустил глаза.
Будущий отчим пе отказался от обеда. Тут же пересел к столу и принялся есть, бесцеремонно, с удовольствием прихлёбывая.
— Я вот насчёт комнаты всё думаю, — заговорила не-
много ногодя мать. — Жалко её всё-таки. И соседям нашим тесно, скоро сын к ним вррнется. Вот если бы им её...
Брызгалов перестал есть, вни мателыго, с интересом поглядел на Надежду Васильевну и вдруг сказал:
— А ты молодец, честное слово. Правильно придумала. — Он перевёл взгляд на Гришу. — Ну-ка, друг, выйди, нам поговорить надо, между прочим, с глазу на глаз.
Гриша совсем растерялся, заспешил, зачем-то отодвинул тарелку, где оставалось ещё много супа, ложку, кусок недоеденного хлеба и неловко вышел из-за стола.
Как только дверь закрылась за ним, Брызгалов приступил к делу.
— Стена, стало быть, не капитальная? — грузно навалившись на стол грудью, заговорщицки тихо спросил он.
— Из досок.
— Ты молодец. Слушай меня. Мы с них возьмём хороший калым, а стену они пускай хоть сейчас разбирают.
-- Что ты, — смутилась Надежда Васильевна. — Я и в голове не держала про это.
— А зачем даром отдавать? Тебе чего-нибудь даром дают? Шиш с маслом. Ничего тебе не дают. Всё за денежки. А денежки такая штука, что всегда пригодятся. Платье, например, купить тебе, то да сё. Пригодятся, слушай меня.
— Я это не могу, — растерянно проговорила Надежда Васильевна. — Деньги, конечно, нужны, это правда, только...
— Это я возьму на себя, поняла? Ты не беспокойся, я сам всё сделаю. За мной, между прочим, не пропадёшь. Я это умею и всё быстро обтяпаю. Как говорится, тяп-ляп — и готово.
— Мне даже не по себе, — зябко поведя плечами, проговорила Надежда Васильевна. — Столько лет вместе жили...
— Да тебя это не будет касаться. Будто ты ничего и не знаешь. Я же говорю: всё беру на себя, на свою полную ответственность. Л твоё дело сторона. Как говорится, моя хата с краю — ничего не знаю.
Так они, обедая, шептались ещё долго, и Брызгалову удалось наконец рассеять все сомнения Надежды Васильевны. «А в самом деле, — повеселев, подумала она, — раз он всё берет на себя, мне-то что? Ничего не знаю, и весь разговор».
— Там кто-нибудь есть? — спрашивал тем временем Брызгалов, кивнув на.стенку,
— Сама.
— Как имя-отчество?
— Матрёна Осиповна. Лучше Мария, понимаешь?
— Не будем зря терять время. — Он поднялся, одёрнул китель и решительным шагом вышел в кухню.
Матрёна Осиповна, вернувшись с работы, только успела переодеться и застегнуть кнопки своего цветастого халата с широкими, словно раструбы геликона, рукавами, как кто-то властно постучался. «Это ещё кто?» — лишь успела, по обыкновению сердито, подумать она, а дверь уже распахнулась, и со словами: «Разрешите войти?» — перед ней предстал высокий, ладно сложенный железнодорожник.
— Здравствуйте, — проговорил он, плотно прикрыв за собою дверь.
— Здравствуйте, — буркнула Матрёна Осиповна.
— Моя фамилия Брызгалов. Разрешите присесть? — спросил он и тут же понял, что вопрос его неуместен.
Присаживаться было некуда. Диван и псе стулья затягивали вышитые и накрахмаленные белоснежные чехлы. Ими можно было любоваться, но сидеть на них было нельзя. Матрёна Осиповна любила чистоту и порядок по-своему и твёрдо полагала, что только в такой идеальной музейной неприкосновенности и должно содержаться жилище культурного человека. Бедный Пётр Петрович, если ему вдруг приходило в голову поваляться и почитать газету, должен был устраиваться в углу на сундуке.
Разговаривали стоя.
— . Я человек дела и люблю напрямки: да — да, нет — нет, — сказал Брызгалов. — Вам, наверное, известно, что ваша соседка Надежда Васильевна выходит за меня замуж и в скором времени навсегда покинет вас.
М атрена Осиповна кивнула.
— Вам же, как мне известно, — продолжал Брызгалов, — по случаю скорого возвращения сына по демобилизации из армпп нужна вот по сих пор, — он чиркнул пальцем по горлу, — дополнительная площадь.
— Нужна, конечно, — подобрев, подхватила Матрёна Осиповна.
— Ай-яй-яй... — Брызгалов, оглядываясь, скорбно покачал головой. — В такой небольшой комнате — три взрослых человека, а третпй в любую минуту пожелает жениться, приведёт, так сказать, свою супругу, к тому же появятся детки... Я глубоко сочувствую, поскольку сам когда-то жил в такой тесноте. Простите, как ваше имя-отчество?
— Матрёна Осиповна.
— Так вот, Мария Осиповна, комната Надежды Васильевны может спокойно и без шума стать вашей собственностью. Она вас устраивает?
— Ещё бы. Да вы присядьте, — сказала вконец польщённая хозяйка.
— Такая чистота, что я не решаюсь. В первый раз вижу такой порядок. Почище, чем в международном вагоне.
Тем не менее он тут же сел на первый попавшийся стул. Села и Матрепа Осиповна, кокртлпво оправив на груди халат.
— Как это сделать? — спросила она.
— Проще пареной репы, — заверил Брызгалов. - Мы пока подождём выписываться отсюда, а вы тем временем сломаете перегородочку или прорубите в ней дверь, это, так сказать, по усмотрению, и въедете. Потом соберёте всякие справочки, документики, заявленьица, то да сё, пойдёте на приём к председателю райисполкома, хорошо бы сюда и депутата подключить, и тогда председателю ничего не останется, как предоставить вам эту комнату, так сказать. самым законным порядком.
— Хорошо бы, — подхватила Матрёна Осиповна. — А то сами видите, как живём. А когда сын придёт, да женится, да дети...
Будущий муж Надежды Васильевны всё больше и больше нравился Матрёне Осиповне. «Представительный
из себя, — думала она, — хозяйственный такой, прямо молодец».
— А вы думаете, всё так и будет? — спросила Матрёна Осиповна.
— Как по нотам. Только... — Брызгалов Ласково и бесцеремонно оглядел свою дородную собеседницу. — Вы, конечно, понимаете сами, Мария Осиповна, что это деликатное дело требует некоторого вознаграждения, отступного, так сказать.
— Сколько же? — насторожилась Матрёна Осиповна, беспокойно поёрзав на стуле.
— Сотенки четыре в новых исчислениях.
— Что вы! — всплеснула она руками. — И ие говорите. Нет у меня таких денег.
— Я, конечно, понимаю и вхожу в ваше положение. — Брызгалов всё так же ласково, с приветливой улыбкой смотрел на неё. — Но иначе... — Он пожал плечами. — Сейчас, вы знаете, в Москве ломают бараки, и оттуда к вам могут вселить запросто семейку человек в пять. Детишки, крик-шум, стенка тонкая, ни отдохнуть, ни подумать над жизнью. Л мы с Надеждой Васильевной посоветовались, всё взвесили и пришли к единомышленному выводу, что, поскольку вы хорошая женщина и так все вы дружно жили, нам хватит и эгих денег. Берут, знаете ли, больше. Бывает... — закончил он уже жёстко, без улыбки.
— Бегу, нету, нету, — сердито проговорила Матрёна Осиповна.
Теперь практичность будущего мужа соседки разонравилась ей.
— А вы займите у знакомых, в кассе взаимопомощи, продайте что-нибудь. Вот и наберётся, как говорят, с миру но нитке.
— Нету, где взять?
Она говорила неправду. Деньги у неё были. Они лежали в сберкассе. Но отдавать их ни за что ни про что было так жаль, что у неё от беспокойства даже началось сердцебиение, что с ней очень редко случалось. Тем не менее она прекрасно понимала: отказываться тоже нельзя. Этот вежливый, развязно развалившийся человек, положив ногу на ногу и смяв на стуле чехол, в самом деле, чего доброго, передаст комнату райжилуправлению, и тогда
можно остаться ни с чем. А стоит прорубить в стенке дверь — кто посмеет выселить?
— Деньги найдутся, — доброжелательно говорил меж тем Брызгалов, — было бы ваше, Мария Осиповна, желание.
— Ладно, — сдалась она. — Надо посоветоваться с мужем.
— Только с мужем, и больше ни с кем, — предостерегающе поднял указательный палец Брызгалов. — Дело это, Мария Осиповна, сами понимаете, деликатное. Могут притянуть к ответу и того, кто берёт, и того, кто даёт. У нас, в Советском Союзе, к сожалению, почему-то не любят такие обоюдные соглашения и всё стараются отдать за это под суд. Так что советоваться только с мужем. И ответ прошу дать лично мне, поскольку Надежда Васильевна уполномочила меня вести все эти переговоры. Завтра я к вам наведаюсь. - Он поднялся. — А теперь будьте здоровы.
На следующий день они сошлись на трёхстах рублях.
Глава пятая. ПОСЛЕ БАЛА
Прошло две недели. Надежда Васильевна, соглашав- шаяся теперь со всем, что бы ни предлагал ей Брызгалов, расписавшись с ним в загсе, настояла всё-таки на том, чтобы свадьбу отпраздновать. Брызгалову очень не хотелось тратиться, или, как он сказал, пускать деньги в трубу; жалко было денег и Надежде Васильевне. Однако ничего
поделать онп не могли. Всё должно было быть, как у людей, чтобы люди не осудили, не подумали плохого. Пришлось раскошелиться. Долго, от скупости, совещались, кого позвать в гости, и наконец согласились на том, что со стороны невесты будут Прямковы, Самохины и Раздоровы, а со стороны жениха только напарник-проводник.
— Жена у него недавно родила, — сказал Брызгалов, — ребёнка оставить не с кем, стало быть, он придёт один, только... — Брызгалов осуждающе покачал головой, почмокал губами.
— Что?
— Пьёт, зараза, больно много!
— Буянит? — испугалась Надежда Васильевна. — Я так их не люблю, буянов.
— Не в том дело7 Он тихий и положительный человек, но водки, наверное, лишнюю бутылку придётся покупать для него.
— Что делать, — вздохнула она. — Зато у нас дедушка совсем не пьёт, а Прямков и подавно.
Но сталевар Прямков на свадьбу не пришёл, сказав, что у него партийное собрание, вопрос серьёзный, а он член партбюро.
— Очень жаль, — сказала Надежда Васильевна. — Так хотелось, чтоб ты тоже был у нас в этот день.
В действительности у него никакого собрания не было. Ему просто не хотелось присутствовать на свадьбе, сидеть за столом, делать вид, что он рад этой свадьбе, пить за здоровье жениха, которого совершенно не знает, и невесты, за здоровье которой он уже пил, когда она выходила замуж за его друга Вострикова. Но Надежда Васильевна не поняла всего этого. Понял Гриша, и ему стало неловко, что мать такая недогадливая.
Куипли несколько бутылок водки, портвейна «Три семёрки», наварили холодца, и Надежда Васильевна была очень довольна, что всё теперь, как у людей. Брызгалов, ог-лядев накрытый стол, сказал:
— Между прочим, учти, этот бал я устраиваю исключительно из-за тебя.
— Я понимаю, — согласилась Надежда Васильевна, глядя на него влюблёнными глазами.
Гость со стороны жениха, напарник-проводник, как и предполагал Брызгалов, пришёл один, оказался в самом
деле тихим, «положительным» человеком и напилен, почти не проронив ни слова. Сел за стол с застенчивой улыбкой, с ней же вылез из-за стола и отправился на нетвёрдых ногах домой, забыв даже проститься.
Гриша сидел напротив матери и всякий раз, когда кто-нибудь кричал «горько» и мать, поднявшись, целовалась с Брызгаловым, смущённо опускал глаза. Это было невыносимо — смотреть, как мать целуется с чужим человеком, ставшим теперь её мужем.
Спели под руководством дедушкп Самохнпа про Ермака. Пётр Петрович, захмелев, попробовал сплясать «ползунка», но у него и на этот раз ничего не вышло, и он, нисколько не огорчаясь, начал рассказывать жениху о том, как он расправляется с крысами, и между прочим спросил, пе водятся ли крысы у него на даче.
— Водятся, паразиты, — сказал Брызгалов. — Все мешки с комбикормом прогрызли.
А на что тебе комбикорм? - - удивился Пётр Петрович.
— Как — на что? — тоже удивился Брызгалов. — А корова, куры, поросёнок? Их кормить надо.
— Хозяйство, значит, — не то с удивлением, не то с разочарованием протянул, покачав головой, Пётр Петрович.
— Ещё какое, — вмешалась в разговор Надежда Васильевна и с гордостью оглядела присутствующих.
— Ладно, я к тебе как-нибудь приеду, — пообещал Пётр Петрович Брызгалову, — и всех крыс выведу. Ты мне адресок оставь. — Минуту спустя он насторожённо спросил: — А не много ты с меня отступного содрал?
Брызгалов метнул пытливый взгляд в сторону Надежды Васильевны, быстро обежал глазами гостей — не слышал ли кто этого вопроса, и, успокоившись, налив себе и Петру Петровичу водки, поднял рюмку:
— Давай лучше выпьем за твоё здоровье.
— Давай, раз так, — согласился Пётр Петрович.
Комната Раздоровым досталась почти без хлопот и совершенно официально - - но решению исполкома. Деньги же, полученные с них, Брызгалов уговорил Надежду Васильевну положить в сберкассу, а так как у Надежды Васильевны своей сберкнижки не было, положили их на брызгаловскую.
На следующий день Вострнкссы переезжали иа повую
квартиру в подмосковный посёлок Хорьково.
Во двор задом вкатилось грузовое такси, и Гриша с отчимом стали выносить из дома вещи.
Брызгалов был здоров, ловок н в распахнутом своём кителе, раскрасневшийся. весело покрикивал на Гришу:
«Давай, давай, ходи веселей, не задерживай!» — вызывал беззастенчивое восхищение Надежды Васильевны, стоявшей н машине и принимавшей от мужчин узлы и чемоданы.
Она то и дело поглядывала нескромно счастливыми глазами на бабушку Самохину. сидевшую на лавочке, как бы приглашая старуху полюбоваться вместе с ней её новым мужем и разделить её восхищение. С работы Надежда Васильевна, чо совету Брызгалова, уволилась и была теперь, как сама.-казала, вольной птицей.
Гриша, подгоняемый Брызгаловым, работал молча, изо всех сил стараясь не отставать от отчима.
Странные чувства владели сейчас им. И горечь расставания со старым домом на Рабочей улице, где он родился и вырос, где всё было так близко и дорого ему, и нетерпеливое желание, возникшее у него в последние дни, поскорее встретиться с той новой, ещё неведомой ему жизнью, которая ждала его в Хорькове, и стремление казаться такнм же сильным и ловким в работе, как отчим, — всё смешалось в его добром, отходчивом и доверчивом мальчишеском сердце.
Вспотевший, с прилипшей ко лбу прядью волос, он всё делал спеша, бегом, стараясь вести побольше я потяжелее, и, когда мать, позбуждспная, помолодевшая, обращала на него свои весёлые, счастливые глаза, ему казалось, что вся эта радость её относится лишь к нему, что мать видит, какой он сильный и ловкий, и именно это так радует её.
По вот всё было закончено. Стали закрывать кузов, и только теперь, отдышавшись, стоя возле машины и вытирая рукавом рубашки пот со лба, Гриша увидел Лизу Прямкову. Высунувшись в распахнутое окно, она, очевидно, давно уже наблюдала за ним и теперь, лпшь он взглянул на неё, печально улыбнулась ему, помахала рукой и крикнула:
— Счастливо! Приезжай к нам!
И тревожное, виноватое чувство охватило его. Он вдруг подумал, что в сутолоке и спешке сборов забыл проститься с ней, забыл сказать ей что-то очень важное и необходимое, что можно было сказать только наедине и что теперь при матери, отчиме, шофёре, бабушке Самохиной сказать уже невозможно. Но что же, что должен был он сказать Лизе, уезжая?
— Поехали, поехали, — сказал отчим, обходя машину. — Счётчик-то не семечки щёлкает.
Взявшись руками за борт и поставив ногу на колесо, Гриша растерянно оглянулся, кивнул Лизе:
Всего...
П тут, перевалившись через борт, услышал, как дедушка Самохин стучит своим молотком и поёт: «Кучум, презренный царь Сибири...»
Взревел мотор, заглушив песню, машнпа тронулась.
Гриша, стоявший в кузове, покачнулся, и последнее, что он успел увидеть, когда выезжали со двора и поворачивали на улицу, — бабушку и Лизу, прощально махавших вслед им руками, У него больно кольнуло сердце.
Мать сидела в кабине, Гриша с отчимом — в кузове, на узлах. Молчали. Отчим, вытянув ноги, привалясь спиной к борту, отдыхал, мурлыкал что-то себе иод нос, а Гриша всё с тем же неунимающимся беспокойством думал, что же он не успел и не сумел сказать Лизе... И это было мучительно для него.
Меж тем давно ужо проехали площадь Ильича, миновали Тулинскую, неширокую и всегда такую шумную, бойкую улицу, на площади Прямнкова свернули в Сыромят-
ники и покатили по широкой магистрали мимо сквера, белых стен Андроньева монастыря на горе над Яузой.
Отчим вынул из кармана пачку дешёвых папирос, встряхнул её, спросил, обращаясь к Грише:
— Не курпшь?
— Нет, что вы! — смутился тот.
— Не кури. — Отчим зажёг спичку, затянулся. — А то рак будет.
— Какой рак? — недоверчиво покосился на него Гриша.
— Какой-нибудь. Так врачи говорят. Между прочим, у некурящих тоже рак бывает. Вот жил у нас одни, и не курил, и не пил, а помер. Как это объяснить?
— Даже не знаю, что вам и сказать, — пожав плечами, признался Гриша.
— Никто не знает, — сказал отчим. — Никакая медицина ничего не может толком объяснить. Но, — он предостерегающе поднял указательный палец, — остерегаться надо, учти. — Он сказал это так, словно Гриша провинился перед ним в чём-то.
— Вот был у нас такой ещё случай... — продолжал рассуждать отчим.
Но Гриша не слушал его. «Что же я не успел сказать ей? — думал Гриша. — Что я должен был сказать, чтобы никто не слышал, чтобы никто не видел, как я ей говорю? Почему я рапыне пе подумал, что должен был сказать?» Ему представилась Лиза такою, какой он видел её, садясь в машину, её лицо, печальную улыбку на этом пшрокобровом, всегда подвижном лице, и беспокойство охватило его ещё сильнее. «Почему она так улыбалась, словно вот-вот заплачет?» — подумал он.
Вопросы, теснясь, проносились в его голове. А ответа на них не было.
Долго ещё кружили по московским улицам, стояли в толпах машин перед светофорами, пока не вырвались наконец за город. Москва здесь оборвалась сразу кварталами новых восьмиэтажных домов, и сразу же начались поля, перелески и луга. Промчались вдоль деревенской улицы с чайной, сельпо, весами, на которых взвешивались грузовики. И вновь очутились в поле, потом в редком, прозрачном насквозь, весело просвеченном солнечными лучами лесу, потом опять в поле.
какая перспектива.
И когда Гриша оглянулся, то дазке ахнул от удивления: над пригорками, холмами, одетыми в зелёную шубу леса, стоял Университет. Он был очень далеко и в то же время как бы совсем рядом — так чётки, прозрачны и ясны были все его ниши, проёмы и контуры от нижнего этажа до шпиля с гербом. И больше ни одного здания — лпшь Университет. И потом Гриша ещё долго оглядывался и видел его, пока снова по въехали в лес. Это уже был густой, прочно и надолго обступивший дорогу лес, и, когда машина вкатилась в него, стало даже прохладнее, хотя солнце пекло по-прежнему щедро.
В Хорьково приехали во второй половине дня. Возле калитки их встретила мать Брызгалова, высокая, сухая старуха с такими же, как у сына, чуть навыкате, глазами, только не голубыми, а светлыми, выцветшими к старости.
— Вот и ладно. С, приездом вас, — сказала она, когда все вылезли из машины. — Здравствуй, Надежда, — и трижды приложилась к Гришиной матери сухими, сморщенными губами.
— Здравствуйте, тётя Паша, — вся просияв в приятной улыбке и слегка зардевшись, ответила мать, поправляя сбившуюся на затылок ситцевую косынку.
— Я теперь мать тебе, — заметила старуха и, взгтш-нув на сына, добавила: — Тащите вещи, не мешкайте. Нечего зря машину держать, денег стоит, — и, повернувшись, не спеша пошла к дому.
Брызгалов, хваставшийся перед Надеждой Васильевной благополучием своего хозяйства, не преувеличивал.
Дом, рубленный из толстых брёвен, с горбатой шиферной крышей, с застеклённой верандой, окрашенный в коричневый цвет, с желтымп резными наличниками на широких окнах, стоял посреди участка, словно прячась от постороннего взгляда в зарослях тесно обступивших его вишен, яблонь и слив. Дорожка от калитки до крыльца была выложена кирппчамп и присыпана песком, а с обеих её сторон росли цветы.
Уже отцвела тесно высаженная вдоль забора спрень, даже поздняя, отцвелп маки, буйствовал яркими красками свечей люпинус, вот-вот должны были распуститься пионы и тигровые лилии. На кустах жасмина, стоявшего, как и сирень, тоже стеной, только вдоль другого забора, набухали бутоны.
А сзади дома раскинулся огород: гряды моркови, капусты, картошки-скороспелки, свёклы, редиски, огурцов, помидоров, гороха, петрушки, щавеля, салата, укропа и ещё цветущей, по уже набравшей много покрасневших ягод клубники.
В самом конце огорода стояли сараи. Одни битком набитый сухими, расколотыми на мелкие полешки дровами и углём, в другом жили куры, корова и поросёнок.
Пока перетаскали вещи, расставили их по комнатам, наступил вечер.
Грншу поселгшп на втором этаже в мезонине, в маленькой тесовой комнатке. Здесь стоял деревянный топчан с тощим слежалым матрацем, такой яге тощей подушкой в ситцевой розовой наволочке и серым байковым одеялом. Табуретка и самодельный стол дополняли столь несложное убранство комнаты.
Окно выходило в сад, и, когда Гриша, притащив сюда свой чемодан, высунулся из окна на улицу, вдохнул полной грудью уже охладившегося к ночи воздуха, но ещё
по успевшего проникнуть сквозь распахнутое окно в тёплую комнату, окинул взглядом открывшийся перед пим простор, вечерние сады и чуть видневшиеся за купами деревьев соседние крыши, сердце его переполнилось радостью. Ничего лучше нельзя было придумать для его жилья, чем эта комнатка под самой крышей с выступившей кое-где на тесинах подс.ахарившейся смолой и ещё хранившей в себе солнечное тепло, весь день наполнявшее её.
Раскрыв посреди комнаты чемодан, впервые почувствовав себя, оттого что будет жить в такой уютной, отдельной комнате, самостоятельным человеком, он вытащил пз чемодана и сяожпл на столе аккуратной стопкой тетради и книги, потом извлёк из-под рубашек портрет отца, тщательно протёр стекло рукавом и уже оглядывал стены, ища, где удобнее повесить отцовский портрет, как пришли мать с отчимом.
— Ну как, — дружелюбно и снисходительно спросил Брызгалов, — устроился?
— Не совсем, — весело сказал Гриша. — Мне бы гвоздь с молотком.
— Зачем?
— А вот... — Он показал портрет отца.
— Его, между прочим, можно и не вешать, — небрежно сказал отчим.
Гриша перестал улыбаться.
— Это мой отец, — нерешительно, с обидой сказал он, — разве...
— В моём доме его присутствие не обпзатольпо, — холодно перебил его Брызгалов. — Мие это пе нравится.
Грипта вопросительно посмотрел на мать и ещё нерешительнее проговорил:
— Как же...
— Газ пе нравится, — поспешпо сказала мать, — зачем же обижать? — и вопросительно, с любовью поглядела иа нового мужа.
— Ладно. — От обиды голос Грпиш стал звонким и напряжённым. Он уловил этот взгляд. — Пусть. Ладно.
Гриша встал перед чемоданом на колени, и отчим, глядя, как он поспешно и суетливо прячет под рубашки портрет, с небрежной гписходптельпостью сказал:
Вот так будет лучше. Я нисколько пе против, что
это твой отец, запомни это, и не против, что ты хранишь его в чемодане. Это твоё дело. А теперь пойдём ужинать.
— Я не хочу, — сказал Гриша, захлопнув чемодан и в сердцах заталкивая его под тончан.
Отчнм равнодушно, сверху вниз глядел на него.
— Ты не обижайся, молод ещё. И запомни это: у нас по два раза собирать на стол не заведено.
— Я сказал — не хочу. — - Гриша поднялся, одёрнул рубашку.
Теперь уж радости, только что наполнявшей всё его существо, не было и в помине.
— Ты верно не хочешь? — словно ничего не случилось, спросила мать.
— Да, верно. — Он стоял перед ними и, стиснув зубы, ждал, когда они уйдут.
— Я тебе сейчас наволочку и простыню дам, — всё тем же спокойным голосом проговорила мать, уходя.
Он лёг на подоконник, подпёр горячую голову кулаками.
«Ладно, — думал он, безразлично глядя в сад. — Пусть. Пусть как хотят. Не нравится? Пусть. Ладно. Что же я могу сделать, что?»
Было слышно, как внизу, на веранде, двигают стульями, звенят посудой. Старуха громко спросила:
— А где же парень?
— - Он не хочет, - отозвалась мать.
— Устал небось.
— Может быть.
— Не устал, а на меня обиделся, — заметил отчим.
— Вот как! С первого же разу.
— Он не обиделся, — примиряюще сказала мать.
Он не обидчивый, вот увндите.
Потом они заговорили о чём-то другом, голоса их стали едва слышны. Гриша лежал на подоконнике и думал, обидчивый он или необидчивый, как сказала мать... «Конечно, когда правда, я не обижаюсь, — думал он. — Это все в нашей школе знают. Но разве это правда? Если это правда, то в чём же тогда неправда, зло?»
А вокруг разлилась чуткая вечерняя тишина. Прошумела вдалеке электричка, укатилась и смолкла. Лениво и скучно залаяла где-то собака. По улице мимо дома про-
тли, разговаривая, двое — мужчина и женщина. Он что-то доказывал, убеждённо, взволнованно, а она возражала наигранно-обиженным голосом, н было ясно, что они вот-вот помирятся, н он ради этого примирения уступит в чём-то. Но и эти голоса скоро исчезли, словно растаяли, поглощённые тишиной. Лишь собака вдалеке всё лаяла и лаяла.
Внизу хлопнула дверь, на крыльце послышались шаги. Кто-то неспешно прошёл в сумерках под окном до налитки, постоял там и так же не спеша пошёл обратно.
Как же хорошо! — услышал он голос матери. Это она там ходила по тропке. — Очень хорошо. Воздух какой, тишина какая! И цветы...
Только наслаждайся, отозвалась старуха, не спеша сходя с крыльца. — У нас получив курортов.
Они остановились под окном.
— Мне так здесь нравится. — говорила мать, — так всё нравится, так по душе! Я ведь очень люблю копаться в земле, с цветами, со всем.
— Я сама страсть люблю, — ответила старуха. — Думается, дай мне ещё два таких участка, я и их обработала бы. У других дачников всё травой позаросло. Вынесут гамак, привяжут к дереву и давай, словно обезьяны, качаться. А то книги всё читают. Эго вместо того чтобы овощи пли ещё там чего выращивать. Посмотришь на таких, аж сердце кровью зальётся. Думаешь, зачем же нм участки дают, если они от тех участков никакой пользы не имеют. Будь у меня власть, я бы у всех у них землю поотбпрала. Не хочешь заниматься хозяйством. - отдам другому, он пользу извлечёт. Зачем тебе земля дана?
Правда, зачем? согласно вторила вслед за ней мать.
Они помолчали.
- Завтра надо морковь продёргать, -сказала, зевнув, старуха. — Густо больно пошла, тесно ей.
— Я сделаю, — сказала мать.
Рано ли поднимаешься?
Я не люблю долго спать.
Л корову доить умеешь?
Нет.
Научишься. Ты теперь вот что: я уж, чадно, со скотиной и курами сама управлюсь, и ты огород возьми
на себя. Поначалу я тебе скажу, что делать, а потом сама поймёшь.
— Конечно. Я так люблю в огороде. Бывало, поедешь к тётке в деревню и весь отпуск прокопаешься на грядах. То это, то другое.
— Вот как хороню...
Грише надоело слушать их. Он отошёл от окна, лёг на топчан, свррнулся по привычке калачиком, подложив под голову ладони, и скоро сладко заснул, даже ие раздевшись.
Наволочку н простыню дать ему забыли.
Глава шестая ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
Грпша проснулся от яркого солнечного света, тепло н резко бившего ему в лицо. Он открыл глаза, потянулся и проворно вскочил со своего жёсткого, неуютного ложа.
«Ух, как я выспался! — с радостным удовлетворением подумал он, сбегая вниз по узкой скрипучей лестнице и ощущая во всём своём суховатом, лёгком теле прилив той бодрой энергии, какую обычно ощущает хорошо отдохнувший на свежем воздухе человек. — Сколько же сейчас времени?»
Шёл всего лишь восьмой час, н в саду было мокро от росы, и выпуклые зеркальные капли, отражавшие в -себе, казалось, весь этот чудесный утренний мир, светясь и переливаясь то голубым, то серебряным, то розовым светом, тугими ртутными шариками удобно лежали в листьях люшшуса, в тех чашечках, какие образуют листья, сходясь к стеблю. Тени от деревьев, сараев, дома были длинны, прохладны и глубоки, хотя солнце поднялось уже довольно высоко.
Сбежав с крыльца, Гриша сразу же увидел мать и улыбнулся ей. В лёгком ситцевом сарафане и в той же, что и вчера, серенькой косынке, едва державшейся на волосах и так молодившей её, сидела она на корточках н продёргивала морковь.
— Ну, выспался? — спросила она, пе переставая работать. — Правда, хорошо здесь?
— Правда.
— А я, шести часов ещё не было, поднялась и прямо сюда. Вон уж сколько наработала. — И она с гордостью указала кивком головы на кучу выдернутом из грядки морковной ботвы. — А работы, работы ещё непочатый край. — Лицо её было озабоченным, хозяйственным. — Бабушке одной не управиться, она старенькая, а хозяйство большое; посмотри, сколько вокруг растёт, и за всем нужно ухаживать, всё ведь это теперь наше, как же не потрудиться.
Гршпа был занят своими, очень для него конкретными, но совсем иными, чем у матери, мыслями. Всё, о чём сейчас говорила она, имело для него довольно смутное и относительное значение: он был голоден.
— Завтракать когда будем? — присев рядом с матерью на корточки, почему-то шёпотом спросил он.
Она глянула в сторону распахнутых дверей сарая, из которых доносилось ровное цырканье молока о стенку подойника, и тоже тихо сказала:
— А вот бабушка управится со скотиной, и сядем за стол. Теперь уж скоро.
Грпша покосился в сторону сарая, проглотил набежавшую в рот слюну, облизал губы.
— Клубнички можпо пока немного поесть? — спросил он всё так же тихо.
- А почему... — пе совсем твёрдо ответила мать. — Поешь.
Грпша переступил через несколько гряд и очутился возле густой, сочной и глянцевито-влажной от росы клуб-пичной зелени, в которой пятнами краснели спелые ягоды, тоже влажные и сочные на нид.
Это было необыкновенно. Он первый раз за всю свою жизпь ел клубнику прямо с гряд. Он вообще мало ел клубники, так как денег на неё у матери всегда не хватало, и теперь, присев на корточки, забыв обо всём на свете, с несказанным, ни с чем не сравнимым наслаждением ворошил листья и отправлял в рот ягоду за ягодой. Они были прохладны, мясисты и наполняли рот кисловато-сладким соком.
Однако это упоительное, самозабвенное наслаждение длилось недолго. Привела Грпшу в чувство появившаяся перед ним старуха. Рукава её кофты были закатаны по
локоть, обнажая жилистые руки, в одной из которых она поржала подойник с молоком, цепко сжав тёмными, со сморщепной кожей пальцами дужку.
— Пасёшься? — спросила она, остановись напротив Гриши и перехватывая подойник из одной руки в другую. — Хороша клубничка?
— Очень вкусиая, — приветливо улыбнулся Гриша, поднимаясь. —
С добрым утром.
— Мы её завтра будем снимать, — сказала старуха, — тогда и попробуем помаленьку. Она сейчас денег стоит. На базаре по два рубля за кило люди выручают.
Гриша смущённо оглянулся на мать. Но она была занята своим делом, сидела на корточках, проворно дёргая из земли морковь, и, казалось, не обращала на них никакого внимания. Он почувствовал себя так неловко, словно его уличили в чём-то предосудительном, запретном, нехорошем. Неуклюже, на непослушных, будто одеревеневших ногах перебрался через гряды на тропинку н тнхо побрёл к дом.
— Надежда, как ни в чём не бывало сказала за его спиной старуха, — хватит пока с морковью заниматься, иди-ка жарь картошку, а я тем временем молоко по дачникам разнесу.
— Иду, — весело и тоже как ни в чём не бывало отозвалась мать, поднявшись, и торопливо пошла к дому, обгоняя Гришу и вытирая на ходу руки о передник.
Завтракали жареной картошкой, присыпанной сверху свежей зелепью, а после этого пили чай с молоком. Старуха пила из большой кружки, не спеша, со вкусом прихлёбывая; подобрела от чая и разговорилась.
— Приехали мы сюда, Надежда, на пустое место. Ни кустика, ни деревца — батюшки с.воты! — хоть в футбол играй. Я говорю ему, — кивнула она в сторону сидевшего рядом с Гришей Брызгалова, — зачем же ты такой пустырь взял? А он говорит: «Мамаша, не расстраивайся, это самое лучшее место, что хошь, то и сажай».
— А что, разве не прав был? — самодовольно спросил отчим.
— Прав, прав, — ласково сказала старуха. — Ещё как. Этот пустырь нам потихоньку-полегоньку весь дом выстроил.
— Ну уж. - с удивлением и сомнением произнесла мать.
— Вот тебе и «ну уж»... - Старуха налила себе третью кружку. — Ранняя редиска, ранняя клубника всегда в большой цене на базаре, а мы той редиской сразу чуть не пол-участка засадили. Вот и денежки полезли весной прямо из земли. Три года в сарае, где сейчас корова стоит, нрожпли, зато сруб вон какой привезли... Он сам, — она опять с гордостью посмотрела на сына, — в Великие Луки ездил, по брёвнышку выбирал. — И, помолчав, уже иным, безразличным голосом, как о чём-то второстепенном, добавила: — Ссуда, конечно, помогла, на производстве выхлопотали. Он тогда ещё под землёй в метро работал.
— И ушёл? — удивилась мать. — Там же такие заработки.
— Человек должен работать там, где он может больше всего проявить себя и получить пользы, — непонятно чему усмехнулся отчим.
— Пшачнть каждый дурак сможет, — как бы разъясняя его слова, бойко вмешалась в разговор старуха. — Да толку что? Зарплата, говоришь? Велика радость! А проводником вот как хорошо. Привёз, к примеру, весной мимозу — денежки. Лаврового листу — денежки. Слив, там, черешни, абрикосов — всё на дуван, и всё это почти даром достаётся тебе. Опять прибыл!.. А туда — барахло всякое. Знай только, чего там не хватает. И опять прибыль. А времени свободного хоть отбавляй. Иной раз по неделе гуляет, хозяйством на свежем воздухе занимается. Это, милая, не под землёй кости ломать. — Старуха торжествующе поглядела при этом на Надежду Васильевну и продолжала: — Иные завидуют нам, говорят, что, мол, это за жизнь такая, даже ягодки одной как следует не съедите, всё на базар тащите. А спрашивается, какое им дело, едим мы их или не едим? Своим добром распоряжаемся, не чужим.
— Конечно, — сказала Надежда Васильевна. — Кому какое дело.
За всю свою жизнь на Рабочей улице Гриша не слышал столько разговоров о деньгах, сколько услышал за одно утро здесь, в брызгаловском доме. Там, на Рабочей, у всех людей, окружавших его, тем более у отца, к деньгам было совсем другое отношение. Здесь же упоминали о них со смаком, с жадностью, и всё время рядом со словом «деньги» соседствовало слово «прибыль».
Слушать об этом было неловко. Грише казалось, что и старуха, и отчим, и мать, охотно поддакивающая им, словно бесстыдно обнажаются друг перед другом, хвастаясь этим своим бесстыден вом.
— Я пойду погуляю, — поднявшись и обращаясь к матери, сказал он.
— Куда? — сиросила вместо матери, насторожившись, старуха.
— Да так. — Гриша пожал плечами. — По посёлку. Хоть познакомлюсь немного.
— Между прочим, вот что, — сказал отчим. — Каждый человек должен трудиться. Это, так сказать, коммунистический принцип. Человек должен приносить пользу обществу. Погулять, конечно, тоже можно, я лично не возражаю, учти этЪ, но сперва надо что-то сделать для дома. Принести пользу. За одно и к труду привыкнешь и физически разовьёшься. Вместо утренней зарядки. Стало быть, для тебя сегодня будет такое задание... — Он строго поглядел на Гришу. — Отлить четыре яблони.
— Это как — отлить? -- не понял Гриша.
— Это очень просто — отлить. Берёшь в руки ведро, черпаешь в колодце воду и выливаешь ту воду под яблони. Под каждую по десять вёдер. А потом в другом ведре разводишь коровяка, дерьмо то есть коровье, за сараем лежит, жижу такую делаешь и тоже по два ведёрка под каждую яблоню льёшь. Усвоил премудрость?
Гриша кивнул.
— Вот и действуй, развивайся, приноси пользу, вникай в дело. А с посёлком, с местными лоботрясами познакомиться успеешь. Яблоням же вода позарез нужна: дождика месяц уже нет, а яблоков на них много висит. И, если не отлнть, пе ноиптать яблоньки, половину урожая можно потерять. Понял?
— Понял, — сказал Гриша.
— Пойдём, я тебе вёдра покажу, — поспешно, как бы боясь, что он может передумать, сказала старуха, поднимаясь.
На этом завтрак закончился, и все, не мешкая ни минуты, занялись каждый своим делом. Мать снова взялась продёргивать морковь, Гриша — таскать под яблони воду, а отчим отправился в Москву искать подходящий товар нз нейлона, на который был сейчас спрос в Грузии: на днях отчим уезжал на Кавказ. Вскоре следом за ним подалась в Москву и старуха. Она нарвала нпонов, тигровых лилий, люпинуса, гвоздикп, связала их в большой букет и поехала, как потом узнал Гриша, продавать эти цветы на Комсомольской площади около вокзалов.
Гриша работал с увлечением. Вначале он опускал в глубокий, холодный цементный колодец помятое, на толстой цепи ведро, медленно раскручивая ручку барабана, но потом, увидев, как непринуждённо и легко сделала это девчонка, пришедшая к колодцу с двумя вёдрами, приловчился, и ведро у него тоже начало стремглав лететь вниз, увлекая за собою цепь. Грише лишь оставалось слегка притормаживать барабан ладонью, приложив её как раз к тому месту, где он был до глянца отполирован множеством так вот прикасавшихся к нему рук. Гриша первый раз в жизни доставал воду из колодца, н для пего было необыкновенно приятно, как шлеиалось ведро об воду, как оно, сперва совершенно невесомое, с плеском вырвавшись из воды, мгповенно тяжелело, и эта тяжесть тоже мгновенпо передавалась по напрягшейся цепи на руку, мышцы твердели, и цепь, медленно накручивающаяся на барабан, туго подрагивала. Он сосчитал: нужно сделать двадцать два взмаха рукой. Цепь, вначале сухая и бурая от ржавчины, а к концу, возле ведра, мокрая и тёмная, должна двадцать два раза обвиться вокруг барабана, пока из колодца не появится ведро, до краёв наполненное водой и всё охваченное колодезной стужей. Когда Гриша ставил его на сруб, вода плескалась и слитками летела в колодец, ударяясь там, на дне, с металлическим стуком.
Он таскал воду двумя вёдрами, и это тоже было ему в новинку и в удовольствие — чувствовать, как, стоит ему подхватить вёдра, оторвать их от земли, твердеют мышцы рук и сам он вдруг становится подобранным, ловко напряжённым, и это ощущение своей ловкости, упругости во всём теле было для него бесподобным, радостным и не сравнимым ни с чем.
Колодец находился за калиткой, метрах в семидесяти от дома, на перекрёстке улиц, и перетаскать оттуда сорок вёдер воды было нелегко.
Сперва Гриша екпнул рубашку, потом майку, потом разулся и закатал брюки до колен. Появляться в трусиках на улице ему казалось неудобным. Всякий раз, вылив воду под яблоню и глядя, как она впитывается землёй с такой скоростью, будто её кто-то жадно пьёт, он отдыхал, вытирая тыльной стороной ладони пот со лба и переносицы.
Потом он разводил коровяк, размешивая его в ведре палкой, и то, что он всё сделал именно так, как учили его отчим и старуха, тоже доставило ему удовольствие.
Мать всё ещё продёргивала морковь, когда он закончил свою работу и крикнул ей, натягивая на голову рубашку:
— Мам! Я всё сделал. Теперь пойду погуляю.
— Тут где-то речка есть, — отозвалась мать, поднявшись и упёршись руками в поясницу. Должно быть, от непривычной работы ныла поясница.
— Я поищу, — пообещал Гриша.
Мать с лёгкой улыбкой смотрела ему вслед, пока он не скрылся за калиткой. Потом, поправив косынку и всё с той же улыбкой поглядев на безоблачное, бездонно-голубое небо, с которого нещадно палило июпьское солнце, вновь опустилась на корточки и принялась за про pta иную работу. А работы было много. Надежда Васильепна не продёргала и полонимы, но это нисколько не смущало и не обескураживало её.
Ей здесь нравилось. И сам дом, такой большой, прохладный, прочный, и огород, и сад, и всё хозяйство. Нравилось и то, как здесь живут — строго, расчётливо, бережливо, учитывая каждую копейку. Она сама была расчётлива или, как говорил про неё дедушка Самохин, прижимиста, и порядки, заведённые в семье Брызгаловых, пришлись ей по душе. А работать она любила, особенно если эта работа была для дома. И ничего обидного не нашла она в том, что старуха так бесцеремонно запретила Грише рвать клубнику, и в том, что и для него сразу же нашлась работа. За клубнику и правда можно вон сколько выручить денег, а трудиться — она была согласна со своим новым мужем — должен каждый. Для дома, чтобы всё было хорошо, с пользой, надо стараться. Ей понравилось, как старался Гриша, таская под яблони воду. Она давно украдкой наблюдала за ним, осталась довольна, и у неё даже мелькнула польстившая ей мысль, что характером он всё-таки вышел в неё, а не в отца.
«Пусть теперь и отдохнёт, — благосклонно подумала она, глядя вслед сыну. — Пусть, ничего».
Посёлок Хорьково ведёт своё летосчисление с 1939 года и вырос на бросовой, наполовину заболоченной, заросшей ольхой, звеневшей в сумерках злым комаром земле. Теперь эту землю не узнать. Разбитая на квадраты участков, застроенная домами, расчерченная прямыми широкими улицами, обхоженная, сдобренная человеком, она покрылась рощами садов, аллеями гоиолен, берёз, рябины, клёна, тесно и густо вставших вдоль уличных канав. А комары исчезли, и остались один лишь безобидные толкачи, облачками мельтешившие на одном месте в тёплые вечера.
Каждый год летом население посёлка увеличивалось почти вдвое: наезжали дачники, народ шумный, бесцеремонный, требовательный, как, впрочем, все курортники и дачники, смело, но душевной простоте своей полагающие, что то, чего нельзя, неудобно делать дома, вполне возможно и прилично на курорте пли на даче. Во всяком случае в Хорькове их легко и безошибочно можно было отличить от
постоянных жителей, или, лак их называли, зимников, поскольку дачник, если только, он не спешил в город на работу, разгуливал по улицам, стоял на станции возле газетного киоска в очереди за газетами, толкался возле овощных, хлебных и молочных ларьков сельпо обязательно в комнатных шлёпанцах и полосатой пижаме, то есть в той самой одежде, в какой у себя дома, в Москве, он бы счёл неприличным не только выйти во двор, по даже высунуться на лестничную площадку.
Приезжали в Хорьково пионерские лагеря, детские дома и сады. Но у них была своя жизнь, обособленная от общей жизни посёлка, свои дачи, кухни, лужки, а у некоторых даже своп радиоузлы, и каждый день над посёлком нет-нет да и раздавался строгий и радостный от этой строгости девичий голос: «Всем пионеркам второго отряда
собраться на баскетбольной площадке», пли «Гриша Ласточкин и Петя Суптков, немедленно явптесь к своей пионервожатой», или «Редколлегия стенгазеты предупреждает, что сбор заметок продлён ещё на два дня».
В конце августа посёлок заметно пустел. Каждый год это походило на поспешную эвакуацию. Легковые и грузовые такси, автобусы уходили из посёлка, переполненные людьми, узлами, чемоданами и прочим домашним скарбом. И опять до весны, до школьных каникул, до дачников, наступала тихая, размеренная жизнь. В Москву из Хорь-кова можно было добраться электричкой за сорок пять минут, все хорьковскне зимники работали в столице, н было среди них много шофёров, строителей:, текстильщиц, трикотажниц, железнодорожников ироде Брызгалова и служащих всяких учреждений. Просыпались в Хорьково рапо: пные, чтобы попасть на работу в утреннюю смену, были вынуждены подниматься на ноги ни свет ни заря.
Выйдя за калитку, Гриша в нерешительности остановился, не зная, в какую сторону направиться. Всё здесь было пока незнакомо ему, кроме разве колодца, из которого он только что черпал воду. И Гриша свернул к колодцу, потом налево и побрёл вдоль заборов но плотно утоптанной, обросшей по краям травой тропке, прочитав на одном из домов название улицы. Она называлась Партизанской. Вскоре её пересекла другая улица, Карла Маркса, и по тому, что она была много шире, замощена булыжником с асфальтовыми дорожками для пешеходов, нетрудно было
догадаться, что эта улица главная в посёлке н, вне всяких сомнений, ведёт к станции.
Но Гриша не стал сворачивать на неё, а пошёл дальше по Партизанской и скоро очутился возле магазина сельпо. Двери были гостеприимно распахнуты, словно на Рабочей улице, и Гриша вошёл.
Что же это был за магазин! Гриша ни разу не видел такого сказочного магазина. Здесь можно было купить решительно всё, что угодно твоей душе: хлеб, селёдку, детскую гармошку, ситец, телогрейку, папиросы, румынский ром, конфеты, крупу и даже вятский мотороллер. И всем этим богатством распоряжался один молодой, весёлый, краснолицый продавец, без устали балагуривший с покупательницами и даже подмигнувший Грише, остановившемуся посреди магазина и с восхищением оглядывавшему прилавки и полки.
Сразу же за магазином начинался большой пустырь, обрамлённый несколькими рядами молоденьких, хиленьких, вероятно лишь нынешней весной высаженных деревьев. Посреди пустыря было футбольное поле, облысевшее возле ворот, в тех местах, где обычно происходят самые жаркие схватки противников. А дальше снова пошли дома и сады; только под уклон, за садами, виднелся темно-сипий лес с просекой и железными решётчатыми столбами высоковольтной передачи. Гриша загадал, что непременно дойдёт до этого леса, как улица кончилась, и перед ним открылась большая речная заводь с плотиной, лодочной пристанью и неистово галдящими и плещущимися возле берега мальчишками. он сразу позабыл о том, что собирался побывать в лесу, так пели ко а искушающе оказалось новое, возникшее у него при виде заводи желание сейчас же, не мешкая, искупаться. Берег был невысокий, травянистый и колючий: траву недавно скосили и увезли. Невдалеке лежала на разостланных рубашках и брюках компания подростков, при появлении Гриши прервавших разговор и с любопытством уставившихся на него.
Гриша, раздеваясь, чувствовал на себе пристальные взгляды мальчишек и едва удерживался от желания посмотреть в их сторону. Но делать этого было нельзя. Он сам не знал почему, но хорошо знал, что нельзя. Нужно было, наоборот, не придавать этому никакого значения, делать вид, что тебе совершеппо безразлично, смотрят на
тебя или нет.,И он не спеша стянул с себя рубашку, аккуратно сложил её, скатал брюки, подсунул под них сандалии и, не торопясь, продолжая чувствовать на себе взгляды сверстников и делая вид, что ему это совершенно безразлично, спрыгнул с берега и пошёл в воду всё глубже и глубже, пока она не достала ему до плеч. Тогда он взмахнул руками и поплыл, то отфыркиваясь и выбрасываясь над водой до пояса, то погружаясь в неё с головой.
Вода была лёгкая, чистая, прохладная, не то что в кусковском пруду; плыть было свободно и неутомительно, и Гриша, доплыв до середины заводи, даже не отдыхая, повернул обратно, но теперь уже другим стилем — на боку. Плыл и чувствовал, что с берега продолжают следить за ним.
Они на самом деле всё время наблюдали за Гришей, и, когда он вышел на берег, один из них крикнул:
— Эй, друг! Ты здорово плаваешь.
— Да так, — очень польщённый, скромно сказал Гриша, нехотя пожав плечами. — Как все.
— Ты, наверное, где-нибудь занимаешься по плав;о нию?
— Нет. — Гриша взял брюки, рубашку, сандалии, подошёл поближе к ребятам и, расстелив по их примеру одежду, чтобы не колола скошенная трава, с удовольствием развалился, подставив солнцу спину, подперев голову кулаками и задрав пятки.
— В гости к кому-нибудь приехал? — допытывался тот парень, который только что похвалил Гришу.
— Нет.
— Дачник?
— Да нет, мы вчера переехали сюда совсем из Москвы, с Габочей улицы, может, знаешь?
- Это где?
За Курским вокзалом.
— Я там никогда не бывал... А где ваша дача?
— Да она, собственно, не наша. Мать замуж вытпла... Брызгалов его фамилия, а дача на Перевальной улице, дом такой коричневый.
— Это та, у которой забор, как в концлагере, что ли?
— Не знаю. По-моему, забор как забор. Как у всех.
— А ты вглядись.
— Ладно.
— Я их знаю, — вмешался другой парень. — Там старуха с сыном живёт, правильно? — спросил он у Гриши и, когда тот кивнул головой, продолжал: — Они жадные как черти! В прошлом году нам два куста смородины продали. Отец деньги им честь по чести уплатил, а кусты оказались старые, они их всё равно выбрасывать хотели.
— Я их тоже знаю, — вмешался в разговор третий. — Ихняя старуха одним дачникам курицу подыхающую всучила. Те её ощипали, а она синяя.
— Ну и попал ты, друг, в семейку, если так, — заговорил первый. — Смотри пе поддавайся, а то они быстро тебя к рукам приберут. Оглянуться не успеешь. Ты комсомолец?
— Да-
— В какой класс перешёл?
- В девятый.
— У пас будешь учиться?
— Придётся, конечно. — Грпша, разговаривая с ребятами, думал: «Посмотреть забор. «Как в концлагере»... Посмотреть забор. Да нет, они, наверное, путают. Забор как забор. Я ведь ничего ие заметил. Надо всё-таки проверить. А в общем-то наплевать. Мне-то какое дело? Но ведь я теперь тоже там живу. Надо посмотреть».
— Ты не обиделся? — спрашивали его.
— Нет, почему...
— А то другие обижаются за родственников.
- Если правда, я никогда не обижаюсь. Глупо обижаться, если правда.
Скоро ребята заговорили о каком-то Кольке, вывихнувшем во время игры в волейбол руку, о том, как ему вправляли её в поселковой поликлинике, а Гриша, попрощавшись с ними, поспешил домой. Ему не терпелось поскорее проверить, как выглядит забор.
Л забор на первый взгляд ничем не отличался от других заборов. Только, быть может, был повыше и поплотнее, чем все.
Но йотом, приглядевшись к нему, Гриша понял, в чём дело, и это поразило его: по самому верху забора были прибиты рейки в виде буквы «Г», обращённые остриём внутрь участка, и по ним в три ряда натянута колючая проволока.
Эту проволоку трудно было заметить сразу: так искусно маскировали её ветки, нависающие над забором. Да, именно так были устроены ограды в фашистских концлагерях. Гриша видел их в кинофильмах.
На крыльце его встретила старуха, уже вернувшаяся из Москвы. Вид у неё был такой приветливо-медоточивый, словно она давно уже с нетерпением поджидала Гришу.
— Нагулялся? спросила она, растянув в улыбке топкие, злые губы и в умилении склонив голову набок. — Вот и хорошо. — Она всё улыбалась, но глаза её, светлые и чуть выпученные, смотрели на Гришу пронзительно и недобро. — Пойди-ка принеси воды корове. Шесть вёдер. — И, не дожидаясь ответа, круто повернувшись, махнув подолом широкой юбки, ушла в дом.
Глава седьмая ЧЕРТ ЗНАЕТ ЧТО...
Так кончилась у Гриши беззаботная мальчишеская жизнь и начались, по словам старухи, обязанности по дому. Он отливал яблони, таскал корове и поросёнку воду, чистил хлев, поливал овощи, цветы, и конца этим обязанностям, как он скоро понял, не предвиделось. Старуха, казалось, только н была теперь озабочена тем, как бы парень не остался без дела. А дни, словно назло, стояли сухие, жаркие, безоблачные, в огороде всё горело. Гриша даже мозоли натёр на ладонях ведёрными дужками. Но труднее всего было чпстпть вонючую поросячью клеть. Его всякий раз тошнило, он никак не мог привыкнуть к удушающе едкому запаху поросячьих испражнений. За коровой убирал хоть бы что, а за свиньёй не мог. Каждый день говорил себе, что должен привыкнуть — люди по тысяче голов выращивают, но это не помогало. И, когда ои опять скрёб мокрый пол, — его рвало. И он скоро люто возненавидел свинью, это жирное существо с хитрыми, всё понимающими и как бы издевающимися над Гришей глазками.
Работы, впрочем, хватало всем. Сама старуха чуть не каждый день ездила в Москву то с цветами, то с редиской, то с клубникой, а хозяйством занималась мать. Кормила кур, корову, поросёнка, разносила по дачникам молоко,
продавала им яички, и всё это было в радость ей. Она за это время загорела, окрепла, огрубела и в то же время помолодела лицом, да так, что даже Грщпа заметил это и удивился. В светлом, выгоревшем сарафанчике и ситцевой косынке, чудом державшейся на пышных, завитых ещё к свадьбе волосах, она носилась из дома в огород, из огорода в курятник, напевая про себя всякие песенки. Это тоже было для Гриши новостью. В Москве, на Рабочей, она редко пела, особенно после того как умер Гришин отец.
По вечерам на верапде пили чай с молоком, это у старухи называлось посидеть по-семейному, тихо-мирно отдохнуть, поговорить. Чай пили не спеша, с удовольствием, долго и много, и мать, быстро привыкшая к этому, и старуха с озабоченными лицами подсчитывали, между тем, сколько выручили за продажу, обсуждали, что сейчас выгоднее возить в Москву, а что продавать в посёлке дачникам. А Гриша ни к долгому чаепитию, ни к разговорам о базаре и выручке привыкнуть не мог и быстро уходил на крыльцо, где, сидя на ступеньках, привалившись плечом к перилам, слушал вечерние звуки засыпающего посёлка.
С каждым днём всё больше и болыпо поспевало клубники. Это и радовало женщин из брызгаловского дома, поскольку отвозили её на базар целыми корзинами, и огорчало, так как клубника катастрофически дешевела.
Но вот поспели огурцы. Собирали их и подкапывали картошку, про которую старуха сказала, что она сейчас тоже, матушка, в хорошей цене, втроём, поднявшись для этого в пять часов, чтобы пораньше поспеть на базар.
На дворе было свежо, росисто, всё покрыто длинными косыми тенями, и Гриша, сперва еле передвигавший спросонья ноги, скоро почувствовал себя бодрым, сильным, ловким и счастливым. Да, это было истинное наслаждение, сидя на корточках, разгребать руками мокрые, шершавые листья, находить прячущиеся под ними огурцы, то гладкие, то в мелких пупырышках, на ощупь схожие с рашпилем, отрывать их от плетей, укладывать в корзину!..
Корзины, наполненные огурцами и картошкой, оказались тяжёлыми. Тяжелее вёдер с водой. Старуха с сомнением потрогала одну, понянчила в жилистой, смуглой руке другую и вопросительно посмотрела на Гришину мать.
— Тяжело? — с сочувствием спросила та.
— И не донести, поди.
— Как же быть?
— Сама не знаю. — Старуха, как показалось Грише, очень разочаровалась. — А уж раз набрали, надо везтп. — Она опять потрогала корзины, сделала с ними несколько шагов и, ставя на тропку, огорчённо проговорила: — Нет, не донести.
Грише было совершенно безразлично, тяжело старухе или легко. Даже лучше, если тяжело, думал он, и всё это очень просто устроить. Надо только отсыпать огурцов, картошки, и ноша сразу станет легче. Его удивляло, почему они сами не догадываются об этом. А картошку можно сварить, это такое лакомство — свежая горячая картошка, да ещё с огурцами! Огурец разрезать, посолить, он тут же покроется каплями влаги, словно вспотеет, и соль мгновенно растворится в этом огуречном поту.
Но картошку, к сожалению, варили всё ещё прошлогоднюю, проросшую голубыми усами.
— Григории, тебе говорят! Ты заснул, что ли? — услышал он недовольный и властный голос матери.
— А что? — встрепенулся Гриша.
— Я тебе второй раз говорю: переодень рубашку да поезжай с бабушкой на базар, помоги ей. Видишь, как много всего.
— Поедем-ка, парень, поедем, — оживлённо сказала старуха. — Привыкай деньги зашибать. Глядишь, и один когда сможешь съездить. Не всё мне кожшшться. Премудрость будет не нз великих.
— Ладно, что же, — охотно сказал Гриша и пошёл переодеваться.
Неожиданная поездка в Москву, по которой он уже успел соскучиться, обрадовала его. Всего лишь две педели прошло с тех пор, как уехали они из Москвы, Но Грише казалось, что он не был там целую вечность. Он быстро переоделся, взвалил корзину с картошкой на плечи и поспешил вслед за старухой, шагавшей так деловито н скоро, что со спины можно было подумать, будто это идёт не старуха, а переодетый мужчина.
Сейчас, утром, по главной поселковой улице имени Карла Маркса люди шли только в одну сторону — к станции. Они шли и по боковым асфальтированным дорожкам, и посреди улицы, по булыжной мостовой, стекаясь сюда со всех сторон. И чем ближе к станции, тем многолюднее становилось вокруг. Пешеходов обгоняли мотоциклы, мотороллеры, легковые автомобили. У машин были опущены боковые стёкла, и их владельцы катили на работу, кто небрежно развалясь на сиденье, а кто с таким напряжением вцепившись в руль, словно боясь вывалиться из машины и она могла укатить одна, без него, своего властелина.
Грпша уже знал, что к вечеру повторится то же самое передвижение, только в ином, обратном направлении. И машины, и мотороллеры, и мотоциклы, и пешеходы будут двигаться со стороны станции в глубь посёлка, и, по мере удаления от железной дороги, постепенно растекаясь по боковым улицам.
Купили на станции билеты и едва втиснулись со своими корзинами в переполненный вагон электрички. Ехали в тамбуре, прижатые в угол. Поезд, к счастью, был дальний и от Хорькова до Москвы делал всего две остановки. Он летел весело, завывая сиреной, мимо дачных посёлков, станционных платформ с людьми на них, переездов с опущенными полосатыми шлагбаумами, сторожихами с жёлтыми палочками в руках, очередями автомобилей, уткнувшимися в шлагбаум; летел, шально качаясь, подрагивая на стыках. В переполненных вагонах постепенно утряслось, и оказалось ещё много свободного места и в проходе вдоль скамеек, ц междуг скамейками, н в тамбуре.
Гриша, первое время упиравшийся руками в стену и чувствовавший, как корзина с картошкой нестерпимо режет ему ноги, отступил наконец от стены и огляделся.
Возле противоположной двери стайка девушек, все с модными причёсками, похожими на осиные гнёзда, в широких и коротких, сшитых тоже по моде не то из драпа, не то нз пледов юбках, но в прозрачных кофточках из нейлона обсуждали, судя по их сосредоточенным лицам, нечто очень важное. «Он подходит ко мне и берёт за руку. Можете себе представить?» — говорила одна из них, а остальные смотрели на неё такими выразительными глазами, что
было ясно, что они ничего подобного представить себе не могут. Старичок в берете, с толстым, бог весть чем набитым портфелем в руке; трое мужчин, горячо обсуждающих последние футбольные игры; полная, нарядпая женщина с девочкой; парень в клетчатой рубашке навыпуск, но не в узкой и короткой, а в широкой и длинной, похожей на колокол. Рукава закатаны по локоть, загорелые руки крепки, мускулисты. Парень вытащил из кармана пачку сигарет, тряхнул её перед своим лицом и ловко поймал выскочившую из пачки сигарету губами. Когда он зажигал спичку, Гриша заметил, что пальцы его были в ссадинах, с въевшейся возле ногтей металлической пылью.
— А курить то можно бы и подождать, — недбвольно сказала старуха, отмахиваясь от дыма, выпущенного парнем в её сторону.
— Почему же? — спросил парень и с любопытством оглядел старуху.
Он стоял, привалившись плечом к двери, одно нз стёкол которой было выбито, и дым от сигареты тянуло туда словно в вентиляционную трубу.
— А потому что читай вон, — старуха указала глазами на стенку, — по-русски написано: «Курить и сорить воспрещается».
— Многое чего воспрещается и не воспрещается, — невозмутимо сказал парень и посмотрел на корзину, обвязанную мешковиной и стоявшую возле старухи. — Вот ты, например, чего везёшь?
— А тебе что? — огрызнулась старуха.
— Небось на рынок двинулась? Картошечки, огурчиков...
— А хоть бы и так. Своё везу, не краденое.
- Зато деньги не своп обратно повезёшь. Люди их с йотом зарабатывают, а ты...
— А что я? Ты подп-ка покопайся в земле, покланяйся ей, пока вырастишь чего.
«Это верно, — подумал Гриша, прислушиваясь к перебранке. — Я могу подтвердить — накланяешься».
— Излишки никому не запрещено продавать, — продолжала меж тем старуха.
— Верно, — подтвердил парень. — Только ты их втридорога продашь. Ты бы вот, если у тебя излишки, угостила бы ими кого-ппбудь бесплатпо, по сознательности.
— Не доросла я ещё до такой сознательности, чтобы даром на чужих людей работать, — не сдавалась старуха.
— Это и видно.
— Я говорю: для того и рыпки существуют, чтобы торговать.
— Они, между прочим, называются колхозными, — сказал парень, ловко, щелчком, выстрелив окурком в окно. — Ты обратила на это внимание? Колхозные! — Он поднял вверх указательный палец. — Значит, для колхозников, а не для живодёров.
Долго бы ещё, вероятно, обменивались они столь любезными репликами, но поезд наконец подошёл под крытые платформы московского вокзала, двери с шипением распахнулись, старуха подхватила корзину и вышла вслед за парнем, первым легко выпрыгнувшим нз вагона.
«Излишки... — думал Грпша, проталкиваясь вслед за старухой в толпе, запрудившей платформу, и стараясь пе выпускать её из виду. — Излишки, это когда для себя много, а какие же это излишки, если мы сами ещё ни одного огурца не съели?»
А Москва была по-прежнему затянута сизой дымкой, пропитанной запахом бензина, многолюдна, шумна, тороплива, бойка, какого и может быть только Москва, где все в беспрсстанпом движении и в такой деловитой, весёлой спешке, когда и тебе неудобно отставать от других и ты невольно и совершенно незаметно для себя включаешься в её беспокойный ритм, стоит лишь оказаться на одной нз её улиц. Так случилось и с Гришей, когда они со старухой вышли за черту вокзала. Он сразу же почувствовал себя тем самым беспечным, не связанным никакими обязанностями московским Гришей.
Спустя полчаса они уже были на рынке.
Здесь сразу же, от самых ворот, таких неимоверно широких, какими и должны быть рыночные ворота, распахну-
тые настежь, начиналась совсем иная, чем на улице, жизнь. Даже гул стоял свой, рыночный, особый гул потревоженного улья. Самые завзятые москвичи чувствовали себя здесь совершенно иначе и, вынужденные подчиниться ритму базара, никуда уже, казалось, не спешили. Запахи огородов, полей, садов, амбаров, молочных и животноводческих ферм были здесь настолько густы и сильны, что над базаром стоял свой, отличный от улиц, воздух.
Около ворот торговали семенами, рассадой, гладиолусами, фикусами, геранью, мочалками, вешалками, васильками, полевой ромашкой. Покупателей тут было сравнительно мало. Основная масса домохозяек, свободных от работы глав семейств, пенсионеров, оторванных хозяйственными делами от сосредоточенных игр, с кошёлками, сумками, авоськами, бидонами и стеклянными банками в руках устремлялась к крытым рядам, где торговали молоком, сметаной, творогом, маслом, салом, говядиной, бараниной, свининой, дикой и домашней птицей. Но теснее, многолюднее, голосистее и ярче было всё же возле тех длинных столов, на которых лежали груды картофеля, редиса, моркови, огурцов, лука, репы, чеснока, клубники и прочих, взращённых в садах и огородах даров земли. Пахло здесь сильнее всего укропом и петрушкой. За столами, около весов, стояли торговки в белых фартуках, молодые и старые, красивые и некрасивые, но все с загорелыми, огрубевшими под щедрым деревенским солнцем, обветренными лицами. Это были колхозницы, официальные, полноправные и полновластные, но папиному замыслу работников управления рынками, хозяйки базара. Но внимательный взгляд мог бы, не особенно утруждаясь, различить среди них женщин и другого типа. Они не так обожжены солнцем, белотелы, иные даже с накрашенными губами, и все — более бойки, расторопны и дерзки на язык. На слово они ответят вам целым потоком насмешек и колкостей, за ответом в карман не лезут. Это так называемые перекупщицы, то есть самые обыкновенные городские жительницы, сделавшие своим ремеслом спекуляцию перекупленными у колхозников товарами. Они-то и являются хотя и не официальными, но полновластными хозяйками рынка, так как именно они и устанавливают здесь все цены.
За одним из таких столов, занятых официальными и неофициальными хозяйками базара, нашли себе место и
старуха с Гришей. Старуха, оставив корзины на попечение Гриши, тут же куда-то ушла и скоро вернулась, неся весы и два фартука, один из которых и протянула Грише.
— На-ко, облачись.
— Зачем же... — попробовал было возразить Гриша, принимая, однако, фартук из рук старухи.
— Так полагается, — сказала та.
Грпша надел фартук, завязал на спине тесёмки и покраснел. Раньше он бывал на рынке лишь как покупатель, даже любил приходить сюда и толкаться в этом шумном, многоголосом и ярком обществе, теперь же, оказавшись в повой и не привычной для него роли торговца, смутился и не знал, как держать себя. Ему было так же неловко, как неловко было однажды на сцене клуба имени Семашко, где он единственный за всю свою жизнь раз выступал в школьной самодеятельности перед переполненным людьми залом и читал стихотворение Лермонтова «Белеет парус одинокий». Однако там было только неловко, неуклюже под пристальными взглядами смотрящих на него нз зала людей, здесь же, за торговым столом, к этой неловкости примешивалось ещё и нечто другое, дополнявшее и усиливавшее её. Дело в том, что Гриша стыдился быть в роли торговца. Нет, не вообще торговца, а такого торговца, каким он был сейчас. Если бы ему поручили продать цто-нибудь государственное, как, например, продают в магазинах, или колхозное, он бы, пожалуй, не ощутил никакого стыда. Так делают все, так принято, так нужно, однако сейчас ему было стыдно оттого, что он продаёт своё, то есть то, чего не следовало бы, по его понятию, продавать. Да, он был согласен с тем парнем нз вагона, и лучше было бы всо это отдать кому-нибудь бесплатно или съесть самим.
— Вот смотри-ка, — говорила ему меж тем старуха, — на том конце соседнего стола — видишь? — стоит такая маленькая полненькая блондинка, видишь?
— Вижу, — сказал Гриша.
— Подп-ка сходи к ней и спроси: «Наталья Впкторов-на, мол, хорьковская бабушка спрашивает, какая нынче цена будет на свежие огурцы и скороспелку». Поди-ка... — И с этими словами она легонько подтолкнула Гришу в спину.
— Но...
Иди, иди, — сказала она и, ещё раз, но уже сильнее подтолкнув его, принялась распаковывать корзины.
Цена на свежпе огурцы и на картошку-скороспелку оказалась такой, что старуха оживилась, повеселела и, не обращая никакого внимания на неловко топтавшегося возле неё Гришу, стала покрикивать:
— Вот картошечка, свеженькая картошечка! Огурчики с грядочки, свеженькие, роса ещё не высохла!
А жпзнь рынка меж тем текла своим чередом. Толпа покупателей, толкаясь, двигалась вдоль рядов, люди останавливались, спрашивали, сколько стоит. Старуха бойко, наигранно-льстиво, Гриша смущённо, чуть пе шёпотом, называли цену.
— Дорого, — говорили им.
Гриша с растерянной улыбкой пожимал плечами.
— Дорого да мило, — отвечала как ни в чём не бывало старуха.
Покупали понемногу, по огурчику, по два, говорили при этом, как бы извиняясь: «Ребятишкам», «Больному».
Старуха все эти слова пропускала мимо ушей, а Гриша думал, что, будь это в его власти, он бы отдал больному и ребятишкам все огурцы даром.
Как-то одна из покупательниц, услышав цену, бросила с укоризной:
— Спекулянты вы чёртовы.
Старуха засмеялась вслед ей, засмеялась и её соседка — разбитная молодая бабёнка с пакрашепнымп, но грязными ногтями, торговавшая репчатым луком, завезённым сюда, по всей видимости, издалека и перекупленным ею, а Гриша почувствовал себя от этих слов так, будто его по щекам отхлестали.
— Ведь верно дорого, — проговорил он, обращаясь к старухе.
— A ты помалкивай, помощничек, — всё ещё смеясь, ответила старуха. — Своё продаю, не краденое. А за своё что хочу, то и ворочу. Слышишь?
Но Грпша уже не слышал её. В толпе вдоль соседнего ряда, так близко от него, что вдруг до холода замерло и потом заколотилось сердце, прошла Лиза Прямкова с матерью. Округлив глаза, вытянув шею, он следил за ними. Казалось, ещё мгновение, Лиза оглянется, увидит его, стоящего у всех на виду, заметного отовсюду, и тогда произойдёт нечто столь позорное, от чего никогда потом за всю жизнь не избавиться ему.
Но Лиза не огляну-лась, и скоро, совсем смешавшись с толпою, они с матерью исчезли из виду. Гриша уже с облегчением было вздохнул, как в его голове пронеслась ужасная догадка, что Прям-ковы, дойдя до конца рядов, могут повернуть обратно, пойти как раз вдоль того стола, за которым стоит Гриша, и тогда... «Они увидят меня, — с лихорадочной поспешностью думал он, — сразу поймут, зачем я приехал сюда, почему стою здесь в этом фартуке. Что же мне делать, куда мне деваться?»
Как же случилось, что он, комсомолец, вдруг оказался в одной компании со старухой, с этой развязной бабёнкой с накрашенными грязными ногтями? Бежать! Немедленно бежать отсюда, пока ещё ничего не случилось, ничего не произошло, пока Прямковы не увидели его в фартуке возле этих чёртовых корзин!
— Я поеду домой, — заявил он старухе,.. торопливо развязывая тесёмки фартука. — Дайте мне мой билет.
Рано ещё, — ничего не понимая, ответила старуха.
— Дайте сюда немедленно билет, — раздельно и решительно проговорил Гриша.
Он уже перебрался на другую сторону стола и швырнул на него смятый в комок фартук. Как только он сделал это, ему стало легче, свободнее, исчезли и стыд и неловкость, стол как бы мгновенно и надёжно отделил его от торговок и сделал равным с теми, что, прицениваясь, толпились возле столов. Бид у него, вероятно, был таким грозным и
необычным для старухи, что она, пп слова больше не говоря, вытащила из кармана кофты и подала Грише билет. Гриша схватил его, крепко сжал в кулаке и, расталкивая людей, опрометью бросился к выходу.
Только за воротами он отдышался и вспомнил, что у пего нет ни копейки денег, чтобы добраться до вокзала.
— А, наплевать, — как-то отчаянно-весело, нисколько не сожалея об этом, вслух молвил Гриша и, махнув рукою с той же лихой отчаянностью, пошёл на вокзал пешком.
Он шёл по шумным, залитым солнцем улицам, ещё сильнее, чем утром, пахнущим бензпном, к чему теперь ещё примешивался запах разогретого асфальта, с тем лёгким, бодрым чувством, какое бывает у человека, раз и навсегда отделавшегося от большого, опутавшего было его пе-счастья. Шёл той бодрой, радостной походкой, какая бывает у человека, сбросившего с плеч долго, нудно и неприятно давившую на нпх тяжесть. Шёл, беспечно сунув руки в карманы брюк, уже убеждённый в том, что подобного с ним никогда не случится больше. Шёл, и улыбался, и насвистывал, ужасно довольный собою и тем, что всё теперь у него будет иначе. Как иначе, он не знал, но о том, что всё теперь будет иначе и хорошо, знал твёрдо.
Дома, на веранде, мать с отчимом, только что вернувшимся из поездки, перебирали абрикосы и персики. Отчим привёз с юга для продажи в Москве два больших чемодана фруктов.
— Уже расторговались! — воскликнул он, увидев вошедшего Гришу.
— А где бабушка? — спросила мать.
— На базаре, — сказал Грипга, садясь за стол и чувствуя, что вот это иное в его жизни уже начинается.
— А что же ты? Заболел? — Мать с подозрением глядела на него.
— А я торговать не буду! Я вам сейчас всё скажу, что думаю. - - Он был решителен и взволнован.
— Ну-ка, ну-ка, интересно послушать, — проговорил отчим.
— На базар я ездить не буду, — сказал Гриша. — Там пас спекулянтами назвали.
— А тебя убудет от этого? — спросил отчим. — Мало лп несознательных.
— Это мы несознательные, втридорога продаём, — возразил Гршна. — И вообще рынок существует для колхозников, чтобы они продавали свон излишки, а не для живодёров.
— Как, как? — сурово спросил отчим.
- Да ты что, белены объелся? — встревоженно вскрикнула мать.
Гриша сидел, напряжённо выпрямившись, положив до боли в пальцах сжатые кулаки на стол, заваленный абрикосами и персиками.
— Это тоже для спекуляции? — спросил он, кивнув на груды фруктов.
— Чёрт знает что, — проговорил отчим.
Они с матерью стояли по другую сторону стола словно экзаменаторы.
«Всё равно», — весело и отчаянно, как тогда, когда он шёл по московским улицам, пронеслось в голове Гриши.
— И ваш свиной хлев я чистить не буду, — заявил си. — Так и знайте, я вам не батрак. И огород поливать тоже.
— Опомнись, Григорий! — вскричала мать. — Подумай, что ты говоришь!
Гриша укоризненно взглянул на неё, ничего ие ответив.
— Что же ты намерен делать? — спросил отчим сурово, по пока ещё сдержанно.
— Ничего.
— А у нас, знаешь ли, такое правило: кто не работает, тот и не ест. Знаешь такое правило?
— Ну и ладно, — сказал Гриша. — Знаю.
— Да нет, кет, — беспокойно и просительно глядя то на мужа, то на Гршну, проговорила мать. — Он сам не знает, что говорит. Ты понимаешь, что ты говоришь?
— У вас всё только для спекуляции, — продолжал Гриша, не слушая её. — Только чтоб денег нажить, людей околпачить. Вы даже старые кусты смородины, которые нужно выбросить, продали. Даже дохлую курицу. Вас за людей здесь не считают.
— Откуда это тебе известно? — спросил отчим, закуривая.
Он, казалось, был спокоен, однако по тому, как, прежде чем закурить, поломал несколько спичек, было видно, что он едва сдерживает себя.
Но Грише теперь уже было всё равно. И он сказал:
— Это не только мне, а всему посёлку известно. Вы даже забор вон какой сделали...
— Какой? — Отчим с ненавистью глядел на него.
— Как в концлагере, — нерадостно усмехнулся Гриша.
— А ты бы хотел, чтоб все яблони пообломали?
— Нпкому не нужны ваши яблони.
— В общем, хватит, помитинговали! — оборвал его отчим.
— Хватит так хватит, я всё сказал.
— Гриша, Гриша, — со слезами на глазах огорчённо проговорила мать. — Ты весь в отца, непутёвый.
— Отца не трогайте! — вскричал Гриша. — Он был честным человеком, он был коммунистом, он на фронте был, он...
— Цыц! — взревел окончательно взбешённый отчим и стукнул кулаком по столу. — Не забывай, в чьём доме ты находишься, чей хлеб ешь, критик несчастный! — И, помолчав, несколько успокоясь, жёстко добавил: — Можешь не работать.
— Да, я не буду на вас работать.
— Но к молоку не прикасайся.
— Хорошо. — Гриша был бледен. — Вы его сами только с чаем пьёте.
— И ни одной ягоды, ни одной смородины...
— Хорошо. Вы их сама не едите.
— А теперь пошёл ион, не мешай нам заниматься делом.
— Ладно, занимайтесь. — Гриша поднялся из-за стола и направился-к лестнице, ведущей на чердак, в его комнату.
Он лёг на топчан и, подложпв руки под голову, стиснув зубы, уставился немигающими глазами в потолок.
Жёлтый дощатый потолок был в щелях и сучках, с золотистыми от ржавчины шляпками гвоздей. Гриша начал считать гвозди, досчитал до семнадцати, сбился, принялся считать доски и тоже сбился. Он чувствовал себя очень одиноким, и это было до слёз печально. Он понимал: с ним сейчас произошло такое значительное, большое и важное, что нужно было кому-то непременно рассказать о том, почему и как все это случилось, найти себе единомышленника и услышать от него слова одобрения. Ах, если бы кто-нибудь сейчас терпеливо выслушал его и сказал, что он прав! Тут Грпша мысленно перенёсся к себе на Рабочую, в свой тесно населённый, шумный старый дом. Какая всё-таки была глубокая разница — тот дом и этот, те люди и эти! Он представил бабушку и дедушку Самохиных, Матрёну Осиповну, Петра Петровича, Лизу Прямкову... «Видела или не видела она меня на базаре? — вдруг с бес- нокойством подумал он. — Они ведь прошли так близко! Неужели она лишь сделала вид, что не заметила меня, а на самом деле видела, как я стоял в фартуке возле старухи, всё поняла и из-за презрения не стала разговаривать со мной? Нет, если бы она увидела, то подошла бы и заговорила или хотя бы поздоровалась на ходу. Но если она всё-таки видела и прошла, отвернувшись от меня?»
Беспокойство, смешанное с нетерпением, всё сильнее и сильнее охватывало его.
«А не поехать ли мне сейчас, немедленно, туда, на Рабочую? — думал он минуту спустя. — Ведь всё сразу же выяснится: и про базар, и про то, прав я или неправ, что псе высказал отчиму?» Он подумал, что отец Лизы Прям-ковой может работать в ночную смену и сейчас быть дома, и, если рассказать ему обо всём, он сразу разберётся, что к чему. В самом деле, не поехать ли ему сейчас, не мешкая пи минуты, туда, на Рабочую?
На лестнице послышались шаги, заскрипели ступеньки Кто-то поднимался к нему. Он лежал не шевелясь, уста-вясь в потолок всё тем же неподвижным, отсутствующим взглядом.
Отворилась дверь, и воптла мать, поставила на стол кружку молока, прикрытую горбушкой чёрного хлеба. Гриша, скосив глаза, невольно проглотил вдруг наполнившую рот слюну, только теперь ощутив, как он голоден.
Мать села рядом с ним на топчан и устало, примирительно сказала:
— Поешь.
— Не хочу. — Гриша даже пе шевельнулся.
— Ты же со вчерашнего ничего не ел.
— Ну и ладно, — упрямо и холодно проговорил он.
Помолчали.
— Зачем ты так, Гриша, обидел его? — заговорила мать. — он хороший, он старается для дома, и бабушка тоже, все работают не покладая рук.
— А для чего? — горячо спросил Грита, повернувшись на бок и опершись локтем о подушку. — Корова, свинья, куры, огород, сад, эти несчастные персики — для чего? Чтобы нажиться, продать втридорога? Как можно после- этого людям в глаза смотреть? Ты понимаешь это?
— Каждый живёт по-своему.
— Я не хочу так жить. Не буду, так и знай! Вон люди как говорят про них, ты послушала бы.
— Это из зависти.
— Ах, ничего ты не понимаешь! — с тоскою и огорчением проговорил Грпша, откинувшись на спину и опять подложив под голову руки.
Разговор не клеился.
— Не обижай хоть меня, — после некоторого молчания просительно сказала мать.
— Я тебя не обижаю, — глухо отозвался Гриша, глядя в потолок.
— Можно бы хорошо жить, дружно, все вместе, одной семьёй. Смотрп, сколько всего, душа радуется.
Он настойчиво повторил:
— Я не хочу так жить! Ведь всё у нас было по-другому. Зачем мы уехали с Рабочей? Для чего нам всё это?
Мать лишь вздохнула в ответ. Она сидела на краешке топчана, совсем рядом с пим, по что-то уже отделяло их, что-то прочно легло меж ними.
— Как же нам жить, если н дальше так будет? - заговорила она как бы сама с собой. - Не зиаю, ие знаю.
— Пусть он -не думает, что я буду жпть за его счёт, — проговорил Гриша. — Я пойду работать. — Эта мысль возникла у него только что, и он обрадовался ей. — Да, работать, — оживлённо повторил он, вновь поворачиваясь на бок и приподнимаясь на локте.
— Ну что же, — отозвалась мать. — Смотрп. Ты уже большой.
Она поднялась, постояла среди комнаты.
— Дай мне рубль, — сказал Гриша, садясь на топчане.
— Зачем?
— Поеду в Москву.
— Хорошо. — Мать вынула из кармана нлатья кошелёк, отсчитала деньги.
«Одна мелочь», — подумал Гриша, глядя, как она считает их.
— Ты ноешь, — проговорила мать, передавая ему деньги.
— Ладно, хлеб я съем, а молоко можешь взять. Пить я ихнее молоко не буду.
— Он же погорячился, ты пойми. Ведь у него тоже нервы.
— Всё равно. Обойдусь без молока.
— Как знаешь, — вновь печально вздохнув, сказала мать и вышла тихо, как бы нехотя притворив за собою дверь.
Так же тихо и словно бы нехотя сошла она по лестнице. Грпша подождал, пока не смолкли её шаги и скрип ступенек. Сунув деньги в карман, он взял" краюху хлеба и принялся есть. Хлеб был свежий, мягкий, от него хорошо, тепло пахло печыо, корка похрустывала на зубах. Грпша ел с удовольствием, болтал свешенными с топчана ногами и нет-нет да и поглядывал с вожделением на кружку с молоком. Когда же была съедена половина краюхи, он наконец не вынес искушения п, оправдывая себя, нарочито бодрым и беспечным голосом проговорил:
— А, наплевать. Последний раз. В конце концов я честно заработал молощр — И после этого, уже с облегчением взяв в рукн кружку, стал с удовольствием запивать молоком остатки хлеба, который сделался вдруг ещё вкуснее.
В доме на Рабочей, куда приехал некоторое время спустя Грпша, шла своя обычная, пн в чём не изменившаяся жизнь.
Первое, что услышал Гриша, входя во двор, был стук сапожного молотка и бодрый голос дедушкн Самохи-на, долетавшие из распахнутого окна. На этот раз дедушка исполнял «Подмосковные вечера».
— «Что ж ты, милая, смотришь искоса...» — пел он.
А на лавочке сидела бабушка, словно она и не уходил:, с тех самых пор, когда Гриша помогал отчиму грузить в автомашину вещи.
Увидев Гришу, бабушка заулыбалась, обрадованно закивала ему головой и даже подвинулась, как бы уступая
ему подле себя место, хотя места подле неё и без этого хватило бы человек на десять: скамейка была большая, а бабушка, по обыкновению, сидела на ней одна.
Во дворе было жарко и тихо. Ребятишек развезли по пионерским лагерям и детским садам, взрослые все были на работе, стол под тополем пустовал.
Гриша поздоровался с бабушкой за руку, и это вышло у них как-то неловко, оба смутились при этом, так как здоровались за руку друг с другом впервые. Посидели молча, словно привыкая один к другому.
— Серёжа ещё не приехал? — спросил Гриша про сына Раздоровых.
— Нет ещё, — ответила бабушка. — Со дня на день ждут. А комнату вашу отделали ему так, что и пе узнать. Зашёл бы посмотрел. Матреиа-то дома.
— Да нет, зачем, — сказал Грпша. Всё это нисколько не интересовало его сейчас. — Прямковы дома?
Вот что было важно: Прямковы. Лиза и её отец. Но Гриша не нвдал вида и спросил об этом тоже как бы между прочим, от нечего делать, невзначай.
— Вона! — всплеснула руками бабушка.- — Хватился. Они ведь уехали отсюда, им новую квартиру далп. Две комнаты отдельные, кухня там и всё такое. На днях и переехали.
«Уехали!» — чуть не вскрикнул с разочарованием Гриша и тут же вспомнил, что разговор об этом шёл давно, что Прямковы давно ждали новую квартиру. Но как же это случилось, что именно сейчас, когда они так нужны, так необходимы ему, Прямковы покинули дом на Рабочей улице?
— Куда же они уехали? — огорчённо, в смятении спросил он упавшим голосом.
А я и не знаю, — отозвалась бабушка, не обратив никакого внимания на ту перемену, что случилась вдруг с Гришей. — Не то в Измайлово, не то в Юго-запад, не то ещё куда. Ну вот, — продолжала бабушка, очень довольная тем, что у неё нашёлся собеседник. — Так мы и живём. Дед у нас, видишь ты, — кивнула она на распахнутое окошко своей комнаты, — песни всё распевает день-деньской и всё норовит про любовь, и жара ему нипочём.
Гриша безучастно слушал её.
По дороге сюда, пока ехал в поезде, потом в метро, потом на троллейбусе, он многое успел передумать и непреклонно решить для себя. Теперь ему уже было совершенно ясно, что учиться дальше он не станет, а пойдёт работать, чтобы не быть у отлпма и матери обузой, чтобы его не могли упрекнуть в том, что ест чужой хлеб. Так же твёрдо было решено рассказать Лизе Прямковой про базар всё как было. Даже если бы выяснилось, что она не видела его там. И про забор, и про то, как он поступил, и что решил делать дальше. И всё это можно было высказать, как казалось ему, только Прямковым. Особенно Лизе.
Но Прямковых уже не было.
— Ну, а вы как? — спросила у него бабушка.
— Ничего, — уклончпво ответил он.
— Мать кзк?
— Ничего. Хозяйством занимается.
— Нравится тебе там?
— Ничего.
— Что это ты заладил: «Ничего да ничего», будто и слов другпх нет у тебя, — обиженно сказала бабушка. — Или что-нибудь не так?
— Пет, почему же, — пожал плечами Гриша и вдруг спросил: — Каждый по-своему живёт, правда?
— Это верно. Стало быть, вы там по-своему живёте?
— По-своему.
— Не так, как мы?
— Не так.
— Где же лучше?
— Здесь.
— Вот как. Не повезло, стало быть, тебе? — пытливо вглядываясь в него, спросила бабушка.
— Маме нравптся. — он опять уклонился от прямого
ответа, хотя его так и тянуло высказать всю правду, всё, что наболело на душе.
— Стало быть, комнату вы зря отдали, поторопились, — как бы отгадав все его мысли, сказала бабушка. — Вот бы она и пригодилась теперь тебе. Так я говорю?
— Так.
— Ах ты, батюшки, заболталась я совсем, старая, — спохватилась опа, поднимаясь. — Время ведь кустаря моего обедом кормпть. Пойдём-ка, я тебя свежимп щами со свининой угощу. Такие они наваристые у меня да важные. — Она взяла Гришу за руку я, не обращая внимания на его заведение, будто он уже обедал и ничего не хочет, повела за собою в дом.
А в доме, как всегда, все двери были распахнуты настежь.
ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ
Глава восьмая. АЛЬФРЕД КОЛОТУШКИН, БРИГАДА ЛАПШИНА, ПАВЛИК КУДРЯВЦЕВ И МОРГУНОВ
И вот всё свершилось: Гриша поступил работать на завод и, как ему хотелось, стал самостоятельным, ни от кого не зависимым человеком.
Жил он по-прежнему в светёлке под крышей. На веранде и в нижних комнатах появлялся редко. Старуха и отчим вели себя с ним так, будто его и не существовало.
Онп были не только жадны, корыстолюбивы, но и жестоки. Впрочем, всякий обыватель в равной мере склонен и к стяжательству и к жестокости, тем более что старуха с отчимом не могли простить Грише тоги, чги ин отказался принять их образ жизни и, стало быть, сделаться их сообщником. Они мстили Грише как могли. С матерью же он был в тех странных натянутых, но ласковых отношениях, когда близкие люди, ясно ощущающие, что общности их интересов пришёл конец, ничего не делают для сближения взглядов и, оставаясь внешне такими, как прежде, живут и поступают уже каждый по-своему.
Так нескладно и плохо было дома.
Но не лучше обстояло и на заводе. За все два месяца, что проработал здесь Грпша, он так ни с кем и не сдружился по-настоящему. Всё складывалось таким образом, что и на заводе он тоже был одинок.
В тот памятный день, объяснившись с отчимом, поев у дедушки с бабушкой Самохиных действительно очень вкусных, наваристых щей, объявив им о своём намерении, заручившись их одобрением и заняв у них после некоторых колебаний пять рублей до первой получкп, Грпша взял в школе документы об окончании восьми классов, характеристику, в которой было сказано, что он хороший парень и активный общественник, и, приободрившись, с чувством своей правоты, подсказывавшим ему, что и впредь у него всё будет хорошо и благополучно, вернулся в Хорьково.
Но не всё, однако, складывалось так, как хотелось ему. Откуда, например, Гриша мог знать, что людей без профессии принимают работать охотнее всего грузчиками и разнорабочими, а к станкам на иных заводах вовсе не берут, поскольку заводы пополняются сейчас, в основном, за счёт выпускников ремесленных училищ, всевозможных спецкурсов и техникумов. Из-за этого он не один день потратил на разъезд ио Москве и на обивание порогов различных отделов найма, пока наконец не догадался обратиться в справочное бюро, где ему и дали необходимый адрес.
Это был адрес завода, делавшего товарные подземные лифты, никелированные тележки для перевозки посуды в столовых, сатураторы для газированной воды и ещё много иного, нового, красивого и удобного оборудования для магазинов, столовых, продовольственных складов и баз.. Лет двадцать с лишнпм назад стоял этот завод за городской чертой, на краю большого совхозного поля, на котором выращивали картофель, капусту, морковь и прочие овощи, и назывался артелью. Добраться сюда можно было лишь на трамвае, с душераздирающим скрежетом завершавшем на кругу, невдалеке от артели, свой длинный, от самого Политехнического музея, путь.
Артель размещалась в неопрятном кпрпичном сарае, и делали здесь железные, грубо, но прочно склёпанные кровати, которые почему-то неизменно красили одной и той же мрачно-синей краской.
Незадолго до начала Отечественной войны в артели произошли очень приятные перемены, которые выразились в том, что кровати стали не клепать, а сваривать автогеном, в их спинках появились никелированные трубочки, а окраска стала более разнообразной и даже изящной. Фантазия артельных энтузиастов дошла до того, что стали было красить даже под мрамор, однако война помешала процветанию всех этих усовершенствований. В первый же день войны почти все рабочие артели ушли добровольцами, в ополчение, пх место заняли мальчишки и домохозяйки, и вместо кроватей в артели скоро наладили выпуск бутылок с горючей смесью, а позднее и мин для 72-миллиметровых миномётов.
Людям, участвовавшим в ратных делах на поле брани, и даже тем, кто ковал, как принято говорить, победу над врагом в тылу, и теперь кажется, что война окончилась совсем недавно, как будто год или два назад: так свежи, сильны и неумпрающе ярки в памяти впечатления тех незабываемых, вопстпну всенародно героических лет.
Но времени с тех пор прошло так много, что иные мальчишки, налаживавшпе в артели выпуск бутылок с горючей смесью, убпели полысеть, совхозное поле давно уже застроено шести-семиэтажными домами, засажено деревьями, заасфальтировано, вместо трамвая по улицам пущены троллейбусы и автобусы, а артель превратилась в завод с новыми цехами и полуторатысячным коллективом рабочих, служащих и инженеров.
Вот на этот завод и приняли Гришу учеником слесаря-
сборщика товарных лифтов.
Первое время Гриша был очень доволен тем, как всё чудесно у него устроилось. Ему всё здесь нравилось.
И новые заводские здания, сложенные из белого кирпича, и серебристые ёлки, высаженные комсомольцами вдоль всего фасада, и сама работа, и даже тот запах железа и машинного масла, постоянно наполнявший цех, а главное то, что в цеху работало много молодых людей и даже была своя комсомольская бригада коммунистического труда, которой руководил Пётр Лапшин и которой все на заводе гордились и всегда ставили в пример. Особенно гордился ею секретарь заводской комсомольской организации Альфред Степанович Колотушкин, а попросту — Алик.
Однако не прошло и двух недель, как Гриша понял, что совершил большую ошибку, что устроился работать на этот завод.
Это была беда. Поступая сюда, Гриша, по неопытности, не придал никакого значения расстоянию, отделявшему завод от Хорькова.
А расстояние было таким внушительным, что на преодоление его надо было затратить три часа: за это время пройтись пешком от дома до станции, потрястись в электричке, потом катить в тесном автобусе, пересесть в троллейбус, а потом ещё идти пешком. К тому же около часа, как сразу же выяснилось, надо было прикинуть на умывание, завтрак, ожидание этих самых поездов, автобусов и троллейбусов и на другие непредвиденные обстоятельства. Таким образом, для того чтобы попасть к восьми часам на завод, Гриша был вынужден подниматься с постели ни свет ни заря — не позже четырёх часов утра.
Сначала ему это даже нравилось, и он гордился в душе тем, что обязан вставать в такую рань и вместе с первыми хорьковскпмп жителями — шофёрами такси, водителями троллейбусов, ткачихами, поварами — идти на станцию, ждать на платформе поезда именно на том месте, где остановится облюбованный тобою вагон (здесь все ездят в своих, постоянных вагонах, и Гриша избрал себе четвёртый), врываться с толпой, с топотом, шутками и незлой перебранкой быстро и весело рассаживающейся на скамейках, обменивающейся на ходу приветливыми улыбками, взглядами, крепкими рукопожатиямп с теми, кто уже сел на предыдущих станциях. Садясь всё время в четвёртый вагон (он никогда бы не смог ответить, почему именно в четвёртый), Гриша скоро тоже стал небрежно перекликаться с некоторыми парнями: «Привет!», «Здорово!»,
«Как жизпь?» В этп часы в Москву ехал рабочий класс, шумный, здоровый, любящпй громко поспорить о политике, о футболе, поиграть на прпстроенном меж ног чемодане в домино, посмеяться, позубоскалить. И как же было приятно Грише чувствовать себя таким же здоровым и весёлым и быть на одной ноге со всем этим добрым людом!
Возвращался он домой около восьми часов вечера, в девять ложился спать и к четырём утра преотлично высыпался. Одним словом, на первых порах Гриша не чувствовал никакого неудобства. Даже те взаимоотношения, которые сложились между ним, старухой и отчимом, то, что он вынужден жить в их доме, есть их хлеб, суп и даже иногда пить молоко, — даже это не смущало и не тревожило его. С той простотой и лёгкостью, с какими Грпша привык и умел совершать различные поступки, он решил не обращать на всё это никакого внимания. «Ну и ладно, — сказал он себе, — если они не хотят разговаривать со мной, какое мне до этого дело? А за то, что живу в их доме, ем вместе с ними, буду платить деньги». Так он сказал и матери и попросил передать отчиму, чтобы тот не беспокоился.
— Ты бы сам сказал, — предложила Надежда Васильевна. — Может, и помирились бы.
Этот разговор происходил поздно вечером, когда она принесла Грише наверх кружку молока и краюху хлеба. Она всегда теперь готовила ему завтрак с вечера, так как Гриша поднимался и уходил, когда в доме всё ещё спали. Даже старуха.
Надежда Васильевна не понимала поступка сына, казавшегося ей странным и нелепым. Она не теряла надежды на то, что Гриша в конце концов устанет, одумается, поймёт свою ошибку, помирится с отчимом, и всё опять пойдёт своим чередом. Её удивляло, как мог Гриша отказаться от, того жизненного уклада, что царил в брызга-ловском доме и так понравился ей самой.
Грпша уже собирался спать и лежал на своём жёстком топчане, по обыкновению подложив под голову ладони и глядя в потолок. В комнатке был полумрак, за распахнутым окном, которое Гриша не закрывал даже на ночь, угасали редкие и отчётливые звуки тихого летнего вечера.
Мать стояла возле двери, уже взявшись за ручку и обернувшись, нерешительно и в то же время с надеждой глядя на Гришу.
«А опа ведь красивая у меня», — неожиданно и с нежностью подумал он, покосившись на неё.
— Пойди поговори, помирись, а? — просительно сказала она. — Сейчас бы и помирились.
— Нет, — сказал Гриша. — Я мириться с ними не буду.
— Да почему, почему? — вырвалось у неё с отчаянием.
— Если с нпми мириться, значит, признать, что они правы, а ты побеждён. И тогда всё начнётся сначала: огород, корова, поросёнок, базар...
— Так что же тут плохого! — воскликнула она с убеждением. — Ведь это всё для дома, чтобы лучше.
— Нет, мама, ты не понимаешь!
— Ты сам не понимаешь, что делаешь.
— Может быть, — терпеливо согласился он. — - Только мириться с ними я не буду. Я не виноват ни в чём.
— Ах, Гриша, Гриша... — вздохнула мать. — Трудно тебе будет в жизни с таким характером.
Она ушла, а Грпша, усмехнувшись её последним словам. повернулся на бок и скоро преспокойно заснул.
Итак, даже то, что он был чужим человеком в брызга-ловском доме, нисколько не огорчало его. Неприятности начались после того, как Алик Колотушкин обратил на Гришу своё внимание и заинтересовался, почему новый член заводской комсомольской организации, ученик слесаря из лифтосборки, не принимает участия в общественной комсомольской работе.
Так же как бывшей Гришиной соседке Раздоровой не правилось, что её нарекли Матрёной, Колотушкпна огорчало и смущало имя Альфред. И не столько имя само по себе, сколько в сочетании с отчеством и фамилией. Сочетание это казалось ему фантастически странным — Альфред Степанович Колотушкин. И, хотя ему шёл уже двадцать шестой год, ему доставляло пстинпое удовольствие, когда его называли Аликом, и огорчало, когда кто-нибудь из уважения называл его по имени и отчеству. Пока, по комсомольской привычке, он был ещё для многих Аликом, но прекрасно понимал, что скоро, в силу возрастных обстоятельств, всё это забудется. Не мог же он оставаться Аликом в тридцать лет! И он очень огорчался и осуждал своих опрометчивых родителей.
Дело в том, что в те годы, когда завод ещё был артелью и клепал отвратительные синие кровати, было модно придумывать и подыскивать новорождённым новые, необыкновенные имена. Сперва это шло в ногу с духом времени, в результате чего появились девочки и мальчики с именами Индустрия, Кооперация, Пятилетка, Коммунар, и даже Радема (рабочая демократия), и Медера (международный день работпицы). К счастью, этот благой родительский порыв не нашёл широкого распространения, однако поиски необыкновенного не затихли как раз и к тому времени, когда в семье комсомольцев Колотушкиных родился первенец. В метрических записях замелькали Альфреды, Артуры, Эдуарды, Роберты, Жанны, Эрнесты и Генрихи. Особенно много было Алпков. Благородному имени Альфред почему-то отдавалось предпочтение.
Один из этих Альфредов довольно успешно руководил теперь заводской комсомольской организацией. Это был скуластый, большеротый, русоволосый парень, с крупными рабочими руками. Нос его был весело вздёрнут, рот постоянно растянут в добродушной улыбке, но серые глаза смотрели на людей довольно хитровато. Словом, это был простой русский парень и, по мнению работников райкома ВЛКСМ, хороший организатор и руководитель заводской молодёжи.
Он и в самом деле был трудолюбив, инициативен, умел увлечься и увлечь всех ребят. Это его умение увлечь, или, как говорят, охватить на сто процентов, особенно восхищало секретарей и инструкторов райкома комсомола, которые не упускали ни одного удобного случая, чтобы не похвалить активную работу самого Альфреда Степановича и возглавляемой им комсомольской организации.
Заводские комсомольцы заслуживали и похвалы и одобрения. Самой лучшей бригадой сборщиков, которая первой удостоилась звания бригады коммунистического труда, руководил комсомолец Пётр Лапшин, самые лучшие обмотчицы были комсомолки, даже в красильном и сварочном цехах, в экспериментальной мастерской и в гараже — всюду комсомольцы шли впереди.
Но главное заключалось не только в этом. За что бы ни брались комсомольцы, всюду был стопроцентный охват.
Учились все сто процентов. Учились в вечерних и заочных вузах, техникумах, в школе рабочей молодёжи, на курсах повышения квалификации, овладения второй, третьей профессиями и так далее.
И все сто процентов занимались спортом: гимнастикой, боксом, фигурным катанием, плаванием, прыжками в длину и высоту!.. Даже трудно перечесть, какими только видами спорта не занимались заводские ребята! И уж если ехали на массовку, так опять же все, выходили на субботник по уборке заводской территории тоже все. И не было случая, чтобы кто-то саботировал, волынил, отлынивал, не являлся на собрания и иные мероприятия без уважительных причин. Вот какой дружной и активной была эта комсомольская организация. И многое из всех этих добрых дел зависело от настойчивости и способностей самого Алика Колотушкина. У него была привычка — ни от кого не отставать до тех пор, пока не будет выполнено то, что намечено в решениях бюро, общего собрания или в директивных указаниях райкома.
И вот внимание Алика привлёк к себе усердный, довольно красивый, чернобровый стройный новичок из лифтосборки, державшийся пока несколько отчуждённо и обособленно. Было известно, что, лишь кончив работу, он спешил домой и старался на заводе не задерживаться. Алик решил познакомиться с ним поближе и ради этого пришёл во время обеда в цех, где работал Гриша, отыскал его и, по обычаю шпроко, радушно улыбаясь, пожал его руку своей здоровенной лапой.
— Не больно? — осведомился он, продолжая улыбаться и с интересом рассматривая Гришу.
— Нет, ничего, — сказал Гриша, хотя на самом деле рукопожатие секретаря комсомольской организации было довольно ощутимым.
— Ну рассказывай, как живёшь, — продолжал Алик, усаживаясь на железный ящик и жестом руки предлагая Грише последовать его примеру.
— Ничего, живу, — сказал Гриша, усаживаясь напротив него.
— Где живёшь?
— В Хорькове, за городом. Слышал?
— Нет. Там у вас, что же, собственный дом?
— Это не наш дом, — пустился Гриша в пространные объяснения. — Это дом моего отчима. Моя мать вышла второй раз замуж, и мы не так давно туда переехали. А до этого мы жили в Москве, на Рабочей улице. Слышал?
— Про Рабочие слышал. Значит, с жильём у тебя в порядке?
— Конечно, — поспешно и радостно сказал Грпша. — У них четыре комнаты, да ещё застеклённая веранда, да ещё наверху комната. Совершенно отдельная. Там я и живу. Совершенно отдельно. Тринадцать метров.
Ах, как жалел он потом, несколько дней спустя, что так расхвастался перед комсоргом! Но сейчас он был в ударе, и ему хотелось всё представить как нельзя лучше, чтобы выглядеть перед комсоргом молодцом, а не каким-нибудь хлюпиком, который только и знает, что скулит да жалуется.
— Вот видишь, — не то осуждая, не то с огорчением сказал Алпк. — Богато живёшь. А у нас ребята из бригады Лапшина — самая лучшая бригада коммунистического труда! — знаешь уже, наверное, — так вот, эти ребята вчетвером живут в общежитии всего на двадцати метрах. И мы никак не можем добиться улучшения их быта. Но это, так сказать, между прочим, мы добьёмся. Я сейчас с тобой хочу поговорить на другую тему: тебе надо включаться в нашу общую жизнь.
— Я готов, — охотно и радостно сказал Гриша. — Пожалуйста. Я и в школе всегда выполнял все поручения. Я был членом бюро, у нас очень хорошие были ребята...
Ему нравился этот широкоскулый здоровый парень, сразу по-дружески, откровенно и запросто разговорившийся с ним, хотя был много старше его и к тому же секретарь заводского комитета комсомола. И, для того чтобы эти дружеские отношения сохранились между ними, Гриша сейчас был готов сделать что угодно. Он из кожи лез, чтобы показать себя с самой лучшей стороны.
— Я, Альфред Степанович... — растроганно начал он.
— Ты лучше зови меня Аликом, — сказал, поморщившись, Колотушкин. — Но это между прочим. Начнём с учёбы. У нас, учти, все комсомольцы учатся. Скоро первое сентября, так сказать, новый учебный год на носу. Ты как на этот счёт? Учти, у нас свои традиции, и отстающих в коллективе у нас нет. Тебе, на мой взгляд, лучше пойти сейчас в вечернюю школу и получить аттестат зрелости.
— Хорошо, — с ещё большим восторгом сказал Гриша. — Я, конечно, буду учиться. Я понимаю, что сейчас надо учиться всем.
— Значит, с этим вопросом покончено, — заключил Колотушкин. Ему тоже понравился этот парень, так охотно, с некоторой даже поспешностью соглашающийся с его предложениями. — Теперь насчёт спорта. Ты чем-нибудь увлекаешься?
— Я люблю плавание, — сказал Гриша и, подумав, добавил: — В волейбол играю.
— Очепь хорошо. У нас есть секции, запишешься в любую. Значит, и с этим вопросом покончено. Теперь ты мне вот что скажи: ты с кем-нибудь здесь подружился?
— Пока, вообще-то, ни с кем, — признался Гриша. — Но вот. наорнмер, Павлик...
— Какой Павлик? — насторожившись, быстро спросил Колотушкин.
— Павлик Кудрявцев. Он весёлый и очень остроумный. Смелый, как мне кажется.
— Зго не та смелость, — загадочно сказал Колотушкин.
— Почему же? — Гриша с удивлением поглядел на него.
— Потому же, что это не смелость, а грубость и неуважение к людям.
Гриша растерянно пожал плечами. Павлик Кудрявцев ему действительно нравился. У этого парня, как думал Гриша, можно было многому поучиться. Например, как держать себя: смело, независимо, свободно. Гриша никак не мог побороть в себе робость при встречах с мастером участка, а особенно с начальником цеха. Даже профорг казался ему лицом очень важным и значительным, а Кудрявцев вёл себя с ними так легко, что казалось, вот-вот и похлопает кого-нибудь из них снисходительно по плечу. Было странно, что Колотушкин отрицательно отозвался о том, что Грише так понравилось.
— Тебе лучше обратить внимание на бригаду Лапшина, — говорил меж тем Колотушкин. — Это действительно отличные люди, одни из самых лучших на заводе как в работе, так и в быту.
Брпгада Лапшина работала в соседнем пролёте. Их было четверо. Четверо таких друзей, про которых обычно говорят, что их даже водой не разольёшь. Внешне они совершенно ничем не отличались от других, работавших рядом с ними в цеху людей, от того же Павлика Кудрявцева, и тем не менее в их поведении, в работе, в обращении друг к другу, в отношении к окружающему было нечто такое, чего не было у других, в том числе и у Гриши. На первый взгляд такие же парни, как все, но стоит присмотреться, и — нет, не такие, как все, чуточку, но не такие. Всё это было почти неуловимо и в то же время ясно отличало их от других, особенно от Павлика Кудрявцева, который так понравился Грише и почему-то получил нелестный отзыв Колотушкина.
— С них можно брать пример во всём, — продолжал Колотушкин. — Вот был недавно такой случай. Собрались они все в театр. Купили заранее билеты, приоделись, и тут один из них по дороге в театр, Лёшка Берг...
— Я знаю, — торопливо перебил его Гриша. — Он вытащил из-под самой машины девочку, которую вот-вот бы задавило, но оступился, упал в лужу, весь вымазался и в театр идти уже не мог, и они тогда все решили в этот день не ходить. Лапшин повёз билеты в кассу, а у него не взяли, но он сказал: «Всё равно купим в следующий раз другие, а сегодня в театре и без нас обойдутся». Правда? — спросил он, заглядывая Колотушкину в глаза, очень довольный тем, что знал эту историю и досказал её вместо Колотушкина.
— Всё точно, — сказал Колотушкин даже с некоторым разочарованием, так как очень любил лапншнских ребят и был готов рассказывать о них бесконечно и с таким удовольствием, словно сам был причастен ко всем этим историям. — Они, конечно, все разные, даже по культуре, например. Сам Лапшин учится на четвёртом курсе вуза,
учти, иностранных языков, изучает английский язык, Лёня Берг тоже в вузе, а вот Андрей Полетаев ещё только в седьмой класс осенью пойдёт.
— А вот кто лучше, по-твоему, как производственник, — спросил Гриша, — Петя Лапшин или вот он? — И Гриша кивком головы указал на прошедшего мимо них пожилого, степенного человека.
— Моргунов? — спросил в свою очередь Колотушкин и, не дожидаясь ответа, продолжал: — У Моргунова только профессия. Оп, конечно, прямо скажем, отличпый мастер, и они друг другу не уступят, но у Лапшина, кроме профессии, зпапия дела, много такого, чего нет у Моргунова: общественность, культура, сознание своего долга и так далее. Ты понимаешь, новый человек, он во всём объёме должен рассматриваться, со всех сторон, а не только по одной профессии. Понимаешь?
— Понимаю, — сказал Гриша. — Комплексно.
— А у Моргунова что? — продолжал Колотушкин. — Отработал своп семь часов, падел кепочку и потопал домой, и ничего ему больше не надо в жизни. Одним словом, пассивный человек.
— Это кто же такой пассивный? — вдруг требовательно раздалось за Гришиной спиной, и Гриша, оглянувшись, увидел Павлика Кудрявцева.
Колотушкин внимательно посмотрел на Павлика и ничего не ответил.
— Товарищ секретарь ЦК заводского комсомола Альфред Степанович (Колотушкина при этом даже передёрнуло), прошу просветить мою несознательную личность по части того, кто такой пассивный человек? — вежливо и в то же время насмешливо, с поклоном спросил Павлик.
Это был невысокий, очень подвижный и развязный парень. Кепка, по названию малокозырочка, едва держалась у него на затылке.
Колотушкип опять внимательно и, как показалось Грише, устало посмотрел на Павлика и сказал:
— Надоел ты мне со своим паясничаньем, Кудрявцев, вот так, — и чиркнул пальцем по горлу. — Ну, в общем, всё, — сказал он, обращаясь уже лишь к Грише. — Общественное поручение, ты зайди как-нибудь после работы в комитет, мы тебе подберём. А теперь, как говорят, бывай
здоров. — он поднялся, протянул Грише свою широкую ладонь, тиснул ею, словно тисками, Гришины пальцы и, всё с той же широкой, доброй улыбкой кивнув ему, зашагал к выходу.
Кудрявцев, глубоко сунув руки в карманы штанов, постоял рядом с Гришей, поглядел вслед Колотушкину, сказал:
— Вождь и учитель! — и, сплюнув, пошёл прочь.
Глава девятая. БОЛЬШИЕ НЕУДАЧИ
Колотушкин расстался с Гришей очень довольный беседой, считая, что всё у них решилось как нельзя лучше.
Точно так полагал и Гриша, легко нарисовав себе, как только ушёл Колотушкин, очень вероятную, простую и реалистическую картину: он включается в общественную жизнь, днём работает на заводе, а вечером, выполнив свои основные обязанности, делает всё, что хочет и что требуется от активного комсомольца, — учится в вечерней школе, готовит домашние задания, ходит в бассейн и, наконец, выполняет комсомольское поручение, которое ему обещал подыскать Колотушкин. Ничего необычного и несбыточного в этом не было.
Так живут сейчас многие его сверстники-комсомольцы, так предполагал жить и он, Гриша, совершенно справедливо объявив себе в тот день, что он нисколько не хуже других и что он докажет это Колотушкину. Тому самому Алику Колотушкину, который так понравился ему и которому он был так благодарен за внимание.
Но Грпша опять по неопытности не учёл того расстояния, которое отделяло завод от хорьковского дома. Оказалось, что мечты его построены на зыбком песке, стоило ему приступить к занятиям в вечерней школе и приезжать домой не в восемь вечера, как обычно, а в двенадцатом часу ночи. Ах, если бы ему можно было подниматься с постели не в четыре, а в семь или даже в шесть часов! Всё было бы тогда, думал он, в полном порядке. Однако ему как раз и не хватало этих двух-трёх часов, для того чтобы выспаться как следует. Он чувствовал: можно недоспать
однажды, выдержать это в конце концов несколько раз, в крайнем случае — неделю, но спать только четыре часа всё время, изо дня в день, оказалось выше его сил. Гриша даже не предполагал, что так трудно бывает людям вставать с постели.
Для того чтобы подниматься вовремя, он купил себе будильник. Но резкий, оглушительный звон будильника страшно раздражал, в будильник хотелось запустить подушкой, разбить его об пол. Грише не раз приходила в голову каверзная мысль, что хорошо бы завтра вовсе не заводить его, как это делалось по счастливым воскресеньям, и спать, спать, спать, пока не пробудишься сам, без этого дурацкого звона, сразу чувствуя необыкновенную лёгкость и силу во всём освежённом крепким, долгим сном теле.
Но будильник звенел среди ночи тревожно и злорадно, и Гриша, поворочавшись, с трудом отрывал от подушки непослушную, налитую тяжёлым сном голову. Как трудпо было вставать, одеваться, и всё это с напряжённой мыслью о том, как бы снова не закрылись глаза, не упала тяжёлая голова на подушку, которая была сейчас вроде магнита. Есть вообще не хотелось, и завтрак, приготовленный матерью с вечера, теперь, как правило, оставался на столе нетронутым.
Только выйдя из дома, он окончательно приходил в себя и, приободрённый свежим сентябрьским, пахнущим во всём посёлке яблоками воздухом, шагал к станции.
А посёлок был теперь полупустой. Много окон наглухо заколочено, закрыто ставнями, забпто досками. Заметно убавилось легковых машин, мотороллеров, мотоциклов. Свободнее стало в поездах: дачники покинули свои летние поселения. Особенно замечалось отсутствие их в посёлке по воскресеньям. Никто уж больше не ходил по улицам, не толпился в магазинах сельпо в полосатых, как тигры, пижамах. Будто кончился летний праздник, посёлок принял свой обычпый, будничный, строгий и деловой вид, и от этого было даже немного грустно и жаль чего-то невозвратного, вовсе утраченного. А быть может, эта утрата ощущалась совсем не из-за того, что уехали дачники, а нотому что поредели, притихли сады, посветлели и как бы раздвинулись вокруг посёлка горизонты. Во всяком случае, Грише не раз теперь казалось, лишь
выглядывал он в окно своей светёлки, что посёлок стал значительно больше и отчётливее просматривался.
В один из таких солнечных, уже не жарких воскресных дней Гриша, отлично проспавший до десяти часов, весёлый и довольный собою, спустился в сад. Отчим, с которым они теперь встречались довольно редко, стоял возле антоновской яблони, прикидывая, заложив руки за спину и задрав голову, сколько можно будет собрать с этого дерева плодов.
— А, гражданин Востриков, — отчуждённо проговорил он, увидев Гришу, — Почтение.
— Здравствуйте, Иван Иванович, — ответил Гриша.
— У меня к вам, между прочим, будет мужской разговор, — продолжал отчим. — Так сказать, с глазу на глаз.
— Пожалуйста, — благодушно разрешил Гриша.
— Мерси за позволение. Я давно уже хочу поговорить, но, — отчим развёл руками, — вас невозможно теперь застать.
— Я учиться поступил в вечернюю школу и приезжаю поздно.
— Зпаю, — перебил отчим. — Всё знаю. Вы у нас живёте вроде квартиранта, так сказать, исправно платите деньги за питание и квартиру, а в нашей семейной жизни не принимаете никакого участия. Отказались решительным образом. Осуждаете, как какая-нибудь белоручка. Ты пока помолчи! — Брызгалов предостерегающе поднял палец, видя, что Гриша открыл было рот, пытаясь возразить ему. — Слово сейчас за мной. И слово последнее, я с тобой больше вообще разговаривать не буду, если и сейчас сделаешь не по-моему, как я хочу. — И отчим опять перешёл на шутовской тон. — Так вот, гражданин квартирант, комнатка ваша не отапливается. А на дворе сентябрь, а скоро октябрь, грязь, слякоть и холод. Понятно?
«К чему это он всё говорит мне? — подумал Гриша, меняясь, однако, в лице. — «Квартирант, холод»! Чепуха какая-то».
— Я не совсем понимаю вас, — растерянно сказал Гриша.
— А тут и понимать нечего, — возразил отчим. Он опять стал холоден и резок. — Слушай внимательно. Или ты отказываешься от тех оскорблений, которые нанёс мне тогда насчёт огорода, забора и вообще моих правил жизни.
п будешь с нами вместе, опять за родного, сообща — всё забудем, и тогда место тебе внизу найдётся, или... — Он откашлялся. — Одним словом, выбирай, на носу осень, зима, холод и другие вытекающие отсюда последствия. Волку с зайдём под одной крышей не ужиться. Так и нам с тобой.
Теперь Гриша всё нонял. Отчим диктовал ему свои условия, совсем не двусмысленно предлагая вступить в сделку с совестью, с теми убеждениями, которые Гриша перенял от отца и которые были святы и дороги ему.
Гриша побледнел и, сделав над собой усилие, как можно сдержаннее сказал:
— Теперь я понял вас. Но поступить так я не могу.
— Как хочешь. Говорю последний раз. Я человек дела и повторяться не люблю. Да — да, нет — нет. Подумай, время у тебя ещё есть. И, между прочим, мать в это дело не впутывай. Понятно?
— Хорошо, — сказал Грпша. — Это я могу вам обещать, — и, круто повернувшись, пошёл к дому.
На крыльце стояла мать и с довольной, поощрительной улыбкой смотрела на них. Ей, случайно увидевшей их вдвоём, доставило это большое удовольствие. Она подумала, что раз они разговорились, значит, дело у них пошло на лад.
— Поговорили? — спросила она, когда Гриша поравнялся с ней.
— Поговорили, — буркпул Гриша.
— Вот и хорошо, - одобрила опа, не придав значения той интонации, с какой Гриша ответил ей. — Так и должно быть. По-хорошему, по-семейному.
Гриша, не ответив, поднялся к себе наверх, лёг на тон-чан и, по обычаю подсунув руки под голову, принялся считать золотистые шляпки гвоздей на потолке. Это всякий раз успокаивало его, давало возможность привести в стройный порядок ералашно, сумбурно налетающие в беспокойстве одна на другую мысли.
Такого разговора с отчимом он не ожидал. И, как всегда, от неожиданности растерялся.
«Что же мне делать? — думал он, после того как несколько минут безуспешпо пытался, не сбиваясь, сосчитать шляпки гвоздей. — Здесь оставаться мне нельзя совсем. Это ясно. Он совершенно ясно и определённо сказал мне
об этом. Так ли я ответил ему? Так, так, так. Всё правильно. Только что же теперь мне делать? Маму в это дело впутывать не буду. Зачем? Он прав. Надо всё самому. Только самому. Ведь когда я высказал ему всё, что думаю про их жизнь, я ни с кем не советовался. Значит, и сейчас тоже всё надо решить самому. Но как же решить? Ясно, что здесь мне уже нет места. Место есть, но жить по-ихнему я не могу. Значит, под одной крышей с ними места нет. Хорошо. Но куда же мне деваться. А если переселиться в общежитие? Пойти завтра к Колотушкину и попросшь, чтобы помогли мне переехать в заводское общежитие. Ллнк, конечно, поможет. У меня много очень убедительных причин. Во-первых, мне далеко ездить. Во-вторых, скажу, что не сошлись с отчимом характерами. В-третьих, что неудобно учиться, и вообще всё очень убедительно, Алик сразу всё сделает. Это такой парень, он всё сможет»,
Гршиа вскочил с постели. Сердце его ликовало. Выход был найден. Очень простой, удобный, счастливый выход. Может быть, даже завтра же он уедет отсюда, поселится в общежитии, и всё сразу у него изменится и станет на своё место, и хватит тогда времени и на учёбу, и на общественные поручения, и на всё прочее. Удивительно, как это всё удачно и хорошо будет у него. И наплевать ему на отчима со всеми его огородами, коровами и выручками!
Однако ничего хорошего и удобного у Гриши, к сожалению, опять не вышло.
Когда он обратился на следующий день к Колотушкину со своей просьбой, Альфред Степанович не придал ей того значения, какое придавал сам Грпша. Широко и радушно улыбаясь, Колотушкин выслушал Гришу и сказал:
— Да зачем же тебе переезжать в общежитпе-из такого дома? Ты же мне сам недавно рассказывал, как у вас там хорошо.
— Понимаешь, Алик, мне так будет удобнее, — дипломатично сказал Гриша.
— Нет, — непреклонно возразил Колотушкин. — Ты не мудри. Это прихоть. Мало ли что захочется...
— Но это совсем не потому, что мне хочется, — мягко произнёс Гриша, чувствуя, однако, что разговор у них никак почему-то не может наладиться и Колотушкин просто не понимарт, как это всё важно для него. — Это потому, Алик, что иначе уже нельзя. Я всё рассчитал, понимаешь?
— Не понимаю, — стоял на своём Колотунткпн. — Во-первых, никто не даст тебе места в общежитии потому, что у тебя с жильём вполне благополучно.
— Как раз и не благополучно! — воскликнул Гриша. — Неужели я стал бы просить, если бы было благополучно!
— Но ведь ты сам рассказывал, что у тебя отдельная комната.
— Это правда, отдельная, но...
Грише было стыдно и неловко рассказывать Колотушкину о тех взаимоотношениях, которые сложились у него с отчимом. Он продолжал считать, что это его сугубо личное дело и вмешивать в это дело кого-либо, даже секретаря комсомольской организации, он не имеет права. В противном случае он будет выглядеть хлюпиком, распустившим нюни. А хлюпиков он не любил. Не любил их, думалось ему, и Колотушкин.
— Вот видишь, — осуждающе сказал Алпк, по-своему истолковав его замешательство. — Но есть и вторая причина, по которой в общежитии поселить тебя не смогут. Просто-напросто нет места. Общежития переполнены. Я уж, кажется, однажды объяснял тебе, что даже такая бригада, как бригада Петра Лапшина, ютится в тесной комнате, хотя этим-то ребятам в первую очередь и надо бы дать самое просторное жильё.
— Но у меня очень уважительная причина, — настойчиво и в то же время просительно сказал Гриша и, поколебавшись, добавил: — Я не лажу с отчимом.
— Почему? — удивился Алик.
— Так, — замялся Грпша. — Мы не сошлись во взглядах на жизнь.
Это всё, что он мог сказать о своих отношениях с Брызгаловым. Было просто невозможно рассказывать о том, что он попал в семью спекулянтов и что к таким людям принадлежит, оказывается, и его мать. Было стыдно, что его мать оказалась такой женщиной.
— Ну, это ещё полбеды: во взглядах не сошлись, — заметил Колотушкин. — Это ведь совсем, собственно, и не обязательно, чтобы ваши взгляды были общими.
— Ладно, — сказал Гриша. — Пусть будет не обязательно. Только у меня есть ещё причина: мне далеко ездить.
— А это не новость. — Колотушкина, казалось, ничем
нельзя было удиппть. — Многие с конца на конец города мотаются. Я тоже, знаешь ли, живу у чёрта на рогах. И ничего, справляюсь.
— Значит, никак нельзя? — спросил Гриша упавшим голосом.
Никак.
А я так надеялся. — И Гриша, обиженно махнув рукой, пошёл от Колотушкина усталым шагом.
Всё это очень расстроило и обескуражило его. Почему, думал Грпша, как только он что-нибудь задумает и решит для себя, что всё задуманное сбудется и выйдет как нельзя лччше, у пего как раз пичего не получается. Очень ему но везло. Вот и теперь, как надеялся он на общежитие!
Надо было искать другой выход. Не получилось с общежитием, он должен был найти иное решение. Только не падать духом, но поддаваться панике, а думать и искать. Пока ещё есть время. Пока ещё тепло и можно жить в светёлке. Важно не это, другое: как быть с учёбой, с общественной работой, вообще с вечерним временем. Прежде всего нужно позаботиться о том, чтобы сохранить силы, пли, как говорят спортсмены, быть всё время в форме. Значит, он не может сейчас делать всё, разбрасываться. Сейчас самое важное в его жизни — работа. Значит, работе должно быть подчинено всё. Надо как можно скорее обучиться сборке лифтов, но числиться подсобником, получить разряд сборщика. Пока он работал на должности, которую Павлик Кудрявцев со всей присущей ему язвительностью называл «подай — прими».
Что же нужно было Грише, чтобы осуществилось это самое важное и главное в его жизни? Сперва отказаться от того, что сейчас мешало ему работать и спать. Работать и спать. он должен был приезжать на завод хорошо выспавшимся. чтобы в голове ие гудело от усталости, чтобы в мышцах пе было той противной ватной вялости, а работалось легко, с радостью, и не надо было всякий раз заставлять себя делать всё через силу.
ГГ Гриша недолго думая пошёл на самые крайние, жёсткие меры: прекратил посещение вечерней школы, не пошёл к Колотушкину за общественным поручением и, как только кончалась работа, спешил домой.
Прошло несколько дней. Грпша вновь почхвствовал себя в отличном состоянии, и ему уж не составляло никакого труда вскакивать с постели, одеваться, съедать приготовленный с вечера матерью завтрак, бежать на станцию, весело врываться с толпою, толкаясь и пересмеиваясь, кивая знакомым ребятам, в свой любимый четвёртый вагон.
Ах, эти ранние рабочие электрички, с грохотом несущиеся к Москве по всем десяти железным дорогам, пошатываясь от скорости; электрички, переполненные шумными, насмешливыми и откровенно-прямолинейными парнями и девчатами, пожилыми мудрецами и дородными, степенными тётками, которых тоже только задень! Толпы людей то и дело высыпают на московские привокзальные площади, и не успевают трамваи, автобусы, троллейбусы и эскалаторы метро подхватить и увезти их, как новые толпы, вытолкнувшись из вагонов электричек, опять, спеша, заполняют все привокзальные проходы, переходы и тротуары и так же скоро исчезают, разъезжаясь во все московские концы по утренним и ещё довольно просторным, не заполненным автомобилями и не совсем проснувшимся улицам.
Уезжал в одном из вагонов троллейбуса и Гриша. Ему надо было пересечь в троллейбусе чуть не пол-Москвы, пересесть в автобус и преодолеть в нём ещё почти такое же расстояние, пока не добирался он до своего завода. Но, отлично выспавшись, он всё это переносил легко, шутя. Теперь лишь одно беспокоило его: по-летнему тёплый, тихий, солнечный сентябрь шёл к концу, н Брызгалов, готовясь к зиме, уже купил где-то, как он сказал, у левака, целую машину угля. Именно этот уголь, сваленный возле калитки, который мать со старухой стали перевозить на тачке в сарай, и напомнил Грише о том, что настоящая-то осень с дождями, ветрами, а следом за нею и первые зимние холода не за горами и тогда, как сказал отчим, в тесовой комнатушке под крышей ему не прожить.
Но, как ему быть дальше, он не знал. О примирении с отчимом Гриша не думал. Решил раз и навсегда, что это невозможно, и не стал думать.
А жизнь шла своим чередом, и у всех окружавших Гришу людей: у Брызгалова, старухи, матерп, Павлика Кудрявцева, у Лапшина и его бригады, у Моргунова и Альфреда Степановича Колотушкина, были свои дела и заботы. Брызгалов, старуха и Гришина мать солили к зиме огурцы и помидоры н были поглощены заботами по хозяйству; Павлпк Кудрявцев, казалось, только и думал о том, как бы сцепиться и поругаться с кем-нибудь из начальства; лапшпнцы, как предполагал Грпша, часто с завистью и восхищением поглядывая туда, где работали эти дружные парни, были заняты своими передовыми идеями; Моргунов, как и Гриша, всё время спешил с работы домой, а Альфред Степанович, кроме очередных своих комсомольских дел, был озабочен предстоящей отправкой бригады заводской молодёжи на одну из сибирских строек. Все были заняты, и никому нз них до Гриши не было никакого дела. Во всяком случае так могло показаться с первого взгляда.
В действительности же на Гришу давно уже обратили своё внимание, так сказать, симпатизировали ему два очень не похожих друг на друга и даже враждовавших меж собой человека. Это были Павлик Кудрявцев и Алексей Дмитриевич Моргунов.
Они ненавидели друг друга. Павлик ненавидел Моргунова за то, что он тихоня и такой во всём правильный, порядочный и скользкий, что к нему совершенно невозможно прицепиться, а Моргунов ненавидел Павлика за то, что тот, как было известно Моргунову, слыл человеком бесшабашным, грубым и наглым, никого не уважавшим. В оценке Павлика Кудрявцева взгляды Моргунова совпадали со взглядами Алика Колотушкина, которые он некогда высказал Грише и к которым Гриша отнёсся с недоверием и удивлением, поскольку сам был о Павлике Кудрявцеве совсем другого мнения.
Колотушкин принадлежал к категорпп тех людей, у которых всё в жизни очень просто, ясно н определённо, к категорпп людей откровенных, прямолинейных, счастливых и искренних. Он высказывал людям решительно всё, что думает о нчх, и высказывал с таким убийственным спокойствием, с такой широкой, радушной улыбкой, что на него, право, даже невозможно было обидеться.
Работал он электросварщиком, отлично знал своё дело и, как уже известно, был таким же отличным комсомольским организатором.
Алик любил всевозможные мероприятия, компании и чтобы в них участвовало непременно как можно больше народа. Например, выборы в Советы депутатов трудящихся, особенно тот торжественный день, когда вся подготовительная работа участковых избирательных комиссии и агита-
торов закончена и наступает час голосования; в шесть утра распахиваются двери избирательных пунктов, торжественно и несколько застенчиво входят первые избиратели, и потом идут весь день, и весь день играет музыка, и агитаторы толпятся у себя в комнатке, беспокоясь за каждого человека, и с озабоченными лицами то и дело справляются у секретаря избирательной комиссии, сколько человек уже проголосовало и ездили ли с урнами домой к больным и престарелым. Праздничная приподнятость и озабоченность в такие дни не покидают Колотушкина. так как и в избирательных комиссиях и в бригадах агитаторов обычно участвуют почти все заводские комсомольцы.
Такая озабоченность не покидала Алика Колотушкпна и теперь, когда собиралась к отъезду в Сибирь заводская молодёжная бригада. Об этих сборах было объявлено во всех цехах и парням и девчатам, которые шли в комитет комсомола с заявлениями, где говорилось об их готовности с честью выполнить любое задание на новостройке. Алик строго заявлял: «Учти, что жить вам придётся, быть может, на первых порах в палатках, работать на холоде, обедать, быть может, у костра на снегу и вообще переносить большие трудности. Справишься?» Он нарочно рисовал перед ребятами их будущую жизнь в мрачных тонах, предельно сгущал краски, полагая, что в подобном случае лучше перепугать, чем наобещать молочные реки, кисельные берега и пряничныр хоромы. Перепуганный откажется, а смелому будет куда легче потом, когда хоть частично всё окажется иначе.
На новостройку с завода уезжали отличные ребята. Алик позаботился об этом. Он считал, что на такое ответственное дело надо посылать самых лучших, надёжных, чтобы потом не краснеть за них нигде. Поэтому его удивлению не было предела, когда пред ним предстал Гриша Востриков и тоже попросил направить его на новостройку Сибири.
Гриша пришёл к такому решению не колеблясь, стоило ему прочесть вывешенное на стене цеха обращение бюро ВЛКСМ к комсомольцам с призывом поехать на новостройку и там проявить себя и показать, на что способны москвичи. Эта поездка была для Гриши действительно блестящим выходом из создавшегося положения. Он понимал, что рано или поздно ему придётся ответить за всё: и за то, что бросил учёбу, и за то, что не выполняет никакого комсомольского поручения, не занимается спортом, не посещает собрания. За всё. Там, в Сибири, за старое никто бы не стал спрашивать с него, а новую свою жизнь он постарался бы устроить совсем иначе. А главное — в этом случае он раз и навсегда порывал с брызгаловским домом.
Написав заявление, Гриша воспрянул духом и почувствовал себя настоящим героем. В самом деле, он едет на новостройку, добровольно и сознательно идёт ради общегосударственного дела на всяческие лишения и невзгоды н при этом самым решительным образом утирает нос Брызгалову. Алик Колотушкин, этот добрый, всевидящий, внимательный Алик, как казалось Грише, теперь уж сразу же берёт его сторону, хвалит за решительность и смелость, говорит при всех, что только этого и ждал от товарища Вострикова, и тут же, недолго думая, вносит его фамилию в список добровольцев.
— Вот, — скромно, с достоинством, как и подобает в таком случае истинному самоотверженному герою, сказал Гршпа, войдя вечером после работы в комитет комсомола и протягивая Алику своё заявление. — Я решил.
— Чего решил? — спросил Алик, принимая, однако, заявление и не спеша развёртывая бумагу.
— Тут всё сказано, — нояснил Гриша, указав пальцем на бумагу, которую к тому времени уже развернул Алик.
Наступило молчание. Алик прочёл Гришино заявление, положил бумагу перец собой и забарабанил пальцами по столу.
— Нет, — сказал он наконец. — Нет, нет и нет.
— Почему? — упавшим голосом спросил Гриша.
Всё опять складывалось совсем не так, как он ожидал.
Потому что на новостройки Сибири, — начал пояснять Алик своим невозмутимым, откровенным тоном, «ткинуншись на си инку стула и внимательно глядя на Гришу, — мы посылаем лучших комсомольцев, чтобы ни заводскому коллективу, ни вообще москвичам не пришлось яа них краснеть. Если образно говорить, то мы с кровью отрываем от себя, от своего коллектива этих ребят и в то же время с радостью рекомендуем их на сибирские новостройки, так как уверены, что они с честью оправдают наше доверие и по подведут ни в каких условиях.
— Я тоже не подведу, — сказал Гриша. — Я тоже в любых условиях, если хочешь знать...
— Хочу, конечно, хочу, — снисходительно сказал Ллпк, — но пока рекомендовать тебя, сам понимаешь, в такую ответственную бригаду я никак не могу. Ты выслушай меня и ие обижайся. Когда первый раз мы с тобой беседовали — помнишь? — у нас установилось вроде бы полное взаимопонимание. Я рассказал тебе о том, как и чем живёт наш комсомольский коллектив, ты, со своей стороны, дал согласие принимать самое активное участие в этой жизни: учиться, запиматься спортом, выполнять комсомольские поручения. Так? — Алик сделал паузу, вновь откинулся на спинку стула, положил свои здоровенные кулачищи на стол, склонил голову набок. — Ты что-нибудь выполнил из этих обещаний?
— Я начал учиться, — сказал Г рнтна, но не смог.
— Почему?
Гриша, потупясь, почесал в затылке и не ответил. Вновь ему показалось страшно неудобным говорить Алику правду. К тому же в комитете, кроме Алика, был ещё и знаменитый Лапшин. Он сидел за соседним столом, перелистывал подшивку газет и, казалось, не обращал на Гришу никакого внимания. Но всё равно он был здесь, его присутствие гипнотизировало Гришу, и сказать при нём, почему он перестал посещать вечернюю школу, было невозможно. В самом деле, ведь если разобраться начистоту, то выйдет, что он бросил учиться только из-за того, что любит поспать. Вероятно, сам Алик, а Лапшин и подавно, коснись их, нашли бы выход, заставили бы себя сделать так, как надо. А вот он, Гриша, ие смог, У него не хватило силы воли. А если не хватило её преодолеть такую, но очень-то уж большую трудность, то кто же, узнав об этом, возьмётся в самом деле рекомендовать его в Сибирь, на новостройку, где эти трудности поджидают на каждом шагу и пх всё время надо преодолевать. Он теперь понимал, что только слабоволием и отсутствием элементарной организованности можно объяснить то, что он сделал. Признаваться в этом было ужасно. Кому, собственно, какое дело, что он живёт далеко от завода, что у него такие взаимоотношения с отчимом! Всё зло заключалось в том, что Гриша любил поспать и ие сумел заставить себя отказаться от этого. Вот и всё.
— Учиться бросил, — говорил меж тем Алик, обращаясь к Лапшину. — Слышишь, Петя? — Лапшин подпял голову.-и, как показалось Грише, равнодушно, даже с презрением поглядел на него.
— Спортом не занимаешься, а, насколько я помню, — говорил Алик, обращаясь опять к Грише, — ты обещал записаться в секцию легкоатлетики. Так?
— Плавания, — поправил его Гриша.
— Обещал зайти, поговорить о поручении — не пришёл. Так?
Гриша лишь вздохнул.
Больше того, - продолжал Алик. — На днях было комсомольское собрание. Сказать тебе, какого числа оно было?
Не надо, — ответил Гриша.
Алик, казалось, решил окончательно расправиться с ним, доконать его именно в присутствии Лапшина. Безжалостность его была чудовищна, и в то же время возражать ему было невозможно. Всё было правдой.
— Следовательно, ты знал, — говорил Алик. — Да и как не знать, если объявления о собрании висели по всему заводу целую неделю. Их даже слепой мог увидеть. Ты же, как мне теперь стало известно, имеешь тенденцию вообще сматываться с завода как можпо быстрее, вроде этого самого Моргунова Алексея Дмитриевича. Но тот, ладно, — Алик махнул рукой, - - индивидуалист до мозга костей, с него, собственно, и спрос в этом деле не велик, поскольку он никого не подводит, кроме самого себя. А ты подводишь целый коллектив, всю нашу организацию. Как же мы после этого можем рекомендовать тебя на такое ответственное дело? Давай так, по-честному. Как ты сам смотришь на это?
— Никак, — признался Гриша.
У нас такое правило, — продолжал Алик, несколько обескураженный Гришиным признанием, — вот Петя подтвердит, что надо сперва самому дать коллективу, выложиться на всю железку, а потом уже и требовать отдачи. Ты же всё о себе заботишься. Только о себе. Тут тебе неловко, с тем ты ужиться не можешь.
А что он требовал? — спросил Лапшин.
Понимаешь, — охотно стал пояснять Алик, — живёт в собственном доме, занимает отдельную комнату, так нет, видите ли, дайте ему ещё общежитие.
— .Зачем же? — пожал плечами Лапшин и опять углубился в чюние газег.
— А теперь вот пожалуйста... — И с этими словами Алик взял со стола Гришино заявление и потряс им в воздухе, как самой неопровержимой уликой, как самым главным вещественным доказательством. — Понимаешь, в чём дело?
— Понимаю, - сказал Гриша. Всё понимаю. Только я бы, если бы вы доверили, всё сделал, чтобы оправдать...
— Вот давай пока здесь это докажи, — дружески, с доброй, широкой улыбкой сказал Алик. — А на новостройки едут не последние. Понял?
— Понял, — сказал Грпша, вздохнув.
— Ну. тогда ио рукам, — сказал Алик и, поднявшись из-за стола, протянул Грише свою широкую сильную ладонь. — Бывай здоров. — И тут же, пожав Гришину руку, по обычаю, осведомился: — Не больно?
Глава десятая. ПРОДОЛЖЕНИЕ БОЛЬШИХ НЕПРИЯТНОСТЕЙ
После этого поучительного и позорного для него разговора с Колотушкиным, происходившего к тому же в присутствии Лапшина, Гриша несколько дней не мог прпйти в себя, с мучениями и растерянностью переживал очередную свою неудачу. Этим неудачам, казалось, не будет конца, они злорадно подстерегали его на каждом шагу. Что бы он ни придумывал, всё в итоге как бы выворачивалось наизнанку и решительно восставало против него же самого.
Состояние Гриши было отвратительным. Не только потому. чго Колотушкин очень убедительно доказал ему всю несостоятельность его просьбы, а н потому, что некому было рассказать о всём происшедшем с ним, пли, как говорят, излить душу. Он продолжал оставаться в полном одиночестве.
И вот в то время, когда ему стало просто невмоготу переносить отсутствие внимательного и понимающего его состояние собеседника, к нему подошёл один из тех двух, ненавидящих друг друга и давно уже наблюдавших за ним, симпатизирующих ему людей.
Это был Павлик Кудрявцев.
Сближение с ним состоялось в обеденный перерыв, когда Гриша, меланхолично, с безразличием съев свой обед, вышел нз столовой.
— Ты чего такой съёженный ходишь? — догнав его и дружески положив на его плечо руку, спросил Павлик.
Гришу тронуло внимание человека, давно уже нравившегося ему. Было приятно, что Павлик точно подметил то душевное состояние, в каком пребывал Грпша.
Они разговорились. Кудрявцев не только слушал, но и очень удачно комментировал его рассказ, и именно этими комментариями на многое, как показалось на первых порах благодарному и доверчивому Грише, открыл ему глаза.
— Понимаешь, — доверительно говорил Гриша, — хотел поехать на новостройку в Сибирь, а меня не берут.
— Кто не берёт? — решительно, с гневом спросил Павлик.
— Колотушкин.
— А. вождь и учитель заводской молодёжи. Ох, и не люблю я этого воспитателя! Сказать тебе, что у него на уме?
Гриша кивнул.
- У него на уме, чтобы все ходили парочками, взявшись за ручки, как в детском саду, и пели хором: «Каравай, каравай, кого любишь, выбирай». Верно?
Верно, — усмехнулся Гриша. — Он, как мне кажется. любит больно всех учить.
— Я про то и говорю. А зачем, скажи ты мне, тебя в Сибирь потянуло?
— Причин у меня много, — сказал Грпша. — Во-первых, мне нужно уехать отсюда вообще.
Почему?
Понимаешь, если по-честному сказать, мне негде
жить.
— Что-то я ни в одной газете не читал, чтобы туда ехали из-за жилья. Туда, как пишут в газетах, едут с героизмом.
— Это само собой, конечно.
— Парень ты хороший, — помолчав, сказал Павлик, — а дурак. И поэтому всё делаешь не так, как надо делать настоящему рабочему человеку. Хочешь, я тебе совет дам?
— Конечно, — сказал Гриша. — Я буду очень благодарен тебе.
— Так вот, если хочешь, чтобы всё было по-твоему, как ты задумал, надо на горло наступать, на басы. Думаешь, ты кому-нибудь тут нужен? Колотушкину, например? Нужен, конечно, только ты ему нужен как процент, и не больше. А на всё другое, что касается тебя, ему наплевать. Говоришь, тебе негде жить? Наплевать ему, что тебе негде жить. Понял? И если ты сам за себя не постоишь, не бу- дешъ с дракой отстапвать свои права, то пропадёшь как не знаю кто. — Павлик продолжал обнимать Гришу. — Эх ты, дурачок, ничего ты ещё не знаешь в нашей сложной жизни. Они же все привыкли только требовать с тебя. У них одно: «Давай, давай!» Вот и весь их разговор. А чтоб тебе дать, так вот чего они тебе, видел? — И Павлик поднёс к Гри- шиному носу кукиш.
Гриша поглядел на его руку и обомлел: на руке были вытатуированы гроб, крест и написано вкривь и вкось: «В память отца».
— Это зачем ты? — спросил Гриша.
Павлик тоже поглядел на татуировку, смущённо сунул руку в карман и сказал:
— Это когда у меня отец помер.
— У меня тоже помер отец, я его тоже очень люблю, — растроганно сказал Гриша. — Очень! Я, знаешь, всегда следую его примеру, всегда думаю, как бы он поступил, а потом и сам так делаю.
— Ты слушай, что я тебе говорю, — оборвал его Павлик. — Заруби себе на носу, что всегда надо не просить, а требовать своего. А когда надо, и брать. Затребуешь, заорёшь, они и замечутся. Тот же твой Колотушкин преподобный. Человека, который просит, а не требует, ие берёт что надо, никто не любит, и с ним делают что хотят.
Слушая Павлика, Гриша проникался к нему всё большим доверием и уважением. При этом ему вспомнилось, как Алик сказал, что надо самому сперва дать, а потом просить отдачи и что тогда это показалось ему очень справедливым. Но вот Павлик совершенно иначе объяснил, как надо вести себя с людьми, и Грише уже стало казаться, что объяснение его было более серьёзным и глубоким. Действительно, если бы ему дали возмоягность жпть в общежитии.
равве он остался бы в долгу? Или уехать на новостройку. Разве бы он сплоховал там?
— Я просился в общежитие, мне тоже отказали.
— Вот-вот: просился, кланялся... Я говорю: надо было врезать по столу кулаком, чтобы чернильницы подскочили, тогда бы другой разговор пошёл. Своё мы должны зубами выдирать, если нужно. Понял? На блюдечке тебе никто ничего не принесёт. Мы должны, как в нашей столовой, заниматься самообслуживанием.
Они шли по заводскому двору, по молодой аллейке из тополей и берёз, посаженных весной комсомольцами. Аллейка упиралась прямо и двери их лифтосборки. Павлик, как обнял Гришу за плечи, так и не отпускал его всю дорогу, словно боялся, что Гриша сбежит от него.
А Грпше он нравился всё больше я больше. В кепочке, натянутой по самые ушп, в распахнутой спецовке с закатанными рукавами, Павлик казался Грише изумительно милым, добрым, смелым и справедливым человеком.
— Или вот взять этого нашего преподобного Лапшина, — говорил Павлик. — Думаешь, его бригада в самом деле такая образцовая? Ничего подобного. Создай мне такие условия, какие создали им, я, может, и пе то ещё сделаю. Заметь, у них бывают простои?
— Не знаю, - сказал Гриша.
— То-то и оно. — Павлик торжествовал. — А припиши-ки? Мне или тебе не припишут, будь здоров. Только свои кровные получаем. А им выведут. Им же всё делают в первую очередь. Поэтому они такие и чистенькие. Ты погляди, чего эта бригада коммунистического труда на самом деле стоит, тогда поймёшь.
Около дверей они остановились. Павлик как бы даже с сожалением снял наконец руку с Гришиного плеча и между прочим спросил:
— Ты чего после работы делаешь?
— Домой поеду. Мне далеко очень.
— Домой всегда успеешь, — решительно заявил Павлик. — Подожди меяя возле ворот, вместе пойдём.
— Хорошо, — охотно сказал Гриша. — Я подожду. Только, знаешь, я не могу долго задерживаться.
— А зачем долго? великодушно сказал Павлик, н-Просто вместе пойдём. Я ещё кое-что расскажу по дороге.
— Я тебя могу, и в цеху подождать, — доверчиво сказал Гриша.
— Нет, лучше за проходной, — поспешно возразил Павлик. — Я кое-куда ещё должен забежать.
Если бы Гриша знал, для чего Павлику понадобилось всё это и что в результате случится с ним, Гришей, в тот вечер! Но Павлик был так великодушен к нему, так правильно рассуждал обо всём, что Гриша готов был исполнить любую просьбу своего нового друга, ничего ещё не подозревая.
Ждать около ворот пришлось недолго. На этот раз на Павлике спецовка была застёгнута наглухо, а кепочка, наоборот, сдвинута на затылок. Возбуждённый и чем-то озабоченный, Павлик выскочил из проходной с такой стремительностью, словно его вышвырнули оттуда.
— Ну, пошли, — сказал он, налетая на Гришу и опять обнимая его за плечи.
И они зашагали так дружно и в ногу, что Гриша, улыбаясь от удовольствия, то и дело поглядывал на прохожих, приглашая их счастливыми глазами разделить его восхищение Павликом и приятно удивиться и обрадоваться тому, как они славно, в обнимку, шагают по улице.
— Ты держись за меня, — говорил Павлик. — Со мной ты никогда не пропадёшь и будешь человеком. Я тебя научу, и ты добьёшься, чего только захочешь. В общежитие? Добьёмся общежития, будь спокоен, это у нас — раз-два! — и готово. Я научу, как действовать. Всё будет в порядке. Но, — он заглянул Грише в глаза. — услуга за услугу, верно?
— Конечно, — носпешно, с радостью согласился Гриша, — для тебя я тоже сделаю всё, что только могу. Я для друзей всегда... У нас в школе знаешь какие дружные ребята были или на Рабочей?! Ого!
— Между прочим, на-ка положи к себе в карманы, а то мне тяжело, — сказал Павлик, останавливаясь, и, Оглядевшись по сторонам, извлёк из-под спецовки две плоские стеклянные фляги, наполненные какой-то темпо-вйшйевой жидкостью.
— Что это? — спросил Гриша, понизив голос и, ещё не понимая, в чём дело, но так же, как и Павлик, воровато оглядываясь и поспешно, с трудом засовывая фляги в карманы брюк.
— Лачок, — небрежно сказал Павлик. — Мы сейчас его реализуем. Да ты не бойся, дурачок, — продолжал он, видя, как побледнел Гриша. — Это всё мелочь, семечки, ты ещё не знаешь, так все делают. Ну, пошли. — И он опять обнял! Гришу за плечи, увлекая за собой.
Этот «лачок» Павлик ещё вчера добыл в красильном цеху, однако сразу нести фляги за ворота побоялся. Сегодня, пересилив страх, он удачно проскочил мимо вахтёров, но с облегчением вздохнул лишь тогда, когда фляги оказались с карманах Гришиных штанов. Теперь, если бы их и задержали с этим «лачком», Павлик был бы ни при чём. Он давно мечтал о таком дурачке, как Гриша, чтобы работал у него на подхвате.
А что же Гриша?
Побледневший и притихший, сразу потерявший всю так славно переполнявшую его радость, нехотя брёл он теперь рядом с повеселевшим Павликом. Он понимал, что «лачок» взят на заводе без спроса, что называется это самым настоящим воровством, что Павлик впутал его в дрянную историю, что ему надо сейчас же отказаться, вернуть фляги как можно скорее, пока не поздно, пока ничего ещё не произошло. И тем не менее, понимая всё это, он нокорнО, молча шёл, увлекаемый Павликом. «Сейчас остановлюсь, отдам, скажу, что в таких делах я участвовать никогда не буДУ»! — лихорадочно думал он и никак не мог остановиться. Что-то, казалось, совсем незначительное мешало ему поступить так.
Этим «чем-то незначительным» было его недавнее восхищение Павликом.
Между тем они продолжали свой путь, свернули в переулок, миновали два строящихся, обнесённых забором из горбыля дома, вышли на небольшую площадь и, перейдя её, очутились около синего тесового домика под односкат-
ной рубероидной крышей. Такие домики ещё часто встречаются в различных московских уголках. Торгуют в них колбасой, консервами, сахаром, но в основном пивом. Для знакомых могут налить и водки.
— По кружечке, — предложил Павлик, подойдя к прилавку.
— Я не пью, — сумрачно взглянув на него, ответил Гриша.
— Сейчас, погоди, всё оформим, как в отделе кадров, — не слушая его и не замечая его удручённого состояния, продолжал Павлик.
Он просунул голову в окошечко, о чём-то тихо переговорил с продавщицей и обернулся к Грише:
— Иди к двери и отдай. По-быстрому.
Гриша послушно свернул за угол и лишь успел подойти к двери, возле которой лежала груда ящиков и стояли большие дубовые пивные бочки, как дверь распахнулась и на пороге, загородив собою весь проход, встала дородная, похожая на Матрёну Осиповну Раздорову женщина в белой куртке с засученными, словно для драки, рукавами.
— Давай живее, — сердито, как Матрёна Осиповна, сказала она.
Гриша, испуганно глядя на неё, поспешно вытащил из карманов фляги.
— Всё, — сказала она, прижав фляги к пышной груди, и, ловко повернувшись, с треском захлопнула дверь.
Когда Гриша, с облегчением вздохнув, вернулся к Павлику, на прилавке уже стояли две кружки пива и два стакана, наполовину наполненные желтоватой жидкостью.
Портвейн, — объяснил Павлик, кивнув на стаканы.
— Но я не пью, — сказал Григаа.
— Ха, — усмехнулся Павлик. — Для бодрости. — И поднял стакан. — Берн.
— Но... — уже не очень решительно начал Гриша, просительно глядя на Павлика.
— Давай, давай, — подбодрил его Павлик. — А то тебе только и остаётся, что записаться в бригаду Лагшшпа. Они тоже так вот... не пьют. — Он подмигнул Грише. — При людях. А сами запрутся в своём общеиштии, занавесят занавески и хлыщут до потери сознания, только чтоб никто не видел. А на другой день опять святыми прикидываются.
Гриша взял стакан.
— Ты залпом, не дыша, вот так. — И Павлик, ловко опрокинув содержимое стакана в рот, стукнув им по прилавку, схватил обеими руками пивную кружку и, даже не дохнув при этом, жадными глотками стал пить пиво.
То, что Павлик назвал портвейном, оказалось водкой, чуть разбавленной пивом, или, как говорят пьяницы, ершом. У Гриши, выпившего этот ёрш, противная тошнота схватила горло, но он. изо всех сил стараясь не показать этого, подражая Павлику, тоже стал пить ппво. Пил, вытаращив от усердия глаза, и думал: «Вот допью и сразу же уеду домой. За углом остановка. Сяду на автобус — и будь здоров, Павлик. И уж больше мы с тобой никогда не пойдём вместе на такие прогулочки. И вообще никуда не пойдём. Это уж точно. Только бы допить — и на автобус».
Но, по мере того как убывало пиво в кружке, тошнота проходила, а по телу разливалась блаженная слабость, которая скоро вдруг бросила его в жар, и он почувствовал себя сильным, отчаянным, точно таким же, как Павлик, и ему стало всё нипочём. В голове ещё плавали ускользающие и тающие клочья прежних здравых мыслей, однако любование собой, своей необыкновенной, небывало отчаянной лихостью и храбростью, на которую, конечно же, все сразу обратят внимание и восхитятся ею, не переставая при этом с восторгом говорить, что это сделал сам Востриков, знаменитый Гриша Востриков, не покидало его.
— Ещё по одной, — предложил Павлик. — Ты, я вижу, настоящий парень, и я не ошибся в тебе. Я тебя, знаешь, давно приметил. — И Павлик поощрительно похлопал Гришу по спине.
— А что, я всегда... — Грпша беспричинно засмеялся. Ему показалось необыкновенно забавным, что язык его, неизвестно почему, еле ворочается во рту.
Выпили ещё но полстакана ерша и по кружке пива, закусили помидорами, как попало тыкая ими в тарелку с крупной, грязной и мокрой солью, стоявшей на прилавке.
Когда отошли от палатки, Павлик доверительно спросил:
— Ты думаешь, это я для себя взял, лачок этот? Эх, ты! Меня же попросила вот женщина, человек же, мебель ей надо подновить. А мне жалко, что ли? Убудет его на заводе? Мы — ей, она — нам. Начальство, если хочешь зиать, машинами шурует, и всё нипочём. Верно?
Верно, — сказал Гриша. — Наплевать. Я тебя тоже, ты ещё не знаешь, давно заметил, и ты мне давно очень нравишься.
Теперь мысль о доме отступила на самый задний план, стала такой микроскопически ничтожной, что на неё можно было просто махнуть рукой. Самое важное сейчас заключалось в том, чтобы как можно подольше побыть вместе с этим чудесным Павликом.
Гриша уже был уверен, что он никогда ещё так весело и интересно не проводил время, никогда не чувствовал себя настолько смелым, красивым и остроумным, что встречные (он прекрасно видел это), не скрывая своего восхищения, любуются им.
Что бы они в тот вечер ни делали, где бы ни были, всё казалось Грише очень значительным, необыкновенным н прелестным.
Сперва они зашли в гастроном, и Павлик купил шоколадку.
— Это сестрёнке, — сказал он. — Держи, ты ей сам отдашь, как будто от тебя. И выпили, в случае чего, тоже за твой счёт. Ты угощал, понял? А то мать начнёт расспрашивать, где взял деньги, то, сё, понял? Я получку ей всю отдаю, она у меня строгая. Одним словом, ткачиха и общественница. В общем, тебе понятно.
— Конечно, — сказал Гриша, улыбаясь и преданно, с умилением глядя на своего друга.
Мать и сестрёнка Павлика были дома, сидели за столом, обедали. Скуластая женщина с очень красивыми большими серыми глазами и русыми волосами, расчёсанными на пробор н гладко, туго стянутыми в пучок на затылке, и очень похожая на мать девочка лет шести в чистеньком ситцевом платьице.
Оглядев пришельцев, женщина спросила у Павлика:
— Обедать будешь?
— Нет, — бодро сказал Павлик. Он похлопал Грншу по плечу. — Это мой новый друг. — И подтолкнул Гришу к столу.
— Вот, — сказал Гриша всё с тем же глупым умилением на лице и, положив перед девочкой шоколадку, попятился к порогу.
Девочка, даже пе взглянув на него, робко поблагодарила, а женщина вновь подозрительно оглядела Гришу и
Павлика, уже успевшего натянуть на плечи вместо спецовки серенький пиджачок.
— Недолго у меня, — строго сказала она.
— Ладно, — отозвался Павлик, довольно бесцеремонно выталкивая Гришу за дверь и устремляясь следом за ним с такой прытью, с какой вылетел недавно из проходных ворот завода.
Во дворе два парня в ма-локозырочках, какая была и на голове Павлика, забавлялись, качаясь на детских качелях. Ребятишки толпой стояли поодаль и с серьёзным видом дожидались, когда натешатся эти верзилй. Увидев Павлика, парии бросили своё занятие и пошли ему навстречу.
— Мой новый друг, — сказал Павлик, указывая на Гришу.
Парни, критически оглядев незнакомца, вопросительно уставились на Павлика.
— Свой, — небрежно сказал Павлик.
Одного из этих парней, как скоро выяснилось, звали Дуремаром, и работал он слесарем в трамвайном депо, а второго — Бараном. Этот был с текстильной фабрики, на которой работала мать Павлика. У Дуремара всё длинное: ноги, руки, шея, нос, а у Барана были большие, навыкате, печальные голубые глаза, и по ним было сразу видно, что он глуп как пробка.
— Ну? — спросил Дуремар.
— Всё в порядке, — всё с той же небрежностью ответил Павлик. — Вот он, — Павлик указал на Гришу глазами, помог.
— Дашке? — спросил Баран.
— Ей.
Гриша, продолжавший пребывать в том блаженном, счастливом состоянии, в которое привели его выпитые пиво и водка, понял, однако, что разговор идёт о тех самых флягах, которые он мужественно нёс в своих карманах, а Дашкой парни называют ту дородную женщину в белом пиджаке, которой он вручил фляги возле двери палатки.
— Гроши отдала? — спросил Дуремар.
— Отдала.
— И ни слова?
— Ни слова.
— Фьють, — свистнул ни с того ни с сего Баран, потирая руки.
Они снова зашли в гастроном, но теперь купили уже не шоколадку, а бутылку водки и уже усаживались в общественной столовой за столик, покрытый несвежей скатертью и с горшком цветущей герани посредине.
Официантка принесла два винегрета и четыре тарелки щей. Поскольку стаканы отдельно на стол не подавались, опытные Гришины приятели взяли бутылку лимонада.
Это было удивительно, необыкновенно. Гриша, впервые участвовавший в попойке, с восхищением наблюдал, как точно и чётко Дуремар разливает по стаканам водку, пряча при этом бутылку и стаканы меж ног, а Баран так же ловко добавляет в каждый стакан лимонада. Вен хитрость заключалась в том, чтобы разлить водку незаметно от посторонних людей, и Гриша чувствовал себя вдвойне счастливым оттого, что принимает участие в таком тайном деле,
В столовой Гриша окончательно захмелел. Не помогли даже щи, которые он съел с собачьей жадностью.
Он ещё мог уехать домой. Было ещё не поздно. Но куда там! Гриша ещё сильнее теперь стал ощущать себя смелым, решительным и остроумным, а безграничное восхищение его Павликом распространилось и на Дуремара с Бараном. И такие они были все хорошие, так ему самому хорошо было с ними, что Грише теперь всё время хотелось поцеловать их. и он с великим трудом удерживал себя от этого великодушного и, как ему казалось, вызвавшего бы ответный восторг и у Павлика, и у Дуремара, и у Барана поступка.
Меж тем наступили сумерки, и над кинотеатром, около которого полчаса спустя очутился Гриша со своими друзьями, но-ораздоичному засияли электрические огни. В ожидании сеанса ели возле входа эскимо, и для Гриши по-прежнему всё было милым, оригинальным и необыкновенным, и он никак не мог утерпеть и все придумывал, как бы ему отличиться, показать своим друзьям, какой он храбрый, смелый, остроумный и что он достоин их дружбы и готов совершить ради них всё, что угодно.
Но вот случай этот представился ему: на широкой, шершавой гранитной лестнице, тремя ярусами поднимающейся с улицы к дверям кинотеатра, появился Лапшин. Он был в белой шёлковой сорочке и светлом, из дорогой тонкой материн, отлично сидящем на нём костюме. Под руку с ним лёгкой, танцующей походкой шла стриженная под мальчика курносая девчонка из обмоточного цеха. Лапшин шагал по лестнице медленно и церемонно. Это не понравилось Грише, и он понял, что наступил тот долгожданный момент, когда он сможет наконец показать себя. Красноречие, так долго без толку бродившее в нём, запросилось наружу. Гриша заговорщицки, весело подмигнул Павлику — дескать, полюбуйся, что я сейчас сотворю, — выступил вперёд п. ухарски подбоченясь, остановился у края лестницы. Когда Лапшин поравнялся с ним, Гриша сказал:
— - Одну минутку.
Лапшин посмотрел на Гришу с недоумением.
Кровь прилила Грише в голову. Именно так. вспомнил он, Лаппшн смотрел на него в комитете комсомола, когда его отчитывал Колотушкин.
— Что ты на меня так смотришь? — громко спросил Гриша, чувствуя неизъяснимое презрение к Лапшину. — Ты думаешь, нам про тебя ничего неизвестно? Думаешь, мы не знаем, почему у твоей бригады не бывает простоев? Думаешь, не знаем, как вам приписывают в каждом наряде для того, чтобы вы были лучше всех? Чистенькими!
— Чго ты мелешь? — спросил Лапшин.
— Я мелю? — изумился Гриша. — Не нравится? Правда не нравится?
— Дай ему в лоб, — крикнул Дуремар за Гришиной спиной.
— Фмоть, — свистнул Баран.
Эта поддержка друзей придала ему силы.
— Английский язык изучаете, а сами... Я тоже немножко знаю английский, будьте спокойны, мы в школе проходили...
— Да ты пьян, — удивился Лапшин. — Иди-ка лучше домой. Здесь тебе, право, не место сейчас.
— Мне не место! А ему место! — воскликнул Гриша, сам восхищаясь тем, как остроумно парирует он все реплики Лапшина, и видя, что окружающие, как ему казалось в ту минуту, с одобрением прислушиваются к его словам.
Толпившиеся на площадке перед входом в кинотеатр людп действительно начали прислушиваться к довольно бессвязным и нелепым выкрикам пьяного Гриши. Ах, если бы знать ему, что в этой толпе находится и Лиза Прямкова! Быть может, всё тогда стало бы иначе. Но он не видел Лизы, так как щурил свои пьяные глаза только на Лапшина, а Лиза, обрадовавшись было этой неожиданной встрече с Гришей, поняв, что он пьян, пришла в такой ужас, что даже схватилась ладонями за щёки.
— Я пьян? — кричал Гриша не своим голосом. — А вы не пьёте? Я знаю, как вы пьёте. Вы запираетесь в своём общежитии, занавешиваете окошки и напиваетесь всей бригадой так, что... — Как они напиваются, Гриша не знал и поэтому, передохнув, злорадно выкрикнул: — Не нравится? Пьёте втихую, чтобы люди не видели, чтобы считали вас святыми, так?
Лапшин, нахмурясь, пристально смотрел на него.
В это время к Грише подошли два молодых человека с красными повязками на рукавах, и один из них, крепко взяв его за руку, повелительно сказал:
— Ну, хватит. Пойдём.
— Куда? — удивлённо спросил Гриша, попробовав выдернуть руку н уже поняв, что за люди подошли к нему и куда онп приглашают его.
— Никуда я не пойду. Пустите меня! — закричал он и опять рванулся, стараясь освободить руку от сильных пальцев, цепко ухвативших её у запястья.
Тогда второй человек уже молча взял его за другую руку. Дружинники бесцеремонно, рывком скрутили их Грише за сгшиу, и тот, ойкнув от резкой боли, сразу как-то обмякнув, уже безропотно подчинился им.
— Ребята... — жалобно, умоляюще проговорил он, когда дружинники повели его, унизительно подталкивая, прочь от кинотеатра.
Он ещё надеялся, что Павлик, Дуремар и Баран заступятся за него. Однако друзей его уже не было видно.
Лиза Прямкова как прижала ладони к щекам, так и не отрывала их до тех пор, пока Гриша, сопровождаемый дружинниками, не скрылся из глаз. «Гришка, Гришка!.. — думала она потом, сидя в зале. — Пьян, хулиганит... Как это могло случиться с ним? Откуда он вдруг взялся здесь? Что с ним произошло? Что с ним будет теперь?» Тут же она решила принять все меры и разыскать его во что бы то ни стало.
Но не знала она, как это легко можно сделать.
Дом, где поселилась счастливая семья Прямковых, находился всего в трёхстах метрах от завода, на котором работал Гриша.
Глава одиннадцатая „ДОБРЫЕ ДЕЛА“ МОРГУНОВА
За дебош и сопротивление дружинникам Гриша отбыл трёхсуточное наказание, и ему, таким образом, хватило времени для того, чтобы подумать над случившимся. Но, сколько Гриша ни старался, ои всё же не мог понять, как и почему всё это произошло с ним.
Было ясно одно: в тот день Гриша, словно заворожённый, совершал ошибку ва ошибкой.
Почему он так легко доверился Павлику? Ведь если бы он тогда во дворе, но дороге из столовой в цех, не разоткровенничался с ним, они бы не встретились за воротами и ничего бы не было.
Почему он согласился нести фляги в своих карманах, зная к тому же, что лак ворованный? Ведь, если бы он нашёл в себе силы отказаться, с ним ничего бы не было.
Почему он стал нить водку, когда отдал фляги Дашке-палаточнице? Ведь если бы он наотрез отказался..
Выпив водку, он мог и должен был уехать домой, но вместо этого пошёл с Павликом шляться по улицам. Почему? Ведь если бы он нашёл в себе силы и заявил о том, что уезжает, и на самом деле уехал,,,
И наконец — самое отвратительное и бесчестное — почему он пристал к Лапшину? Что он, собственно, знает о Лапшине и его бригаде? Только то, что рассказал Павлик. Но ведь это могло быть и неправдой. Тогда какое он имел право говорить всё это Лапшину? Тому самому Лапшину, которого все на заводе уважают и ценят!
Да, всё складывалось таким образом, что виноватым оставался только один Гриша, ничтожный, малодушный и безвольный человек.
Но что же теперь будет с ним дальше?
Он прекрасно понимал, что дело на этом не кончится. Трёхсуточное пребывание в милиции — это всего лишь начало, прелюдия к тому, что ещё должно было разыграться и, конечно, разыграется над его несчастной головой.
Но думать об этом было просто-напросто невмоготу, и Гриша в конце концов решил: чему быть, того не миновать, сам натворил, сам и должен ответить. Но тем не менее, как он ни бодрился, придя к такому обнадёживающему заключению, на душе у него было тяжело.
С очень иевеселыми, терзавшими его душу мыслями приехал он домой, в Хорьково.
Мать, отчим и старуха, словно поджидая его, пили на веранде при электрическом освещении чай с молоком. Они уже знали, что произошло с ним. Мать, встревоженная отсутствием Гриши, ездила на завод, виделась там с Коло-тушкиным, который рассказал ей о том, где находится её чадо.
— Здравствуйте, — сказал Гриша, с виноватой, вымученной улыбкой войдя на веранду и остановись у порога.
— Гриша, Гриша, — осуждающе качая головой, сказала мать. — До чего ты дошёл, как тебе не стыдно...
— Арестант, одним словом, — с нескрываемым злорадством сказала старуха. — Никогда ещё в нашем доме не было такого позора.
— Ну что же, проходи садись, попей с нами чайку, расскажи, как тебе сиделось в камере, — сказал отчим, всё это время с самодовольной усмешкой рассматривавший Гришу. — Налей ему, мать. А может, молочка парного выпьешь? От той коровки, за которой ты ухаживать отказался.
— Я ничего не хочу, — сдержанно сказал Гриша, перестав улыбаться и поняв, что отчнм издевается над ним.
— Садись, садись, не стесняйся, — предлагал отчим. — Мы сразу и поговорим с тобой.
— О чём нам говорить с вами? — спросил Гриша, не трогаясь, однако, с места.
— А о том, о чём тогда, в последний раз, говорили. Около яблони, помнишь? Только теперь будем говорить немного в другом плане. Ты меня пойми, я тебе плохого не желаю, но сейчас у тебя безвыходное положение. Я постарше тебя и о жизни представление имею больше. Она ие таким, как ты, выскочкам, хребет ломает. Верно? — обратился он к Гришиной матери.
Надежда Васильевна утвердительно, с некоторой даже поспешностью кивнула головой.
— Я, знаешь ли, рад, что так случилось с тобой, — продолжал отчим. — Вот мать, она горюет, — указал он глазами на Надежду Васильевну. — Но на то она и матерью зовётся. Ты её, что же, в могилу хочешь раньше времени загнать? — Брызгалов помолчал, закуривая. — А я не буду скрывать, я рад...
— Пожалуйста, радуйтесь, это ваше дело.
— Я рад потому, что ты сейчас безоговорочно должен понять, что тебе рано иметь своё мнение насчёт жизни и повышать голос, а надо учиться у более опытных людей, как жить на белом свете.
— Только не у вас!
— Григорий! — прикрикнула мать.
— Как раз у меня, — сказал отчим. — И не только будешь учшься, а будешь делать так, как я скажу. Иначе, — он решительно махнул рукой, — убирайся отсюда ко всем
чертям. Понял? Впрочем, убираться тебе некуда, это я к слову сказал. Из комсомола тебя сейчас вышвырнут, комсомолу такие, как ты, не нужны. Это я тебе со всей ответственностью говорю.
— Перед комсомолом я сам отвечу.
— А у тебя и не будут спрашивать никакого ответа. Дадут коленом под зад — и катись. Сейчас, знаешь ли, строго с хулиганами поступают. Нянчиться, слава всевышнему, перестали. И правильно сделали. В коммунизм с такими, как ты, ие придёшь. Так вот, я тебе ещё раз говорю что без нас ты не человек, а козявка. Ясно теперь тебе это или нет?
— Нет, не ясно.
— Вот и плохо. А мог бы ещё стать человеком. Ты у нас в семье один, мы бы тебя все вместе, сообща, пока ещё не поздно, могли бы воспитать, научить жить.
— Как на рынке людей околпачивать?
— Всё! — Отчим вдруг так стукнул ладонью по столу, что подпрыгнули чашки. — Разговора меж нами больше не будет. Раз так - всё!
Гриша молча прошёл мимо них к лестнице, поднялся по поскрипывающим под ногами ступенькам в свою комнатку, завёл будильник и лёг на топчан.
Но заснуть он долго не мог. То, что передумал он за эти трое суток, вновь тревогой и безвыходным отчаяпием сдавило его сердце. И тут впервые закралась было в голову мысль о том, что, быть может, отчим прав и не стоит сопротивляться той жизни, которой обещает научить его Брызгалов? Что ему останется делать, если его действительно, как сказал отчим, вышвырнут из комсомола?
«Нет, нет, только не это», — с отчаянием думал Гриша.
В странном, безвыходном одиночестве вновь очутился он.
Гриша, когда его выпустили из милиции, чувствовал себя очень неловко. Ему всё время казалось, что решительно все встречавшиеся ему люди знают, как безобразно вёл он себя возле кинотеатра, как бесцеремонно и унизительно тащилп его дружинники, а он беспомощно барахтался, пытаясь вырваться, и ему за всё это, как говорят, влепили трое суток.
Он никак не мог отделаться от этой неловкости и тогда,
когда ехал домой в электричке, шёл по посёлку, поднимался на веранду брызгаловского дома. Не исчезло это чувство стыда и неловкости и за ночь, И пока шёл утром на станцию, ц потом — в электричке, в троллейбусе и автобусе — ему продолжало казаться, что на него многие обращают внимание, что это, разумеется, неспроста и что люди знают про него решительно всё. Но в ещё большее смятение приходил он тогда, когда думал о том, как встретят его на заводе. И чем бди же подъезжал он к заводу, тем сильнее становилось его отчаяние.
С пылающими от стыда щеками, понурив голову и не смея взглянуть на людей, миновал он проходную, пересёк заводской двор и вошёл в свой цех.
— Вот, — потупясь, сказал он встретившемуся ему мастеру. — Пришёл...
Мастер, один из тех в прошлом пареньков, что пришли на завод в начале войны и к нынешним дням успели стать солидными дядями, а иные даже полысеть, оглядел его с ног до головы и сказал:
— Вижу. Давай к Моргунову, помогай ему. Зашивается наш единоличник.
Гриша, предполагавший, что на него будут кричать, упрекать или, что ещё хуже, с пим вообще не захотят разговаривать, воспрянул духом.
— И всё? — с надеждой, удивлённо спросил он.
— А что ещё? — в свою очередь, удивился мастер. — Давай знай работай.
— Да я... — восторженно воскликнул Гриша, с благое дарностью глядя на мастера.
— Ладно, давай, поучись у этого единоличника уму-разуму, — нетерпеливо прервал его тот и поглядел на часы, висевшие на стене.
До начала работы оставалось десять минут. Гриша пошёл в другой конец цеха, где было рабочее место Алексея Дмитриевича Моргупова, или, как его все звали, единоличника.
Моргунову шёл пятый десяток. Он невысок, худощав, с бледного, с кроткими серыми глазами, всегда чисто выбритого шлепоносого лица не сходило ласковое, доброе выражение. Был он немногословен, дело своё знал хорошо, считался на заводе трезвым, исполнительным человеком, и. его не раз ставили в пример другим, тому же Павлику
Кудрявцеву. Не нравилось людям только то, что он живёт как-то отдельно, замкнувшись в споём, никому не ведомом из заводских мирке, оберегая этот мирок от других, никого в него не допуская, не принимает участия в общественной работе, не остаётся даже на собрания и, как кончит работу, спешит домой. Прошёл слух, что всё это из-за того, что у Моргунова молодая, строгая жена, которая крепко и властно держит его в ежовых рукавицах и командует им как хочет. Слух этот показался всем довольно правдоподобным, над Моргуновым посмеивались, а то, что он не отвечал на шутки, отмалчивался, уходил от зубоскалов в сторону, укрепило правдоподобие этого слуха. За всё это Моргунова прозвали «единоличником».
На самом же деле он был совсем не тем человеком, за которого его принимали, и об этой другой его жизни никто не догадывался.
— Ну что, брат Егорий, — сказал он, когда Гриша передал е.му свой разговор с мастером. — Будем, значит, вместе работать. Чего не был долго? Болел?
— Нет, — сказал Гриша. — Я нахулиганил, и вот... — Он развёл руками, тяжело вздохнув.
— Знаю, — спокойно отозвался Моргунов. Я про тебя всё знаю.
Гришу это удивило.
— Зачем же спрашиваете?
— А чтоб проверить, боишься ли ты правды. Человек с кривой душой бежит от неё, сторонится, ты же, видать, не такой. Это похвально.
Гриша был польщён. Он доверчиво и благодарно поглядел на Моргунова.
Долгое время работали молча. Железные коробки лифтов, сваренные и окрашенные в соседних цехах, поступали в сборку на маленьких вагонетках, двигавшихся по рельсам, проложенным вдоль пролётов. Бригады сборщиков наполняли эти коробки электроаппаратурой, перекатывая вагонетки от бригады к бригаде, так что когда вагонетка достигала противоположной стены, то лифт уже был готов. Плотники одевали лифты в тесовые коробки и выкатывали за ворота, на склад готовой продукции.
Был конец месяца, да ещё суббота, короткий рабочий день, все торопились, чтобы не осталось «незавершёнки» и цех наверняка выполнил программу.
Торопились и Моргунов с Гришей. Хотя то, как действовал Моргуиов, нельзя было назвать торопливостью. Движения его сухих, хилых на вид рук были рассчитаны, сноровисты; отвёртки и ключи, которыми он работал, легко, словно без всякого усилия с его стороны, загоняли шурупы и подтягивали гайки. У Гриши так не получалось, хотя он очень старался не отставать от Моргунова.
— Я про тебя всё знаю, брат Егорпй, — после долгого молчания заговорил, не прерывая работы, Моргунов. — Просился ты однажды в общежитие, но тебе отказали, хотел ты поехать в Сибирь-матушку, но тебе не резрешили. Правильно говорю?
— Правильно, — сказал Гриша.
— Думал я о тебе, и стало мне за тебя обидно. Не там ты, стало быть, ищешь правду свою.
— Где же её искать? — доверительно спросил Гриша.
— Да уж и не там, куда тебя Кудрявцев потащил. От него ты будь подальше — человек он грубый, странный и при том пристрастный к алкоголю. А это порок. От алкоголя всё зло на земле. Пьющие да курящие — что за люди?
— Я в жизни никогда не пил, — проникновенно и доверчиво стал рассказывать Гриша. — Поверьте, даже не знаю, как это случилось тогда со мной.
— Что случилось, того уж не поправишь. — Моргунов говорил не спеша, ласковый, тихий голос его располагал к откровению, и, когда он спросил, для чего Грише понадобилось переезжать в общежитие, тот рассказал ему всю свою историю, начиная с беззаботной жизни на Рабочей улице н кончая последним разговором с отчимом.
— По г как, сказал Моргунов, внимательно слушавший его. — Иыходиг, трудно тебе без человеческой поддержки. Я давно подметил, что трудно. Я знал об этом.
— Очень трудно, — согласился Гриша. — Главное, я очень спать люблю. Если не высплюсь, всё у меня из рук валится. Я и вечернюю школу бросил из-за этого. И вообще... — Он помолчал. — Ас отчимом, знаете, мы уж, наверное, не сможем поладить. Я так думаю, что пусть они живут по-своему. Я, конечно, ничего не могу с ними поделать, но сам я так не имею права жить. Меня отец не этому учил. Я, знаете, Алексей Дмитрич, как иадо мне что-нибудь сделать, ну, в общем, на что-нибудь решиться, так
я вспоминаю отца, как бы он поступил на моём месте, и тогда уж всё делаю сам наверняка.
— Ты отца-то очень любил? — спросил Моргунов.
— Очень! — воскликнул Гриша.
— Это похвально.
— Я. знаете, конечно, может быть, неправильно скажу сейчас. Везде говорят и пишут, что мать всегда лучше отца, но для меня отец был всё-таки лучше. Может так быть?
— Может, — сказал Моргунов.
— Вот если бы мне уехать от них... Я ведь понимаю — я у них лишний.
— Всё это можно сделать, — несколько помедлив и, как показалось Грише, загадочно сказал Моргунов и внимательно поглядел на него.
— Правда? — воодушевился тот.
— И сделать можно тихо, мирно, без шума и обойтись без всякого ихнего общежития. Есть добрые люди, заметь — добрые люди, которые могут помочь тебе.
— Как же?
— Это уж я знаю. Л от тебя потребуется одна только благодарность. — Моргунов помолчал и вновь пытливо поглядел на Гришу. И, может, ещё кое-что, малость какую-нибудь.
— Я буду так вам благодарен! — воскликнул Гриша. Я ие знаю, что для вас могу сделать. Что хотите...
— Вот и хорошо. Ты запомни: люди должны помогать друг другу, потому что на земле много несправедливости.
— Я тоже так думаю. — Гриша был очень доволен тем, что нашёл в Моргунове такого чудесного собеседника и единомышленника.
Как это они раньше не разговорились! И как славно совпадают их мысли!
— Для нас сейчас главное, - воодушевлённо продолжал Гриша, — чтобы все люди были вместе, я так думаю, плечом к плечу, тогда нам ничто не может быть трудно, правда?
Моргунов, занятый работой, не ответил на этот его вопрос, по немного погодя сказал:
— После работы поедем ко мне, там поговорим, обмозгуем, как помочь тебе. Посоветуемся, одним словом.
— Я буду очень вам благодареп, Алексей Дмитрия. А вы далеко жнвете?
— Недалеко, — сказал Моргунов. — Тут до моего дома прямое сообщение, и мы через полчаса будем на месте.
— Хорошо, — согласился Гриша, — я поеду.
Он опять — в который уж раз за сегодняшний день! — виновато, украдкой посмотрел туда, где работал ео своей бригадой Лапшин, надеясь встретить его взгляд и узнать по этому взгляду, как Лапшин относится к нему.
Но Лапшин, казалось, не обращал на Грпшу пикакого внимания.
«Конечно, он сердится на меня, — думал Гриша. — Мне надо подойтп и извиниться перед ним, сказать, что для меня самого это оказалось совершенно неожиданным, что я наговорил явные глупости и очень сожалею, что так всё случилось. Не со мной, конечно; со мной, скажу, всё правильно, по заслугам, а по отношению к нему». Думая так, он продолжал своё дело и не заметил, что пора кончать работу. В субботу рабочий день пролетает очень быстро, но сегодня он у Гриши даже не пролетел, а промелькнул.
Гриша уже умылся и, боясь упустить вышедшего из цеха Моргунова, поспешно вытирал руки, как к нему с добрейшей и радушнейшей улыбкой на лице подошёл Павлик Кудрявцев.
— Здорово, друг! — воскликнул он, по обыкновению обняв Гришу за плечи, приблизив лицо своё к Гришиному лицу и заглядывая ему в глаза. — Ну как там, порядок? — И Павлик весело подмигнул.
Гриша ничего не ответил, лишь шевельнул плечами, стараясь скинуть с них руку Павлика.
— Ох, и здорово же ты тогда дал ему, этому знаменитому нашему Лапшину, — продолжал Павлик. — Всю правду, как есть, в глаза, да ещё при всех людях. Ох, молодец! Дуремар, знаешь, даже повизгивал от удовольствия, когда ты резал этого Лапшина на чём свет стоит. Между прочим, — понизив голос и оглянувшись, чтобы узнать, нет ли около них посторонних, продолжал Павлик, — эта женщина, Дашка то есть, ещё попросила принести ей того самого, чего тогда носили. Расплатится на месте, из рук в руки. Я уже приготовил. Баночку ты возьмёшь, баночку — я, и порядок.
Грише наконец удалось освободиться от объятий Павлика. Попятившись и глядя на него в упор, Гриша звонким голосом сказал:
— Между прочим, вот что: ни в твоих воровских махинациях, ни в попойках я принимать участия не буду.
— Тише ты, дура. — испуганно прошептал Павлик.
— Не намерен, — всё так же звонко продолжал Гриша. — Ты это запомни навсегда. Больше того, я и тебе советую прекратить воровство. Я тебе категорически предлагаю, иначе я заявлю о твоём поведении куда следует.
— А этого- не хочешь? — И Павлик, зло оскалившись, поднёс к Гришпиому носу кулак.
— Ты этим меня не испугаешь. — Гриша отвёл его руку в сторону, даже удивившись тому спокойствию, с каким он сделал это. — А тебе я говорю серьёзно: если не бросишь таскать с завода, заявлю.
— Тю, дура. — Павлик беспокойно натянул было на лоб и тут же вновь откинул на затылок свою малокозы-рочку. — Так ведь ты же сам и погоришь вместе со мной. Кто передавал тот раз фляги Дашке? Я передавал?
— Я передавал, — сказал Гриша. — Всё равно. И готов за это ответить. Но тебя я серьёзно предупреждаю: брось. А теперь до свидания, мне некогда. — И с этими словами Гриша решительным шагом, с независимым и гордым выражением на лице, очень довольный тем, как он держался с Павликом и сумел высказать ему всю правду, вышел нз умывальной комнаты.
Моргунов жнл на одной из тихих улиц села Богородского, давно уже слившегося с Москвой, в довольно прочном и опрятном, хотя уже достаточно старом деревяпном доме с резными наличниками на окнах и даже (что очень редко можно вндеть теперь в Москве) с палисадником, где густо росли кусты акации и длинноногие золотые шары.
- Входи, брат, входи, не стесняйся, — гостеприимно говорил он, стоя на крыльце перед распахнутой дверью и пропуская Гришу вперёд.
Миновав полутёмные прохладные сени, заставленные сундуками и кадушками, они оказались в маленькой, тесной прихожей, из которой вели трп двери: одна — в кухню (Гриша сразу определил это по запаху щей, просачивавшемуся из-за этой двери в прихожую), другая — е спальню (эта дверь была полуприкрыта, и Грнша мельком успел увидеть кровать с голубым нйкешшм одеялом н
горой подушек) и третья — в столовую. Эту дверь и распахнул Моргунов перед Гришей.
Столовая оказалась просторной, с четырьмя окошками, задёрнутыми тюлевыми занавесками, комнатой со множеством венских стульев вдоль стен и множеством икон в углу, что очень удивило Гришу.
Перед пкопами, зажигая свечи и лампадки, стояла спиной к Грише полная, странно знакомая женщина в тёмном платье. Она что-то торопливо, неразборчиво, баском напевала себе под нос. И голос этот тоже показался Грише очень знакомым. «Где я встречал эту женщину? — подумал он. — Ведь я знаю её».
— Мир вам, сестра, — кротко проговорил Моргунов, тихо кашлянув в кулак.
Женщина, зажегши последнюю свечку, обернулась, и Гриша чуть не вскрикнул, вытаращив глаза от удивления.
Перед ним стояла Матрёна Осиповна Раздорова. Она, в свою очередь, тоже удивилась этой неожиданной встрече, хотя и не подала вида, степенно поклонилась в пояс Моргунову, а потом, не спеша повернувшись, отвесила и Грише такой же поклон.
— Здравствуйте, тётя Муся, — сказал Гриша.
С нескрываемым любопытством оглядывался он, стоя посреди комнаты. И пконы с тёмными ликами святых, обрамлённых в позолоченные ризы, потрескивающие, распространяющие запах воска, и отражающиеся в этих ризах свечи, и Матрёна Осиповна — всё это явилось для него ошеломляющей неожиданностью, и он никак не мог собраться с мыслями и решить, как же ему поступпть.
— Очень хорошо, сестра, что пришли вы раньше вре-
мени. Это очень кстати, сам бог вас послал, — говорил меж тем Моргунов, усаживаясь за стол, покрытый полотняной скатертью, на котором лежала толстая, вроде «Войны и мира», книга в кожаном переплёте с вытисненным на этом переплёте крестом, какие обычно бывают на колокольнях и на могилах и какой вытатуировал на своей руке Павлик Кудрявцев. — Будет у нас теперь время поговорить о деле не спеша, до молитвы, пока не собрались остальные братья и сёстры.
Матрёна Осиповна, стоя перед столом, сложив на животе руки, молча слушала его.
— Дело же будет вот какого рода, сестра, — продолжал Моргунов. — Надо помочь брату Егорию. — Он кивнул в сторону Гриши. — У вас, сестра, пустует комната, поскольку, известно мне, сын ваш остался служить в армии сверхсрочно, а вот брату Егорню жить негде. Стало быть, надо его приютить хотя бы на время, пока ие придумаем другого выхода. А брат Егорпй помолится с нами за это господу богу.
— Пусть живёт. Он там жил. Места хватит, — быстро басом заговорила Матрёна Осиповна.
— Постойте, погодите, — в замешательстве сказал Грпша, предостерегающе подняв обе руки. — Я не знал, что у вас так. - Он указал на иконы. — Но мне такая помощь совсем не нужна. Я комсомолец, и никаких молитв я не признаю, это тёте Мусе должно быть известно. И пусть это будет тоже и вам известно, Алексей Дмптрич. Вы ошиблись и совсем не за того меня приняли. Вот и всё, что я могу вам сказать. — И Гриша, хлопая дверьми, поспешно вышел в прихожую, в сени, на крыльцо, сбежал с него и, облегчённо вздохнув, зашагал к автобусной остановке.
И только тут ему пришло в голову, что ведь Моргунов пытался приютить его в той самой комнате, в которой он родился и в которой прожил всю свою жизнь, если не считать этих нескольких месяцев неудачной жизни в брызга-ловском доме.
«Приютить»! Он впервые постиг смысл этого жалостливого, сиротского, нищенского слова и даже плечами передёрнул, таким нелепым показалось оно по отношению к той жизни, к которой стремился он со всей своай непосредственностью, откровением и упрямством.
«Приютить»! Да как это можно было его, Гришу Вострикова, приютить! Да ещё с таким странным и нелепым условием, что он должен будет молиться за эту богу. Вот чудеса!
Но как же всё-таки ему быть?
Глава двепадцатая. ДРУЗЬЯ ПОЗНАЮТСЯ В БЕДЕ
Получалась довольно странная картина: то, к чему он стремился, о чём мечтал, чего так хотел, к чему был совершенно готов и для осуществления чего требовалось так мало — койка и тумбочка в общежитии, рекомендация комсомольской организации на новостройку, — всё это оказывалось, как в сказке, за семью замками, за тридевять земель, и он, словно во сне, никак не мог к этому пробиться. А то, что предлагали ему Брызгалов, старуха, мать, Павлик Кудрявцев, Моргунов, было невозможно для него, противно его существу, его мыслям и представлениям о том, как должен вести себя современный молодой человек, он сам, Гриша Востриков, чтобы быть достойным тех высоких требований, какие предъявляют ему общество, школа, комсомольская организация, семья (пока был жив отец) и даже пока он сам, Гриша, жил на Рабочей улице и мог свободно поступать я располагать собою так, как подсказывали ему его разум и совесть.
Теперь же всё изменилось до такой степени, что Гриша как бы терял над собою власть. И всё это, но его мнению, происходило потому, что они с Аликом Колотушкиным никак не могли понять друг друга. Со всеми — и с отчимом, и с Павликом, и с Моргуновым, лишь пожелай этого Гриша, — можно было договориться, но только не с Аликом, таким строгим и непреклонным человеком. И главное, те доводы, которые приводил Алик всякий раз, как Гриша обращался к нему за помощью, казались даже самому Грише такими убедительными и неоспоримыми, что возразить на них было просто неловко.
Несколько иначе думал об этом Колотушкин.
Последний поступок Гриши, этот безобразный скандал около кинотеатра и пребывание его в тюремной камере, невероятно возмутили и оскорбили Колотушкина. Так хорошо продуманная, налаженная и отрегулированная им во всех её звеньях и подробностях комсомольская работа вдруг оказалась не такой уж безгрешной.
А как отлично было всё до этого! Ударники, бригада коммунистического труда, на которых держали равнение остальные комсомольцы; спортивный коллектив, состоявший в основном из комсомольцев и не однажды завоёвывавший призы, вымпелы и кубки; агитбригада, работавшая среди населения не только во время выборных кампаний; учёба комсомольцев в кружках, на курсах, в вузах, техникумах, в школе рабочей молодёжи! Всё это и ещё многое другое, чего сразу и не перечтёшь, но что тоже характеризовало комсомольскую организацию завода как отличный, примерный, организованный и дружный коллектив, вдруг оказалось испорченным, запятнанным поступком одного лишь человека. Нелепость случившегося заключалась ещё и в том, что поступок этот совершил член той самой комсомольской организации, у которой был отличный отряд дружинников, помогавших милиции следить за порядком в общественных местах и на улицах.
Теперь этот поступок должен стать предметом серьёзного обсуждения н безжалостного порицания не только на заводе, но и в райкоме комсомола. В этом Коло-тушкнн был убеждён твёрдо.
Но если на заводе о поступке Вострикова можно было говорить как о случае частном, беспрецедентном, представив его изолированным от всей жизни организации, то в райкоме разговор пойдёт, конечно, совершенно в другом плане, и, несомненно, возникнет вопрос не только н не столько о самом Вострикове, сколько о том, что в заводском коллективе мало внимания уделяется работе с каждым комсомольцем. Словом, успехи и заслуги коллектива и самого Колотушкина будут взяты в райкоме под сомнг-ппе. В том, что так это и произойдёт, Колотушкпн был убеждён.
Но, если разобраться по существу, разве мало внимания лично им, Алпком, было уделено этому злополучному Во-, стрикову? Не с ним ли не однажды беседовал Аллк с глазу на глаз, уговаривая, убеждая его, наконец, терпеливо доказывая ему всю несостоятельность его намерений и требований? А что можно было ещё сделать с человеком, который считается только с собой, со своими прихотями и
плевать хотел на разумные и резонные советы товарищей? И вообще на весь комсомольский коллектив завода и его славные традиции?!
Так рассуждал Алик Колотушкин, со всей своей прямотой считавший, что отлично узнал Вострикова и что лишь его нетерпимым характером и отсутствием самого элементарного уважения к коллективу можно объяснить его поведение. Однако кому-кому, а Колотушкину было достаточно ясно, что все эти его доводы могут быть свободно признаны в райкоме недостаточно обоснованными и найдутся люди, которые сумеют возразить ему.
Но как бы там ни было, а откладывать обсуждение поступка Вострикова не имело смысла. Алик ие знал лишь о том, как в итоге надлежало поступить с ним, Гришей. Легче всего было бы исключить Вострикова из комсомола, как человека, поставившего себя вне коллектива. Но Алик, понимая, что тогда он и вовсе выпадет из сферы какого бы то ни было, даже самого мизерного, влияния комсомольцев, колебался.
Надо было посоветоваться, и в первую очередь с Лапшиным.
«Лапшин, — думал Алик, — член бюро, сам пострадал от хулиганской выходки Вострикова. Он, конечно, будет согласен с моим мнением».
Авторитет и влияние Лапшина среди заводской молодёжи были столь же велики и неоспоримы, как авторитет и влияние самого Альфреда Степановича Колотушкина. И порой Алику приходилось лишь с огорчением сожалеть, что мнения их оказывались диаметрально противоположными. Но сейчас, по предположению Алика, Лапшин, возмущённый выходкой Вострикова, как и всякий разумный оскорблённый человек, должен был безоговорочно занять его сторону.
Бригада Лапшина считалась лучшей молодёжной бригадой на заводе не только потому, как она работала, но и потому, как она жила, как относились эти парни друг к другу и окружающим их людям.
А жили они с той сердечной простотой, пристальным вниманием и доверчивым уважением к каждому, даже пе-знакомому им человеку. Опи, например, считали, что современному советскому человеку свойственно не только всё то возвышенное, честное, чистое и благородное, что восни-
тывалось и передавалось людьми из поколения в поколение,- но и нечто значительное и большее. Это значительное и большее, по их мнению, заключалось в том, что современный советский человек, воспитанный великими идеями партии, примером великого Ленина, мог и обязан был сделать и делал такое, что другим людям было сделать невозможно.
Другим людям было бы невозможно, например, совершить то, что совершили комсомольцы тридцатых годов, стеклившие, обмораживая руки при сорокаградусном морозе, крышу тракторного завода; им было бы невозможно совершить то, что совершили в годы Отечественной войны молодогвардейцы, Космодемьянская, Матросов; они бы не смогли вести себя так, как вела себя на полузатопленной барже в штормовом океане потерявшая связь с родиной четвёрка краснофлотцев; им оказалось бы невмоготу то, что сделали первые целинники, первые строители сибирских гидростанций. Всё это и ещё многое другое, считал Лапшин, могло быть присуще лишь советскому человеку, удивлявшему и восхищавшему мир своими беспримерными героическими подвигами. Именно исходя из этих соображений и следуя святой заповеди нашей партии, что человек человеку друг и брат, они, вступая в соревнование за звание бригады коммунистического труда, написали в своём торжественном обязательстве: «Если при тебе обидели человека, значит, и.ты виноват».
А Лапшин, считал Колотушкин, был сейчас тем самым человеком, которого незаслуженно оскорбили. Следовательно, резонно полагал он, и другие члены бригады будут с ним заодно.
В бригаде их было четверо: Лапшин, Бёрг, Басов и Полетаев, с некоторых пор прозванный Летописцем-очковти-рателем; четверо совершенно различных и по характеру, И по склонностям, и даже по способностям молодых людей.
Да, они были различны и не похожи друг на друга! Сухопарый, расчётливый и рассудительный студент машиностроительного института Лёша Берг и весёлый, по любому поводу скаливший белые, крепкие, ровные зубы, широкоплечий, весь от шеи до пяток перетянутый тугими Канатами мыпщ Дима Басов (этот учился в Институте физкультуры); прямолинейный и откровенный в своих
суждениях (прямолинейнее и откровеннее даже самого Алика Колотушкина) смуглый кареглазый красавец Пётр Лапшин, заканчивавший институт иностранных языков, и добродушный толстогубый Андрей Полетаев, которым, будь его воля, вообще, и с большим удовольствием, ничего бы не изучал и теперь учился лишь потому, что Лапшин поставил перед ним задачу во что бы то ни стало, хоть е грехом нополам, но закончить вечернюю школу рабочей молодёжи.
Берг любил музыку, театр, искусство, сам музицировал на рояле; Лапшин запоем читал в подлинниках английскую литературу; Басов часами мог надоедать всем разговорами о тяжёлой атлетике, а Полетаев, курносый, большеротый, веснушчатый добряк Летописец, тоже мог часами и с не меньшим увлечением говорить о хорошеньких девушках, то есть о том, что для него пока было самым недосягаемым. Хорошенькие девушки, а их было полным-полно в обмоточном цехе, почему-то дружно обращали внимание на Лапшина, были снисходительно благосклонны к Бергу и Басову, но совершенно игнорировали Летописца.
Вот как не похожи друг на друга были эти парни, составлявшие на заводе лучшую молодёжную бригаду.
Алик Колотушкин, рассказывая при первой встрече с Гришей об этой бригаде, не преувеличивал. Они действительно жили хотя и в новом доме, но в очень тесной комнате, где с трудом размещались четыре кровати, диван, стол и платяной шкаф. Но Колотушкин тогда недосказал, что они продолжали жить в этой комнате, как любил говорить сам же Колотушкин, по собственному желанию. Дело в том, что они уже собрались было перебираться в другой, новый дом, в другую, чуть не вдвое большую комнату, как узнали, что из-за них лишалась жилплощади одна многодетная работница красильного цеха. И они отказались от переезда, хотя это был пока единственный и благоприятный для них случай: новый заводской дом будет теперь построен нескоро.
История с посещением театра, которую так хотел рассказать Алик Колотушкин и о которой уже знал Гриша, не была каким-лпбо исключением в жизни этих молодых людей. Некоторое время спустя они все же были в театре и, по пастояншо Берга, считавшего своей обязанностью руководить эстетическим воспитанием бригады, слушали «Руслана и Людмилу». По дороге домой Берг с превосходством и снисхождением, какими обычно щеголяют знатоки-любители перед непросвещённой публикой, рассказывал о Глинке, о том, как была написана опера; Лапшин и Басов, вежливо поддерживая разговор, выразили своё восхищение музыкой, танцами, декорацией н пением знаменитых артистов. Но выразили всё это с той неуклюжей искренностью, за какой сразу угадывалось, насколько по верхностны, но сравнению с блестящими знаниями Берга, их познания в области оперного искусства. Берг чувство вал себя на высоте. Летописец всю дорогу внимательно слушал их рассуждения и, лишь когда приехали домой, высказал наконец и свою точку зрения, безапелляционно заявив, что ему больше всего нравится хор имени Пятницкого и Краснознамённый ансамбль.
— Как запоют все вместе, — воодушевлённо развивал он свою мысль, — красота! А тут, сколько раз было за спектакль, затянут — и не разберёшь что. Трое поют, и каждый тянет своё, как в басне у дедушки Крылова, словно у них не было времени потренироваться, чтобы пропеть согласно, хором.
Басов, выслушав его признание, захохотал, а Берг, оскорблённый до глубины души, печально, с укором поглядев на Летописца, промолвил:
— Мда-а...
— А вот Людмила понравилась тебе? — - спросил Лап-тин, восхищённый игрою и толосом артистки, исполнявшей роль Людмилы.
— Людмила? — спросил Летописец. — Людмила — ничего девочка. Это ты верно. Симпатичная блондинка.
— Эх, ты, — сказал Берг. — Только девочки у тебй и на уме. Стыд и срам! Это же заслуженная артистка, у ноо уже сыновья, наверное, такие, как ты.
— Тю! — разочарованно воскликнул Летописец. — У Пушкина она ведь молодая совсем, я же читал, знак». Выходит, это очковтирательство в театре, да?
Басов опять засмеялся.
— Очковтирательством, между прочим, ты тожо умеешь неплохо заниматься, — заметил Лапшин. — И притом от имени всей бригады.
На сей раз Летописец, скромно потупясь, промолчал.
Замечание Лапшина было справедливо. Дело в том, что несколько месяцев назад Колотушкин придумал для молодёжных бригад дневники. Роздал бригадирам толстые, в клеёнчатых обложках тетради и в категорической форме предложил ежедневно записывать в эти тетради всё, что будет случаться в бригадах по линии культурно-массовых мероприятий.
— Это зачем же? — спросил Лапшин, с детства испытывавший отвращение ко всякого рода дневникам и письмоводительству.
— Для того чтобы мы имели возможность в любую минуту восстановить полную картину жизни наших бригад, — ответил Алик.
Э, — разочарованно сказал Лапшин, — это уже попахивает бюрократизмом. — Но тетрадь он взял и вручил её Андрюше Полетаеву со словами: — Будешь нашим летописцем. Вроде Пимена. Читал «Бориса Годунова»?
— Читал, — сказал Андрюша. — Будет сделано.
Одпако вновь испечённый летописец, но врождённой
лености, не прикасался к тетради около двух месяцев, и она преспокойно пролежала у него в тумбочке во всей своей первозданной чистоте.
Спохватился Летописец лишь тогда, когда Колотушкин, готовившийся к выстуллению на бюро райкома ВЛКСМ о жизни и деятельности молодёжных бригад, попросил у Лапшина тетрадь, как он сказал, «для фактов».
Но тетрадь, как известно, была пуста. Фактов не существовало.
— Садись и вспоминай, — сказал Лапшин Летописцу.
И тот стал пгпомннать. Что вспоминал, а что выдумывал.
В результате многочасового напряжённого и кропотливого труда тетрадь была заполнена такими лаконичными, содержательными и мудрыми заметками (приводим здесь лишь некоторые из них):
«9 июня. Поздравили Диму с днём рождения и подарили ему коллективный подарок.
И июня. Участвовали всей бригадой в митинге по случаю награждения завода Красным знаменем ВЦСПС.
12 июня. В обеденный перерыв читали газету «Известия»,
15 июня. Вели беседу и а свободную тему.
17 июня. Ездили в театр, но Лёша Берг спасал ребёнка и попал в лужу, н поэтому в театре не были.
19 июня. Длма Басов рассказывал о том, что лучше тяжёлой атлетики нет никакого спорта.
20 июня. В обеденный перерыв говорили о дежурстве в цеху».
Лапшин прочитал всё это и многое ещё другое, швырнул тетрадку на стол и сказал:
— Довольно очковтирательством заниматься!
— Так это же для Колотушкина, — робко возразил Летописец.
— Вот пусть сам Колотушкин и занимается этим очковтирательством. А мы принимать участия в таком грязном деле не будем. Понял?
— Понял. Чего теперь дальше делать с тетрадью?
— Используй её себе для арифметики.
— Будет сделано, — сказал Летописец-очковтпратсль, несказанно обрадовавщись тому, что освобождался от непосильной для него обязанности.
Незадолго до того дня, когда пьяный Гриша встретил около кинотеатра Лапшина, Басов взял на неделю отпуск и вылетел в один из целинных казахстанских совхозов к сестре на свадьбу. Его собрали в дорогу, по словам Лето-писца-очковтпрателя, честь по чести и купили молодожёнам рижскую радиолу. Чтобы отсутствие Димы не сказалось на работе, распределили меж собой все его обязанности, для чего каждый день задерживались в цеху на полто-ра-два часа.
Так весело, дружно и согласно жила славная бригада Лапшина, та самая бригада, которую не уставал ставить всем в пример Колотушкин и про которую несколько раз писали в газетах. А рядом с этими счастливыми парпями жил, страдая, мучаясь, вконец уж растерявшийся перед возникавшими то и дело испытаниями судьбы Грпша Востриков.
В тот день, когда Алик Колотушкин решил узнать мнение Лапшина о Грише Вострикове, от Басова была получена телеграмма несколько странного и загадочного содержания: «Вторые сутки сижу аэродроме». Почему он там сидит: не может ли достать билет, не хватает ли денег на этот билет или ещё по какой-либо причине, и вообще
сколько он там просидит, Басов не сообщал. V ещё накануне он должен был приступить к работе. Эта телеграмма обеспокоила Лапшина, Тем не менее он внимательно выслушал Колотушкина.
— Понимаешь, — рассказывал Алик, уединившись с Лапшиным, — для меня это дело совершенно ясное и в то же время, — он пожал плечами, — чёрт его знает, как быть с ним. Как ты думаешь?
Лапшин, сидевший за столом, подперев голову ладонью, неопределённо пожал плечами.
— Надо учесть, что мы е ним не первый день мучаемся, — продолжал Алик. — Человек он какой-то фальшивый, не самостоятельный, бросил учиться, собрания не посещает, общественных поручений никаких не несёт, а не так давно наобещал мне и то и это...
Лапшин продолжал молчать.
— «Мне, говорит, спать хочется». И весь его разговор. Теперь дома. С родными не ладит, хочет уходить от них, а они создают ему все условия, — говорил мен; тем Алик, поняв молчание Лапшина как согласие с его, Алика, мыслями. — Я видел его мать, очень симпатичная женщина. Говорит, что ои всё время был человек человеком, а за последнее время его словно подменили, стало совсем не узнать. Она сама не знает, как с ним быть, какие меры принять, чтобы опять человеком сделать. — Он помолчал. — Теперь вот эта история с тобой.
— Странная история...
— Именно странная, — воодушевлённо подхватил Ко-лотушкин. — И заметь: всё время требует, чтобы мы создавали ему какие-то особые условия. Ты вот требуешь? — несколько заискивая, спросил он.
Нет. Не требую.
— Видишь! — обрадованно воскликнул Алпк. — А он требует. И никакого постоянства. То ему необходимо в общежитии жить, то вдруг рекомендуй его на новостройку в Сибирь. А как мы его, такого, рекомендовать можем? Он ведь и там сумеет напиться и чёрт знает что натворить. Ты скажи, сколько же нам с ним нянчиться? Почему он может безнаказанно делать всё, что ему вздумается?
— Поговорить бы с ним не мешало, — задумчиво произнёс Лапшин.
— Вот-вот, — осуждающе покачал головой Колотушкин. — Человек ничего не хочет принимать во внимание, человеку совершенно наплевать на авторитет всего нашего коллектива, а с ним, видишь ли, надо вновь поговорить! — Он помолчал и, обиженно отвернувшись, спросил: — Каково же всё-таки будет твоё мнение?
— А никаково, — сказал, поднимаясь, Лапшин. — Ты прости, мне надо работать идти, а то у нас Дима почему-то на аэродроме сидит.
— А может, ты поговоришь? — спросил Алик.
— Почему я? — удивился Лапшин, обернувшись с порога. — Ты комсорг, ты и разговаривай.
— А я не буду, — решительно заявил Колотушкин и даже пристукнул для убедительности по столу. — Он надоел мне не меньше Кудрявцева. Ставим вопрос на бюро.
— Как знаешь, — сказал Лапшин, шагнув за порог.
Но, расставшись с Колотушкиными и проходя по цеху,
Лапшин думал: «А почему бы мне в самом деле не поговорить с ним? Если Колотушкин обозлён, почему бы мне? А зачем? Чтобы знать. Но он меня оскорбил. Это неважно, я ведь не знаю — почему? И всё-таки это неправильно: первым заговаривать с человеком, оскорбившим тебя. Ну, а если всё не так, как предполагает Алик? Что-нибудь — и не так? Если всё-таки заставить себя и поговорить?»
Он остановился в нерешительности и поглядел туда, где работал его обидчик, увидел грустное, осунувшееся лицо, стариковскую сгорбленность в плечах, и что-то дрогнуло у него в сердце.
Гриша продолжал работать вместе с Моргуновым. После посещения моргуновской молельни он попросил было мастера дать ему какую-нибудь другую работу, но мастер, выслушав его, даже руками всплеснул:
— !!у ты гляди! Нигде человек не может ужиться! Не мудри ты, ради бога, работай, куда послали тебя, и учись,"учись у этого единоличника.
Гриша только вздохнул в ответ. Рассказать мастеру о том, к чему этот тихоня пытался склонить его, Гриша не решился. После всего случившегося с ним, думал он, ему всё равно теперь никто не поверит.
С Моргуновым они почти не разговаривали, делая вид, что между ними ничего особенного и не произошло, хотя Моргунов нет-нет да и поглядывал на Гришу своими кроткими и, как теперь казалось Грише, зоркими и беспокойными глазами. Грпша всякий раз спешил отвернуться от него.
Как он был одинок сейчас! Каким тревожным представлялось ему его будущее! Как поступят с ним комсомольцы? Как он будет жить дальше? Всё это безысходной тоской давило ему на сердце. И, когда к нему вдруг подошёл Лапшин, которого он тслерь и стыдился и боялся, Гриша даже добледнел.
Ну что же, — сказал Лапшин, отведя его в сторону. — Ты обидел меня, моих товарищей, а кто же извиняться будет?
Гриша стоял перед ним потупясь.
— Молчишь?
Гриша не ответил.
— Почему?
Гриша наконец собрался с силами, заставил себя взглянуть в глаза Лапшину и признался:
— Мне стыдно.
— Эх ты, друг-человек, — сказал Лапшин, дружески похлопан его по плечу. — Расскажи-ка мне, почему ты из дома решил сбежать.
Всего мог ожидать Гриша от Лапшина, только не этого.
— А зачем тебе знать? — недоверчиво спросил он.
— По-товарищески, — сказал Лапшин. — Тебя же на бюро будем обсуждать. Только ты так: всё по-честному, идёт?
— Хорошо, — сказал Гриша. — Я расскажу с самого начала, как всё произошло.
И он в третий раз принялся рассказывать о том, что случилось с ним нынешним летом.
Лицо Лапшина, внимательно слушавшего эту печальную историю, становилось всё мрачнее и мрачнее.
— Чёрт знает что, — наконец сказал он. — Чёрт знает что. Подожди меня здесь, я сейчас вернусь, — и решительным шагом ушёл в соседний пролёт, где работали Берг и Летописец.
— Ребята, — сказал он, — надо выручать человека из беды. Пропадает человек.
— Диму? — встревожился Летописец. — Новая телеграмма?
— Вострикова! Плохо у него, — Лапшин кивнул в ту сторону, где стоял, терпеливо дожидаясь его, Гриша. — Невозможно, как плохо. Попал в какой-то кулацкий дом, его даже на базаре заставляли торговать. А он не может. Не из тех. Понимаете? И на работу ему ездить далеко. Каждый день в четыре утра поднимается парнишка. Учиться из-за этого бросил. Просился в общежитие — Ко-лотушкии ие понял, отказал.
— С общежитием у нас туго, это верно, — заметил Берг.
— В таком случае, когда человеку трудно, — жёстко ответил Лапшин, — место в общежитии должно найтись. Кто нам позволил человека на произвол судьбы бросать?
— А что в данном случае от нас требуется? — спросил Берг?
— Помощь требуется, ответил Лапшин.
— Что ты предлагаешь? — Берг, как всегда, был строг и точен. Он не любил неясностей.
— Взять его к себе.
- Это невозможно.
Возможно.
— Нам самим тесно.
— Потеснимся ещё.
— А что! — восклпквул добрый Летописец. — Место у нас найдётся. Раз четверо живём, пятый тоже поместится. На диване хотя бы. Верно? Он парень ничего.
— Вот именно ничего, — заметил Берг. — Ничего, значит плохо. Он всё может нам испортить.
— А в этом мы сами будем виноваты. — Лапшин давно уж отбросил все сомнения, забыл и обиду. Он видел одно: человеку плохо и его надо выручать.
— Как ещё Колотушкин посмотрит на это, — продол-
жал не спеша рассуждать Берг. — Скажет, передовая бригада, неудобно. Потом эта самая история. Она ведь ещё не окончена.
— У меня Колотушкин сегодня спрашивал, что я думаю насчёт этой истории, — сказал Ланшин. — Теперь я ему скажу, что вместе с Востриковым надо было посадить на трое суток и самого Колотушкина. И других членов нашего бюро. В том числе и меня. Мы ещё в этом деле разберёмся и установим, кто в первую голову виноват во всём. Ну, решим?
Летописец робко сказал:
— Только ведь Димы ещё нет.
— С Димой договоримся, — ответил Лапшин.
Ты убеждён, что так и надо? — спросил Берг.
— Убеждён.
— Будет трудно. Стоит ли?
— Стоит.
— Ну, раз так считаешь, — ответил Берг, пожав плечами, — не буду спорить.
— Валяй, Петя, валяй, — с доброй своей улыбкой ободряюще сказал Летописец.
И Лапшин пошёл к Грише, чтобы спросить его согласия.
Но согласия у Гриши можно было и не спрашивать. Для него всё это явилось такой ошеломляющей неожиданностью, что он в растерянности даже забыл поблагодарить Лапшина и лишь нетерпеливо спросил:
— А когда можно переехать к вам?
— Сегодня, — ответил Лапшин. — Кончишь работать, кати домой и забирай свои вещи. Много их у тебя?
— Да откуда! воскликнул Гриша. — Один чемодан.
— Вот и хороню. Заберёшь — и прямым ходом к нам. А мы тебе постельное бельё у коменданта возьмём. Ясно?
— Ясно, — сказал Гриша.
Дома к его переезду в общежитие отнеслись по-разному. Старуха, ничего не сказав, ушла доить корову. Однако по её лицу было видно, что она осталась очень довольна тем, что Гриша уезжает от них. Отчим был поражён. Выслушав Гришу, он сказал:
— Ничего не понимаю. Они там у вас, наверное, посбе-сились все на заводе. Вместо того чтобы наказать тебя как следует за твоё хулиганство, они тебя в коммунистическую бригаду принимают. Хороша наверное, бригадка.
— Хороша, — сказал Гриша. — Впрочем, вам всё равно этого не понять.
— Где уж мне... — усмехнулся отчим.
А мать молчала-молчала и заплакала. Она ещё до сих пор продолжала надеяться, что Гриша помирится с отчимом и они заживут одной согласной и счастливой семьёй. Теперь она поняла, что надежды её не сбылись.
Грише стало жаль мать.
— Ты, мама, не плачь, — мягко, растроганно сказал оп. — Мне ведь надо учиться по вечерам, а здесь я не успеваю. Ты же знаешь, я очень спать люблю и не успеваю из-за этого. А там всё будет рядом.
— Я понпмаю, — огорчённо сказала она, вытирая ладонью слёзы со щёк. — Я всё понимаю. Поступай как знаешь. Только мы тебе всегда все добра желали, а ты всё по-своему.
— Перестань причитать! — строго сказал ей отчим. — Тебе вредно сейчас.
— Я не буду, — покорно согласилась она всхлипывая.
Плакать ей было сейчас в самом деле вредно, так как она ждала ребёнка.
Гриша поднялся в свою комнату, в последний раз посмотрел в окошко на пожелтевшие, тихие и грустные в этот вечерний час сады, на крыши давно уж полуопустевшего посёлка, уложил в чемодан вещи и с лёгким сердцем покинул брызгаловский дом, нисколько не сожалея об этом.
Единственно, что он ощущал в себе сейчас, что с каждой минутой, с того самого мгновения, как Лапшин объявил ему о решении бригады, росло в нём, заполняя собою всё его доверчивое и так настойчиво тянущееся к людям существо, была радость. С радостью спешил он в Хорьково, шагал по посёлку; с радостью заявил о своём переезде отчиму, старухе и матери; с радостью и вновь окрепшим чувством любви и уважения к людям, к постоянно творимому ими добру и безграничной верой в это человеческое добро, погасшей было в нём из-за Алика, Павлика и Моргунова, возвращался он в Москву с чемоданом в руках, И так это чувство, зта радость были сильны, что он уж великодушно простил и Колотушкину, и Павлнку, и Моргунову и готов был совершить для первого встречного человека всё, что угодно Хоть выпрыгнуть на ходу из
электрички. Ах, если бы случилось сейчас что-нибудь такое необыкновенное, чтобы он мог доказать людям, как он любит всех и предан им!
Но ничего особенного, выдающегося, из ряда вон выходящего не случилось ни в электричке, ни в троллейбусе, ни в автобусе. Всё было обыденно и нормально, и Гриша даже разочаровался, что всё так благополучно и ему не представилось никакой возможности проявить сейчас себя.
Он уже подходил к тому большому новому дому, стоявшему невдалеке от завода, в котором жила бригада Лапшина, как его окликнули:
— Гришка! Петушок!
И он сразу узнал, кто так радостно зовёт его, и сердце его заколотилось сильнее и чаще. Он поставил на тротуар чемодан и с улыбкой, с той счастливой, неудержимой улыбкой, которой так не хватало сейчас его воодушевлённому, разгорячённому лицу и которую он всю дорогу сдерживал, чтобы не показаться людям смешным, обернулся и увидел Лизу Прямкову.
Лиза, в форменном коричневом платье и чёрном переднике, подбежала к нему и, перекинув свою толстую косу на грудь, теребя пальцами её конец, тоже не скрывая счастливого удивления, глядела на него.
— Как ты сюда попал?
— Я здесь буду жить, — сказал он. — А ты?
— А я здесь давно живу. Вон там. — Она указала глазами на самый верхний этаж. — В шестьдесят четвёртой квартире.
Они неловко помолчали, с улыбкой рассматривая друг друга.
— Я, знаешь, одпажды видела тебя. Совсем недавно, — сказала Лиза.
— Где? — спросил он.
— Это неважно, — несколько смутись, пожала она плечами. — Ты меня не заметил.
— Что же ты не подошла?
— Так. Было неудобно.
— Вот ещё, неудобно, — великодушно сказал он. — Если бы я увидел тебя, я бы подошёл и не посчитал, удобно это или нет.
— Гришка, ты всё такой же, — - проговорила она, глядя
па него. — А я тогда так волновалась. Впрочем, это не важно, правда? Значит, у тебя всё хорошо?
— Очень хорошо. Меня в бригаду коммунистического труда приняли, — похвастал он. — Вообще-то было неважно, а теперь очень хорошо.
— Я рада за тебя. Честное слово. И папа будет рад, когда узнает. Ты теперь будешь к нам заходить?
— Обязательно. Только ты сейчас прости, я спешу.
— Иди, иди, — разрешила она. — Я тоже спешу.
Грпша кивнул ей, подхватил чемодан и, уж не скрывая
от людей своей счастливой улыбки, вошёл в подъезд своего нового дома.
Дверь комнаты, в которой теперь предстояло ему жить, открыл Летописец.
— Входп давай, — сказал он, пропуская мимо себя Гришу. — Мы тебя давно ждём. Дима тоже приехал.
Лапшин, Берг и Басов сидели посреди комнаты за столом. Лашппн, кивнув в сторону дивана, сказал:
— Устраивайся и садись с нами чай пить.
— Я сейчас, — сказал Гриша и принялся суетливо застилать диван простынями.
Басов продолжал прерванный Гришиным приходом рассказ:
— Ну, приехал в область, на аэродром, а там, — он взялся руками за голову, покачался из стороны в сторону, — батюшки мои, что делается. Народу полным-полно. Самолёты принимать принимают, а на Москву не выпускают — погода нелётная. И никто не знает, когда полетим. Начальство аэродромное то прячется от нас, то велит поездом ехать. А поездом ехать четверо суток. Да ещё надо сесть в него, в тот поезд...
— А ты бы сказал, что тебе надо на работу, что ты опаздываешь, — перебил его Летописец.
— Там все опаздывают, — взглянув на него, сказал Басов. — Одним словом, ералаш. И никаких перспектив, никакого порядка. Но вот появляется один из начальников, дежурный, что ли, и говорит, что через два часа полетит первый самолёт. Его сейчас же окружили, галдят, толкаются, суют ему под нос всякие справки, телеграммы, удостоверения. Всем, конечно, хочется улететь. Он постоял, постоял, зажал ладонями уши, говорит: «А ну вас всех к чёртовой матери» — и ушёл. Поглядел я на этот беспоря-
док, вижу — толку никакого не будет, влез на лавку и говорю: «Внимание, товарищи! Будем составлять список, кому лететь в первую очередь, кому — во вторую, и так далее». Взял карандаш, бумагу и давай всех переписывать.
— А как ты узнал, кому — срочно, кому — нет? — спросил любопытный Летописец.
— Ну, это нетрудно. Женщина с грудным ребёнком, больная старуха, кто по срочному вызову, словом, много таких. Их в первую очередь.
— Вот бы и ты тоже, — подхватил Летописец.
Басов укоризненно посмотрел на него.
— Я, ребята, конечно, понимаю, — сказал он, — вам пришлось туго без меня, но решайте сами, правильно я поступил или нет, когда записал себя почти самым последним.
-г- Правильно, — сказал Лапшин. Он посмотрел на Грищу, который держал в руках портрет отца и нерешительно оглядывался по сторонам.
— Кто это? — спросил Лапшин.
Отец, — сказал Гриша, подойдя к столу и протягивая Лапшину портрет.
Все склонились над столом, рассматривая портрет майора, на груди которого сияли боевые ордена и медали.
— Здорово, видать, повоевал, — сказал Берг.
— Конечно, — гордо сказал Гриша. — Он целым батальоном командовал.
— Так ты давай его на стену, вот сюда, над диваном, — сказал Лапшин. — Хорошо будет ему у нас?
— Хорошо, — сказал Гриша со слезами на глазах и. прижав портрет отца к груди, с благодарностью посмотрел на своих добрых друзей.
_____________________
Распознавание, ёфикация и форматирование — БК-МТГК.
|