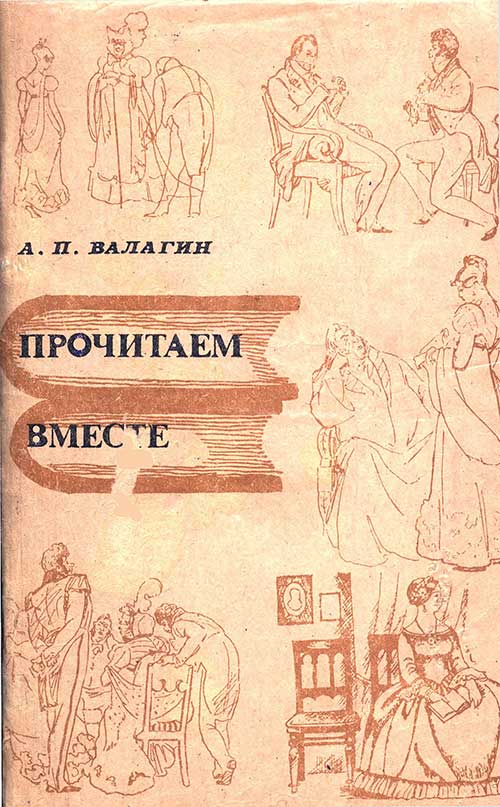Трагедия и сатира две сестры и идут рядом,
и имя им обеим, вместе взятым: правда.
Ф. М. Достоевский
От автора
Замечательный русский писатель и философ Владимир Федорович Одоевский летом 1850 года в письме к одному из своих знакомых писал: «Читал ли ты комедию или, лучше, трагедию Островского «Свои люди — сочтемся!» и которой настоящее название «Банкрот»... Я считаю на Руси три трагедии: «Недоросль», «Горе от ума», «Ревизор». На «Банкроте» я поставил нумер четвертый».
В. Ф. Одоевский был тонким знатоком и ценителем литературы. Критик П. А. Плетнев так отзывается о нем: «Князь В. Ф. Одоевский в наше время есть самый многосторонний и самый разнообразный писатель в России. Создавши множество своеобразных форм изложения истин, он обнаружил в себе писателя независимого и оригинального». Оригинальность таланта и «своеобразие форм изложения мыслей» подчеркнуты Плетневым не случайно: у Одоевского была заслуженная слава парадоксалиста (отдельная часть его творческого наследия так и называется — «Парадоксы»).
Парадоксальным выглядит поначалу и переименование писателем четырех великих русских комедий — в трагедии. Но только поначалу. После внимательного прочтения произведений начинаешь понимать, что замечание В. Ф. Одоевского обнаруживает одну из оригинальнейших особенностей русской комедиографии, то общее художественное явление, которое можно обозначить как преодоление жанра. Лучшие русские комедии при наличии забавных сцен и комических ситуаций — серьезные, исполненные глубокого драматизма произведения, «искусно притворившиеся» комедиями.
Трудно предположить, что преодоление это было проявлением авторской изобретательности в каждом отдельном случае. Скорее всего, за жанровым камуфляжем кроются закономерности, связанные как со спецификой русской сатиры вообще, так и с постоянной оглядкой писателей на цензуру, которая, по словам А. Н. Радищева, «...сделана нянькою рассудка, остроумия, воображения, всего великого и изящного». В то же время общим для русских драматургов-комедиографов является художественное исследование не частных, но важнейших, определяющих конфликтов и противоречий эпохи, которыми объясняются и к которым восходят разнообразные жизненные сюжеты и ситуации.
Русские комедии, ставшие предметом рассмотрения в предлагаемой читателю книге, не просто тематически и идейно перекликаются между собой. Они сложно и многозначно отражаются одна в другой, словно обмениваясь смыслом, дополняя и объясняя растворенные в них художественные идеи.
Комедия «Ревизор» могла бы иметь подзаголовок «Свои люди — сочтемся!», а пьеса А. Н. Островского вполне могла бы называться «Горе от ума». Заключительная фраза «Недоросля» — «Вот злонравия достойные плоды» — могла прозвучать и в финале «Ревизора». Трагедия Чацкого, кроме прочего, заключается в том, что он не захотел стать «своим» для Фамусовых и скалозубов, и они не простили ему этого. А вот мера ума, отпущенная Хлестакову, существенно важна для понимания сатирического конфликта «Ревизора».
Тема ума очень важна в «Недоросле». Было бы неправильным считать, что Стародум и Правдин — умные герои, а Митрофан, его мать и дядя — смешные и жалкие глупцы. К Простаковой вполне применимы слова Гоголя, сказанные о городничем из «Ревизора»: «...очень неглупый по-своему человек».
Не обойтись в понимании «Недоросля» и без темы «своих людей». И вообще: политическая выживаемость «своих» в ситуации столкновения с «чужими» — это сквозная тема всех комедий. Бывает, правда, что «свои» или «чужие» выдают себя не за тех, кем они являются на самом деле. Так, Платон Михайлович, приятель Чацкого, — «чужой», притворившийся «своим». За «своего» приняли Хлестакова чиновники и купцы уездного города.
Эта книга задумана как опыт внимательного прочтения известных каждому школьнику произведений. Любой завершенный художественный текст вбирает в себя не только поступки героев, события и факты выдуманной автором жизни, но и переживания самого автора, его жизнь, волнения и страсти. Все это доступно понять вдумчивому читателю.
Давайте прочитаем вместе...
Д. Фонвизин «Недоросль»
Как сшит «тришкин кафтан»?
Около ста лет тому назад замечательный русский, историк В. О. Ключевский писал о комедии Д. И. Фонвизина: «Можно без риска сказать, что «Недоросль» доселе не утратил значительной доли своей былой художественной власти ни над читателем, ни над зрителем...»1 В наше время, похоже, без риска об этом сказать уже нельзя. Многие театры, в том числе и театры юного зрителя, отвернулись от пьесы, а что касается читателей, то я много бы отдал, чтобы увидеть старшеклассника, который испытал на себе «художественную власть» комедии Фонвизина.
А жаль. Не потому жаль, что хорошая книга вроде бы потихоньку перестает быть хорошей. А потому, что мы, читатели, в силу разных (и порой достаточно серьезных) причин утрачиваем способность постигать художественный смысл произведения, если он не лежит на поверхности. А когда мысль писателя рассредоточена, растворена в смысловом пространстве произведения, в его образно-содержательном объеме, тут нам сразу становится «трудно читать», и мы жалуемся на архаичность стиля, на резонерство положительных героев, на классицизм с его схематичными образами.
Последнее, пожалуй, самое существенное. Современному читателю, воспитанному литературой, кинематографом, театром, телевидением на восприятии образов неоднозначных, сложных, противоречивых, — читателю нашему неинтересными и скучными кажутся плоские образы литературы классицизма, изначально определенные как положительные или отрицательные.
Вот и в «Недоросле», комедии, написанной по канонам классицизма (внешне, во всяком случае), прежде всего бросается в глаза противопоставление героев по нравственным достоинствам, точнее говоря, по их наличию или отсутствию. Одних — Стародума, Правдина, Милона, Софью — автор высветляет до ангельской чистоты. Они и умны, и добры, и благородны. А таких, как Простакова, Скотинин, Митрофан, — зачерняет настолько, что ни одного светлого пятнышка на них не сыщешь. Они все (в первую очередь Простакова) и жестоки, и глупы, и готовы ради собственной выгоды на всякую подлость. А Скотинин со своей непреодолимой любовью к свиньям не только глуп, но и отвратителен.
Все изложенное было бы справедливым, если бы «Недоросль» был просто комедией, написанной по законам поэтики классицизма. Но ведь не случайно комедия Фонвизина начинает собой в русской литературе традицию «обманных» комедий, где за кажущейся простотой драматических построений кроется слбжность противоречивой жизни, а за смехом — «неведомые миру слезы».
Стоит лишь первую сцену комедии Фонвизина прочитать внимательно, вдумчиво, как она отблагодарит нас и глубиной мысли, и юмором, и содержательностью, и сложностью характеров. Более того, тема ума, одна из важнейших в комедии, разворачивается Фонвизиным вовсе не с появлением великомудрого Стародума, а именно здесь, в самой первой сцене, с первых реплик героев.
Комедия «Недоросль» начинается с того, что помещица Простакова осматривает кафтан, который Тришка, домашний портной, сшил для Митрофанушки, ее сына. «Кафтан весь испорчен» — таково ее заключение. Она приказывает позвать Тришку, называя его «мошенником», «вором», «скотом», «воровской харей» и «болваном».
Поток оскорблений в адрес ни в чем не повинного Тришки мы расцениваем как проявление бездушия и грубости помещиков, с одной стороны, и абсолютного бесправия принадлежащих им крестьян — с другой. Вот как, например, пишется об этой сцене в «Истории русского драматического театра»: «Пьеса начинается сценой, ярко характеризующей отношения «злонравных» помещиков к крепостным крестьянам. То, что автор уделил этой сцене первое явление, свидетельствует о том, что он придает ей первенствующее значение»1. С одной стороны, это совершенно справедливо. Но, с другой стороны, первая едена комедии Фонвизина совершенно не о том. Вот такая странность.
Представьте себе, что вы идете по нарисованной на асфальте большой окружности. Эту окружность пересекает другая, третья и так далее. Вы уверены, что под ногами у вас — сплетение окружностей. Но стоит вам посмотреть на асфальт с высоты, как вы увидите на асфальте прямую линию. Таким образом, чтобы увидеть подлинный рисунок смысла, нужна известная отдаленность, определенная точка отсчета, позволяющая осмыслить явление на уровне целого, а не его части.
Так и в «Недоросле». Каждая реплика в первой сцене — это, действительно, злобная ругань Простаковой в адрес неповинного Тришки. Но в совокупности все реплики оформлены автором в виде диспута, интеллектуального поединка. Простакова не просто отчитывает бедного Тришку, она с ним спорит. И главным итогом этого спора будет не тот факт, что Простакова «злонравна» (то есть обладает дурным, злым характером), но тот факт, что она неправа.
Простакова указывает Тришке на два обстоятельства, из-за которых кафтан нужно было «пустить пошире» (ее «во-первых» и «во-вторых» — это тоже приметы спора, элементы доказательности одной из сторон): «Дитя, первое, растет; другое, дитя и без узкого кафтана деликатного сложения». Затем она, словно приглашая Тришку к дискуссии и уступая ему слово, произносит фразу-приглашение, в которой готовность выслушать другую сторону сочетается с произволом хозяйки: «Скажи, болван, чем ты оправдаешься?»
Тришка оправдывается так: «Да ведь я, сударыня, учился самоучкой. Я тогда же вам докладывал: ну, да извольте отдавать портному». Ответ Тришки принципиально важен. Дело в том, что учению и просвещению, которые в этой комедии представлены, в основном, Стародумом и Правдиным, противопоставлены вовсе не глупость и невежество. Учению противостоит лжеучение, культуре — антикультура. То есть противопоставляются друг другу две системы взглядов, два мировоззрения, присущие русскому дворянству того времени. И если в рамках просвещения, гуманизма и культуры воспитываются такие достойные, порядочные молодые люди, как Милон — жених Софьи, то в рамках антикультуры и деспотизма столь же закономерно вырастают такие недоумки, как Митрофан.
Невежество, становясь системным, жизненной позицией, основанной на совокупности представлений и взглядов, порождает преемственность, определенную традицию. Об этом Стародум говорит так: «Ну что для отечества может выйти из Митрофанушки, за которого невежды-родители платят еще и деньги невеждам-учителям? Сколько дворян-отцов, которые нравственное воспитание сына своего поручают своему рабу крепостному! Лет через пятнадцать и выходят вместо одного раба двое: старый дядька да молодой барин».
Госпожа Простакова, оспаривая мнение Тришки, восклицает: «Да разве надобно быть портным, чтобы уметь сшить кафтан хорошенько. Экое скотское рассуждение!» Уважительно называя ответ своего домашнего раба «рассуждением», Простакова называет его, тем не менее, «скотским». В этом проявляется тонкая ирония Фонвизина. Скотское как нечеловеческое, противоречащее здравому смыслу, культуре, морали личной и общественной, справедливости и добру — свойственно именно Простаковой, ее брату Скотинину и им подобным.
Своим ответом Простакова утверждает, казалось бы, невообразимое, противоречащее здравому смыслу: можно что-то хорошо сделать, не умея этого делать. Но, с другой стороны, это утверждение естественно вписывается в ее систему взглядов, где все ценности — социальные, моральные, духовные — с обратным знаком.
Тришка, в свою очередь, настаивает на важности роли учительства: «Да ведь портной-то учился, сударыня, а я нет». Знание как профессионализм, как тщательная выучка определенному делу, связывающая все общество в организованном и плодотворном труде, — это, безусловно, обращение к времени великих преобразований начала XVIII века. Петр I внедрял в сознание своих подданных мысль о необходимости прилежного, старательного и — одновременно — творческого обучения любому делу. Сам Петр I, император, полновластный правитель великой страны, не только не стыдился роли ученика, но показывал другим пример настойчивого, целеустремленного, активного ученичества. На заграничных письмах молодого царя была печать с надписью: «Аз бо есмь в чину учимых и учащих мя требую». Не случайно, кстати, Стародум именно в Петре I видит начало своего «правильного» и разумного воспитания: «Отец мой воспитал меня по-тогдашнему, а я не нашел й нужды себя перевоспитывать. Служил он Петру Великому».
Тришка придает своим разногласиям с Простаковой строго принципиальный характер. Портновское мастерство, по его справедливому убеждению, есть результат усвоенного, чужого знания. Простакова же пытается загнать своего «оппонента» в логический тупик. Исходит она из того, что в любом обучении есть кто-то самый первый, у которого просто не было предшественников: «Портной учился у другого, другой у третьего, да первоет портной у кого же учился? Говори, скот».
Простакова начинает этот остроумный и серьезный спор, Тришка его завершает. Причем, он не только оставляет за собой последнее слово, но и использует подготовленную ему западню для противника: «Да первоет портной, может быть, шил хуже и моего».
Итак, в самой первой сцене комедии сталкиваются между собой не мудрость и глупость, даже не сила с беззащитностью. Противостоят друг другу правота и неправота — два мировоззрения, две системы взглядов или, как бы сказали мы сейчас, старое и новое мышление.
Когда речь заходит о комедии Фонвизина, мы, как правило, вспоминаем комические представления Митрофана о русской грамматике (дверь — имя прилагательное). Однако вопрос об образованности Митрофана тоже не такой простой, как кажется на первый взгляд. Митрофан пренебрегает тем знанием, которое несут ему Цифиркин и Кутейкин не только потому, что глуп и ленив, но потому, что у него есть другое знание, которое поможет ему в жизни и позволит остаться самим собой — диким, бездушным, грубым помещиком. В основе такого знания лежит не просвещение и добро, но сила и власть.
Вот Простакова помогает Митрофану решить задачу по арифметике. Как разделить на троих найденные на дороге триста рублей? Ежели «по науке» — по сто рублей на брата. Если «по-помещичьи» — «Все себе возьми, Митрофанушка». Это тоже своего рода арифметика, только арифметика, так сказать, социальная. И Митрофан, и его мать решают конкретную задачу таким образом потому, что имеют право и власть решить ее именно так, вопреки истине и справедливости.
Географию Простакова тоже знает по-своему: «Дворянин только скажи: довези меня туда, — свезут, куда изволишь». Полнота знания социальной географии заключена для нее в праве приказа, в праве властвовать над другими. Для того чтобы такие знания (арифметики, географии, истории, грамматики) могли реализоваться, сила и невежество должны объединиться.
Митрофан, как известно, демонстрирует свою осведомленность не только в области арифметики и грамматики.
Во время своеобразного экзамена, который устраивает ему Стародум, речь идет и об истории. История считалась в просвещенном XVIII веке не просто важной и серьезной областью знания. Истории отводилась почетная роль «матери наук». Изучение истории позволяло понять закономерности общественного развития.
Вспомним, с каким уважением говорит об истории Стародум: «Я хотел бы, например, чтоб при воспитании сына знатного господина наставник его всякий день разогнул ему Историю и указал ему в ней два места: в одном, как великие люди способствовали благу своего отечества; в другом, как вельможа недостойный, употребивший во зло свою доверенность и силу, с высоты пышной своей знатности низвергся в бездну презрения и поношения». Иначе говоря, история, по справедливому мнению Стародума, извлекая уроки из прошлого, помогает человеку избежать ошибок в настоящем и будущем.
Когда речь в комедии заходит об отношении Митрофана к истории как науке, Простакова подхватывает: «...мой батюшка, он еще сызмальства к историям охотник». За комичной подменой истории историями, то есть россказнями, небылицами, выдумками, — серьезный и тревожный смысл.-Антиучитель Вральман вместе с Митрофаном, оказывается, обучаются истории у скотницы Хавроньи. Именно она рассказывает им всякие «истории». Таким образом, скотство, удвоенное родом занятий скотницы и ее «свиным» именем, вновь проявляет себя как вездесущая сила, лежащая в основе бездуховного бытия.
Скотинину не чуждо глубокомыслие, доходящее до полной отрешенности, он часто ходит задумавшись. Правда, оказывается, что думает он преимущественно о свиньях.
Для Простаковой характерно, как подчеркивает автор, слияние эмоционального и «интеллектуального» состояний: героиня «бегает по театру в злобе и в мыслях». Ее. суждения о людях и явлениях жизни всегда категоричны и окончательны. При этом, однако, причинно-следственные связи обретают изнаночную, обратную логику. Дядюшка Софьи, по убеждению Простаковой, не мог быть живым по одной простой причине: его уже несколько лет поминают в святцах как умершего.
Логика мышления Скотинина такая же, как у сестры. Он считает, например, бессмысленным читать письмо, потому что «хоть пять лет читать, лучше десяти тысяч не дочитаешься».
Мир простаковых и скотининых исключает культуру в том виде, какой она является естественной и необходимой для Стародума и Правдина. Но без своего, на свой лад, духовного обеспечения жизни они не могут обходиться. Поэтому мир простаковых пользуется антикультурой и антизнаниями, которые тем не менее помогают им целостно осмыслить и свою жизнь среди других, и свое отношение к миру.
«Обмануть читателей...»
Герой сатиры Фонвизина «Послание к слугам моим...», кучер Ванька, которому с его высоты видны основные приметы жизни российского общества, указывает на такие людские пороки, как глупость, мотовство, скупость. Но есть еще нечто, объединяющее эти вечные человеческие слабости в один порочный социальный узел:
Да сверх того еще приметил я, что свет
Столь много времени неправедно живет.
Что нет уже таких кащеев на примете,
Которы б истину запомнили на свете.
Попы стараются обманывать народ,
Слуги — дворецкого, дворецкие — господ,
Друг друга — господа, а знатные бояря
Нередко обмануть хотят и государя;
И всякий, чтоб набить потуже свой карман,
За благо рассудил приняться за обман.
Через двадцать лет другой кучер у Фонвизина станет вновь интересен читателю в связи с обманом. Но этот персонаж уже не будет подмечать обман в жизни своим зорким взглядом сверху, поверх толпы столичной улицы. Он будет сам воплощением обмана. Он станет героем, для которого обман — форма существования среди людей, а имя его станет демонстрировать эту форму, как ярлык на товаре в лавке.
Герой этот — Вральман, бывший кучер, который станет учителем истории и иностранных языков в доме Простаковых. Кучер, подавшийся в учителя, — картина, нередкая в России XVIII века, особенно в провинции.
Вральман вновь садится на козлы отъезжающей кареты Стародума в финале комедии. В этом воздаянии каждому по заслугам и в утверждении справедливости для всех и каждого — одно из важнейших правил драматургии классицизма. В привычных для нас реалистических произведениях за отдельными правдами, которыми герои утверждают себя в жизни, стоит сама жизнь со своей сложной, противоречивой и нелегкой правдой. Отсюда — несводимость сценических образов к единому смысловому результату, невозможность представить мир героев в черно-белом, контрастном виде. В драматургии классицизма господствовала именно сводимость тематических линий пьес, предугаданность итогов и выводов.
Правда событий в комедии классицизма должна заключаться в том, что в результате кучер должен вновь занять место на козлах, а подлинный учитель указать на порок, научив зрителя отличать добро от зла.
Казалось бы, герои Фонвизина разыграли свои роли в точном соответствии с законами поэтики классицизма. Вспомним заключительное восклицание Простаковой: «Погибла я совсем! Отнята у меня власть! От стыда никуды глаз показать нельзя! Нет у меня сына». Эта фраза произносится как бы для Стародума, чтобы он извлек, как ядро ореха, нравственный смысл всего произведения на всеобщее обозрение. Что Стародум и делает. Указывая перстом на распростертую Простакову (чтобы у зрителя не возникло никаких сомнений в адресате его высказывания), Стародум важно произносит: «Вот злонравия достойные плоды».
Подсказка Стародуму со стороны Простаковой была совершенно естественна для классической комедии. Классицизм не допускал противоречивости характера героя. «Во мне два человека...» — скажет лермонтовский Печорин. В герое классицизма мог жить только один человек — добрый или злой, умный или глупый, негодяй или правдолюбец. Автор драматического произведения был озабочен прежде всего тем, чтобы разными средствами художественной выразительности подчеркнуть, выделить однозначную характеристику героя. И одним из таких средств была самохарактеристика. Зрители XVIII века не удивлялись, когда отрицательный герой уверял их в том, какой он отвратительный человек. В трагедии А. П. Сумарокова «Дмитрий Самозванец» Лжедмитрий о себе говорит так:
Зла фурия во мне смятенно сердце гложет;
Злодейская душа спокойна быть не может...
Як ужасу привык, злодейством разъярен,
Наполнен варварством и кровью обагрен.
В «Недоросле» соблюдены, на первый взгляд, все требования классицизма. Правда происходящего в одном из бесчисленных поместий русских провинциальных дворян выглядит в устах Правдина следующим образом: «Нашел помещика дурака бессчетного, а жену презлую фурию, которой адский нрав делает несчастье целого их дома». Фонвизин словно приучает зрителя и читателя к этой точности характеристик, образующих своеобразную систему координат: невежество и тирания. Потому что вскоре Правдин опять выделит именно эти черты героев: «...Ласкаюсь, однако, положить скоро границы злобе жены и глупости мужа».
Но выясняется, что художественная задача Фонвизина намного серьезнее, глубже и значительнее, чем обнаружение очевидного порока и настойчивая, даже навязчивая демонстрация его. Лишь внешне, на поверхности событий и поступков героев соблюдены традиции и правила метода классицизма. Но за внешней простотой событий и поступков героев кроется «третье измерение» драматургии комедии — ее глубина, объемность пространства.
Обнаруживается, что соединение невежества и тирании, которые увидел художник в одном из поместий необъятной России, — не частный случай и не исключительное явление. Как исследователь, изучая клетку зараженного организма, пытается понять причину болезни, так Фонвизин за конкретными фактами жизни пытается постичь нечто общее, главное — ход и смысл жизни, направление и цель развития.
Писатель строит миниатюрную модель общественного бытия, в которой наглядно воплощена жизнь на разных социальных этажах — от мятущейся в жару бессловесной дворовой девки Палашки до императорского двора. Крестьяне и помещики, солдаты и офицеры, высокопоставленные чиновники и государственные деятели — все они сошлись на крохотном пятачке в имении Простаковых.
Эта сводимость жизни в один общий узел нужна была Фонвизину-художнику вовсе не для того, чтобы безупречные Стародум и Правдин, олицетворяющие просвещение и справедливость, обнаружили и покарали жестокосердие и глупость. Писатель, продолжая тему «Послания к слугам...», исследует многообразие «обманных» форм действительности. Той действительности, в которой зло претендует на место добра не только по отвратительной природе своей, но и потому (и это, может быть, самое главное и есть), что само добро смещается со своих позиций, размывается в пределах своих, теряет, так сказать, контрастную окраску.
Мотив обмана пронизывает драматургию «Недоросля» сверху донизу. Он становится главенствующим применительно как к судьбам отдельных героев, так и к изображаемой жизни вообще.
Более того, мотив обмана станет существенным элементом поэтики «Недоросля», универсальным средством обнаружения, проявления нравственных и социальных «неправильностей» в отношении людей между собой, с обществом и государством.
Обман возникает в первой сцене комедии и составляет содержание последней. Разговоры вокруг кафтана, сшито* го домашним портным, брань Простаковой, оправдания самого Тришки, мнения мужа помещицы и ее брата Скотинина — все это не проясняет, а лишь затемняет главный вопрос: как же все-таки сшит кафтан для Митрофана? Узок он, как утверждает Простакова («Он, вор, везде его обузил»), широк, по простодушному убеждению ее мужа («Ме… шковат немного»), или сшит впору, как решительно заявляет Скотиний («Кафтан… сшит изряднехонько»)?
В нерешенности проблемы «тришкина кафтана» непростой смысл. Если бы для Фонвизина сугубо бытовой, побочный элемент сюжета был неважен, вряд ли бы писатель открывал комедию такой сценой. А если бы и начал, то никак не оставил содержание ее столь непроясненным. Причина кроется в том, что Фонвизину как художнику нужна была неразрешимость спора о кафтане для Митрофана. В абсолютной несовпадаемости, несводимое™ мнений родных людей — глубокая мысль автора об утрате ими здравых, человеческих представлений и изначальных нравственных ориентиров.
Человеческое, связанное с разумным и добрым, уступает место скотскому, основанному на инстинктах и от? чуждении. Простаков, порабощенный супругой до полной утраты собственных суждений, смотрит на мир ее глазами. В этом беспросветном унижении — одна из сторон скотства, полное и безоговорочное подчинение существа слабого и робкого другому, сильному и грубому. Иное воплощение животного, нечеловеческого начала в общении друг с другом заключено в отчуждении, внутренней враждебности между кровными родственниками — братом и сестрой.
Пустячная разноголосица во взглядах на Митрофанов кафтан — намек на неспособность к единению и внутреннему, душевному родству. Хотя они оба, как выражается Скотинин, «одного помету», а точнее говоря, именно поэтому — сила и жестокость становятся основными средствами решения споров и разногласий. Разнятся брат и сестра в этом смысле лишь оттенками своей агрессивности. Если Скотинин угрожает сестре, защищаясь от ее ногтей, («Дойдет дело до ломки, погну, так затрещишь»), то Простакова ведет себя как свирепое животное, защищающее детеныша, — с безоглядной храбростью и остервенением («Пусти, батюшка! Дай мне до рожи, до рожи... Сердце взяло, дай додраться»).
Животная, звериная любовь Простаковой к сыну и, соответственно, ненависть к любому, кто покушается на его благополучие, особенно проявляется в разговоре помещицы с Еремеевной в конце второго действия комедии. Восприятие Простаковой рассказа о том, как дядя «вскинулся» на племянника, откровенно и всерьез обрисовано автором как состояние разъяренного зверя:
«Г-жа Простакова (дрожа). Ну... а ты, бестия, остолбенела, а ты не впилась братцу в харю, а ты не раздернула ему рыла по уши...»
Еремеевна вторит своей хозяйке: «...Притупились бы эти (указывая на ногти), я бы клыков беречь не стала».
Таким образом, подмена разумно-человеческого бездумно-животным, скотским — одна из форм «обманного» повествования, художественный способ изучения «злонравия». Назвав брата Простаковой «скотским» именем, Фонвизин не ограничивается ироническим обыгрыванием «свиной» темы. Принципиально важным для автора становится не просто нежная привязанность Скотинина к свиньям, но подмена человеческих представлений нечеловеческими, смещение не акцентов, но точки зрения.
Так, например, Скотинин «перелицовывает», переворачивает традиционно унизительное сравнение «как свин-нья», направляя его обличительное острие в обратную сторону: не от человека к свинье, а напротив, от свиньи к человеку. Устанавливая свинью рядом с человеком, Скотинин не столько любуется внушительными размерами животного, сколько убеждается в ее превосходстве: «...у нас в околотке такие крупные свиньи, что нет из них ни одной, котора, став на задние ноги, не была бы выше каждого из нас целою головою (то есть «на голову выше». — Л. В.)».
Применительно к Митрофану мотив обмана впечатляюще проявляется в отношении недоросля к родителям, в его, так сказать, «моральной чужеродности» им. Поначалу может показаться, что Митрофан проявляет хитрую избирательность в отношениях к отцу и матери для извлечения выгод для себя. Он жалеет мать, которая устала, избивая его родного отца (так Митрофану привиделось во сне). Но и в данном случае художественная мысль Фонвизина проникает глубже очевидной идеи безнравственности помещичьего сынка, его бездушия и черствости. Сатирик, как и в образе Скотинина, подчеркивает не утрату, но подмену, необратимое замещение человеческого — скотским. И отец, и мать для Митрофана обезличены из-за полного равнодушия к ним, отчуждены от его животного эгоизма, являясь помехой, «дрянью».
«Митрофан. ...Ночь всю такая дрянь в глаза лезла.
Г-жа Простаков а. Какая ж дрянь, Митрофанушка?
Митрофан. Да то ты, матушка, то батюшка».
Интересно, как мотив обмана художественно воплощен писателем применительно к образу Стародума.
Стародум в разговорах с Правдиным пересказывает вкратце историю своей жизни, которая представляет собой ряд открытий горькой правды за обманчивой внешностью. Фонвизин выстраивает судьбу Стародума как бы по спирали, на каждом витке которой герой, поднимаясь выше в познании людей и жизни, преодолевает очередные «обманные» обстоятельства.
В дни далекой юности молодой граф, с которым Стародума связывала тесная дружба, проявил малодушие, отказавшись идти на войну. Так Стародум впервые обманулся в человеке, которого любил и почитал. Когда Стародум, отличившийся на войне мужеством и бесстрашием, узнает, что невоевавший граф, его прежний товарищ, повышен в чине, — это станет следующим фактом несправедливости.
Кстати сказать, обида Стародума по поводу того, что его обошли чинами и наградами за участие в войне, была понятна современникам и нисколько не умаляла положительных качеств героя. Служение государю предполагало и благодарность от государя. Военачальник, даже простой офицер, не получивший после какого-либо сражения или похода крупное вознаграждение, считал себя обойденным. Г. Р. Державин, участвовавший в чине поручика в военных действиях против Пугачева, обратился с письмом к Екатерине II, в котором жаловался на то, что его обошли награждениями, и довольно настойчиво просил восстановления справедливости. Князь Потемкин по поручению императрицы спросил Державина: «Чего вы по прошению вашему за службу желаете?» Тот ответил: «За производство дел по Секретной Комиссии желаю быть награжденным деревнями равно с сверстниками моими, гвардии офицерами; а за спасение колоний по собственному моему подвигу, как за военное действие, чином полковника».
Наконец, неправда обнаруживается Стародумом на самом высоком уровне государственного устройства России — при императорском дворе. Он убеждается в том, что «в этой стороне по большой прямой дорогеникто почти не ездит, а все объезжают крюком, надеясь доехать поскорее».
Однако и на этой, самой высокой ступени власти «обманные» ситуации не заканчиваются. Фонвизин находит остроумное продолжение судьбы Стародума, содержание которой тоже основано на обмане, но с обратным, перевернутым значением. Герой покидает двор «без хлопот», Л сумев избежать двух традиционных исходов дворцовой службы, о которых он сам говорит так: «Либо на тебя рассердятся, либо тебя рассердят». Удивленный Правдин уточняет: «Итак, вы отошли от двора ни с чем?»
Отвечая Правдину, Стародум дает понять, что, избежав вынужденной лести и незаслуженных обид, он выиграл душевный покой, самостоятельность суждений и независимость. Стародум «обманул» традицию придворного поведения, найдя в видимой, очевидной утрате невидимые, но важные приобретения. Эту своеобразную уловку он поясняет: «Табакерке цена пятьсот рублев. Пришли к купцу двое. Один, заплатя деньги, принес домой табакерку. Другой пришел домой без табакерки. И ты думаешь, что другой пришел домой ни с чем? Ошибаешься. Он принес назад свои пятьсот рублей целы. Я отошел от двора без деревень, без ленты, без чинов, да мое принес домой неповрежденно, мою душу, мою честь, мои правилы».
Так как российский двор напоминает, по словам Стародума, больного, которого вылечить нельзя, но можно лишь заразиться, опальный чиновник нашел такую возможность обогащения, которая не связана была бы с несправедливостью или насилием: «...решился я удалиться... в ту землю, где достают деньги, не променивая их на совесть, без подлой выслуги, не грабя отечества...»
Обманчивость идиллической концепции честного обогащения очевидна. В данном случае роль обманщика принадлежит самому Фонвизину. С одной стороны, нужно было провести Стародума по жизни незапятнанным и нравственно безупречным. С другой — комическая интрига вокруг Софьиного замужества требовала присутствия богатого дядюшки. Реальная, настоящая, а не литературная, общественная жизнь России свидетельствовала о том, что богатство богатых оплачено бедностью бедных. Жизнь скотининых и простаковых всех времен и во всех уголках российской империи доказывала это неопровержимо и красноречиво. Всеобщность и историческую правдивость социального положения в стране Фонвизин доказывает с помощью «обманного» приема. Обогащению своего героя писатель придает мифологический, сказочный характер. Благополучие Стародума становится не результатом активной деятельности в Сибири (связанной, разумеется, с людьми, а значит, и с неизбежной их эксплуатацией), а общением с землей, которая одаривает достойных скрытыми в ней богатствами: «Последуй природе, никогда не будешь беден».
Так Стародум, подобно евангелическому герою, прошел по воде, «аки посуху», или, говоря иными словами, обогатился, не причинив никому вреда. Безупречность, идеальность мыслей и поступков Стародума, его нравственного облика — со стороны Фонвизина дань классицизму. Сделав Стародума абсолютно положительным героем, поместив его в рамки классицистических представлений, писатель одновременно лишил его движения, развития, изъял из живой жизни. Стародум превратился во всезнающего резонера, по сути дела не живущего, но лишь комментирующего чужую жизнь.
Вот почему и заключительная сцена комедии с итоговой репликой Стародума воспринимается двояко. Правда поучительной сентенции («Заставляя страдать других, пострадаешь сам») явно уступает правде поведения живого, энергичного, хотя и неправого человека — помещицы Простаковой. И нужно подчеркнуть, что в том, как Простакова на людях переживает горе, настигшее ее с разных «дистанций»: самой отдаленной (правительство, отобравшее в опеку ее поместье) и самой близкой (нелюбовь сына), — тоже проявляется мотив обмана.
Это не означает, однако, что Простакова неискренна в своем горе. На протяжении всего действия именно в ее переживаниях, в энергичных действиях, поступках и замыслах, в яркой, экспрессивной речи прорывается сквозь жесткие рамки классицистической схемы живая, яркая личность.
Дело в другом. Тщательно продуманным и художественно оправданным обманом выглядит построение Фонвизиным заключительной сцены комедии. «От стыда никуды глаз показать нельзя!» — восклицает Простакова. Психологическая неточность (как можно стыдиться утраты!) оправдана точностью социального анализа поведения. Стыд жестокосердной помещицы, у которой отняли не просто н^что ценное, но все, <что наполняло ее жизнь и придавало этой жизни смысл и цель, — власть и сына, — становится метафорой обнаженности. Простакова испытывает мучительное и совершенно реальное чувство человека, утратившего настолько все, что он ощущает себя голым.
Все сказанное убеждает нас в том, что Фонвизин искусно и по-художнически ловко — иначе не скажешь — упрятывает в ячейки классицистической драматургии сложное, противоречивое личностное поведение. Преодолевая жесткие схемы и неумолимые догмы классицизма, писатель тоже, в известном смысле, «обманывает» читателя, привыкшего к традиционным формам сценических воплощений. Создавая движущиеся характеры в рамках неподвижной поэтики, Фонвизин формирует такие принципы драматического действия, в которых главным становится не поступок, не само действие, но тщательно продуманное и организованное слово.
Слово в драматургии Фонвизина обретает такую смысловую содержательность, которая позволяет определить художественный образ не столько по его изначальной авторской оценке, сколько по его психологической достоверности, убедительности. А достоверность, в свою очередь, представляет собой не просто проявление каких-либо черт характера или манеры поведения, но игру оттенков и значений, отношение между проявлениями характера в различных ситуациях.
Шестое явление последнего действия комедии начинается словами: «Вот тебе и вся наша сволочь, мой батюшка» (речь идет об учителях Митрофана). Реплика эта, обращенная к Стародуму, принадлежит не Простаковой, как можно было бы предположить, а... Еремеевне. Той самой Еремеевне, которая совсем недавно слезно жаловалась Цифиркину и Кутейкину на горькую свою долю: «Нелегкая меня не приберет! Сорок лет служу, а милость вся та же... По пяти рублей на год да по пяти пощечин на день». И они с искренним участием и пониманием людей, несправедливо обижаемых общим для всех тираном, «отводят ее под руки» к своему нищему дружескому застолью.
Это пример смыслового «свечения» образа, когда за видимой, очевидной однозначностью угадывается глубина и противоречивость социального типа с психологией раба, порожденного деспотизмом барства.
Д. И. Фонвизин создает в драматургии то, что мы привыкли называть «контекстом». Плоскостное, двумерное смысловое изображение, свойственное поэтике классицизма, под пером писателя становится пространственно емким.
Соотнесенность различных - психологических проявлений, закрепленных в слове, формирует энергию самодвижения характера, его естественного сценического развития.
Русский сатирик словно подслушал слова Н. М. Карамзина, сказанные два десятилетия спустя: «Что ж остается делать автору? Выдумывать, сочинять выражения; угадывать лучший выбор слов; давать старым некоторый новый смысл, предлагать их в новой связи, но столь искусно, чтобы обмануть читателей и скрыть от них необыкновенность выражения!»1
«Как друзей не остеречь!»
В «Недоросле» Д. И. Фонвизина мир «своих» и «чужих», казалось бы, разделен стеной. Тем более, что комедия написана в соответствии с канонами классицизма, предполагающими, в частности, отчетливое деление героев на положительных и отрицательных. Но писатель, художественно постигая жизнь в ее противоречивой сложности и полноте, создает такие характеры и положения, смысловое содержание которых не исчерпывается конкретными происшествиями и событиями. Преодолевая схематичность и условность классической драматургии, писатель создает «текучие», сложные характеры, поведение которых несет в себе логику общественных отношений, имеет социальный, мировоззренческий характер.
...Простакова с братом кажутся одинокими и беззащитными перед могущественной, величавой и даже иногда снисходительной правотой Стародума. А вообще конфликт пьесы Фонвизина внешне выглядит не только совершенно понятным и очевидным, но и с заданным смысловым итогом. Добродетель и мудрость Стародума противостоят «злонравию» и невежеству Простаковой и Скотинийа, а Правдин, посланец правительства, правит суд, лишая свирепую помещицу имения и сурово предупреждая ее перепуганного брата, а заодно и его товарищей.
Так конфликт пьесы Фонвизина выглядит в первом приближении; таким же, к сожалению, нередко и остается в памяти многих читателей. Между тем вряд ли проницательный В. Ф. Одоевский поместил бы «Недоросля» в такой блистательный ряд произведений русских писателей, сблизив их не по обличительной манере, но по высоте трагического пафоса.
Отрицательные герои Фонвизина — не комичные глупцы, а могущественный клан, сознающий свою реальную экономическую (а значит — политическую) силу. Они вовсе не одиноки, и у них остро развито спасительное чувство сплоченности «своих», помогающее им выстоять в ожесточенной борьбе с «чужими» — носителями идей просвещения и справедливости.
Невежество и деспотизм, образующие в сочетании своем моральное скотство, то есть недостойное человека поведение в обществе, не являются в комедии Фонвизина чем-то исключительным или необычным. Нет, Простакова, ее брат Скотинин и сын Митрофан живут нормальной, как им кажется, жизнью. Более того, они защищают свое право на такую жизнь и защищают, нужно отметить, вполне успешно. Скотство, как система взглядов, как мировоззрение, нуждается в преемственности, в следовании определенным традициям. И эти традиции прослеживаются в «Недоросле» вполне отчетливо. Митрофан как в моральном, так и в духовном плане является достойным сыном своей матери. Простакова, в свою очередь, верно следует заветам отца.
Отец Простаковой и Скотинина совершенно логичен и прав, пропагандируя ненависть к просвещению: «Прокляну ребенка, который что-нибудь переймет у бусур-манов, и не будь тот Скотинин, кто чему-нибудь учиться захочет». Жестокосердие и злоба, определяющие скотство, не только не нуждаются в просвещении, но изгоняют его, потому что в атмосфере подлинной культуры скотство чахнет так же, как и культура в его окружении. Пройдет не так уж много времени, и А. С. Грибоедов на судьбе Чацкого покажет, каково приходится умному человеку во враждебной среде («Все гонят! Все клянут! Мучителей толпа...»).
В семье Скотининых было, как известно, восемнадцать детей. Выжили двое: Простакова и ее брат. Фонвизин отчетливо дает понять, что социальная среда, враждебная всему передовому, «саморегулируется», оставляя для грядущих битв наиболее закаленных стражей самодержавно-крепостнической системы.
Задумаемся вот над чем: почему Простакова ведет себя так, а не иначе? Почему грубит, издевается над своими подданными, а то и бьет их? Оттого, что «злонравна»?
Нет, не оттого. А потому, что имеет право и отчетливо сознает это.
Вот Простакова замыслила коварный план похищения Софьи, чтобы насильно обвенчать богатую наследницу с Митрофаном. Однако похищение не состоялось. Милон, жених Софьи, освобождает свою невесту, а Правдин грозит отдать злую помещицу под суд. Однако «друг честных людей» Стародум, не желая ничьих страданий, милостиво прощает Простакову. Оправившись от испуга, Простакова буквально взвивается от... ненависти к своим дворовым, которые упустили Софью: «Ну!.. Теперь-то я всех переберу поодиночке. Теперь-то допытаюсь, кто из рук ее выпустил. Нет, мошенники! Нет, воры! Век не прощу, не прощу этой насмешки». Когда Правдин замечает ей, что «тиранствовать никто не волен», Простакова произносит свои знаменитые слова: «Не волен! Дворянин, когда захочет, и слуги высечь не волен; да на что ж дан нам указ-то о вольности дворянства?»
Сошлюсь опять на В. О. Ключевского. По поводу восклицания Простаковой ученый заметил: «Она сказала бессмыслицу, и в этой бессмыслице весь смысл «Недоросля».
Указ императора Петра III от 18 февраля 1762 года отменил обязательную для дворян военную или гражданскую службу протяженностью не менее 25 лет, установленную при императрице Анне Иоанновне в 1736 году.
Но вышло все наоборот. Помещики поняли указ о дворянской вольности как право, не захотев увидеть в нем обязанности. В ответ на слова Простаковой Стародум замечает: «Мастерица толковать указы!» Простакова, как и подавляющее большинство поместных дворян истолковала указ правительства в свою пользу.
«Дворянин — захочет — высечь» — это формула крепостного произвола.
Способность Простаковой к такого рода толкованиям, к логическому осмыслению собственной и окружающей жизни придает ее поступкам отрицательную, негативную активность и порочную целенаправленность. Таким образом, не злой нрав противопоставляет Фонвизин в своей комедии разуму, а разумное зло, встающее на защиту устоев, освященных традицией и утверждаемых действительностью общественных отношений.
За сатирически-обличительным фоном, на котором проходит изображение жизни помещиков, кроются тревожные и серьезные мысли автора о социальном, общественном содержании «злонравия» применительно ко всему могущественному классу поместного дворянства в России.
Более того, Фонвизин проницательно указывает Hg то, что за формальной подчиненностью трону и высочайшему повелению поместное дворянство «перетолковывает» высочайшие указы вовсе не по невежеству своему, но по глубокой убежденности в своей полной безнаказанности. А. это, в свою очередь, исходит из осознания своего подлинного могущества.
Скотинин перед отъездом в свое имение получает наставление от Правдина рассказать окрестным помещикам о происшедшем в доме Простаковой, чтобы те знали, «чему они подвержены». Скотинин отвечает Правдину с двусмысленной и лукавой готовностью: «Как друзей не остеречь!»
«Остеречь друзей» — это утверждение правомерности тиранического обращения с подданными, которое должно быть лишь более скрытым от глаз правительственных чиновников. И с какой ироничной многозначительностью дает он обещание Правдину: «Повещу им, чтобы они людей...» Правдин чуть не услужливо подхватывает, рифмуя предполагаемое «били»: «Поболе любили или бы по крайней мере...»
При внимательном чтении этой сцены не покидает ощущение, что Скотинин снисходительно подыгрывает Правдину. Скотинин не подхватывает фразу Правдина, не присочиняет ей елейного окончания. Он с мрачной требовательностью ждет продолжения: «Ну?..» И Правдин, всесильный Правдин, который только что своим «важным голосом» и суровым указом поверг семейство Простаковых в ужас и смятение, неожиданно капитулирует. Он произносит слова, которые явственно отрицают все его предыдущие высокопарные рассуждения: «Хоть бы не трогали».
Тот поучительный спектакль, который можно было разыграть «от имени правительства» перед одним семейством, ровно ничего не значит перед Скотининым с сотоварищами, сплоченными единством собственнических интересов.
Тревожная мысль писателя устремлена прежде всег# туда, в сторону «отбывания» Скотинина. Туда, где его товарищи, «свои люди», объединяются ненавистью к просвещению, жестокостью, животным эгоизмом и корыстолюбием для того, чтобы отстоять свои позиции в жизни.
А. Грибоедов «Горе от ума»
«Предпочитает дурака умному...»
Эти слова принадлежат Грибоедову. Они взяты из его объяснения замысла и плана комедии, которыми он делится в письме к П. А. Катенину, другу и единомышленнику. «Ты находишь главную погрешность в плане: мне кажется, что он прост и ясен по цели и исполнению; девушка сама не глупая предпочитает дурака умному человеку (не потому, чтобы ум у нас грешных был обыкновенен, нет! и в моей комедии 25 глупцов на одного здравомыслящего человека); и этот человек разумеется в противоречии с обществом его окружающим, его никто не понимает, никто простить не хочет, зачем он немножко повыше прочих...»1
А. С. Грибоедов в своем письме тоже «немножко повыше» представлений своего друга П. А. Катенина о природе комического в драматическом искусстве. Искушенного в эстетике классицизма Катенина он убеждает в том, что в смысле плана-схемы, то есть контрастного, черно-белого противостояния героев («25 глупцов на одного здравомыслящего») и определенности, отчетливости очертаний любовного треугольника (героиня предпочитает одного — другому), все обстоит благополучно. К тому же, как известно, Грибоедов строго следует правилу «трех единств» — основополагающему принципу драматургии классицизма.
Классицизм своими жесткими рамками удерживает правдоподобие жизни, нередко жертвуя при этом самой правдой. Подчеркивая ясные контуры плана комедии, Грибоедов в то же время упоминает о таких мелочах, в которых упрятаны противоречия реальной, а не выдуманной писателем жизни, мучительная сложность общественных отношений России того времени. На эти тщательно сплетенные автором узелки, не позволяющие понять высказывания Грибоедова сразу и целиком, тормозящие наше сознание и заставляющие сосредоточиться, задуматься, разобраться, мы натыкаемся то и дело.
Действительно, тот факт, что девушка предпочитает одного героя другому — это понятно. Но почему с такой легкостью, как будто речь идет о совершенно естественных вещах, писатель говорит о том, что «не глупая предпочитает дурака умному»? Правдоподобие классицизма, не принимавшее и не понимавшее алгебры человеческих отношений и остающееся в рамках их арифметики, — это правдоподобие должно диктовать автору, что человек не глуп именно потому, что способен умного предпочесть другому. А если глупость предпочтена уму, значит тот, кто предпочел, не умен сам. Так что замечание Грибоедова, указывающее на простоту и ясность формы, самой сутью, смысловой содержательностью этой формы утверждает нечто противоположное.
Сказанное — лишь один из узелков в высказывании Грибоедова. Не комментируя подробно, укажем еще на некоторые.
«25 глупцов на одного здравомыслящего». Как и в предыдущем случае, здесь все так и не так. То, что «на одного» — это действительно так. А вот в смысле «глупцов» Грибоедов намеренно упрощает, чтобы противостояние глупости и здравого смысла лишить реалистической многозначности и сложности. Противники Чацкого менее всего глупцы. -
«Его никто не понимает, никто простить не хочет, зачем он несколько повыше прочих». Если в этом простом и таком, казалось бы, понятном объяснении кое-что прояснить, учитывая реальное содержание комедии, мы поймем и меру лукавства Грибоедова, объясняющего подлинную сложность жизненного конфликта пьесы. Дело в том, что, во-первых, Чацкого не хотят простить именно потому, что прекрасно его понимают. И понимание это заключается не в том, что Чацкий «повыше прочих», а в том, что он — другой, не такой, как все.
В такой же степени, как за покровами классицистической одежды в комедии проступает сложность и противоречивость живой жизни, так и в объяснении Грибоедова за внешней простотой кроется парадоксальность и сложность.
«Не глупая предпочитает...» Зададимся простым вопросом: а почему, собственно, предпочитает? В этом вопросе стоит разобраться еще и потому, что по мере продвижения к ответу мы обнаружим за привычными высказываниями героев не только очевидные и понятные нам значения. Смысл различных сцен, как выясняется, заключен не в отдельных высказываниях героев или автора, но в самом рисунке художественной мысли. Поэтому нужно проследить за ее очертаниями, памятуя при этом, что Грибоедов предполагал в своих читателях — это можно утверждать со всей определенностью — известную долю проницательности.
Взять, к примеру, многократно приводимые слова Скалозуба, которыми всегда мы подтверждаем его солдафонскую тупость и ограниченность: «А форменные есть отлич-ки: В мундирах выпушки, погончики, петлички». Если вернуться к истокам происходящего в этой сцене, если быть внимательным и объективным, то можно убедиться, что Скалозуб здесь — лицо эпизодическое, реплика его работает вовсе не в плане саморазоблачения, и главными фигурами в этом эпизоде являются два человека, один из которых — самый могущественный и влиятельный в доме Фамусова, а другой, напротив, — самый неприметный, кроткий и незнатный. Герои эти — графиня Хлестрва и Молчалин.
Итак, обратимся к комедии, а именно — к самой ее середине, к десятому явлению III действия. В доме Фамусова среди приглашенных появляется графиня Хлестова. Это властная, всеми почитаемая старуха (перед нею заискивает й хозяин дома). Лучше всего ее нрав и взгляды объясняет тот факт, что она «от скуки» взяла с собой в дорогу по Москве («час битый ехала с Покровки») собачку и... арапку. Причем, о девочке-негритянке Хлестова рассказывает как об экзотическом зверьке:
Курчавая! горбом лопатки!
Сердитая! все кошачьи ухватки!
Да как черна! да как страшна!..
Уравнивание собак и людей в комедии уже встречалось. В знаменитом монологе Чацкого «А судьи кто!..» такое уподобление стало символом разоблачения крепостнического рабства (низведения человека до уровня животного, скота). Таким образом, высказывание Хлестовой о6 арапке — это своеобразная подсказка Грибоедова нам, читателям, по поводу того, что гневные, яростные разоблачения Чацкого («на них он выменял борзые три собаки» и т. д.) — не отвлеченные декларации оторванного от жизни влюбленного романтика, но реальнейшая, очевидная практика жизни.
Мы узнаем из рассказа Хлестовой, что арапку «припас» для нее Загорецкий. Тот самый «отъявленный мошенник, плут», по словам Платона Михайловича, который принимает активнейшее участие в раздувании сплетни о мнимом сумасшествии Чацкого. Хлестова тоже невысокого мнения о Загорецком («Лгунишка он, картежник, вор»), но есть в нем свойство, которое, по мнению Хлестовой (да, пожалуй, и многих гостей Фамусова), с лихвой искупает все остальные грехи. Это свойство отвратительно лишь таким, как Чацкий (им от него «тошно»), зато для остальных — оно главное и ведущее в жизни. Так вот, Загорецкий — «мастер услужить». Ложь и воровство кажутся невинными чертами рядом с таким чудесным свойством. Ведь оно не просто облегчает жизнь, сглаживая ее подъемы, спрямляя повороты, но нередко делает судьбу, выводит в люди, возносит на недостижимые высоты личной власти и могущества.
Вот почему почтенный дядя Фамусова так усердно и не раздумывая бьется головой о паркет, потешая императрицу, а Молчалин свято следует завету отца, не делая в этом беспроигрышном деле исключений, — «угождать всем без изъятья». Именно поэтому итоговое отношение Хлестовой к Загорецкому довольно милостиво: «...дай Бог ему здоровье!»
Хлестова не слышала уничтожающей характеристики Загорецкому со стороны Платона Михайловича. Но она стала свидетельницей того, как Чацкий отозвался на испуганное исчезновение ее любимца:
(с хохотом Платону Михайловичу)
Не поздоровится от эдаких похвал,
И Загорецкий сам не выдержал, пропал.
Хлестову раздражает не только само отношение к За-торецкому, но и смех. В смехе ей чудится дерзкое непослушание, независимость и своеволие. Вот почему в своем раздраженном замечании она напирает именно на смех. «Кто этот весельчак? Из звания какого», — раздраженно спрашивает она у Софьи. И получив ответ, что это Чацкий, человек их круга, которого, разумеется, нельзя тут же, на месте, одернуть, находит все же способ «надрать уши» строптивому юнцу:
Ну? а что нашел смешного?
Чему он рад? Какой тут смех?
Над старостью смеяться грех.
Я помню, ты дитей с ним часто танцевала,
Я за уши его дирала, только мало.
Следующее явление, состоящее всего из двух реплик, понадобилось Грибоедову лишь для того, чтобы усилить раздражение Хлестовой. Фамусов, не ведая того, что его влиятельная родственница («невестушка») уже порядком раздражена Чацким, очень громким голосом («громогласно») вопрошает о Скалозубе: «Ждем князя Петра Ильича. А князь уж здесь! А я забился там, в портретной. Где Скалозуб Сергей Сергеич? а?..» Выкрики Фамусова вызывают приступ раздражения у Хлестовой: «Творец мой! оглушил, звончее всяких труб!»
Является Скалозуб, и Фамусов спешит представить его — вероятного жениха Софьи — своей влиятельной свояченице. Фамусов не знает, что Хлестову уже достаточно «подогрели» Чацкий своим смехом над Загорецким и он сам, Фамусов, своим криком. К тому же тупой солдафон Скалозуб менее всего пригоден для светского разговора с необходимой мерой такта и учтивости, умением учитывать настроение собеседника.
Хлестова, к которой подводят Скалозуба, начинает разговор, словно силясь вспомнить, где служил Скалозуб. На самом деле это лишь светская условность, разговор ни о чем: «Вы прежде были здесь... в полку... в том... в гранадерском?»
Скалозуб тупо и твердо поправляет Хлестову (в его словах даже нет вежливой вопросительной интонации): «В его высочества, хотите вы сказать, Ново-землянском мушкетерском».
К тому же Скалозуб говорит громко («басом»), это еще более раздражает Хлестову. Она отмахивается: «Не мастерица я полки-та различать».
Скалозуб не понимает, что его поведение оскорбляет старую графиню, и продолжает ее поучать: «А форменные есть отлички: В мундирах выпушки, погончики, петлички».
Проницательный Фамусов уже понял, что ничего хорошего из этого разговора не получится, и спешит увести от Хлестовой ее собеседника:
Пойдемте, батюшка, там вас я насмешу,
Курьезный вист у нас. За нами, князь! прошу. —
(Его и князя уводит с собою.)
Хлестова, доведенная толстокожим Скалузобом до крайней степени раздражения, жалуется Софье:
Ух! Я точнехонько избавилась от петли;
Ведь полоумный твой отец;
Дался ему трех сажен удалец,
Знакомит, не спросясь, приятно ли нам. нет ли?
И вот теперь-то, в самый нужный, самый сокровенный момент вступает в разговор Молчалин — все видевший, все слышавший и тонко чувствующий переливы настроений влиятельных особ, тем более женщин. Он понимает, (что настала его минута, и спешит погасить раздражение самолюбивой графини кроткой любезностью:
Я вашу партию составил: мосье Кок,
Фома Фомич и я.
В обмен за услугу Молчалин тут же получает от Хлестовой снисходительно-ласковое: «Спасибо, мой дружок».
Убедившись в том, что угодливость действует на Хлестову умиротворяюще, Молчалин, незаурядный психолог, «нажимает» на самолюбие графини, явно и сознательно перебирая в комплиментах, льстит неприкрыто и откровенно:
Ваш шпиц — прелестный шпиц; не более наперстка,
Я гладил все его; как шелковая шерстка.
Молчалин не ошибается в расчетах. В ответ на его любезность Хлестова в своей доброжелательности идет дальше, и смиренный угодник, уже имеющий в своем активе «дружка», получает кусок пожирнее:
«Спасибо, мой родной».
Доказательством того, что за всеми тонкими драматическими построениями стоит художнический расчет писателя, служит итоговая авторская ремарка, в которой Молчалин выделен среди прочих рядом с Хлестовой. Завершая сцену, Грибоедов помечает: «Уходит (Хлестова. — А. В.), за ней Молчалин и многие другие».
Вот таким образом на деле проявляются те удивительные качества Молчалина, которые он сам (по воле Грибоедова, разумеется) определил словами немного странными и даже не совсем понятными: «умеренность и аккуратность». Писатель, концентрируя характер Молчалина в кратчайших, лаконичных обозначениях, выбирает слова с емким, подвижным и в то же время ускользающим смыслом. Умеренность — в чем? Аккуратность — в чем? Конечно же, не только и не столько в одежде и в секретарских делах. Тогда в чем же?
Рассмотренная выше сцена позволяет, как нам кажется, уточнить характеристику, данную Грибоедовым своему молчаливому герою. Умеренность и аккуратность» — это тонко и точно выверенная стратегия и тактика поведения в жизни. Это продуманная соразмерность поступков и слов, чувств и намерений. Это подчинение всего и вся: людей и обстоятельств, слов и дел, крупных событий и бытовых мелочей — медленному, но неуклонному движению вперед, к поставленной цели. А цель манит, уж слишком она сладка и желанна, это точно подметил Чацкий. «Почести и знатность» — вот к чему тянется Молчалин, которому по безродности его нужно быть предельно хитрым, ловким и осторожным, чтобы незаметно, крадучись, пробраться в стан аристократов.
В ответ на иронизирование Чацкого по поводу пошлого однообразия жизни мелкого чиновника — «К перу от карт? и к картам от пера? И положенный час приливам и отливам?» — Молчалин кратко повествует:
По мере я трудов и сил,
С тех пор, как числюсь по Архивам,
Три награжденья получил.
Ироничному, но простодушному Чацкому невдомек, что за «приливами и отливами» есть нечто очень существенное: неприметный, но непрерывный ход, движение вверх? движение, остановить которое невозможно. «С тех пор... три награжденья» — это не только мера трудов, но и более высокая мера, мера жизни, ее стратегия и тактика.
Существует мнение, и довольно устойчивое, что Софью в Молчалине привлекает более всего его скромность, кротость, застенчивость. Лишь отчасти это так. В отношении Софьи к Молчалину ощущается страстная влюбленность, даже преклонение, а вовсе не снисходительная привязанность к обласканному провинциалу.
Вспомним, как ведет себя Софья, когда Молчалин упал с лошади. Дело даже не в том, что она потеряла сознание, даже не в том, как взволнованно и испуганно она расспрашивает Молчалина о его самочувствии:
Молчалин! как во мне рассудок цел остался!
Ведь знаете, как жизнь мне ваша дорога!
Зачем же ей играть, и так неосторожно?
Скажите, что у вас с рукой?
Не дать ли капель вам? не нужен ли покой?..
Более убедительно и психологически проникновенно проявляются чувства Софьи к Молчалину в том, как она реагирует на замечания Лизы и самого Молчалина. Лиза, девушка опытная, неглупая и весьма практичная, советует своей госпоже скрыть чувства от проницательного Чацкого и Скалозуба, который хотя и туповат, но тоже может пошутить по поводу обморока. Софья, отмахнувшись от разумных предостережений: «А кем из них я дорожу? Хочу люблю, хочу скажу», — обращается к Молчалину, чуть ли не униженно объясняя возлюбленному, чего ей стоило казаться равнодушной при его появлении:
Молчалин! будто я себя не принуждала?
Вошли вы, слова не сказала,
При них не смела я дохнуть.
У вас спросить, на вас взглянуть.
«Нет, Софья Павловна, вы слишком откровенны», — холодная корректность замечания Молчалина повергает Софью в горестное изумление: что может противостоять высокой любви, что в жизни может быть выше и значительнее ее чувства?
Откуда скрытность почерпнуть!
Готова я была в окошко, к вам прыгнуть.
Да что мне до кого? до них? до всей вселенны?
Смешно? — пусть шутят их; досадно? — пусть бранят.
Практичная Лиза вновь советует Софье притвориться перед гостями беззаботной и веселой, успокоить настороженного Чацкого рассказами о детской дружбе, «о прежних днях, о тех проказах». Софья пропускает и этот совет мимо ушей. Но стоило Молчалину произнести уклончивое: «Я вам советовать не смею», — как Софья тут же почувствовала повеление, исходящее от него. И она выражает готовность идти к гостям и через силу притворяться веселой:
Хотите вы?.. Пойду любезничать сквозь слез;
Боюсь, что выдержать притворства не сумею.
Зачем сюда Бог Чацкого принес!
Одновременно со своей репликой Молчалин в смиренном поклоне целует руку Софьи, как бы прощаясь с нею. В этой авторской подсказке — еще одно подтверждение власти Молчалина над Софьей, своеобразного распределения ролей в их отношениях.
Как только Софья уходит, Молчалин начинает ухаживать за Лизой. Может показаться, что развязность Молчалина в отношении к Лизе проистекает от топь что будучи плебеем, он чувствует себя с Лизой как бы на равных, расслабляется от скованности и напряжения, вызванных отношением с аристократкой Софьей. Это вроде бы подтверждается и укоризненными замечаниями Лизы, уклоняющейся от наглых приставаний Молчалина (он дважды пытается ее обнять): «Скажите лучше, почему Вы с барышней скромны, а с горничной повесы?»
Лиза ошибается. За показной скромностью Молчалина в отношении к Софье и ко всем прочим, как мы убедились выше, кроется точный и корыстный расчет. Да и с самой Лизой Молчалин вовсе не походит на беззаботного повесу. Он явно высокомерен и циничен по отношению к девушке. Назвав Лизу «веселым, живым созданьем» и проговорив дежурное: «Какое личико твое! Как я тебя люблю!», — Молчалин полагает, очевидно, что комплиментарная часть их общения завершена и переходит к откровенному торгу. Есть особый, наверное, смысл в том, что в своем самом длинном в пьесе монологе Молчалин перечисляет те безделушки, за которые он готов купить расположение Лизы:
Есть у меня вещицы три:
Есть туалет, прехитрая работа;
Снаружи зеркально, и зеркально внутри,
Кругом все прорезь, позолота;
Подушечка, из бисера узор;
И перламутровый прибор;
Игольничек и ножинки, как милы!
Жемчужинки, растертые в белилы!
Помада есть для губ, и для других причин,
С духами сткляночки: резеда и жасмин.
Сказанного выше достаточно (хотя примеры можно множить), чтобы убедиться в том, насколько «зашифрован» образ Молчалина в комедии. 3а внешней тихостью и смирением — мощная энергия и целеустремленность; за показной скромностью — безмерный цинизм и двоедушие.
«Предпочитает дурака...» Приглядевшись к Молчалину поближе, можно уверенно утверждать, что есть в нем та внутренняя сила и значительность, основанные на осторожном, гибком, все учитывающем уме, которые позволили Софье предпочесть его Чацкому. Другое дело, что и сила, и энергия Молчалина направлены не к добру и не к общественному благу, а питают лишь безмерный эгоизм своего носителя.
Федор Михайлович Достоевский, едва ли не самый великий в русской литературе отгадчик потаенных мыслей и побуждений человека, писал осенью 1876 года в своем «Дневнике писателя»: «...я чуть ли не сорок лет знающий «Гере от ума», только в этом году понял как следует один из самых ярких типов этой комедии, Молчалина... (об Молчалине я еще поговорю, тема знатная)»1.
А что же Чацкий? Что его ум — оружие добрых и справедливых, неспособных к хитрости и лукавству?
Чацкий, по словам Грибоедова, — «здравомыслящий». Его ум и есть проявление «здравости» как духовного и нравственного здоровья, естественного человеческого поведения. Известные слова Чацкого: «Служить бы рад, прислуживаться тошно» — в просторечном высказывании воспринимаются как естественная брезгливость нравственно чистоплотного человека. Это реакция нормального порядочного человека, а не эстетствующего умника.
Ум в комедии Грибоедова — категория не столько интеллектуальная и духовная, сколько социальная и нравственная! Чацкий умен в том смысле, что он прав, что он отстаивает прогрессивные, гуманные идеалы добра и справедливости. Умен Фамусов и его сторонники, дьявольски умна и проницательна Софья; Молчалин обладает удивительной способностью соразмерить с собственной выгодой каждый шаг в жизни — а это требует немалого ума. Но никто из них не обладает тем, чем избыточно полон Чацкий и что придает его духовной энергии направленность вовне: к людям, к обществу и миру. Эти качества — простодушие, душевная искренность и честность — слагаемые нравственного благородства. Ум противников Чацкого — это хитрый, изворотливый ум постоянно оглядывающихся людей, для которых выше собственных интересов нет ничего на свете. Им, «прислуживающим», неведом смысл служения отечеству, требующий внутренней свободы и честности; а почести и знатность их тем выше, чем ниже они сгибают свои спины.
Чацкий, как известно, обрушивается своими гневными монологами на различные стороны общественной жизни России. Он бичует невежество и пошлость, издевается над галломанами, язвительно высмеивает политических консерваторов, замшелых тупиц, берущих на себя роль верховных судей в оценке событий и явлений жизни. Но есть в критике Чацкого некий центр, ядро, фокус, в котором — само средоточие негодования и праведной ярости молодого, умного и честного русского дворянина. За всеми частными обличениями, сколь бы значительны они ни были, видится Чацкому рабство — исток и первопричина социальных бед отечества.
Мы привыкли считать, что тема рабства в комедии заключена в идее крепостничества, в низведении живого человека — крестьянина — до уровня вещи, которую можно продать, обменять, даже уничтожить. Это, разумеется, верно. Но Грибоедов не был бы гениальным писателем, а комедия его бессмертным произведением, если бы живой мир общественных отношений воплощался , в его творениях, лишь одной — пусть важнейшей — стороной, взятой в отрыве от других сторон, ее проявляющих и углубляющих.
Так и в данном случае. В «Горе от ума» тема рабства содержит в себе смысл, более обширный и глубокий, чем крепостнический. Огромной заслугой Грибоедова в исследовании общественной жизни России является то, что он вскрыл логику деспотизма, закономерности его общественного существования. Грибоедов в художественной форме доказал, что тирания как вид политической власти нуждается в рабстве, в рабской психологии, основанной на страхе, подчинении и внутренней несвободе. А нужда эта объясняется тем, что рабство является питательной средой для тирании, которая существует, развивается и таким, образом утверждает себя в нем. И только в нем.
Фамусов, его предшественники (дядя Максим Петрович) и последователи (Молчалин), его друзья и единомышленники — все они деспоты и рабы одновременно. Они высокомерны и жестоки по отношению к тем, кто ниже их, и рабски угодливы в общении с теми, кто выше. Грибоедов был первым русским писателем, который в форме смешного обнажил и отобразил диалектическую связь между деспотизмом и рабством.
Вот как одна наблюдательная англичанка писала о жизни великосветской Москвы 1805 — 1807 годов: «Подчинение в высшей степени господствует в Москве... каждый измеряет свое достоинство мерой царской милости. Поэтому старые идиоты и выжившие из ума женщины всемогущи... Я смотрю на каждого русского плантатора как на железное звено в огромной цепи, оковывающей это царство, и когда я встречаюсь с ним в обществе, я невольно думаю, что сами они — крепостные люди деспота»1.
Унижение, приносящее вначале политический капитал, а потом и капитал как таковой, и приводящее таким образом к власти над другими, — вот в чем тайна ума Максима Петровича» который на шутовстве и унижении выстроил себе безбедную жизнь. Для -Фамусова и его поколения этот сюжет — своеобразная модель правильной жизни, образец для подражания и учебы, эталон ума и сметливости: «А? как по вашему? по нашему смышлен».
Чацкий не только разгадывает, но и гневно отвергает такую «смышленность». Он не приемлет духовную нищету этой не умной, но хитрой, своекорыстной жизни. Вот почему Фамусов и его сторонники видят в Чацком не просто инакомыслящего, но злостного врага, посягающего на сами основы их существования. Отсюда и жестокие, коварные методы борьбы с ним. Борьбы, направленной на уничтожение того источника света, который обнажил суть и смысл их безнравственного и ложного существования. Этот свет — ум Чацкого. Поэтому и возникает сплетня о сумасшествии Чацкого, о его безумии.
«Обманщица смеялась надо мною!»
Так воскликнул Чацкий после разговора со своим соперником и убедившись, что «с такими чувствами, с такой душою» Молчалин не мог быть любим Софьей. Действительно, как можно любить человека, для которого «мнения чужие только святы», который настолько утратил чувство собственного достоинства, что не смеет, боится произнести свое суждение. Как можно любить человека, который жалкую и постыдную зависимость не только предпочитает прекрасной независимости, но и возводит такое состояние в принцип самой жизни: «Ведь надобно ж зависеть от других».
Бедный Чацкий! Он и не догадывается, что именно Молчалин подвел его к такому выводу, умело и настойчиво внушая неприглядное мнение о себе, чтобы отвести подозрения чуткого, нервного -влюбленного от истинных отношений, связывающих его, Молчалина, и Софью.
Вообще нужно сказать, что диалог между соперниками, единственный в комедии, важен не только смыслом заключенных в нем реплик, но и тем, как выстроен разговор, его, так сказать, режиссурой.
Диалог построен Грибоедовым по принципу качелей. В самом начале разговора наверху Чацкий. Он инициатор беседы, он энергичен, многословен, ироничен до язвительности. Инициативное, ведущее положение Чацкого подготовляется Грибоедовым еще до появления Молчалина Чацкий делится своими невеселыми мыслями:
Ах! Софья! Неужели Молчалин избран ей!
А чем не муж? Ума в нем только мало;
Но чтоб иметь детей,
Кому ума недоставало?
Услужлив, скромненький, в лице румянец есть.
Затем — комментирует появление Молчалина:
Вот он на цыпочках, и не богат словами,
Какою ворожбой умел к ней в сердце влезть!
Последующее обращение к Молчалину («Нам, Алексей Степаныч, с вами Не удалось сказать двух слов...») и по тону, и по содержанию усилено всем предыдущим рассуждением и оттого особенно подчеркивает ведущее положение Чацкого в разговоре. Тем более, что Молчалин не только предельно лаконичен в своих ответах, но и эмоционально бесцветен, тускл: «По-прежнему-с», «День за день, нынче как вчера»...
В дальнейшем Молчалин, как известно, упоминает о своих «двух талантах» («умеренность и аккуратность»), и после иронического комментария их Чацким — «Чудеснейшие два! и стоят наших всех» — акценты в разговоре незаметно начинают меняться. Молчалин задает невинный, казалось бы, вопрос: «Вам не дались чины, по службе неуспех?»
f За вежливой интонацией Молчалива — едва скрываемое снисхождение, острая мстительная радость плебея, вознесшегося над аристократом.{Чацкий вынужден защищаться. Он понимает, что бессмысленно отрицать значение чинов вообще, даже если общество пронизано чинопочитанием. Ответ в духе нигилистического отрицания был бы попросту наивным. Внезапным и хитрым вопросом Молчалин принуждает Чацкого не обрушиваться на «чиновность», но объяснить, почему именно он, знатный, образованный и умнейший человек, обличающий всех и вся, ратующий за служение отечеству, почему он лишен чинов, которыми отечество, как известно, наделяет достойных, добросовестных и усердных работников. Таких, к примеру, как Молчалин.
В ответе Чацкого сквозит едва ли не оправдание. Во всяком случае, он дает понять, что удостоился бы чинов, если бы принцип «достойное — достойным» безупречно выполнялся. Но пока — увы — «Чины людьми даются; А люди могут обмануться».
Такой ответ Чацкого, несколько уклончивый по форме и компромиссный по сути, Молчалин воспринимает как крошечную победу. Это дает ему право усилить психологический нажим на собеседника. Осторожная вежливость предыдущего вопроса сменяется раскованным восклицанием: «Как удивлялись мы!»
Эти слова, смысл которых пока неясен Чацкому, — как бомба замедленного действия. Не неся в себе конкретного содержания и адресата (чему удивлялись? и причем здесь Чацкий?), слова Молчалива нуждаются в уточнении и провоцируют встречный вопрос. Его и задает Чацкий: «Какое ж диво тут?»
Ответ Молчалина, вбирающий в себя потаенный смысл двух предыдущих реплик и усиленный ими, трудно охарактеризовать однозначно. Он наигранно простодушен и нагл одновременно; высокомерие усилено в нем чувством причастности к могущественному клану («мы»). К тому же Молчалин выбирает такое «жалящее», едкое слово, оскорбительный смысл которого невыносим именно для сильного и гордого человека, — «Жалели вас».
Эта реплика — вершина диалога, та его точка, в которой «наверху» оказался Молчалин. Худородный провинциал, согбенный секретаришка, пресмыкающийся перед сильными мира (а для верности и перед слабыми), Молчалин изворотливым умом своим первым понял, к чему приведут раздражительные наскоки Чацкого на ценности мира Фамусовых и скалозубов. Именно поэтому он, абсолютно «ведомый» (даже перед «собакой дворника» по завещанию отца должен был «во избежанье зла» угождать Молчалин), и решается на невозможное, труднопредставимое — пожалеть аристократа Чацкого. Для проницательного и поднаторевшего в чиновной иерархии Молчалина все происходящее в доме Фамусова имеет предрешенный итог — поражение Чацкого. Поэтому-то и спешит любимец Софьи зачислить себя в спасительное сообщество тех, кто спаян недоброжелательством и откровенной враждебностью к строптивому вольнодумцу.
Правда, лишь на мгновенье позволил себе осторожный Молчалин раскрыться, проявить истинные чувства, насладиться бедой соперника. После этого он, подобно улитке, прячется в надежную свою скорлупу. Вновь становится робким и угодливым, чуть ли не с мистическим восторгом произнося имя могущественной Татьяны Юрьевны. Умнейший Грибоедов рассчитывает раболепный пафос своего героя, прибавляя по одному восклицательному знаку при очередном упоминании влиятельной дамы. И делает так трижды. Так что Молчалин словно воспаряет в своем рабьем восторге.
На смену Татьяне Юрьевне, о которой Чацкий «слыхал, что вздорная», приходит Фома Фомич — «образец» для Молчалина и «пустейший человек, из самых бестолковых» для Чацкого. В густой тени, отбрасываемой этими фигурами, прячется Молчалин, сбивая с толку Чацкого, который удивлен самоуничижением избранника Софьи. По мере того, как нарастает удивление Чацкого, Молчалин ответами своими последовательно и расчетливо демонстрирует раболепие, усиливая в Чацком чувство разочарования и — соответственно — недоверие к признаниям Софьи.
Признание Молчалина в том, что он не позволяет себе, не будучи сочинителем, «сужденья произнесть», удивляет Чацкого: «Зачем же так секретно?»
Молчалин (тот самый Молчалин, который только что был высокомерным и снисходительным) еще более съеживается в глазах собеседника:
В мои лета не должно сметь
Свое суждение иметь.
Чацкий в недоумении от таких превращений, от такой странной и нарастающей робости человека, который претендует — ни мало, ни много — на роль возлюбленного Софьи. Чацкий пытается разобраться, разъяснить и понять одновременно:
Помилуйте, мы с вами не ребяты;
Зачем же мнения чужие только святы?
Молчалин своим ответом не «распрямляется», но «сгибается» еще более, нарочито подчеркивая в себе то, что, по мнению Чацкого, способно лишь унизить сколько-нибудь порядочного человека. Молчалин, оказывается, свою внутреннюю несвободу, духовную закрепощенность возводит в ранг необходимости, обязательности: «Ведь надобно ж зависеть от других».
Чацкий в недоумении: как может зависимость стать добровольной необходимостью. Осознанное рабство — что может быть отвратительнее! — «Зачем же надобно?»
И Молчалин свою заключительную реплику-ответ: «В чинах мы небольших», — произносит с таким же смирением й кротостью, с какими он начинал этот разговор. Опять наверху Чацкий, не догадывающийся, что вознес его не кто иной, как Молчалин. Опять Чацкому дано ощутить свое несомненное превосходство над человеком, к которому даже нельзя испытывать враждебных чувств, — настолько кажется он духовно нищим и нравственно беспомощным. И разве не может умница Софья — его Софья! — разобраться в этом? Разумеется, может, и разобралась давно. Только разыгрывает, лукавит, водит за нос. Короче говоря, обманывает. По-другому просто не может быть, ибо любить можно лишь достойных любви. А «С такими чувствами, с такой душою Любим!..» — так не бывает. Сомнений нет: «Обманщица смеялась надо мною!»
Так обманывают Чацкого. Но обманывает, как мы убедились, не Софья, а Молчалин. Время Софьи еще не пришло, хотя еще немного суеты, разговоров, восклицаний съезжающихся гостей, встреч, приветствий — и придет черед ее обмана. Но теперь это будет уже не виртуозные словесные перевертыши, не игра интонациями, но осознанное, вероломное предательство.
«Безумным вы меня прославили...»
Вглядимся внимательно в то, что происходит этим вечером в доме Фамусова. В доме, где, по словам писателя, «все двери настежь». Чего, кстати, не скажешь о людях, об их мыслях, чувствах и намерениях.
Только что Чацкий разговаривал с Молчалиным и, похоже, успокоился: Молчалин не соперник. А тут и встреча с Платоном Михайловичем, давним приятелем и единомышленником. И хотя «друг старый» с некоторых пор круто изменил жизнь, в которой на смену «шуму лагерному» пришли покой и благодушная лень, но осталась в душе Платона Михайловича от того славного времени не только ностальгическая любовь к «товарищам и братьям», но и отвращение к бесчестью, подлости и интриганству.
Стоило, к примеру, Антону Антоновичу Загорецкому, дамскому угоднику, лжецу и небезопасному сплетнику, подойти к мужчинам и робко обратиться: «Платон Михай-лоч...», как тот гневно обрывает:
Прочь!
Поди ты к женщинам, лги им, и их морочь;
Я правду об тебе порасскажу такую,
Что хуже всякой лжи...
И в таком же духе Платон Михайлович рекомендует Загорецкого своему приятелю:
...человек он светский,
Отъявленный мошенник, плут;
Антон Антоныч Загорецкий.
При нем остерегись: переносить горазд;
Ив карты не садись: продаст.
Характеристика, прямо скажем, убийственная. А совет « остеречься» имеет откровенно политическую окраску: Загорецкий — доносчик.
Чацкий хохочет, когда публично посрамленный Загорецкий мешается в толпе гостей. Похоже, Чацкий успокоился настолько, что не скрывает своего иронически-пре-зрительного отношения к молчаливому скромнику, выпрашивающему у сильных мира снисхождения и ласку. Чацкий был свидетелем льстивых обращений Молчалива к графине Хлестовой и не может удержаться, чтобы не съязвить по этому поводу. Тем более, что инцидент с Загорецким наверняка усилил в нем неприязнь к такого рода людям.
И вот здесь Чацкий совершает серьезную ошибку. Психологически можно понять его желание разоблачить Молчалива именно в глазах Софьи. С другой стороны, может быть, им двигало желание «добить» соперника по горячим следам его унизительных поступков, тем более, что Чацкий не верит в саму возможность серьезных чувств к Молчалину со стороны Софьи. Поэтому вполне могло казаться Чацкому, что он не рискует ничем.
Не вина, а беда Чацкого в том, что он недооценил чувства Софьи к Молчалину, а свои чувства настолько заострил и даже пронзил ими недостойного противника, что сам накликал беду. Вот как он высказывается по поводу «знаменитого угодника»:
Молчалин! — Кто другой так мирно все уладит!
Там моську вовремя погладит,
Тут в пору карточку вотрет,
В нем Загорецкий не умрет!..
Вы давиче его мне исчисляли свойства,
Но многое забыли? — Да?
Софья не просто рассержена на Чацкого за оскорбительный отзыв о горячо любимом ею человеке. Она вне себя от негодования:
Ах! этот человек всегда
Причиной мне ужасного расстройства!
Унизить рад, кольнуть; завистлив, горд и зол!
Можно быть уверенным, что особенно задело Софью уподобление Молчалина Загорецкому: ведь она слышала слова о последнем Платона Михайловича.
Именно теперь, когда Софья переживает пик своей неприязни к Чацкому, к ней и подходит один из гостей Фамусова, человек без имени — Г. N. У этого анонима есть своеобразный двойник — Г. D. Безымянность этих незнатных людей, так не похожих на остальных гостей Фамусова — именитых, известных всей Москве, окруженных знакомыми или родственниками, — объясняется, отчасти, тем, что на званом вечере они исполняют роль малоприметную, но зловещую. Это роль разносчиков, распространителей сплетни о сумасшествии Чацкого.
А. С. Грибоедов, как известно, был не только выдающимся художником слова, но и тонким политиком, видным дипломатом. Он, как никто другой, разбирался во внешней и внутренней политике самодержавия, проникал в саму логику этой политики, превосходно уяснил для себя все потаенные механизмы российской государственности.
Комедия создавалась в годы деятельности тайных обществ в России; обществ, со многими участниками которых Грибоедова связывали дружеские отношения. Мы справедливо называем Чацкого носителем декабристской идеологии, человеком, протестующим против крепостного рабства и деспотизма в России. Но при этом нужно помнить, что политическую окраску имеет не только фигура Чацкого, но и конфликт комедии в целом.
Есть такое устойчивое словосочетание, ставшее стереотипным представлением о конфликте «Горе от ума»: «Чацкий противостоит лагерю... (консерваторов, ретроградов, Фамусова и т. д.)». Приглядимся к слову «лагерь». Ведь оно, это слово, указывает на то, что противники Чацкого не просто придерживаются иных (архаичных, отсталых, ложных) мнений о жизни. Они образуют лагерь, то есть организованное, сплоченное единство, направленное на общего врага. В лагере слабость, глупость, даже беспомощность отдельных людей преодолевается сплоченностью всех, подчиненностью единой цели.
Перечитывая комедию «Недоросль», мы видели, как зло и невежество пытаются выстоять и защититься в борьбе с наступающим на них просвещением. Через несколько десятилетий Грибоедов создает ту же, по сути дела, ситуацию. Однако в условиях политической борьбы, когда передовые идеи носят не умозрительный, отвлеченный характер, но служат оружием, обладают энергией наступательного действия, — в таких условиях зло должно не только сплотиться, но и наступать, чтобы отстоять свои позиции в жизни.
Оружием в борьбе против Чацкого его противники избирают сплетню. К такому коварному, отвратительному и безнравственному способу борьбы против Чацкого московская знать прибегает для того, прежде всего, чтобы дискредитировать, осмеять, ошельмовать своего противника и погасить раздражающе яркий свет правды, озаренной мыслью молодого русского интеллигента.
А. С. Грибоедов очень тонко и последовательно выстраивает психологический и социальный механизм сплетни — ее зарождение, распространение и претворение в очернительную ложь.
Вернемся к Софье и господину Г. N, который подходит к ней в момент, наиболее благоприятный для создания интриги против Чацкого. Г. N умело и точно выводит Софью на разговор о Чацком. Он не столько спрашивает (это было бы неуместно и подозрительно), сколько констатирует —
Вы в размышленья.
София
Об Чацком.
На вопрос Г. N: «Как его нашли по возвращенья?» — Софья, не задумываясь, отвечает: «Он не в своем уме».
И здесь начинается тонкая игра — словами, паузами, взглядами — между участниками диалога; игра, которая свидетельствует, кроме прочего, о художественно-смысловой выстроенности этой вроде бы ничем не примечательной болтовни двух светских знакомых.
Г. N уточняет: «Ужли с ума сошел?» Софья понимает, куда ведут подобные уточнения. Одно дело житейски безобидное и неопределенное «не в своем уме», применимое чуть ли не ко всякому, и совсем другое дело, когда имеется в виду сумасшествие как болезнь, как душевный недуг. Она медлит с ответом (авторская ремарка — «помолчавши») и отвечает уклончиво: «Не то, чтобы совсем...»
Грибоедов сознательно строит ответ Софьи не только неопределенным, но и незавершенным. Отточие в конце реплики словно приглашает к продолжению разговора, разрешает его, протягивает ниточку для увязывания предыдущего уточнения с последующим, более смелым и конкретным. Оно не замедлило явиться: «Однако есть приметы?»
Этот момент, по сути дела, кульминационный в произведении. (Язык не поворачивается сказать «в комедии» при виде того; какие зловещие интриги плетутся в этот момент против Чацкого. Какая уж тут комедия!)
Ответ Софьи станет началом конца Чацкого. С молниеносной быстротой слух о его сумасшествии, обрастая фантастическими подробностями,, обойдет ,всех гостей. И все они, люди разных возрастов ц характеров, добрые и злые, знающие Чацкого хорошо или только цонаслыщ^ ке, — все - эти люди, отмеченные идейным,; социальным, признаком — принадлежностью к «веку минувшему», — объединяются этим слухом, ибо для них всех Чацкий одинаково опасен. *
Но пока ответа Софьи нет. Она по-прежнему в нерешительности, хотя понимает, что дальше тянуть нельзя. Грибоедов с удивительной психологической проникновенностью передает состояние Софьи в этот момент. Авторская ремарка, предваряющая ответ Софьи, — «смотрит на него пристально». В пристальном взгляде Софьи, устремленном на собеседника, — желание последний раз убедиться, до конца ли они понимают друг друга в том зловещем спектакле, который разыгрывают.
Наконец Софья решается: «Мне кажется».
Соучастники недоброго дела обмениваются лицемерными сожалениями по поводу ими же выдуманного несчастья:
Г. N
Как можно в эти леты!
София
Как быть!
Так зарождается сплетня о Чацком. Точнее говоря, это еще не сплетня. Пока это заведомая ложь, принадлежащая Софье. Но ложь уже отдана в другие руки с молчаливым наказом передать дальше. А ложь, пущенная по кругу, теряет авторство и становится сплетней — оружием, которым владеют все и никто в отдельности. Слух, сплетня, равно как и анонимный донос, используемые как оружие в борьбе, обладают одним общим свойством — безымянностью. Зарождаясь как придуманная и продуманная ложь, она, как на дрожжах, разбухает на домыслах, фантастических выдумках и несуразностях, под которыми становятся сначала смутными, а потом и совершенно исчезают очертания первых неправедных слов.
Софья понимает законы сплетни, поэтому облекает свою смертоносную весть в нужную упаковку. Уклончивым «кажется» сохраняется видимость мнения, которое она никому не навязывает. К тому же это мнение не претендует на объективность: «Мне кажется». Являясь источником сплетни, Софья в то же время понимает, что на нее не падет тень подозрения. И дело здесь не только в уклончивости ответа, Ио и в уверенности, что ее не подведет партнер по заговору.
И она не ошибается в своих расчетах. Отойдя от Софьи и тут же встретившись со своим безымянным «коллегой» (логика распространения клеветы точна и безукоризненна), Г. N сообщает ему новость, не упоминая имени Софьи: «Не я сказал, другие говорят».
«Другие» — это уже классическая терминология сплетни. И дальше все пойдет, как по накатанной колее. Г. N отправляется выяснить «истину»: «Пойду, осведомлюсь; чай кто-нибудь да знает...»
Совершенно естественно, что следующим звеном в разматывающейся цепи нарастающих слухов является Заго-рецкий, для которого «переносить» — дело привычное и, судя по всему, увлекательное. Вопрос Г. D: «Ты знаешь ли об Чацком?» — он встречает нетерпеливым, подхлестывающим: «Ну?» И когда Г. D не просто сообщает, но восклицает: «С ума сошел!» — Загорецкий с какой-то бесовской лихостью тут же подхватывает весть, на ходу укрупняя ее, наделяя прошлым («помню»), утверждая в настоящем («знаю»), придавая пугающую всеохватность («сльи шал») и расцвечивая леденящими душу подробностями.
А! знаю, помню, слышал.
Как мне не знать? примерный случай вышел,
Его в безумные упрятал дядя-плут;
Схватили, в желтый дом, и на цепь посадили.
Начиная с Загорецкого, сплетня становится легальной и политически «озвученной». За внешним комизмом ситуаций и диалогов проступают зловещие очертания круга «своих людей», спаянного враждебным отношением к Чацкому.
Приведем наглядный тому пример. Загорецкий разговаривает со старой графиней, комизм поведения которой состоит в том, что она, будучи глуховатой, перевирает слова по сходным окончаниям. Но давайте прислушаемся: как странно и, прямо скажем, совсем не смешно графиня искажает смысл услышанного!
Вот Загорецкий на ее вопрос: «...нет ли здесь пожаpa?» — объясняет: «Нет, Чацкий произвел всю эту кутерьму». Не расслышав, графиня переспрашивает: «Как, Чацкого? Кто свел в тюрьму?» Продолжая разговор о Чацком с князем Тугоуховским, графиня бабушка с многозначительным постоянством гнет свою линию: «...может, видели, здесь полицмейстер пыл?» В ответ на недоуменное похмыкивание собеседника графиня продолжает: «В тюрьму-то, князь, кто Чацкого схватил?» И в полном соответствии со своим (и не только своим) мнением об опасном вольнодумце, заключает: «Тесак ему, да ранец, В солдаты! Шутка ли! переменил закон!»
Ничем не примечательная и вроде бы даже жалкая старуха на самом деле выступает в роли представителя идеологии самодержавия. Она — страж деспотизма и духовного рабства. За комизмом словесной путаницы проступает мрачное пророчество. «Полицмейстер — тюрьма — солдатчина» — это судьба многих декабристов и всех тех, кто пытался «переменить закон» общественной жизни России. И не случайно Чацкий в своем горестном монологе («Так, отрезвился я сполна...»), осмысляя все происшедшее с ним в фамусовском доме, найдет для «старух» и «стариков» самое точное определение: он назовет их «зловещими».
Двадцать первое явление III действия отличается от всех других количеством действующих лиц. Ни в одной сцене комедии автор не собирает столько людей в одном месте. Перечисление присутствующих Грибоедов начинает словами: «Те же...», имея в виду героев предшествующего действия, потом перечисляет всех, за редким исключением, действующих лиц пьесы и заканчивает ремарку словами: «...и многие другие». Зачем писателю понадобилось такое избыточное присутствие героев на сцене? Что стоит за этим боевым сбором «своих людей»?
Стоит многое. Сплетня сделала свое дело, и все те, кто «осведомлялся» и кто «осведомлял», могут быть довольны: присутствующие ознакомлены с новостью номер один. Она заключается в том, что человек, которому не нравится их жизнь и привычки — благоговейное отношение к власти, нетерпимость ко всему новому, ненависть к просвещению, леность и бескультурье, — этот человек, как выяснилось, сумасшедший. Просто-напросто душевно больной человек.
Для этого все и собрались. Чтобы громогласно объявить, подтвердить и провозгласить эту весть на уровне, так сказать, общественного мнения. Нужно ли подчеркивать, что подобное подведение итогов должно исходить от самого влиятельного, самого сановного гостя на вечере Фамусова — графини Хлестовой. Она и захлестывает на Чацком петлю всеобщей договоренности, петлю, умело сплетенную из интересов каждого во имя интересов всех:
С ума сошел! Прошу покорно!
Да невзначай! да как проворно!
Ты, Софья, слышала?
Обращение к Софье более всего убеждает в том, что вся эта художественно выстроенная клевета против Чацкого — именно конструкция, авторская задумка, тщательно придуманная во всех деталях, крупных и неприметных, и безукоризненно воплощенная в слове, поступке, жесте и даже в паузе. Обращение к Софье не нуждается в ответе, потому что оно — прежде всего к нам. Это тактичная и остроумная подсказка автора, чтобы мы, читатели и зрители, извлекая поучительный нравственный и политический урок из происшедшего в доме Фамусова, точно зафиксировали момент захлестывания, когда сопрягаются начальная и конечная точки в цепи обмана, когда ложь, став сплетней, слухом, возвращается с помощью такого простенького вопроса к своему истоку.
Правда, Чацкого пытаются спасти. И делает это как раз тот, кто и должен протянуть руку помощи, «друг старый», «любезный друг» Чацкого — Платон Михайлович. Если Чацкий называет его другом, то Платон Михайлович на протяжении краткого диалога (шестое явление III действия) шесть раз называет Чацкого братом и даже — братцем.
Когда нелепая и гнусная сплетня о сумасшествии Чацкого достигает Платона Михайловича, он гневно выступает в защиту своего друга. Причем, Платон Михайлович, стремясь разрушить сплетню, лишить ее основной силы — безымянности, задает, казалось бы, самый правильный, самый нужный вопрос: «Кто первый разгласил?» Но жена Платона Михайловича возвращает сплетне ее силу: «Ах, друг мой, все». За очевидной нелепостью этих слов («все» не могут быть «первыми») кроется жизненная логика круговой поруки: ложь становится правдой, если ее повторяют все. Или, говоря по-другому, ложь при многократном употреблении так удачно притворяется правдой, что претворяется в нее.
И тогда Платон Михайлович произносит следующее:
Ну, все, так верить поневоле,
А мне сомнительно.
Эти слова столь важны, что нуждаются в пояснении. Потому что именно они прояснят, каков он, этот «любезный друг» и старинный приятель Чацкого. За его кратким ответом — не только поучительная история отдельной судьбы русского офицера, отвернувшегося от декабризма (мы привыкли говорить о тех, кто примкнул), но — что более важно — история политического предательства.
Грибоедов немногими, но точными штрихами прочерчивает судьбу своего героя. То, что, по словам Чацкого, «забыто» Платоном Михайловичем, — «шум лагерный, товарищи и братья» — исток декабризма, удивительная, ни с чем не сравнимая атмосфера свободолюбия и истинного патриотизма, в которой вызревали настроения молодых русских офицеров, будущих членов тайных обществ. Свернув с пути борьбы за высокие идеалы правды и добра в сторону «спокойствия и лени», Платон Михайлович совершает не просто личный выбор. Его выбор носит социальный, классовый характер. Отныне поведение «любезного Платона» в вопросах политических подчинено идеологии того общества, членом которого он стал,
А. С. Грибоедов с удивительной точностью и глубиной обнажает суть ренегатства — политического предательства. Чтобы было понятней, что собой представляет этот тип, приведем в пример не менее яркую фигуру: Аркадий Кирсанов в «Отцах и детях» И. С. Тургенева.
«Верить поневоле» Платона Михайловича заставляет дань классовой солидарности. Какое точное слово употребил Грибоедов — «поневоле»! Платон Михайлович только что разговаривал с Чацким, шутил, смеялся. И конечно же, он убежден, что Чацкий не сумасшедший. Но магическое слово «все» превращает белое в черное, из правды творит ложь, а из бывшего друга — предателя и труса. Общество, членом которого стал Платон Михайлович и идеи которого принял, требует от него единомыслия и не простит отступничества. И Платон Михайлович, лично не веря в болезнь Чацкого и оставляя для успокоения совести жалкое самооправдание («...а мне сомнительно»), присоединяется к общему хору клеветников.
К моменту разъезда все гости объединяются сплетней о сумасшествии Чацкого. Однако это не только слух, которому все поверили. Грибоедов тщательно указует на то, что главным, основным принципом поведения всех гостей Фамусова было объединение. Главным было то, что все с необходимостью уверовали в сумасшествие опасного для них и неугодного им человека.
В седьмом явлении IV действия большинство гостей одновременно покидают дом Фамусова. Весть о сумасшествии Чацкого стала уже привычной, стала усвоенным и принятым фактом, стала тем, что сам Чацкий назовет «общественным мненьем».
Лишь Репетилов, только что разговаривавший с Чацким, остался не охваченным этой вестью. Загэрецкий, встретившийся с Репетиловым, настойчиво требует присоединения последнего к общему мнению, упирая, прежде всего, на единодушие гостей («Об нем все этой веры», «Спросите всех»). Однако Репетилов решительно и настойчиво не соглашается: «Вранье... химеры... дичь».
Гости, покидающие дом Фамусова, не пытаются доказать Репетилову вероятность помешательства Чацкого. Они просто подавляют его всеобщностью и единодушием:
Все вместе
Мсье Репетилов! Вы! Мсье Репетилов, что вы!
Да как вы! Можно ль против всех!
Да почему вы? стыд и смех.
Приведенный текст — не столько попытка завербовать сторонника, сколько гневное осуждение сообщника, пытающегося уклониться от единомыслия. Оружие, которое использовали против Чацкого представители «века минув* шего», — уже привычное, «остывшее» оружие. Чтобы подчеркнуть это, Грибоедов заставляет героев в своих репликах сопрягать высокое с низким, говорить о политическом облике Чацкого вскользь, между прочим, как о деле решенном и привычном:
Княгиня
...Я думаю, что просто якобинец,
Ваш Чацкий!!!.. Едемте. Князь, ты везти бы мог
Катишь или Зизи, мы сядем в шестиместной.
Пересказывая в письме П. А. Катенину содержание своей комедии, А. С. Грибоедов, в частности, пишет: «Кто-то со злости выдумал об нем, что он сумасшедший, никто не поверил и все повторяют...»1 Писатель невольно (или осознанно?) указывает своему корреспонденту на смысловой код основного конфликта пьесы.
Диалектика борьбы нового со старым заключается в том, что на стороне нового перевес в качестве (передовые взгляды, идеи), а на стороне старого перевес в количестве: ведь старое потому и старое, что сформировалось давно. Носителей нового всегда мало, потому что новые идеи не могут прийти в голову многим одновременно. И поэтому в столкновении с многочисленным противником героические одиночки, «умные» носители нового знания о мире, как правило, терпят поражение. Но сам факт их выступления против косности и невежества означает начало процесса, движение которого не остановить. Вот почему Чацкий, испытавший, казалось бы, сокрушительное поражение со стороны фамусовского общества, является в то же время победителем. И опять же не скажешь об этом лучше, чем И. А. Гончаров: «Он вечный обличитель лжи, запрятавшейся в пословицу: «один в поле не воин». Нет, воин, если он Чацкий, и притом победитель, но передовой воин, застрельщик и — всегда жертва»2.
Н. Гоголь «Ревизор»
Этот приглуповатый Хлестаков
Может быть, самое удивительное в гоголевском «Ревизоре», самое глубокомысленное и верное в плане истолкования комедии, ее образов и смысла — это прямые подсказки автора, изложенные в «Замечаниях для господ актеров». Когда читаешь эти замечания (разумеется, зная уже текст «Ревизора»), складывается впечатление, что писатель, пережив вместе с героями все происшедшее и вдоволь поволновавшись, побывав везде и со всеми, изучив все закоулки придуманного им самим города (он зашел даже ради любопытства в те самые «овощенные лавки», где ничего не дают в долг, что, по словам Хлестакова, «уж просто подло»); прослушав все, что говорилось на разные голоса, от разносной ругани до льстивого шепота; разглядев любую мелочь вплоть до «каких-то перьев», что плавали в супе мнимого ревизора; прознав все про всех и каждого до последней тонкости, — решил в двух словах сказать самое существенное о каждом герое. Сказать; чтобы актер, взявшийся за роль, сумел отличить главное от второстепенного. Поэтому сатирик говорит не только о характерах героев, но и о том, как они одеты, об их привычках — он создает «конспект образа», где все важно и взаимосвязано. Если, к примеру, сказано, что Анна Андреевна тщеславна, то это имеет прямое отношение к тому, что в течение пьесы она «четыре раза переодевается в разные платья...».
Интересны высказывания Гоголя о ведущих героях, особенно об их уме. О городничем писатель говорит, что он «очень неглупый по-своему человек». Чтобы .понять, что кроется за авторской уклончивостью (ведь не просто умный, а неглупый, да еще по-своему), а заодно и узнать смысловую цену гоголевскому точнейшему слову, проведем маленький эксперимент. Процитируем более обширное высказывание Гоголя об уважаемом Сквознике-Дмухановском за исключением одного лишь слова. Итак: «Городничий, уже постаревший на службе и очень неглупый по-своему человек. Хотя и..., но ведет себя очень солидно; довольно сурьезен; несколько даже резонер; говорит ни громко, ни тихо, ни много, ни мало. Его каждое слово значительно...»
Моральный облик, или, как говорили в старину, «нравственная физиономия», городничего вырисовывается, казалось бы, совершенно определенно и однозначно: солидность, добросовестность, серьезность, ум. Разве может одно-единственное слово, к тому же смягченное уступительным союзом, существенно изменить сказанное об Антоне Антоновиче? Оказывается, не только может, но и способно придать ироническую окраску всему сказанному, взорвать всю эту благопристойную солидность смехом.
Потому что слово это — «взяточник».
Хлестакова в своих «Замечаниях» Гоголь назвал при-глуповатым. Писатель, по-видимому, очень дорожит определением, найденным для Хлестакова («несколько приглу-поват») и с разных сторон разъясняет его, расшифровывает, уточняет на уровне поведения и речи героя. Гоголю зачем-то нужно убедить актера, играющего роль Хлестакова, в том, что герой его — не дурак, хотя и «без царя в голове». С другой стороны, он и не умен, а скорее, «один из тех людей, которых в канцелярии называют пустейшими». И особенно подчеркивает Гоголь в Хлестакове ту черту, точнее говоря, совокупность сходных черт, которые и позволят актеру «провести» своего героя по тонкой грани между хитростью и глупостью.
Что это за черты? «Говорит и действует без всякого соображения. Он не в состоянии остановить постоянного внимания на какой-нибудь мысли». Как следствие этого: «Речь его отрывиста, и слова вылетают из уст его совершенно неожиданно». Далее Гоголь предупреждает актера, что указанные особенности поведения — не результат притворства, приспособления под обстоятельства (хитрость, ум), но и не проявление другой крайности — примитивного, элементарного сознания. И тут же дает психологический ключ для воплощения приглуповатости Хлестакова. Ключ этот — -естественность, простодушие, непосредственность в отношении ко всем и всему на свете: «Чем более исполняющий эту роль покажет чистосердечия и простоты, тем более он выиграет». и
В точности данной Гоголем характеристики мы убеждаемся при первом же знакомстве с Хлестаковым. Тем более, что писатель остроумно придумывает такое состояние для героя, которое так его заботит и томит, что заставляет психологически раскрыться. Дело в том, что Хлестаков очень голоден. Денег у него нет и Не предвидится, похоже, он прочно застрял в этом городишке. Положение , Хлестакова осложняется тем, что хозяин гостиницы, в которой остановился наш герой со слугой Осипом, отказывается кормить постояльца в долг.
Как ни странно, Хлестаков не производит впечатление несчастного, угнетенного обстоятельствами человека. Спасительная приглуповатость, не позволяющая ему осмыслить свое положение во всей, так сказать, драматической полноте, ограничивает самочувствие лишь текущим, сиюминутным состоянием. К тому же он обладает, как точно подметил Гоголь, «прыгающим» сознанием, не способным увязать различные факты в единую цепь причинно-следственных связей.
Спасаясь от терзающего голода, Хлестаков придумывает способ успокоения (отвлечения) не столько нелепый, сколько совершенно детский. Лишь на уровне инфантильного, неразвитого сознания может иметь место такая логика поступков: если я голоден, нужно пройтись; тогда аппетит, который всегда при мне, тоже пройдет: «Так немножко прошелся, думал, не пройдет ли аппетит, — нет, черт возьми, не проходит». И тут же Хлестаков в своем монологе перепрыгивает мыслями к некоему пехотному капитану, который в Пензе обыграл его в карты.
В разговоре со слугой Хлестаков тоже прибегает к такой логике доказательств, которую иначе как ребячьей не назовешь: «Ты растолкуй ему (хозяину. — А. В.) сурьезно, что мне нужно есть. Деньги сами собою...» «Деньги» и «еда» для проголодавшегося Хлестакова перестают соединяться в необходимое и общепринятое сочетание. А когда наконец хозяин смилостивился и в последний раз позволил безденежному постояльцу пообедать бесплатно, тот реагирует совершенно; по-детски: «Хлестаков (прихлопывает в ладоши и слегка подпрыгивает на стуле). Несут! несут! несут!»
И не раз на протяжении комедии мы убеждаемся в инфантильности Хлестакова, его простодушном эгоизме и всепоглощающем себялюбии, которое он сам с обезоруживающей простотой излагает в своем, так сказать,, жизненном кредо: «Ведь на то живешь, чтобы срывать. цветы удовольствия».
Инфантильность характера и поведения Хлестакова особенно отчетливо проявляется в его письме к петербургскому приятелю Тряпичкину. Гоголь остроумно создает мнимое противопоставление прошлого и настоящего в сознании самого Хлестакова, который простодушно сопоставляет свою петербургскую нищету, шаромыжничество с провинциальным роскошеством. «Помнишь, как мы с тобой бедствовали, обедали на широмыжку и как один раз было кондитер схватил меня за воротник по поводу съеденных пирожков за счет доходов аглицкого короля?»
А что теперь? «И я теперь живу у городничего, жуирую, волочусь напропалую за его женой и дочкой; не решился только, с которой начать: думаю, прежде с матушки, потому что, кажется, сейчас готова на все услуги».
Любопытно, что свои приключения по женской линии Хлестаков изображает не с приукрашенной откровенностью ловеласа, которому хочется походить на этакого петербургского «льва», а именно как ребячьи выдумки. В действительности, как известно, ухаживания Хлестакова за Марьей Антоновной и ее матерью едва ли не шаржированы писателем... И пылкий ухажер, чуть перейдя в восторженном азарте границы дозволенного, моментально обнаруживает в себе простодушного, искренне кающегося юнца. Поцеловав Марию Антоновну в плечо и получив за это гневную отповедь от девушки, воспитанной в патриархально строгих нормах морали, гость на глазах теряет все свое петербургское оперение: «Хлестаков (продолжая удерживать ее). Из любви, право из любви. Я так только, пошутил, Марья Антоновна, не сердитесь! Я готов на коленках у вас просить прощения. (Падает на колени.) Простите же, простите! Вы видите, я на коленях».
Гоголь с удовольствием обыгрывает мотив коленопреклонения Хлестакова. Хлестаков, на коленях просящий прощения у Марьи Антоновны, не может быть принят всерьез, когда он вновь бросается на колени перед матерью. Анна Андреевна охлаждает его пыл уже по-матерински, а сама идея внезапного чувства «сгорающего от любви» героя разоблачается иронически-снисходительно: «Как, вы на коленях? ах, встаньте, встаньте! здесь пол совсем нечист».
Легко, с беззаботной лихостью Хлестаков берет деньги у чиновников, ухаживает попеременно за дочерью и женой городничего, не задумываясь, делает предложение Марье Антоновне. Он постоянно манерничает, стремясь произвести впечатление, особенно на дам. «Рисуясь» — едва ли не самая характерная авторская ремарка применительно к Хлестакову. И в то же время, повторимся, простодушное непонимание того, чего ради именно здесь выросли для него цветы удовольствия, не покидает героя. Смутная догадка о том, что его приняли за кого-то другого («Мне кажется, однако ж, они меня принимают за государственного человека»), нисколько его не озадачивает. Он нежится в потоке приятных ощущений и беззаботно отмахивается от совета Осипа уехать поскорее: «Нет, мне еще хочется пожить здесь».
Зададимся вопросом: зачем Гоголю такой Хлестаков? Ведь традиционная комедия мольеровского (то есть классического) толка предполагала в подобном конфликте столкновение хитрого, ловкого, пронырливого молодого обманщика с недалеким, простоватым чиновником, провинциальным простофилей. Зачем же Гоголю понадобилось смещать характерные акценты в сторону психологической усложненности, зыбкости, тонкой нюансировки поведения, парадоксальной мотивации поступков, малопонятных заблуждений. Действительно: как это очень неглупый не может понять, раскусить приглуповатого?
Для того чтобы по возможности правильно ответить на этот вопрос, нужно обратиться, как и в «Недоросле» Д. И. Фонвизина, к самой первой сцене комедии, к ее содержательно-смысловому входу. Именно там мы обнаружим своеобразный алгоритм гоголевской комедии, позволяющий понять логику авторской художественной мысли, воплощенной в сценическое действие.
Вспомнить, однако, нужно не только «Недоросля», но и «Горе от ума» А. С. Грибоедова — так; уж сошлись в этом пункте все три комедии. В «Горе от ума», помнится, графиня бабушка называла Чацкого «волтерьянцем», подводя итог выступлениям молодого человека против существующих порядков и устоев («Шутка ли! переменил закон!»). Как ни странно, словечко это всплывает и в первой сцене гоголевского «Ревизора». Нет, героя типа Чацкого в «Ревизоре» нет. Но жизнь городничего и всего чиновничьего сословия такова, что Чацкий, которого «тошнило» в Москве от Фамусовых и скалозубов, вполне мог бы испытать такие же чувства и здесь, в провинции. Здесь бы он обнаружил не только низкопоклонство, но и беззастенчивое казнбкрадство, взяточничество, вопиющее невежество и бессердечие местных эскулапов, дикость нравов ревнителей просвещения и так далее.
И здесь, в провинции, предполагаемому Чацкому, вздумай он выступить против устоев здешней жизни, пришлось бы туго. Потому что чиновники убеждены в правильности и праведности своей жизни. Более того, они уверовала в священную непогрешимость такой жизни, и воображаемому борцу за справедливость городничий заявляет твердо и определенно: «Да и странно говорить: нет человека, который бы за собою не имел каких-нибудь грехов. Это уже так самим Богом устроено, и волтерианцы напрасно против этого говорят».
Иначе говоря, норма жизни. Главное, чтобы внешне все выглядело благопристойно и чтобы благопристойность эта бросалась в глаза и утверждалась в мыслях и чувствах возможного проверяющего. Поэтому нужно принять меры, чтобы в присутственных местах не расхаживали гуси с гусятами («так и шныряют под ногами»), а в больнице, где люди «как мухи выздоравливают», нужно одеть на Tex, кто еще не успел «выздороветь», чистые колпаки.
Что же касается главного, существенного, сути их чиновничьей деятельности, в которой (представим на минуту) захотел бы разобраться проверяющий, — тут у Антона Антоновича не просто припасено какое-нибудь остроумное средство защиты, какие-то там ловкие увертки. Приготовлен, припасен бесценный опыт, вся долгая непростая жизнь российского чиновника, «начавшего тяжелую службу с низших чинов», как писал в «Замечаниях» Гоголь.
Именно этот опыт, сотворивший из городничего «очень неглупого по-своему человека», позволял ему обманывать самых высокопоставленных проверяющих, о чем он провозгласил в финале комедии: «...мошенников над мошенниками обманывал... трех губернаторов обманул!..»
Гоголь дает нам понять, что высшее искусство «человекознания», вся острота ума городничего были направлены на то, чтобы обнаружить в другом мошенника и, разобрав его ходы и хитрости, переплюнуть своими ходами и своими хитростями... Так как в наличии грехов можно было не сомневаться, то самой сложной и тонкой задачей, доступной лишь таким многоопытным чиновникам, как Антон Антонович, было определить меру мошенничества противника.
Таким образом, сам способ отношения городничего ко всем исходил из принципа необходимого и неизбежного мошенничества. Живя в «обманном» мире, где социальные пороки стали нормой существования, городничий был иск; ренне убежден, что в сфере службы, в мире того грандиозного соподчинения, который представляла собой россий-. ская бюрократия, иначе и быть не могло. Тем более что собственный его жизненный опыт подтверждал это убеждение.
54
На разную степень хитрости и ума был рассчитан бесценный жизненный опыт Антона Антоновича. Даже на самую высочайшую («...пройдох и плутов таких, что весь свет готовы обворовать, поддевал на уду»). Не был он рассчитан лишь на нулевую степень, то есть на полное отсутствие той сообразительности, которая и позволяла российскому чиновнику выискивать удобную ячейку в сотах бюрократической системы.
А Хлестаков и оказался тем редчайшим пустейшим человеком, без хитрости и ума; человеком, который, по словам писателя, «говорит и действует без всякого соображения». Ум городничего, отточенный до небывалой остроты на «соображающих», вонзился в пустоту. И каждое простодушное слово испуганного Хлестакова наполняется самим городничим несуществующим смыслом. И чем проще и прямее коротенькие слова трепещущего петербургского чиновника во время их первого разговора в гостинице, тем более убежден Антон Антонович в хитрейшем завязывании узелков могущественным проверяющим.
Городничий свято верил в обман как в закон жизни, закон, не знающий исключений. Хлестаков выпал из этого правила, оставив вместо себя пустоту, в которую попал городничий со своими приближенными.
«Свои люди»
Чтобы правильно понять комедию Гоголя, нужно, кроме прочего, разобраться в непростом вопросе: где происходит действие пьесы? Что это за город такой, которому автор не дал никакого названия, стараясь, в то же время, сделать все, чтобы мы, читатели и зрители всех времен, увидели в нем «город как город»? Будучи тончайшим художником, мастером точных наблюдений, Гоголь не делает ничего, чтобы придать городу какое-то своеобразие, индивидуальность, подчеркнуть красоту или, напротив, «запоминающееся безобразие его улиц». Мы даже не знаем, есть ли, к примеру, в этом городе река.
Город в «Ревизоре» — это город вообще. Город, который может быть везде, потому что в нем отражены универсальные законы общественной жизни. Для того, чтобы, подчеркнуть это странное местоположение «везде» (а это: уже не географические, но социальные координаты), Гоголь прибегает к остроумному приему. Городничий о местонахождении своего города говорит так: «Да отсюда,, хоть три года скачи, ни до какого государства не доскачешь». Таким образом, этот безымянный город находится в каком-то воображаемом, символическом центре государства, в такой географически-смысловой позиции, которую можно обозначить, как позиция «везде — нигде».
Делая город безликим и в определенной степени условным, Гоголь в то же время озабочен тем, чтобы социальная модель городской жизни просматривалась отчетливо и ясно. В частности, довольно подробно сообщается о городских чиновниках, в руках которых сосредоточена власть.
И на протяжении всего действия перед нами все время будут они, власть держащие, отвечающие за правосудие, здравоохранение, просвещение горожан, за само их жизненное благополучие. И они все время будут вместе. Вначале они будут вместе думать, как подготовиться к встрече предполагаемого ревизора из Петербурга. Потом (тоже сообща) встречать его, кормить и поить. По возвращении из инспекторской поездки по городу, которая, впрочем, превратилась в развлекательную, они все вместе будут с восторгом и трепетом выслушивать завиральные самовосхваления Хлестакова.
То же и со взятками. Это, пожалуй, единственный сюжет в пьесе, когда они вынуждены отделиться друг от друга: дача взятки — вещь деликатная, сугубо интимная. Но они и здесь стараются быть вместе — подталкивают, подслушивают, встречают и провожают...
Сообща они будут поздравлять городничего и его жену Анну Андреевну с выпавшим на их долю счастьем: Хлестаков сделал их дочери предложение, и будущее всей семьи, таким образом, связывается отныне с Петербургом, с продвижением Сквозника-Дмухановского по службе, с блестящими знакомствами и прочими ослепительными столичными перспективами.
Сообща наши герои встречают и страшное возмездие за... Однако не будем торопиться произносить такие слова, как «недогадливость», «доверчивость» или «заблуждение», объясняющие, на первый взгляд, ошеломившее всех открытие в финале комедии. К разговору о том, почему в заключительной сцене они оказались все вместе пригвожденными к сцене и застыли, «будто пораженные громом» на целых полторы минуты, по точному указанию автора, — мы еще вернемся.
Но было бы глубочайшим заблуждением думать, что их взаимное дружелюбие и совместное преодоление такого важного события, как посещение ревизора, делает их «своими людьми».
«Своими» их делает другое. И об этом Гоголь заявляет сразу, с первых реплик пьесы. Вот городничий в окружении чиновников читает письмо своего приятеля, где сообщается о приезде (вероятно, инкогнито) ревизора из Петербурга. Так как приятель — близкий, «свой» человек, он откровенен с Антоном Антоновичем: «Так как я знаю, что за тобою, как за всяким, водятся грешки, потому что ты человек умный и не любишь пропускать того, что плывет в руки...» Городничий несколько смущен, прерывает чтение («остановясь») и продолжает его лишь после того, как произнес спасительные слова, снимающие стыд и страх: «Ну, здесь свои...» Люди, ответственные за социальное, духовное, физическое, материальное и прочее благополучие сограждан, связаны... «грешками»: воровством, взятками, неумением делать свое дело (сейчас мы бы сказали — некомпетентностью), расхлябанностью и самодовольством.
Причем, все это не столь безобидно, как может показаться из мягких, дружелюбных сетований городничего на беспорядки в присутственных местах («...сторожа завели домашних гусей с маленькими гусенками») или отсутствие надписей по-латыни на кровятах больных. Какую горькую и, прямо скажем, страшную повесть можно было рассказать, если бы проникнуть в больницу, опекаемую чиновником с таким ласковьш и веселым именем — Земляника! И какой зловещий смысл кроется за простодушными признаниями Земляники в том, что в его заведении больных осталось не более десяти человек, «а прочие все выздоровели»! Горькая ирония писателя, страдающего за судьбу своего отечества, звучит в признании попечителя: «Больной не успеет войти в лазарет, как уже здоров; и не столько медикаментами, сколько честностью и порядком».
Общий страх перед ревизором сближает их, превращая в единую, сплоченную группу, проникнутую одним состоянием и стремлением. Конечно же, внутри, за покровами приятельских увещеваний и совместных переживаний — черным-черно: зависть, наушничество, подсиживание, прозрачные намеки на грехи большие и малые.
Но общим для всех является такое состояние души и ума, когда, с одной стороны, охватывает смертный ужас при мысли о разоблачении многочисленных грехов, но, с другой стороны, остается непреодолимое желание жить так, как жили до сих пор. На стыке этих состояний рождается страх перед возможным появлением ревизора.
Тень Чацкого витает над многогрешным чиновничьим миром «Ревизора». И не случайно городничий вспоминает вольтерьянцев и спорит с ними, и все действие комедии проходит под знаком сплоченности чиновников. Консерваторы, ретрограды да и просто жулики всех времен прекрасно знают, что единственное их спасение от бунтарей, которые захотят пресечь привычное и приятное течение их неправедной жизни, — в сплочении, единстве.
Для городничего Хлестаков представляется «своим», который лишь по долгу высокой службы прикидывается «чужим». Но ведь недаром Антон Антонович «трех губернаторов обманул» до встречи с Хлестаковым. Об этих крупных, даже величественных обманах городничий говорит, как о покоренных вершинах в своей карьере. Это важнейшие слагаемые греховного опыта и — одновременно-точнейшая гоголевская поправка, с помощью которой писатель уточняет характер городничего — «умный по-своему».
Городничий отправляется на первую встречу с ревизором с убеждением, что ему удастся с помощью известных приемов и уловок обнаружить «своего» в этом замаскированном проверяющем, и тогда все будет хорошо и жить можно будет по-прежнему. Будучи очень неглупым, городничий справедливо предполагает, что за любыми внешними покровами суровости или фамильярности кроется то родственно-социальное, «родимое», что объединяет всех «грешных». Он запасся деньгами и, выждав удобный момент, дает их Хлестакову. Превращение «чужого» в «своего» свершилось. «Ну, слава Богу! Деньги взял» — универсальное заклинание жуликов всех времен, благодарственная молитва и, конечно же, отпущение грехов.
Правда сатирических обличений в комедии Гоголя не выпячивается, не декларируется, не обозначается гневными словами в адрес каких-то людей или социальных ведомств. Политическая мысль Гоголя упрятана в обычных, заурядных, казалось бы, ситуациях. Она, эта мысль, проявляется, проступает лишь при сопоставлении, увязывании между собой разных частей общей картины жизни, творимой художником, или, говоря по-другому, при анализе отношений между различными элементами художественной структуры произведения.
Рассмотрение, даже пристальное, отдельных картин и героев, без их взаимного и многостороннего увязывания, не позволит уяснить до конца художественную мысль автора, лишит эту мысль смыслового объема, пространства переживания.
Взять, к примеру, купцов в комедии Гоголя. Если пренебречь указанным принципом, можно вынести неточное, даже искаженное представление об этом почтенном сословии, так живописно обрисованном в «Ревизоре».
Купцы приходят к Хлестакову с жалобой на городничего. На первый взгляд, рискованное поведение купцов совершенно понятно и мотивировано как психологически (чина и власти у петербургского чиновника больше, чем у городничего, так можно и рискнуть), так и социально (терпеть поборы Антона Антоновича уже невмоготу). И купцы рискнули — они приходят к Хлестакову с жалобой на городничего и просят защиты. Жалобы купцов, тонко и многозначительно стилизованные Гоголем («Челом бьем вашей милости!», «Не погуби, государь!»), обнаруживают безнаказанность, своеволие и всевозможные бесчинства, творимые городничим. Он, оказывается, не только безжалостно обирает их, но и всячески издевается. Дело доходит едва ли не до физических истязаний: «А если что, велит запереть двери: «Я тебя, — говорит, — не буду, — говорит, — подвергать телесному наказанию... — это, — говорит, — запрещено законом, а вот ты у меня, любезный, поешь селедки!»
Хлестаков сочувственно выслушивает купцов, а своими репликами словно фиксирует уровни нравственного падения городничего: «Да это просто разбойник!», «Ах, какой мошенник! Да за это просто в Сибирь». Хлестаков выражает готовность стать «своим» для купцов не только в плане, так сказать, сочувственно-моральном, но и более практическом. Купцы с готовностью отдают ему деньги. С такой же готовностью они, кстати, воспринимают вероятность отправки своего мучителя-градоправителя в Сибирь: «Да уж куда милость твоя ни запровадит его, все будет хорошо, лишь бы, то есть, от нас подальше...»
Но вот Хлестаков сделал предложение Марье Антоновне, и городничий встречается с купцами уже как родственник влиятельного лица, которому они так неосмотрительно только что пожаловались. Антон Антонович разъярен и готов, кажется, растерзать жалобщиков: «Что, самоварники, аршинники, жаловаться? Архиплуты, протобестии, надувайлы мирские! жаловаться?»
Но никакой расправы не будет. Будет урок, данный очень неглупым городничим не очень умным купцам, которые по неуемной и глупой жадности своей перестали различать «своих» и «чужих» и неизбежно поплатились за это. Городничий открывает перед купцами тайну их родства и того спасительного единения, без которого Сибири заслуживает каждый из них. Обман, творимый купцами, покрывается городничим. А грубое своеволие самого градоправителя и дань, которой он обложил купцов, — это вполне умеренная плата за соучастие в обманной жизни. Городничий напоминает им, что, будучи «своими», они ведут себя, как «чужие»: «Жаловаться? А кто тебе помог сплутовать, когда ты строил мост и написал дерева на двадцать тысяч, тогда как его и на сто рублей не было? Я помог тебе, козлиная борода! Ты позабыл это? Я, показавши это на тебя, мог бы тебя также спровадить в Сибирь. Что скажешь? а?»
Городничий мечтает о том, как он, используя связи могущественного зятя, станет «своим» среди генералов. Превосходство, сладко напоминающее о себе в повседневности, заявленное даже в простом обращении — «Ваше превосходительство», — кружит голову Сквознику-Дмухановскому. Намертво впитавший в себя дух чинопочитания, городничий с особым удовольствием рассматривает с высоты своего грядущего положения... самого себя, городничего.
Гоголь создает гротескную ситуацию со смещенным художественным временем. «Сегодня» и «завтра» градоначальника сливаются в одно временное состояние, в котором герой пребывает и действует в двух лицах.
«Вчерашний»- городничий вынужден остановиться перед дверью, за которой в обществе губернатора обедает городничий «завтрашний». «Обедаешь где-нибудь у губернатора, а там — стой, городничий!»
Вообще нужно сказать, что .Гоголь очень остроумно решает проблему «своих людей» в плане воображаемом, миражном. Чуть ли не каждый из чиновников пытается мысленно перенестись вслед за своим начальником туда, в горные вершины, увидеть себя в ослепительных отсветах генеральского сияния Сквозника-Дмухановского. А Бобчинский, не имея по своему незавидному положению никаких реальных шансов на приобщение к сильным мира, находит утешение в красивой мечте. Ему хочется, чтобы важнейшие государевы чиновники, включая и самого монарха, просто знали о его существовании. Только об этом Бобчинский и просит Хлестакова: «Я прошу вас покорнейше, как поедете в Петербург, скажите всем там вельможам разным: сенаторам и адмиралам, что вот, ваше сиятельство или превосходительство, живет в таком-то городе Петр Иванович Бобчинский. Так и скажите: живет Петр Иванович Бобчинский».
Пугающее могущество российской государственности, средоточием которой является Петербург, отчетливее всего проявляется, может быть, именно в этом простодушном признании Бобчинского. В его стремлении вырваться из скорлупы безвестности лежит не порыв свободной души к свету и простору, но рабское желание быть хотя бы видимой тенью власть держащих и таким образом стать «своим» для тех, кто эту тень отбрасывает.
Зеркальный мир комедии
«На зеркало неча пенять, коли рожа крива» — таков эпиграф «Ревизора». За назидательностью народной пословицы упрятана поэтика «Ревизора». Простоватость Хлестакова, его чуть ли не младенческий эгоизм и неспособность соображать — все это позволило стать ему незамутненным зеркалом, в котором отразилась российская жизнь в ее бюрократически-чиновничьем обличьи.
Смешное и серьезное, комическое и трагическое не просто сосуществуют в комедии Гоголя, но являются тщательно продуманным способом создания отдельных образов и всего художественного мира произведения.
Принцип зеркальности, заложенный в драматургии «Ревизора», находит свое сценическое воплощение в парности изображений. Зеркальные двойники в комедии Гоголя воздают пространственность, ту смысловую даль, которая и придает характерам и типам особую значимость и многомерность.
Зеркало создает обманчивое, перевернутое изображение, творит игру отражений, сложную систему образных двойников. Эффект зеркальной, мертвенной похожести скрывает драматизм подлинной жизни, трагическую кривизну общественных отношений. Так рождается стихия художественных воплощений, которая отражена в знаменитой формуле Гоголя, в его эстетическом кредо: «...озирать всю громадно-несущуюся жизнь, озирать ее сквозь видимый миру смех и незримые, неведомые ему слезы...»
Городничий и Хлестаков при всей видимой непохожести художественно сориентированы Гоголем друг на друга, словно сфокусированы в некоем смысловом центре, общем для них обоих.
Существенной оговоркой по поводу ума ведущих героев комедии автор подчеркивает их парность. Антон Антонович Сквозник-Дмухановский недоумен (умен по-своему), Хлестаков — недоглуп (приглуповат). Точность и глубина художественного мышления писателя состоит в том, что указанное недо... героев создает энергию взаимного притяжения, ту предполагаемую полноту жизненных воплощений, которая в комедии представлена однобоко.
Задумав создать в своей комедии впечатляющую, объемную картину общественных отношений России, Гоголь в каждом образе воплотил — в виде какой-то единственной черты, меты — половину задуманного. Как половинка разрезанного надвое рисунка нуждается в соединении с утраченной, но существующей половиной, так выстроенный Гоголем мир зеркально соединяет различных героев, давая при этом почувствовать и понять пространство каждого образа, его трагикомическую полноту.
Замечательный образец парности представляют собой, конечно же, Добчинский и Бобчинский. Разночтение в их фамилиях не умаляет, но, наоборот, подчеркивает подобие. Фонетическая родственность звонких согласных «б» и «д» равновелика смещенности зеркального отражения (правое вместо левого). А общее имя и отчество создает зрительный эффект наложения, совмещения образных контуров. Для полноты ощущения Гоголь зрительный эффект дополняет звуковым: «Э! — сказали мы с Петром Ивановичем», — фраза вовсе не смешная, а скорее жутковатая: ведь это говорит или один человек, составленный из двух, или хором (!) два человека, совмещенные в одного.
Рассказ Добчинского и Бобчинского о том, как они встретились с Хлестаковым, тоже создает эффект зеркальной глубины, в которой отражения удваиваются, множатся, уходят в мнимую даль: «Бобчинский. Так я, вот изволите видеть, забежал к Коробкину. А не заставши Коробкина-то дома, заворотил к Растаковскому, а не заставши Растаковского, зашел вот к Ивану Кузьмичу... да, идучи оттуда, встретился с Петром Ивановичем... Да, встретившись с Петром Ивановичем, и говорю ему: «Слышали ли вы о новости-та, которую получил Антон Антонович из достоверного письма?» А Петр Иванович уж услыхали об этом от ключницы вашей Авдотьи, которая, не знаю за чем-то, была послана к Филиппу Антоновичу Почечуеву. Вот мы пошли с Петром-то Ивановичем к Почечуеву...»
Движение двойников к встрече с Хлестаковым построено по принципу отражений. Каждая встреча Бобчинского с героями, назначение которых в комедии — быть лишь упомянутыми, условна. Они, эти встречи, служат для того, чтобы само движение сделать представимым, спотыкающимся. Все эти коробкины, растаковские, почечуевы — тени, фантомы, бестелесные отражения, мелькнувшие в переходах пути.
Несколько по-иному принцип зеркального отражения проявляется в соединении других героев — Держиморды и Свистунова. Они дополняют друг друга и существуют вместе как пара, соединенная фамилиями в едином сторожевом действии («свистать» и «держать»).
Смотрятся друг в друга Анна Андреевна и Марья Антоновна. Мать и дочь взаимозаменяемы в своем отношении к Хлестакову. Говоря по-другому, Хлестаков — это зеркало, в которое они смотрятся одновременно. «Ах, как хорошо! я страх люблю таких молодых людей! я просто без памяти. Я, однако ж, ему очень понравилась: я заметила — все на меня поглядывал». Эти слова проговорены матерью, хотя более убедительно звучали бы в устах дочери. Не случайно мать и дочь так и не могут выяснить, на кого из них Хлестаков смотрел чаще и пристальнее.
Кстати, о взглядах. Анна Андреевна, когда спорит с дочерью о своих глазах, демонстрирует такую же логику рассуждений и доказательств, как и Простакова в «Недоросле». Для героини комедии Фонвизина дядя Софьи был покойником не потому, что она каким-то образом узнала о его смерти, но потому, что поминала его в святцах. Анна Андреевна утверждает, что у нее темные глаза, с помощью таких же зеркальных, перевернутых доказательств: «Как же не темные, когда я и гадаю про себя всегда на трефовую даму?»
Подтверждением тому, что Анна Андреевна и Марья Антоновна отражены в зеркале-Хлестакове, служит не только то, что каждая из них, смотрясь в молодого петербуржца, видит в нем именно себя как объект привязанности. Дело еще и в том, что сам Хлестаков путает мать с дочерью, ухаживая попеременно за обеими. Известное восклицание «Ах, какой пассаж!», произнесенное при виде Хлестакова, коленопреклоненного и объясняющегося в любви сначала Анне Андреевне, а затем Марье Антоновне, — как дубль в кинематографе. Гоголь как бы мимоходом дает понять, что Хлестаков именно путает мать с дочерью, а не предпочитает одну другой.
Ухаживая за Марьей Антоновной, Хлестаков держится с той развязностью и смелостью в словах и поступках, которые были бы психологически более убедительны и достоверны при ухаживании за Анной Андреевной. А а своих ухаживаниях за матерью Хлестаков с настойчивостью, которую трудно объяснить, произносит слова, которые могли быть обращены только к дочери: «С пламенем в груди прошу руки вашей». Даже когда Анна Андреевна напоминает ему о своем замужестве, Хлестаков упрямо твердит о женитьбе: «Руки вашей, руки прошу!»
Гоголь любит пристраивать к сценическим героям людей из той жизни, что течет за сценой, огибая, омывая ее. Он делает это для того, чтобы мы услышали гул этой жизни, чтобы мы ощутили условность перегородок, отделяющих сцену от реального человеческого бытия. Андрей Иванович Чмыхов, приятель городничего, сообщает ему, кроме прочего, о том, что «сестра Анна Кириловна приехала к нам с своим мужем; Иван Кирилович очень потолстел и все играет на скрипке...». Мы не знаем и не узнаем никогда, кто такой Иван Кирилович, его жена и сестра его жены. Все эти люди лишь на мгновенье показались из своих жизненных зеркал и, показавшись, создали тем самым не рассказанный, но одухотворенный, реальный жизненный сюжет.
Гоголь продолжает пространство сцены, углубляет его в пределы самой действительности, наполняет ее, сцену, самодвижением жизни. Множество людей со своими нераскрытыми, но существующими судьбами формируют мощную энергию всеобщего бытия. Как неведомые ручьи питают реку, оставаясь безымянными и безвестными; как слабые побеги от крупных ветвей придают дереву пышность и красоту — так упомянутые вскользь герои своим неведомым существованием словно прочерчивают, углубляют судьбы знакомых нам людей.
Принцип образной парности в гоголевской комедии проявляется порой неожиданно и разнообразно. Если, к примеру, Антон Антонович рассказывает о приснившихся ему крысах, то по законам отражений эти крысы обязательно вспомнятся, оживут в облике переписчиков в петербургском департаменте: «этакая крыса, пером — тр... тр...»
Свою пару в комедии имеет и пресловутая унтер-офицерская вдова, которая, по словам городничего, «сама себя высекла». Мы порой забываем, что в основе этого гоголевского сюжета, давно уже ставшего синонимом несуразности, нелепости, лежит рассказ о безжалостной и унизительной публичной расправе над ни в чем не повинной женщиной. Чтобы смысловое содержание этой истории дополнить, осветить отраженным светом другого рассказа, Гоголь рядом с унтер-офицершей в образном мире комедии помещает другую героиню, жену слесаря, Февронью Петровну Пошлепкину. История этой женщины, если рассматривать ее вне комического комментария в финале, проста и горестна. История эта с особой, какой-то режущей остротой и отчетливостью обнажает безжалостную агрессивность городничего, безграничность его самоуправства.
По приказу городничего мужа Февроньи Петровны отдают в рекруты. Двое претендентов на солдатскую службу счастливо откупились от взяточника-городничего, а слесарю откупиться было нечем, и ему, как говорили в те времена, «забрили лоб». Несчастной жене слесаря городничий объясняет свое решение с простодушием волка, объясняющего ягненку его вину в известной басне Крылова: «На что, — говорит, — тебе муж? он уж тебе не годится».
И опять возникает пугающее пространство гоголевского Зазеркалья: за доверительными, грубоватыми, чуть ли не приятельскими интонациями городничего, за его добродушием сильного зверя — женский стон, голос бесконечно одинокого, несчастного, несправедливо обиженного существа: «Да мне-то каково без мужа, мошенник такой! я слабый человек, подлец ты такой!»
Но и сам городничий, настигнутый несчастьем, теряется в этом царстве кривых зеркал. Собственная бесчеловечность словно возвращается к нему в нечеловеческих образах, многократно отраженных, пугающих и отталкивающих: «Ничего не вижу. Вижу какие-то свиные рыла вместо лиц, а больше ничего...»
Конечно же, наиболее полно, многозначно и многозначительно мотив зеркальных отражений воплощен писателем в образе Хлестакова. Хлестаков — крошечный винтик огромной машины, послушный исполнитель, обреченный в своей службе и жизни вообще на роль ведомого. Если реконструировать излияния разгулявшегося Хлестакова о его жизни и службе в Петербурге, то, идя от противного, мы поймем, что именно он «только переписывает», именно он «чиновник для письма, этакая крыса...».
У Хлестакова — «лестничное» мышление. Будучи сам частью бюрократической системы, он занимает свое, весьма скромное место-ступеньку на лестнице общественных отношений, разделенных чинами и жесткой чиновннчье-сословной закрепленностью. Но лестница просматривается не только сверху вниз, но и снизу вверх. Когда в провинции приглуповатый Хлестаков рассказывает о своем петербургском житье-бытье, он не просто фантазирует, сочиняет небылицы. Хлестаков переворачивает бинокль, меняя масштаб изображения объекта, но не сам объект.
Мы можем проследить, как фантазия подвыпившего героя устремляет его не в фантастическое поднебесье, но ведет по реально существующей бюрократической лестнице. Лишь в первых словах хвастливой исповеди проскальзывает упоминание о настоящей роли героя в чиновничьем Петербурге, о его подлинном, настоящем месте в бюрократической иерархии, о его ступени: «Вы, может быть, думаете, что я только переписываю: нет...» С этого полувопроса Хлестаков, подталкиваемый направленным, целеустремленным воображением, будет возноситься по чиновничьей лестнице, перескакивая ступени, до самых ее сладостных вершин (министры, фельдмаршал, дворец...).
Стихия этого стремительного движения обнаруживает себя в его рассказе очень любопытно: «И сторож летит еще на лестнице за мною со щеткою: «Позвольте, Иван Александрович, я вам, — говорит, — сапоги почищу». Восхождение по лестнице как метафора фантастической карьеры иронически проявляется еще в одной реплике Хлестакова: «Как взбежишь по лестнице к себе на четвертый этаж...»
Но парадная лестница постоянно присутствует в сознании Хлестакова. Лестница — своеобразное звено между двумя мирами, реальным и фантастическим, миражным. «Как взбежишь к себе на четвертый этаж...» — это о себе настоящем, о своей лестнице, ведущей в каморку где-нибудь под крышей, о лестнице своей жизни. Сообразив, что проговорился (четвертый этаж в петербургских домах того времени — зона бедноты), Хлестаков тут же поправляется: «Что ж я вру, я и позабыл, что живу в бельэтаже». Меняется и лестница. Она уже не такая, по которой взбегают на четвертый этаж всякие «шелкоперы». Лестница в перевернутом бинокле Хлестакова сродни его тайным устремлениям, она незримо соответствует тому вожделенному идеалу, который в представлении героя воплощен в красоте и величии. Но количественное сознание Хлестакова переводит красоту в стоимость: «У меня одна лестница стоит...»
Вообще, нужно подчеркнуть, что Хлестаков — поэт количества. Экзотичность, исключительность каких-либо явлений, их эстетическую привлекательность и неповторимость он умудряется измерить в количественных параметрах. Вспомним, как Хлестаков поражает воображение чиновников своими петербургскими обедами. Не будучи в состоянии, по своей духовной ограниченности, выйти за пределы тривиально-привычного представления об изысканных яствах, Хлестаков безмерно расширяет сами пределы. Арбуз на его столе — «в семьсот рублей», а главное достоинство супа в немыслимо огромном расстоянии между кухней и столовой — он «прямо на пароходе приехал из Парижа».
Все это не только вполне объяснимо, но и строго закономерно вытекает из социального положения герой в «ступенчатой» иерархии общества, из его мировоззрения и миропонимания, которое под воздействием подобной иерархии сложилось. Для Хлестакова, занимающего нижнюю, самую обширную ступеньку чиновничьей службы, лестница, уходящая вверх, в перспективе сужается, обретает вид пирамиды. Своим воспаленным воображением Хлестаков стремится охватить всю лестницу, стать всем сразу и одновременно увидеть это все как свою собственность, как свои владения. Отсюда это лихорадочное стремление количественного охвата всех сторон жизни («Я везде, везде...»). Отсюда монополия не только на полноту и зрелищную убедительность гражданской власти («...как прохожу через департамент — просто землетрясенье, все дрожит и трясется, как лист»), но власти военной: «меня завтра же произведут в фельдмарш...» Так же и с литературой: «...все написал, всех изумил».
Будучи неприметной, униженной и довольно жалкой личностью (совсем недавно его таскали за шировот в кондитерской и, судя по тону воспоминаний, наш герой при этом не чувствовал себя особо оскорбленным), Хлестаков в воображении своем становится над другими, захватывая в орбиту своего минутного подчинения как можно больше людей, в идеале — всех. И с таким же удовольствием, с каким он одновременно видел и слышал самого себя согбенного переписчика, с таким же мстительным удовольствием он, вознесясь над всеми, делает единообразной, кишащей массой и тех, кто по роду и званию своему был единичен, почтительно вознесен над иными, худородными: «А любопытно взглянуть ко мне впереднюю, когда я еще не проснулся: графы и князья толкутся и жужжат там, как шмели, только и слышно: жжж...»
А. Островский «Свои люди — сочтемся!»
Упразднение человечности
О чем комедия А. Н. Островского?
Ответ может быть таким: «О том, как распадается одна семья и возникает другая». Распадается, разваливается семья Самсона Силыча Большова, построенная, казалось бы, на прочных устоях патриархального быта, незыблемых правилах, обычаях, нравах. Под стать устоям и имя главы семьи. Имя библейского богатыря Самсона соединяется с купеческой силой, унаследованной от родителя и, разумеется, приумноженной. А фамилия именитого купца говорит сама за себя: большой капитал, большое дело, большой авторитет и уважение в купеческом мире.
Новая семья, возникшая, так сказать, на обломках распавшейся — союз Липочки и Подхалюзина, — будет, наверно, со временем богаче, чем семья Большова, купца старого уклада. Торговые лавки сольются, владелец их, прошедший все ступени торгового дела, наверняка переплюнет в оборотистости и ловкости бывшего хозяина. Но можно быть совершенно уверенным в том, что в смысле нравственном, собственно человеческом, новая семья не столько умножит достоинства предков, сколько утратит их. Об этом — ниже, а теперь лишь обратим внимание на своеобразную подсказку Островского, зафиксированную в имени главы нового семейства. Под-ха-лю-зин — это фамилия, сложенная из усеченных названий пороков: подлец, хам, холуй, лизоблюд.
Вернемся к Большову. Конечно же, автор вкладывает в имя своего героя изрядную долю иронии. Самсон Силыч груб и невежествен, его медвежья сила не одухотворена знанием и чувством прекрасного, ему чужды сложность переживаний и тонкость душевных движений. Но все-таки патриархальная семья несет в себе, по мнению писателя, нечто важное, существенное, такое, без чего слова «род», «родное», «родные» окажутся несвязанными между собой.
Как уже говорилось, первоначально комедия А. Н. Островского называлась «Банкрот». Если исходить из содержания пьесы и иметь в виду основную пружину действия, его комическую интригу, то точнее и конкретнее названия не придумать. Потому что речь в комедии идет о банкротстве Самсона Силыча Большова.
Правда, разорение торгового предприятия было придумано самим Большовым для того, чтобы обмануть кредиторов и, сославшись на банкротство, уйти от уплаты долгов. Большов переписывает все свое имущество на имя приказчика Подхалюзина, считая его верным и преданным себе человеком. Мошенническая связь подкрепляется и родственными узами: Большов выдает за Подхалюзина свою дочь Липочку.
Но оказалось, что Подхалюзин мошенник не только, так сказать, профессиональный, по торговой части, но и по части моральной. Он спокойно присваивает добро своего хозяина и отказывается вызволить Большова из долговой тюрьмы. Под стать мужу и Липочка: бессердечная дочь отказывает отцу в помощи, прогоняя его, по сути дела, из родного дома. Подобно шекспировскому королю Лиру, герой Островского прозревает слишком поздно, когда вернуть прежнего нельзя…
Таким образом, понятие банкротства обретает в комедии и более глубокий, человеческий смысл. Рушится судьба, разрушаются моральные устои, распадаются родственные связи: «свои» по крови становятся «чужими», когда речь идет о личном благополучии и жизненном успехе.
И вновь, как и в предыдущих разборах, нужно обратиться к первому действию комедии. Уже здесь Островский закладывает своеобразный образно-смысловой код идейной программы комедии, ее конфликта и основных характеров.
Идея обмана — центральная в комедии «Свои люди — сочтемся!» — находит различные художественные воплощения. Один из путей пролегает в направлении, указанном названием-пословицей, то есть по линии счета. Для того чтобы показать, как из мира наживы, себялюбия и обмана уходит, вытекает добро и человечность, драматург использует бездушную цифру, счет, которые словно поглощают живого человека.
Уже в самом начале действия, когда Липочка повторяет танцевальные па — «раз... два... три...» — можно различить намек, авторскую подсказку. Нас, читателей и зрителей, вводят в мир счета, обдуманных, холодных вычислений.
В этой же сцене мать утешает рыдающую Липочку и обещает купить ей сережки. Дочь готова успокоиться при условии, что вместо сережек ей купят браслет с изумрудами — так сказать, расчет сквозь слезы.
Большов, обдумывая с Рисположенским, как надуть своих кредиторов, высчитывает: «...не возьмут по двадцати пяти, так полтину возьмут; а если полтины не возьмут, так за семь гривен обеими руками ухватятся».
Отметим, что счет необходим героям комедии и для, так сказать, морального самооправдания. Вот приказчик
Подхалюзин отчитывается перед хозяином, как он обучает продавцов обманывать покупателей. Для того чтобы мошенник перестал чувствовать себя мошенником, продолжая обманывать других, есть лишь один путь: доказать самому себе, что мошенниками являются все. Поэтому Большов раздвигает рамки обманной жизни, в которой его собственный, конкретный, сиюминутный грех теряется, растворяется среди прочих.
«Большов. Все единственно: ведь портной украдет же. А? Украдет ведь!» Настойчивость Большова объяснима. Портной идет после продавца ткани, и своим обманом он словно поглощает обман предыдущий. Большову очень нужно, чтобы портной стал мошенником, и Рисположенский это понимает: «Украдет, Самсон Силыч, беспременно, мошенник, украдет; уж я этих портных знаю». Большов успокаивается и для пущей уверенности еще более расширяет круг мошенников, чтобы окончательно раствориться среди «своих»: «То-то вот; все они кругом мошенники, а на нас слава».
В комедии считают все. Большов высчитывает свои грядущие барыши. Подхалюзин за его спиной ведет свой зловещий счет, обдумывая, каким образом и за какую сумму решить одновременно две задачи: стать родственником хозяина и разорить его. Считает Тишка, мальчик на побегушках в доме Большова: «Полтина серебром — это нынче Лазарь дал. Да намедни, как с колокольни упал, Аграфена Кондратьевна гривенник дали, да четвертак в орлянку выиграл, да третьевось хозяин забыл на прилавке целковый».
Тишка — человек пока без фамилии, как и без своего дела. Но он уже отправился по тому пути, который до него прошел Подхалюзин, а еще раньше, в далекие времена, и сам Самсон Силыч. Тишка быстро усваивает несложную мудрость обманной жизни. Показательно, как Островский помогает нам обнаружить в Тишке ту нравственную неразборчивость, которая даже ребенка делает в равной мере деловым и безжалостным. Капитал Тишки складывается из подаренных, выигранных в орлянку и украденных у хозяина денег. Этот смешанный капитал формирует у будущего приказчика не только деловую хватку, но и способность к любому выгодному предательству.
Порой Тишка поражает своим взрослым цинизмом. Вот Рисположенский, обманувший Большова в пользу Подхалюзина и в свою очередь безжалостно и нагло им обманутый, изгоняется из дома новоявленного купца. Выгоняет стряпчего Тишка и делает это нагло, грубо, неприкрыто издеваясь.
«Рисположенский. ...Тестя обокрал! И меня грабит... Жена, четверо детей, сапоги худые!
Тишка. Подметки подкинуть можно!» Рисположенский, изведавший, казалось бы, все в этой обманной жизни, изумлен: «Ты что? Ты такой же грабитель!» Тишка отвечает с купеческой издевкой: «Ничего-с, проехали!»
Нравственное самочувствие Подхалюзина и Липочки, построивших свое благополучие на чужом горе, тоже получает цифровое выражение. Молодые супруги собираются поехать в Сокольники на прогулку, и Подхалюзин предвкушает вычисленное удовольствие: «Как же-с, непременно поедем-с; и в парк поедем-с в воскресенье. Ведь коляска-то тысячу целковых стоит, да и лошади-то тысячу целковых и сбруя накладного серебра, — так пущай их смотрят». Липочка исчисляет благополучие своей жизни после замужества количеством платьев.
А. Н. Островский, исследуя мотивы мещанского поведения, его, так сказать, социально-психологические гены, указывает на основополагающую особенность: мещанство мыслит количественными категориями, оно стремится увеличить себя, видимо и осязаемо расширить зону своего существования.
На примере поведения Липочки писатель живописует торжество счета, поэзию вычислений, сладостное соединение цифр, которые, как платье к телу, прилегают к Липочкиной жизни, формируют ее, придают цель и смысл существования. Приобретение становится способом самоутверждения Липочки и Лазаря, а богатство, как известно, не только подлежит счету, но и любит счет.
Рассказывая Устинье Наумовне, свахе, о своей счастливой жизни, Липочка перечисляет содержимое своего гардероба, с ученической старательностью совершая арифметические действия сложения и словно приглашая к совместному счету: «А вот считай: подвенечное блондовое на атласном чехле да три бархатных — это будет четыре; два газовых да креповое, шитое золотом, — это семь; три атласных да три грогроновых — это тринадцать; гроденаплевых да гродафриковых семь — это двадцать; три марселиновых, два муслинделиновых, два шинерояле-вых — много ли это? — три да четыре семь, да двадцать — двадцать семь; крепрашелевых четыре — это тридцать одно. Ну там еще кисейных, буфмуслиновых да ситцевых штук до двадцати; да блуз, да капотов — не то девять, не то десять».
В комедии Островского «своих» нет. Все чужие друг другу, все подчинено диктату цифры и счета. Но исчисленное добро перестает быть таковым, потому что допускает переплату за зло. Нравственным указателем человеческих поступков перестает быть совесть и твердость убеждений, торжествует количество. Две тысячи рублей, данные Подхалюзиным, больше тысячи, данной Большовым, и переплата возмещается любой затребованной ложью. В этом призрачном царстве количественных измерений нравственные понятия обретают причудливую, даже фантастическую меру.
Вот Большов обдумывает, как ему. ловчее обмануть кредиторов, объявив себя банкротом. За каждый рубль долга он намерен оплатить лишь двадцать пять копеек. Подхалюзин не соглашается с хозяином, деликатно давая понять, что в таком расчете есть некое моральное неудобство, упущение по части купеческого достоинства. И он возмещает эту нехватку благородства следующим образом: «А уж по мне, Самсон Силыч, коли платить по двадцать пяти, так пристойнее совсем не платить».
Мы уже говорили о том, что такты Липочкиного вальса — «раз... два... три...» — открывают в комедии тему счета, тему важнейшую й доминирующую. Но есть в этой сцене и иной смысл — серьезный, тревожный и знаменательный.
Обратимся к тексту. Мать журит танцующую Липочку: «...Отец, голубчик, через великую силу ноги двигает, а ты тут скачешь, как юла какая!» Липочка отвечает: «...Что ж мне делать, по-вашему! Самой, что ли, хворать прикажете? Вот другой маневр, кабы я была докторша! Ух! Что это у вас за отвратительные понятия!»
Липочка искренне возмущена логической несообразностью рассуждений матери. Какая связь между болезнью отца и ее весельем? Разве можно каким-то образом ее легкие, быстрые, танцующие ноги так соотнести с больными ногами отца, чтобы ей могло стать стыдно? И вообще, каким образом между здоровьем и болезнью может поместиться стыд? Там, в этом промежутке, ограниченном неосознанной, привычной физической -радостью одного и тягостью другого, должен, по мнению Липочки, пребывать доктор и никто другой.
Спор «образованной» Липочки с темной, забитой матерью (она вскоре и сама назовет себя «бабой глупой и неученой») идет о вещах весьма серьезных — о понятиях.
Аграфена Кондратьевна сохранила в своей душе неосознанное понятие о родном, родимом. Муж, бывает, измывается над ней, а она его называет «голубчиком». Беззаветно любя свою дочь, она не может даже вынести ее слез, и когда та начинает рыдать из-за вздорных пустяков, мать плачет вместе с ней, разделяя с дочерью это мнимое горе, сострадая ей.
Мы не знаем, было ли у Липочки чувство сострадания в детстве. Но совершенно очевидно, что, став взрослой девушкой, Липочка не ведает такого состояния, как страдание, переживание и чувства вообще, не предполагает подключить свою душевную энергию к чужой беде. Липочка, в известном смысле, — человек с ампутированной нравственностью. Поэтому она не может, попросту не в состоянии разглядеть этическую недопустимость своего поведения.
А. Н. Островский провел виртуозное художественное исследование цинизма — вычисленного, рассчитанного бесстыдства. У Липочки безнравственность тоже приправлена разумом. Более того, ум для нее, на первый взгляд, — наиважнейшая ценность в человеке: о чем можно судить по ее многочисленным высказываниям. К примеру, о Подхалюзине она поначалу и слышать не хочет именно потому, что тот «дурак необразованный».
Отворачиваясь с возмущением от глупости и невежества, Липочка тянется к уму и благородству. Причем, в ее представлении истинное благородство вмещает в себя все, что нужно для жизни возвышенной и чистой, которая так не похожа на ее тягостное существование в родном доме. Вот как она искренне жалуется на свою, судьбу: «Ах, если бы вы знали, Лазарь Елизарыч, какое мне житье здесь! У маменьки семь пятниц на неделе; тятенька как не пьян, так молчит, а как пьян, так прибьет того и гляди. Каково это терпеть образованной барышне! Вот как бы я вышла за благородного, так я бы и уехала из дому и забыла бы обо всем этом».
Казалось бы, в признании Липочки просматривается знакомый конфликт: натура тонкая и благородная погибает среди людей грубых и необразованных. Но вся пикантность этого разговора состоит в том, что Лазарь Ели-зарыч, которому Липочка так доверительно исповедуется, и есть Подхалюзин. Тот самый «дурак необразованный», который каким-то образом сумел стать рядом с ней, дотянуться до ее образованности и благородства.
Дело в том, что Подхалюзин убеждает Липочку, что благородство — это такое понятие, содержание которого составляют не моральные, а материальные ценности. Подхалюзин именно убеждает, а не переубеждает свою собеседницу, потому что Липочка внутренне уже готова к таким суждениям.
Благородство Подхалюзин напрямую связывает с деньгами, и всепожирающая корысть примиряет хитрость с низостью, предательство — с подлостью. Лазарь Елиза-рыч заявляет Липочке, что он богат, что дом и лавка Большова отныне принадлежит ему. Теперь денег у него «побольше, чем у какого благородного», а отец Липочки стал, соответственно, банкротом.
Это известие ошеломило Липочку. Но мы ошибемся, решив, что ее возмутило предательство отцовского приказчика. Липочка, привыкшая всему на свете вести счет от себя и определять все мерой собственного благополучия, недоумевает: «Что же это такое со мной делают? Воспитывали, воспитывали, потом и обанкротились!»
Два слова о благородстве. В толковом словаре слово «благородный» имеет первое значение — «высоконравственный, самоотверженно честный и открытый». Подлинное благородство ориентировано всегда на другого. Оно прорывается, тянется к иному человеку и к людям вообще. Своим чистым светом благородство манит других, объединяя вокруг себя, как огонь в ночи. Подлинное благородство пренебрегает внешним, количественным ради того неуловимого малого и — одновременно — бесконечного, что мы называем человеческой душой.
В романе «Идиот» Ф. М. Достоевский изобразил в лице князя Мышкина благородного человека. Причем, не просто благородного, но самого благородного — недаром в черновиках к роману писатель называет его Иисусом Христом. Для того чтобы подчеркнуть, выделить в герое душевное благородство, Достоевский лишает князя Мышкина всего того, что может скрыть, затуманить, исказить сокровенное и неразменное в нем. Писатель делает Мышкина бедным, одиноким и больным человеком.
Крайнее простодушие князя, его неспособность считать и рассчитывать свои действия и поступки сообразно с законами мира, выстроенного по принципу всеобщего нравственного обсчета, — именно это неумение жить позволяет окружающим называть его «идиотом».
Если князь Мышкин — образец благородства в русской литературе, то Дон-Кихот на все времена стал символом человеческого благородства в литературе мировой, в искусстве вообще. И снова образ героя создается по принципу пренебрежения внешним за счет и во имя внутреннего.
Внешне, то есть на уровне пошлого здравого смысла, Дон-Кихот — странствующий сумасшедший, свихнувшийся старик, который путает все на свете и готов, к примеру, броситься в бой с ветряными мельницами, видя в них страшных великанов. Этот поступок Дон-Кихота стал даже синонимом бессмысленных, бесполезных попыток добиться чего-нибудь. Так и говорят: «Это все равно, что воевать с ветряными мельницами».
Но — странное дело — говоря так, мы, деловые, энергичные, разумно считающие все на этом свете, время от времени осматриваемся в тревоге: не перевелись ли донкихоты? В этой непроходящей и светлой грусти нашей — большой и добрый смысл. Мы время от времени напоминаем самим себе, что залог-нравственного выживания всех — не в способности взять, но в готовности отдать.
Вернемся к пьесе А. Н. Островского.
Художественным открытием драматурга в русской литературе стал образ Подхалюзина. Этот образ не приобрел в своем отрицательном значении такого нарицательного, всеобщего смысла, как, скажем, образ Иудушки Головлева, созданный четверть века .спустя М. Е. Салтыковым-Щедриным. Хотя — и это нужно подчеркнуть особо — именно Цодхалюзин стоит в нашей литературе рядом с Порфирием Головлевым, являясь психологической моделью, своеобразной заготовкой щедринского героя. В Подхалюзине, в полном соответствии с его «ядовитой» фамилией, есть и безмерное ханжество Иудушки, и умильная преданность, готовая в подходящий момент обернуться предательством, и та словесная блудливость, косноязычие, которые столь свойственны герою «Господ Головлевых>. Когда Аграфена Кондратьевна узнает, кто жених ее дочери, то с возмущением восклицает: «За что ж вы это, душегубцы, девку-то опозорили?» Подхалюзин объясняет ей: «В меня Бог вложил такие намерения, потому самому-с, что другой вас, маменька-с, и знать не захочет, а я по гроб моей жизни (плачет) должен чувствовать-с».
На протяжении комедийного действия Подхалюзин не однажды повторяет пословицу; вынесенную Островским в заголовок, — «свои люди — сочтемся!». Он говорит так своему хозяину Большову, убеждая того в личной преданности, говорит тем, кто помогает ему хозяина обмануть и стать самому владельцем торгового дела. Заодно он обманывает и своих помощников, отказываясь оплатить их услуги.
Обман, таким образом, становится разменной монетой человеческого общения в том мире, который исследует писатель. Обманывают все, и понятие честности размывается до полного исчезновения. Оно подменяется удачливостью, способностью переиграть, переобмануть менее догадливых и расторопных.
Поэтому совершенно напрасно разгневан спившийся стряпчий Рисположенский, которому Подхалюзин не платит обещанные две тысячи: ведь, помогая приказчику, стряпчий обманывает Большова. Предложив стряпчему больше, чем Большов, Подхалюзин переплачивает за обман. Но каждый обман стоит любого другого. И ссылки на порядочность и честность, которые должны делать людей «своими», то есть близкими, родственными друг другу, ровным счетом ничего не стоят. Кроме денег. Поэтому правым становится тот, кто больше заплатил или пообещал заплатить, но удачно обманул.
Напрасно возмущена и сваха Устинья Наумовна, отвадившая от Липочки выгодного жениха, чтобы это место досталось Подхалюзину. За обман жениха, невесты и ее отца Подхалюзин обещал свахе полторы тысячи рублей и лисий салоп. Но вот подходит время рассчитываться, Подхалюзин выдает устроительнице своего семейного счастья... сто рублей. Когда ошельмованная Устинья Наумовна напоминает ему о договоре, Подхалюзин с непередаваемым цинизмом замечает: «Не жирно ли будет, неравно облопаетесь?»
И напрасно разгневанная сваха грозится «расславить по Москве» проделку Лазаря. Эта история в купеческом мире лишь прославит его, составит репутацию ловкого и удачливого дельца.
По ходу пьесы Подхалюзин словно играет значением слова «сочтемся». Убеждая Большова, он придает этому слову человеческое, одушевленное значение. Оказавшись в результате обмана наверху, над Большовым, Лазарь придает счету смысл иной, арифметический.
В одном случае первая часть пословицы — «свои люди» — является основной. Здесь помещен одушевленный смысл, здесь — человеческое, родное. А остальное — «сочтемся» — второстепенное, неважное: уладим, договоримся, сойдемся.
В другом случае главным, основным становится счет. Двадцать пять копеек, которые нужно выплатить кредиторам, чтобы вызволить тестя из долговой ямы, избавить от позора и унижений — это, по мнению Подхалюзина, — много. Он может дать лишь по десять копеек, в крайнем случае — пятнадцать. Человеческое («свои люди») отходит, отслаивается от счета и ведущим становится свое, по отношению к которому все остальное — чужое: «Рассудите сами: торговать начинаем, известное дело, без капиталу нельзя-с, взяться нечем; вот домик купил, заведеньице всякое домашнее завели, лошадок, то, другое. Сами извольте рассудить! Об детях подумать надо». (Показательно, что Подхалюзин доказывает погибающему тятеньке невозможность его спасения заботой о своих детях.)
Липочка и Подхалюзин образуют зловещий союз. Подлинного могущества они достигают именно от объединения друг с другом. Каждый из них в отдельности ничтожен и по-своему даже несчастен. Объединившись, они из подчиненных превращаются в хозяев, робость и преданность превращаются в самоуверенность и вероломство.
На примере своих героев Островский убеждает, что мещанство — это не вещизм, не безобидное и в общем-то по-человечески понятное стремление окружать себя комфортом и уютом. Фактор количества — лишь видимый, наглядный указатель пути, но не сам путь, по которому пролегает мещанская жизнь. Этот путь — движение от человечности и благородства к нравственной черствости и душевному запустению.
Нравственная глухота, неспособность откликнуться на чужое горе, возведенные в принцип существования, в способ отношения к миру — вот что кроется за союзом Липочки и Подхалюзина. Пробиваясь сквозь внешние, показные и маскарадные несоответствия друг к другу, они соединяются, как две части единого целого, обретая именно в таком соединении смысловую полноту и содержательность.
Липочка и Подхалюзин своим союзом, в котором робкое и униженное «я» заменено на могущественное «мы», творят новую формулу жизни, в которой все подчинено только им самим. Это способ закрытого существования, когда подлинная трагедия жизни кроется в неспособности ощущения чужой боли. Островский предсказал страшную беду, которая грозит обществу, где торжествует философия индивидуализма.
...Комедия А. Н. Островского написана в середине века, когда вместе с развитием промышленности, с началом формирования капитализма в России зарождаются и новые — буржуазные — отношения. * Меняется, в частности, отношение к деньгам, к капиталу, который уже не складывается в кубышки, не оседает в купеческих сундуках, но пускается в дело, наращивая сам себя, обретая реальную силу и власть над людьми.
В гоголевском «Ревизоре», как мы помним, деньги играют определенную роль в развитии действия комедии. Но они не являются сутью, пружиной конфликта. Деньги, обильным потоком текущие в руки Хлестакова, не служат его обогащению. Во всяком случае, не это интересует Гоголя, когда он рассказывает нам о взяточниках, толпящихся у двери, за которой их поджидает мнимый ревизор. Гоголя-художника интересует момент передачи или затребования денег. Именно этот момент драматургически выстроен писателем таким образом, что служит средством обнаружения этического сдвига, смещения моральных ориентиров, раздвоения героев.
В «Ревизоре» переходят из рук в руки «легкие» деньги. Ими особо не дорожат чиновники, не дорожит и Хлестаков. Легко, играючи получая от чиновников крупные суммы, он готов так же легко избавиться от них: «Ну-ка, теперь, капитан, ну-ка, попадись-ка ты мне теперь! Посмотрим, кто кого!» Сама тема денег подчинена игре, вплетается в игру и становится ею.
Дикой в «Грозе» А. Н. Островского уже не может расстаться с копейкой, деньги словно прирастают к нему, и ему физически больно отрывать от себя даже чужое, не принадлежащее ему: «Ведь уж знаю, что надо отдать, а все добром не могу».
«Упраздняется человечность, упраздняется то, что сообщает жизни ее цену и смысл», — с грустью отметит А. Н. Островский в одном из писем. Пьеса «Свои люди — сочтемся!» стала проникновенным художественным исследованием подобных трагических утрат в российской действительности.
Заключение
Книга прочитана. Можно немного порассуждать о том, какую пользу она принесла (должна принести, может принести) тем, кто добрался до этих итоговых страниц.
Более всего автору хотелось убедить юного читателя в том, что так называемый художественный смысл литературного произведения не есть нечто такое, что закладывается в него, как патрон в обойму. В каждом из рассмотренных произведений мы старались показать рисунок смысла, закономерности развития и художественного воплощения мысли и переживаний писателя.
Любое классическое произведение литературы — это развивающееся постоянство. Потому что, с одной стороны, роман или поэма, написанные двести или тысячу лет назад, остаются такими же, теми же, как во время своего написания. С другой стороны, разные поколения читателей открывают для себя в этих книгах все новые и новые грани художественных значений, как бы раздвигая границы произведения. Так книга живет в историческом времени, прорастая в нем и сквозь него, пребывая в неразрывной и сложной диалектической сцепленности с читателем.
Каждый из писателей, о которых шла речь в этой книге, внес свой вклад в отечественную литературу. Всех их объединяет одно: горячая любовь к своему народу и страстная убежденность в грядущем торжестве правды и справедливости на родной земле.
«История народа принадлежит поэту», — заметил А. С. Пушкин. В этих словах — отражение глубокой мысли о том, что общенародная жизнь во всей ее полноте и целостности может быть изучена не столько научным, сколько художественным путем. Художественное исследование жизни, в отличие от научного, не дробит действительность па события и факты, но создает образ жизни, воплощая самое важное и существенное в ней.
Классическое наследие помогает нам, кроме прочего, незаметно уяснить очень важную вещь, касающуюся нашего миропонимания, нашей способности определять свое духовное местоположение. Классические, великие произведения литературы прошлого, при их углубленном понимании, чувствовании, вживании в них позволяют каждому из нас ощущать в своей неповторимой, отдельной жизни «времен связующую нить», слышать несмолкаемую мелодию исторического времени.
_________________
Распознавание текста — sheba.spb.ru
|