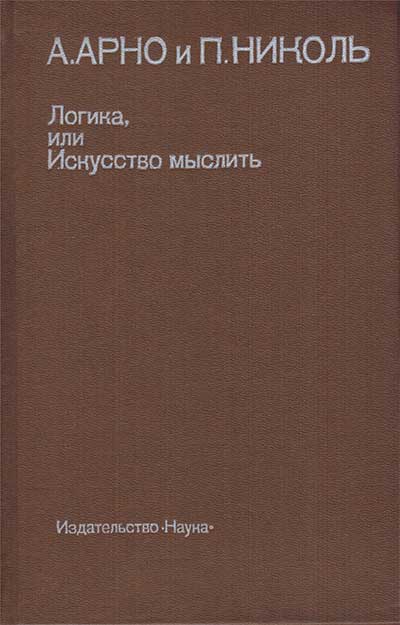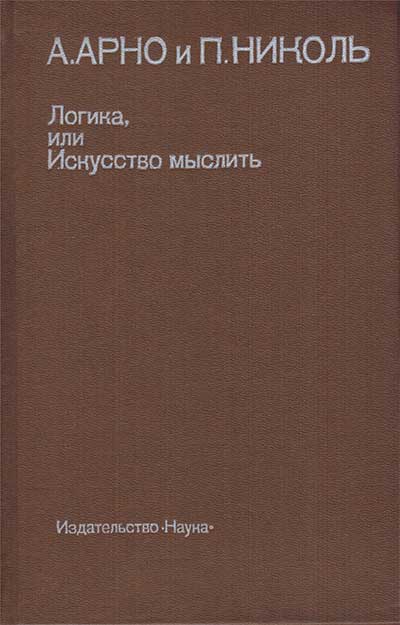Сохранить как TXT:
logika-arno-1991.txt
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ КНИГИ
Логика, или Искусство мыслить,
где помимо обычных правил содержатся некоторые новые соображения,
полезные для развития способности суждения
ОГЛАВЛЕНИЕ
ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ 5
ПЕРВОЕ РАССУЖДЕНИЕ, В КОТОРОМ РАСКРЫВАЕТСЯ ЗАМЫСЕЛ ЭТОЙ НОВОЙ «ЛОГИКИ» 7
ВТОРОЕ РАССУЖДЕНИЕ, В КОТОРОМ СОДЕРЖИТСЯ ОТВЕТ НА ГЛАВНЫЕ ВОЗРАЖЕНИЯ, ВЫДВИНУТЫЕ ПРОТИВ этой «логики» 18
ЛОГИКА, ИЛИ ИСКУССТВО мыслить 30
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ, В КОТОРОЙ СОДЕРЖАТСЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ ИДЕЯХ, ИЛИ О ПЕРВОМ ДЕЙСТВИИ УМА, НАЗЫВАЕМОМ ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ 32
Глава I
Об идеях с точки зрения их природы и происхождения 32
Глава II
Об идеях, рассматриваемых с точки зрения их объектов 40
Глава III
О десяти категориях Аристотеля 43
Глава IV
Об идеях вещей и идеях знаков 46
Глава V
Об идеях, рассматриваемых с точки зрения их сложности или простоты,— где говорится о способе познания посредством отвлечения, или исключения 48
Глава VI
Об идеях, рассматриваемых с точки зрения их общности, частности и единичности 51
Глава VII
О пяти разновидностях общих идей: родах, видах, видовых отличиях, собственных признаках, случайных признаках 54
Глава VIII
О сложных терминах; об их общности и частности 59
Глава IX
О ясности и отчетливости идей и об их темноте и смутности 65
Глава X
Некоторые примеры смутных и темных идей, взятые из области этики 72
Глава XI
О другой причине путаницы в наших мыслях и рассуждениях, состоящей в том, что мы связываем их со словами 79
Глава XII
О средстве против путаницы, возникающей в наших мыслях и рассуждениях от неопределенности слов,— где говорится о необходимости и полезности определения имен, которыми мы пользуемся, и о различии между определением вещей и определением имен 82
Глава XIII
Важные замечания, касающиеся определения имен 86
Глава XIV
Об определениях имен другого рода, посредством которых указывают, что они обозначают в обычном употреблении 90
Глава XV
Об идеях, прибавляемых умом к тем, которые составляют точное значение слов 96
ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЛОГИКИ, В КОТОРОЙ СОДЕРЖАТСЯ
РАЗМЫШЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ О СВОИХ СУЖДЕНИЯХ
Глава I
О словах в соотнесении с предложениями 100
Глава II
О глаголе 106
Глава III
О том, что такое предложение, и о четырех видах предложений
Глава IV
О противоположности между предложениями, имеющими один и тот же субъект и один и тот же атрибут
Глава V
О простых и сложных предложениях. О том, что есть простые предложения, которые кажутся сложными, но не относятся к таковым и могут быть, названы составными, О предложениях, составных по своему субъекту или атрибуту 118
Глава VI
О природе придаточных предложений, входящих в составные предложения 121
Глава VII
О лжи, которая может быть в сложных терминах и в придаточных предложениях 125
Глава VIII
О предложениях, составных с точки зрения утверждения или отрицания, и об одном виде предложений такого рода, называемом у философов модальными предложениями 129
Глава IX
О различных видах сложных предложений 131
Глава X
О предложениях, сложных по смыслу 137
Глава XI
Замечания, помогающие распознавать субъект и атрибут в некоторых предложениях, выраженных в не совсем обычной форме 144
Глава XII
О смутных субъектах, равнозначных двум субъектам 146
Глава XIII Другие замечания, помогающие распознавать, общие и частные предложения 150
Глава XIV
О предложениях, в которых знакам дают имена вещей 156
Глава XV
О двух видах предложений, получивших большое распространение в науках,— делении и определении, и в первую очередь о делении 162
Глава XVI
Об определении, называемом определением вещей 165
Глава XVII
Об обращении предложений,— где более обстоятельно рассматривается природа утверждения и отрицания, которой обусловлено это обращение: и прежде всего о природе утверждения 169
Глава XVIII
Об обращении утвердительных предложений 172
Глава XIX
О природе отрицательных предложений 174
Глава XX
Об обращении отрицательных предложений 176
ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ ЛОГИКИ. ОБ УМОЗАКЛЮЧЕНИИ 178
Глава I
О природе и различных видах умозаключения 178
Глава II
Деление силлогизмов на простые и сопрягательные, а простых — на несоставные и составные 181
Глава III
Общие правила простых несоставных силлогизмов 182
Глава IV
О фигурах и модусах силлогизмов в общем. О том, что силлогизм может иметь, только четыре фигуры 189
Глава V
Правила, модусы и основание первой фигуры 192
Глава VI
Правила, модусы и основание второй фигуры 195
Глава VII
Правила, модусы и основание третьей фигуры 198
Глава VIII
О модусах четвертой фигуры 201
Глава IX
О составных силлогизмах; о том, как их можно свести к обычным силлогизмам и судить о них на основе тех же правил 204
Глава X
Общий принцип, исходя из которого без всякого приведения к фигурам и модусам можно судить о правильности или ошибочности любого силлогизма 212
Глава XI
Применение этого общего принципа к нескольким силлогизмам, которые кажутся запутанными -215
Глава XII
О сопрягательных силлогизмах 219
Глава XIII
О силлогизмах с условным заключением 224
Глава XIV
Об энтимемах и энтимематических изречениях 228
Глава XV
О силлогизмах, состоящих более чем из трех предложений
Глава XVI
О дилеммах
Глава XVII
Об общих местах, или о методе нахождения доказательств. О том, сколь малоприменим этот метод
Глава XVIII
Деление общих мест на общие места грамматики, логики и метафизики
Глава XIX
О различных видах неверных умозаключений, называемых софизмами
Глава XX
О неправильных умозаключениях, допускаемых в повседневной жизни и в обыденных разговорах
ЧЕТВЕРТАЯ ЧАСТЬ ЛОГИКИ. О МЕТОДЕ
Глава I
О знании: что оно существует; что познаваемое умом более достоверно, чем познаваемое чувствами; что есть вещи, которые неспособен познать человеческий ум. О том, какую пользу можно извлечь из этого непреодолимого незнания
Глава II
О двух различных методах — анализе и синтезе. Пример анализа
Глава III
О методе сложения, и в частности о том, который применяют геометры
Глава IV
Более подробное изложение этих правил, и прежде всего тех, которые касаются определений
Глава V
О том, что геометры, по-видимому, не всегда хорошо понимают различие между определением слов и определением вещей
Глава VI
Правила относительно аксиом, т. е. положений, которые ясны и очевидны сами по себе
Глава VII
Некоторые важные аксиомы, кои могут служить отправными положениями для выведения великих истин 328
Глава VIII
Правила относительно доказательств 331
Глава IX О некоторых недостатках, свойственных методу геометров 333
Глава X
Ответ на то, что говорят по этому поводу геометры 339
Глава XI
Метод наук, сведенный к восьми основным правилам 341
Глава XII
О том, что мы познаем через веру, человеческую или божественную 343
Глава XIII
Некоторые правила, помогающие разуму определять, следует ли верить в те или иные события, являющиеся предметом человеческой веры 340
Глава XIV
Применение предыдущего правила к вере в чудеса 350
Глава XV
Другое замечание по поводу веры в события 356
Глава XVI
О том, как мы должны судить о будущих событиях 360
ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ 365
А. Л. Субботин, «ЛОГИКА ПОР-РОЯЛЯ» И ЕЕ МЕСТО В ИСТОРИИ ЛОГИКИ 391
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН 406
ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ
Этот небольшой труд своим рождением целиком обязан случаю и скорее своего рода развлечению, нежели серьезному замыслу. Некий знатный господин, беседуя с одним молодым человеком1, который уже в юном возрасте обнаружил основательность и глубину ума, сказал ему, что в молодости он нашел учителя, сумевшего на две недели преподать ему одну из частей логики. Присутствовавший при сем другой человек2, не питавший особого уважения к этой науке, смеясь, ответил, что, если господин пожелает дать себе труд, он берется в четыре-пять дней обучить его всему, что есть в логике полезного. Это неожиданное предложение послужило темой для разговора; решено было попробовать. По так как обычные руководства по логике не представлялись ни достаточно краткими, ни достаточно ясными, явилась мысль написать небольшой очерк логики, предназначенный только для упомянутого молодого человека.
Такова была единственная цель, которую мы преследовали, приступая к работе над своей «Логикой». Мы рассчитывали потратить на нее не более дня, но когда мы ею занялись, на ум пришло столько новых мыслей, что мы вынуждены были их записать, дабы от них отрешиться. Поэтому вместо одного дня пришлось потратить четыре или пять, в течение которых была создала основная часть этой «Логики», к коей мы впоследствии сделали различные добавления.
Несмотря на то что мы охватили гораздо больше вопросов, чем предполагалось вначале, опыт логики получился таким, каким он и был задуман. Молодой человек, о котором идет речь, сам свел пашу «Логику» к четырем таблицам и легко выучил их по одной в день, так что ему почти не пришлось обращаться за разъяснениями. Правда, не следует ожидать, что и другие усвоят ее с такой же легкостью, ибо во всем, где требуются умственные способности, он проявляет совершенно необыкновенный ум.
Вот какое случайное обстоятельство привело к появлению этого труда. Но что бы о нем ни думали, было бы несправедливо осуждать нас за его издание: оно было скорее вынужденным, нежели добровольным. Ибо некоторые сделали рукописные копии нашего сочинения, а при этом, как известно, не обходится без множества ошибок. Между тем пас уведомили, что книгоиздатели собираются его напечатать. Поэтому мы почли за лучшее представить публике свой труд без искажений и целиком, нежели позволить напечатать его с неточных копий. Но это побудило нас также внести различные добавления, увеличившие его объем приблизительно на одну треть, так как мы решили изложить свои взгляды более подробно, чем в первом опыте. В нижеследующем рассуждении мы объясняем цель, которую мы перед собой поставили, и смысл обсуждаемых нами вопросов.
Кроме того, мы внесли и другие важные добавления3. Они потребовались в связи с тем, что протестантские священники посетовали на отдельные наши замечания, так что мы должны были разъяснить и защитить те положения, которые подверглись критике. Из этих разъяснений будет видно, что разум и вера прекрасно согласуются между собой, ибо они подобны двум ручьям, вытекающим из одного источника, и что невозможно отступить от разума, не уклоняясь от веры, и наоборот. Но хотя поводом для такого рода добавлений послужили возражения теологического характера, в сочинении по логике они вполне уместны и естественны, и мы могли бы внести их, даже если бы на свете не было никаких священников, пожелавших затемнить истины веры надуманными тонкостями.
ПЕРВОЕ РАССУЖДЕНИЕ, В КОТОРОМ РАСКРЫВАЕТСЯ ЗАМЫСЕЛ ЭТОЙ НОВОЙ «ЛОГИКИ»
Ничто не заслуживает большего уважения, чем здравый смысл и способность безошибочно распознавать истину и ложь. Все прочие умственные способности имеют ограниченное применение, рассудительность же требуется на любом жизненном поприще, важна в любой деятельности. Не только в науках трудно отличить истину от лжи, но также и в большинстве обсуждаемых людьми вопросов, и в большинстве их дел. Почти везде есть разные пути: одни — истинные, другие — ложные, и выбор возлагается на разум. Те, кто избирает истинные пути, обладают правильным умом (esprit juste), у тех же, кто принимает неверные решения, неправильный ум (esprit faux). Таково первое, самое существенное различие, какое можно установить в умственных способностях людей.
Следовательно, прежде всего надо было бы приложить старания к тому, чтобы развить данную нам способность суждения, довести ее до наивысшего доступного нам совершенства. Именно этому мы должны были бы посвятить большую часть наших занятий. Разумом пользуются как инструментом приобретения познании, а следовало бы, наоборот, познания использовать как инструмент совершенствования разума: ведь правильность ума неизмеримо важнее любых умозрительных знаний, которых мы можем достичь с помощью самых достоверных и самых основательных наук. Поэтому благоразумные люди должны предаваться научным занятиям лишь постольку, поскольку они могут служить названной цели, и видеть в них не применение сил своего ума, а только их испытание.
Если не ставить перед собой такой задачи, то изучение умозрительных наук, включая геометрию, астрономию и физику, превращается в пустую забаву, и тогда сомнительно, чтобы они заслуживали большего почтения! чем незнание всех этих предметов, у которого есть по крайней мере то преимущество, что оно не требует стольких трудов и не дает повода к нелепому тщеславию, часто сопутствующему бесплодным и бесполезным познаниям.
Речь идет не только о том, что в этих науках есть такие дебри, где трудно отыскать что-либо полезное,— по нашему убеждению, они и вовсе бесполезны, если заниматься ими ради них самих. Люди созданы не для того, чтобы проводить время, измеряя линии, исследуя соотношение углов и изучая различные движения материи. Ум -их слишком велик, а жизнь слишком коротка и время слишком драгоценно, чтобы тратить его на столь незначительные предметы. Но они обязаны быть справедливыми, беспристрастными и разумными во всех своих рассуждениях, делах и поступках. Это главные качества, которые они должны в себе вырабатывать и развивать.
Заботиться об этом тем более необходимо, что правильность суждений — на удивление редкое свойство. Повсюду встречаются лишь неправильные умы, почти неспособные отличить истину от лжи. Они толкуют обо всем вкривь и вкось; они довольствуются самыми слабыми доводами и хотят, чтобы ими довольствовались и другие; их сбивает с толку малейшая видимость; они постоянно впадают в излишества и в крайности; у них нет твердой уверенности в тех истинах, которые им известны, так как принять эти истины их заставляет случаи, а не глубокие знания, или же, наоборот, они упрямо стоят на своем и по слушают ничего, что могло бы вывести их из заблуждения; они смело высказываются о том, чего они не эпают, что им непонятно и чего, быть может, не понял еще ни один человек; они не ведают, что речи речам рознь, и судят об истине вещей не иначе, как по тону голоса: кто говорит гладко и с важностью, тот прав, а кто изъясняется не без труда или горячится, тот заблуждается,— это все, что им доступно.
Вот почему никакой вздор не бывает настолько несносным, чтобы ни у кого не встретить одобрения. Всякий, кому придет охота дурачить народ, может быть уверен, что найдет людей, только того и ждущих, чтобы их одурачили, и для самых смехотворных нелепостей всегда сыщется ум, которому они будут под стать. Как посмотришь, скольким вскружили голову бредни астрологии судеб — ведь даже среди степенных людей иные воспринимают этот предмет всерьез,— ничему уже не станешь удивляться. Есть на небе созвездие, которое кому-то заблагорассудилось назвать Весами; оно так же похоже на весы, как и на ветряную мельницу. Весы — символ справедливости и беспристрастия; стало быть, родившиеся под этим созвездием будут справедливыми и беспристрастными. Есть в Зодиаке три других знака: Овен, Козерог, Телец; с таким же успехом они могли бы называться Слон, Носорог, Крокодил. Овен, козерог и телец — жвачные животные; стало быть, у того, кто принимает лекарство в период, когда Луна расположена под этими созвездиями, есть основания опасаться, как бы его желудок не изверг принятое снадобье. При всей нелепости подобных рассуждений находятся и те, кто их преподносит, и те, кому они кажутся вполне убедительными.
Эта неправильность ума порождает не только те заблуждения, которые проникают в пауки. она является причиной большей части ошибок, совершаемых нами в повседневной жизни: беспочвеппых раздоров, безосновательных тяжб, скоропалительных решений, непродуманных начинаний. Все перечисленное редко имеет иной источник, помимо какой-нибудь погрешности или ошибки в суждении, так что исправить названный недостаток для нас важнее, чем какой-либо другой.
Но избавиться от пего насколько желательно, настолько же и трудно, ибо успех здесь зависит от той меры ума, с какой мы появляемся на свет. Здравый смысл — не такое уж общее качество2, как полагают. Существует неисчислимое множество грубых и тупых умов. Истину им не внушить — все исправление таких умов может состоять лишь в том, чтобы убедить их ограничиваться доступными им предметами и удерживаться от суждения о вещах, которые выше их понимания. Правда, немалая доля ложных суждений проистекает все же не из тупости, а из торопливости ума и недостатка внимания, вследствие чего смело судят о том, что представляют себе очень смутно. Люди не питают особой любви к истине и чаще всего не дают себе труда отделять истинное от ложного. Душа их открыта для всевозможных речей и максим, которые они охотнее примут на веру, нежели станут разбирать; если они их не понимают, то полагаются на других. Так они забивают себе голову темными, ложными, непонятными для них вещами и исходя из этого потом рассуждают, почти не отдавая себе отчета в своих словах и мыслях.
Этот недостаток отягощается тщеславием и самомнением. По общему убеждению, стыдно не знать и сомневаться, поэтому многие предпочитают высказываться и принимать решения наобум, лишь бы не сознаваться, что недостаточная осведомленность не позволяет им судить о том или ином предмете. Все мы исполнены невежества и заблуждений, однако же никакими силами не вырвать у людей признания, столь справедливого и столь сообразного с человеческим уделом: «Я неправ» или «Я этого не знаю».
Встречаются и другие, достаточно проницательные, чтобы обнаружить в человеческих познаниях много темного и недостоверного. Побуждаемые тщеславием иного рода, они, напротив, хотят показать, что им чуждо легковерие толпы, и считают делом чести утверждать, будто вовсе не существует ничего достоверного; тем самым они избавляют себя от необходимости вникать во многие проблемы. на таком порочном основании они подвергают сомнению даже наиболее твердые истины, не исключая истин религии. Отсюда берет начало пирронизм, представляющий собой другую крайность человеческого ума, которая хотя и кажется противоположной легкомыслию тех, кто всему верит и обо всем судит, проистекает, однако, из того же источника, а именно из недостатка внимания. Ибо как одни не дают себе труда выявлять заблуждения, так другие не стремятся рассматривать истину с тем тщанием, какое необходимо, чтобы заметить ее очевидность. Достаточно малейшего проблеска, чтобы убедить первых в истинности положений совершенно ложных, а у вторых возбудить сомнение в самом достоверном. И именно недостаток прилежания приводит к столь различным последствиям.
Истинный разум ставит всё на свои места. Он велит сомневаться в том, что сомнительно, отвергать то, что ложно, и не кривя душой признавать очевидное; его не смущают вздорные доводы пирронистов, не способные сокрушить разумную уверенность в том, что истинно, даже в умах тех, кто их выдвигает. Никто еще не сомневался всерьез в существовании Земли, Солнца и Луны или в том, что целое больше части. Можно лживо заявлять, будто сомневаешься в подобных вещах, но нельзя заставить солгать свой разум. Так что пирронисты — это не секта людей, убежденных в своей правоте, а секта лжецов. Не случайно, излагая свои взгляды, они часто сами себе противоречат, ибо сердце у них не в ладах с языком. Это можно видеть у Монтеня, попытавшегося возродить в прошлом столетии пирронизм.
Академики, говорит он, утверждали, что одни представления более правдоподобны, чем другие, и тем отличались от пирронистов, не желавших это признавать; после чего он высказывается в пользу пирронистов в таких словах: Точка зрения пирронистов — более решительная и вместе с тем более правдоподобная3. Значит, все-таки есть представления более и менее правдоподобные. И он нисколько не шутил: эти слова вырвались у него нечаянно, они идут из глубины естества, которого не в силах заглушить лживые мнения.
Но беда в том, что, когда дело касается вещей не столь очевидных, люди, которым доставляет удовольствие во всем сомневаться, не обращают свой ум на то, что могло бы их убедить, а если и обращают, то не проявляют при этом подобающего усердия. Так, они нарочно подвергают сомнению истины религии, предпочитая оставаться во мраке: это состояние для них приятно и удобно, ибо оно позволяет им избавиться от угрызений совести и дать волю своим страстям.
Итак, коль скоро эти отклонения ума, которые кажутся противоположными —- в первом случае с легкостью принимают на веру то, что темно и недостоверно, во втором сомневаются в ясном и достоверном,— имеют в действительности один источник, а именно отсутствие внимательности, потребной для распознания истины, то совершенно очевидпо, что и средство против них должно быть одно и что уберечь себя от этих отклонений мы сможем лишь тогда, когда будем обращать должное внимание на свои суждения и мысли. Это единственное условие, которое надо непременно соблюдать, чтобы не поддаваться обману. Ибо то, что говорили академики,— будто невозможно найти истину, не зная ее отличительных признаков, как невозможно было бы узнать при встрече разыскиваемого беглого раба, не имей он примет, отличающих его от других людей,— не более чем пустое изощрение. Чтобы отличить свет от мрака, не требуется никаких других признаков, кроме самого света; так и для того, чтобы распознать истину, не надобно никаких других признаков, кроме окружающего ее сияния, которое пленяет ум и убеждает его наперекор всему. Так что любые доводы этих философов столь же бессильны удержать душу, когда она проникается истиной и всецело ее приемлет, сколь бессильны они помешать видеть глазам, открытым для дневного света»
Но поскольку случается, что ум вводят в заблуждение ложные проблески, и поскольку многое познается путем долгого и нелегкого исследования, безусловно, было бы полезно руководиться определенными правилами, с тем чтобы облегчить разыскание истины и сделать это занятие более плодотворным. И такие правила, без сомнения, возможны. Ведь если люди иной раз заблуждаются, а иной раз бывают правы, если они порой умозаключают правильно, а порой неверно и способны признавать свои ошибки, то, разобравшись в собственных мыслях, они могут заметить, какому методу они следовали, когда пришли к правильному выводу, и где допустили ошибку, и таким образом составить себе правила, дабы впредь уже не попадать впросак.
За это, собственно, и берутся философы, не скупясь на обещания. По их словам, в соответствующем разделе философии, называемом логикой, они несут нам столько света, что могут рассеять в нашем уме самый густой мрак; они исправляют любые ошибки в наших рассуждениях и дают нам верные правила, которые прямым путем ведут нас к истине и без которых ее невозможно познать с полной достоверностью. Вот как расхваливают философы свои предписания. Если же мы посмотрим, как они исполняют их на деле — и в логике, и в других разделах философии, у вас будут веские причины не верить этим обещаниям.
Но поскольку было бы неразумно отвергать все, чго есть в логике полезного, из-за того что ее можно неправильно применять; поскольку немыслимо, чтобы столь многие великие умы, с таким усердием трудившиеся над правилами умозаключения, не открыли ничего достойного внимания; поскольку, наконец, образованный человек должен, как это принято, хотя бы в общих чертах знать, что такое логика,— мы решили, что если бы мы выбрали из нее то, что более всего содействует развитию способности суждения, это послужило бы на общую пользу. Таков был замысел нашего сочинения. Кроме того, мы изложили в своей «Логике» немало новых мыслей, появившихся у нас во время работы над нею; они составляют большую и, быть может, самую существенную ее часть.
Насколько нам известно, философы обычно ограничиваются тем, что дают образцы правильных и неправильных умозаключений. Нельзя сказать, что от этих образцов нет никакого проку: они подчас помогают найти ошибку в запутанном доказательстве или изложить свои мысли более убедительно. Однако не следует и переоценивать ту пользу, какую они способны принести. Ведь чаще всего мы ошибаемся не потому, что неправильно выводим следствия, а потому, что приходим к ложным суждениям, которые влекут за собой неверные заключения. От этого зла логика, по сути дела, еще не пыталась нас избавить. Оно-то и является главным предметом тех новых размышлений, которые читатели встретят в нашей книге повсюду.
Вместе с тем надо признаться, что мысли, названные здесь новыми, поскольку их но увидишь в обычных «Логиках», не все принадлежат автору настоящего труда. Часть из них заимствована из книг прославленного философа нынешнего столетия4, у которого мы находим столько же ясности ума, сколько путаницы обнаруживаем в голове у других. Некоторые мысли взяты из небольшого неопубликованного сочинения покойного господина Паскаля, озаглавленного «О геометрическом уме», а именно: то, что говорится в XII главе первой части5 о различии между определением имен и определением вещей, и пять правил, помещенных в четвертой части, где они изложены гораздо более пространно, чем у господина Паскаля.
Что же касается заимствований из обычных сочинений по логике, то здесь мы руководствовались следующим.
Мы решили включить в эту книгу все, что содержится полезного в других сочинениях: правила фигур, деление терминов и идей, некоторые мысли относительно предложений и т. д. Но есть в них и такие разделы, из которых, по нашему мнению, вряд ли можно извлечь какую-либо пользу,— например, категории и общие места. Ввиду того что они невелики по объему и являются доступными и традиционными, мы посчитали, что опускать их все же не следует и надо только упредить читателей, чтобы им не придавали слишком большого значения.
Больше сомнений вызвали такие довольно трудные и не представляющие практического интереса разделы, как обращение предложений и доказательство правил фигур. Но в конце концов их решено было оставить, поскольку и в самых трудностях, которые в них заключены, есть своя польза. Разумеется, если, преодолевая трудности, мы не открываем никаких новых истин, можно с полным основанием сказать: Stultum est difficiles habere nugas6, по трудностей, сопряженных с усвоением нового, избегать не следует, ибо мы должны учиться постигать непростые истины.
Есть желудки, способные переваривать только легкую и нежную пищу; точно так же иные умы способны усваивать лишь такие истины, которые не представляют трудности, да притом еще облачены в ризы красноречия. И то и другое — изнеженность, достойная порицания, а попросту говоря, слабость. Надо, чтобы ум научился доискиваться до истины, даже когда она глубоко спрятана и скрыта от нашего взора, и воздавать ей должное, в каком бы виде она ни представала. Кто не может побороть в себе неприятия и отвращения, легко вызываемых у всякого из нас теми топкостями, которые кажутся нам схоластическими, тот незаметно сужает свой умственный кругозор и мало-помалу утрачивает способность понимать такие вещи, для познания которых требуется связать несколько положений. И если какая-то истина следует из трех-четырех принципов, так что ум должен охватить их единым взором, подобные люди чувствуют себя как бы ослепленными и в растерянности отступают. Тем самым они лишают себя многих полезных познаний, а это потеря немалая.
Умственные способности развивает или притупляет привычка. Служить их развитию — главное назначение математики и вообще всех трудных предметов и разделов вроде тех, о которых мы ведем речь. Ведь они дают уму известный простор и помогают ему выработать прилежание и уверенность в своих знаниях.
Вот отчего мы не стали опускать эти трудные разделы и даже изложили их так же подробно, как они излагаются в любой другой «Логике». Те, у кого это вызовет недовольство, смогут их пропустить: мы помещаем перед несколькими главами соответствующее предуведомление, чтобы читатели на нас не сетовали,— они прочтут эти главы, только если сами того пожелают.
Мы сохранили также искусственные термины, придуманные для того, чтобы легче было удерживать в памяти различные виды умозаключений. Нас не смущает, что некоторые испытывают отвращение к таким терминам — как если бы это были какие-нибудь магические слова — и безжалостно осмеивают Ьагосо и baralipton, усматривая в них педантство 7. По нашему мнению, эти термины более безобидны, нежели подобные насмешки. Истинный разум и здравый смысл не позволяют осмеивать то, что ничуть не смешно. А в этих терминах нет решительно ничего смешного, если только их не окутывают тайной и не забывают, что они придуманы лишь затем, чтобы облегчить память. Вот если бы кто вздумал перенести их в обыденную речь и заявил, к примеру, что собирается построить доказательство в бокардо или фелаптоне, это было бы и в самом деле смешно.
Иные видят педантство там, где его нет, и часто тот, кто уличает в этом грехе других, показывает себя сущим педантом. Педантство — порок ума, а не профессии8. Педанты рядятся в самые разные одеяния, они бывают любого звания и сословия. Выпячивать то, что не заслуживает внимания, выставлять свою ученость напоказ; бездумно нагромождать греческий и латынь; распаляться в спорах о порядке месяцев аттического календаря или об одежде македонян и в других пустых словопре-, ниях подобного рода; обкрадывать автора и при этом еще осыпать его бранью; наносить величайшие оскорбления тем, кто расходится с нами в толковании отрывка из Светония или в объяснении этимологии слова, как если бы речь шла о религии и государстве; добиваться, чтобы все ополчились против человека, но питающего должного уважения к Цицерону, словно против какого-нибудь возмутителя общественного спокойствия, как это делал Скалигер в отношении Эразма9; заботиться 0 репутации древнего философа, как будто он приходится нам близким родственником,— вот что по праву можно назвать педантством. Но какое же педантство в том, чтобы знать самому и разъяснять другим искусственные слова, придуманные изобретательными людьми единствен, но для облегчения памяти? Только употреблять их нужно, как мы уже сказали, с надлежащей осторожностью.
Нам остается объяснить, почему мы опустили многие вопросы, которые можно найти в обычных «Логиках», например, те, что разбираются в пролегоменах, универсалии a parte rei10, отношения и многое в этом роде. О таких вопросах, пожалуй, достаточно было бы сказать, что они относятся скорее к метафизике, нежели к логике. Но не это было для нас главным. Когда мы предполагали, что рассмотрение того или иного вопроса может быть полезным для развития способности суждения, мы не задумывались над тем, к какой науке он относится. Наши познания перемешаны, подобно литерам у типографа; каждый вправе по-своему приводить их в систему, в зависимости от поставленной им задачи, хотя выстраивать их при этом следует наиболее естественным образом. Если обсуждение какой-либо проблемы отвечает нашему замыслу, этого уже достаточно, чтобы не считать ее посторонней. Вот почему читатели найдут здесь немало вопросов из физики и этики, а из метафизики — почти столько, сколько их нужно знать. Правда, мы вовсе не утверждаем, что, излагая эти вопросы, мы ни у кого ничего не заимствовали. Логике принадлежит все, что ей служит. Поэтому смешны те затруднения, какие создают себе некоторые авторы, например, Рамус 11 и рамисты (люди, впрочем, весьма сведущие), прилагающие столько же усилий к тому, чтобы ограничить юрисдикцию каждой науки и пресечь посягательства одних наук на другие, сколько сил обычно тратят на то, чтобы установить границы королевств и определить круг полномочий парламентов.
Исключить подобные схоластические вопросы нас побудило, опять-таки, не просто то, что они трудны и не представляют практического интереса,— мы ведь излагаем кое-какие вопросы такого рода. Решающим для нас было другое: мы рассудили, что если их не затрагивать, никто не будет в обиде, поскольку им не придают большого значения.
Ибо следует иметь в виду, что бесплодные в.опросы, коими изобилуют философские сочинения, бывают разными. К иным пренебрежительно относятся даже те, кто их трактует. Иные же, наоборот, всеми признаны и узаконены, их часто обсуждают в своих трудах люди, достойные уважения.
Нам думается, что не подобает оставлять без внимания широко распространенные и хорошо известные мнения, сколь бы ложными они ни представлялись. Эту дань вежливости пли, вернее, справедливости мы должны отдавать не лжи — она того не заслуживает,— а людям, дабы им не пришлось отвергать то, что они считают важным, без предварительного исследования. Разумно ценой труда, потраченного на изучение этих вопросов, получить право ими пренебрегать.
Что же касается первых, то с ними можно обращаться более свободно, и те вопросы, которые мы сочли нужным опустить, принадлежат как раз к этому роду: они не в чести не только у людей, от них далеких, но даже и у тех, кто по долгу службы излагает их другим. Никто, слава Богу, не интересуется всерьез универсалиями a parte rei, мыслимыми сущими и вторичными интенциями 12, и, значит, у нас нет причин опасаться, что кто-то будет недоволен, обнаружив, что мы о них умолчали. К тому же подобные материи так мало подходят для перевода на французский язык, что они могли бы скорее обесславить схоластическую философию, нежели внушить уважение к ней.
Следует также предупредить, что мы позволили себе отступить от правил безупречно строгого метода и в четвертой части поместили многие вещи, которые можно было бы отнести ко второй и к третьей. Но сделано это намеренно, так как, по нашему мнению, полезно рассмотреть в одном месте все, что требуется для того, чтобы придать науке полноту, в чем и состоит главная задача метода, излагаемого в четвертой части. Потому мы и оставили аксиомы и доказательства для этой части книги.
Таков, в общих чертах, замысел нашей «Логики». Быть может, со всем тем ею воспользуются лишь немногие и мало кто почувствует, что она пошла ему впрок: ведь обычно, применяя правила, люди редко отдают себе в этом отчет. И все же мы льстим себя надеждой, что те, кто прочтет ее сколько-нибудь внимательно, почерпнут отсюда кое-какие познания, благодаря которым их суждения станут более верными и более основательными, даже если они сами этого и не заметят. Так некоторые лекарства исцеляют недуги, придавая сил и укрепляя члены. Как бы то ни было, она по крайней мере не будет долго докучать своим читателям: всякий мало-мальски развитой человек сможет прочесть ее в одну неделю. И едва ли возможно, чтобы при таком разнообразии затронутых в ней вопросов кто-нибудь не нашел, чем вознаградить себя за труд ее прочтения.
ВТОРОЕ РАССУЖДЕНИЕ, В КОТОРОМ СОДЕРЖИТСЯ ОТВЕТ НА ГЛАВНЫЕ ВОЗРАЖЕНИЯ, ВЫДВИНУТЫЕ ПРОТИВ ЭТОЙ «ЛОГИКИ»
Все, кто намеревается ознакомить публику со своими произведениями, должны быть готовы к тому, что у них будет столько же судей, сколько и читателей. И пусть это не покажется им несправедливым или тягостным, ибо, если они воистину бескорыстны, им надлежит отказаться от права собственности на сочинения, предаваемые гласности, и взирать на них с тем же безразличием, что и на чужие труды.
Единственное право, которое они могут законно сохранить за собой,— это право исправлять в них то, что окажется ошибочным, и тут суждения читателей способны сослужить хорошую службу: когда они справедливы, они всегда идут на пользу, а от несправедливых нет никакого вреда, поскольку с ними можно не считаться.
Но благоразумие иногда требует сообразоваться с такими суждениями, которые мы считаем несправедливыми, ибо если они не убеждают пас в том, что заключенные в них упреки имеют под собой основание, то по крайней мере показывают, что не все в нашем сочинении доступно уму читателей, высказавших эти упреки. И потому, если только это не повлечет за собой большего зла, без сомнения, лучше найти такую средину, чтобы были удовлетворены и те, кто отличается здравомыслием, и те, у кого не столь правильный ум. Ведь нельзя же рассчитывать на одних способных и понятливых читателей.
Поэтому желательно, чтобы первые издания книг воспринимались всего лишь как неоконченные опыты, которые авторы этих трудов предлагают вниманию просвещенных людей, дабы узнать их мнение, и которые они в дальнейшем, обдумывая разные взгляды, представленные в различных отзывах, будут дорабатывать, с тем чтобы довести свои сочинения до наивысшего доступного им совершенства.
Мы охотно проделали бы такую работу для второго издания этой «Логики», если бы нам было хорошо известно, что говорили по поводу первого. Но мы и так сделали все, что могли: многое добавили, многое убрали и исправили, прислушавшись к мнению читателей, соблаговоливших указать нам, в чем, с их точки зрения, нас можно упрекнуть.
Начнем с того, что в отношении языка мы почти во всем следовали советам двух лиц!, взявших на себя труд отметить ошибки, вкравшиеся в наше сочинение по недосмотру, и некоторые неудачные, на их взгляд, выражения. Мы позволяли себе не соглашаться с ними лишь в тех случаях, когда, справившись у других, находили поддержку,— тогда мы оставляли за собой свободу выбора.
Что касается самих обсуждаемых вопросов, то здесь мы внесли больше добавлений, нежели изменений и сокращений, так как были хуже осведомлены о том, что тут вызвало нарекания. Правда, на нескольких общих возражениях, высказанных против нашей книги, мы просто не сочли нужным останавливаться, решив, что те, кто их выдвинул, удовлетворятся, когда мы приведем свои соображения относительно того, что они порицают. Поэтому нет смысла отвечать здесь на главные из этих возражений.
Некоторым не понравилось заглавие «Искусство мыслить»; они хотели бы, чтобы мы заменили его на «Искусство хорошо рассуждать». Но просим их принять во внимание, что логика призвана дать правила для всех действий ума — не только для суждений и умозаключений, по и для простых идей, и вряд ли можно было бы подобрать другое слово, которое обозначало бы все эти действия, а слово «мысль» их, несомненно, объемлет, потому что и простые идеи, и суждения, и умозаключения — всё это мысли. Правда, мы могли бы назвать нашу книгу «Искусство хорошо мыслить», но в таком добавлении нет необходимости; ведь оно уже содержится в слове «искусство», обозначающем способ хорошо исполнять что-либо, как это отмечает сам Аристотель. Поэтому принято говорить просто «искусство писать красками», «искусство считать», ибо предполагается, что не надобно никакого искусства для того, чтобы плохо писать красками или плохо считать.
Гораздо более существенное возражение было высказано в связи с тем, что многие примеры в нашей «Логике» взяты из других наук. Поскольку оно затрагивает самый ее замысел и, таким образом, дает нам повод разъяснить его, надо рассмотреть это возражение более подробно. К чему, спрашивают иные, вся эта мешанина из риторики, этики, физики, метафизики, геометрии?2 Мы рассчитываем найти предписания логики, а нас вдруг возносят в заоблачные выси самых отвлеченных наук, не поинтересовавшись, изучали мы их или нет. Разве не следовало бы, наоборот, исходить из того, что, будь у нас такие познания, мы не нуждались бы в этой «Логике»? И разве не лучше было бы преподать нам логику в совсем простом виде, без всяких прибавлений, так чтобы правила пояснялись на примере обыденных вещей, а не обременялись столькими материями, отодвигающими сами предписания на второй план?
Однако рассуждающие подобным образом не принимают в соображение, что для книги, пожалуй, самый большой недостаток — если ее не читают, потому что она может служить лишь тем, кто ее прочтет, и, следовательно, все, что побуждает прочесть книгу, помогает извлечь из нее пользу. Поэтому если бы мы их послушались и написали обычную сухую «Логику», воспользовавшись привычными примерами с «животным» и «лошадью», то, сколь бы строгой и методической она ни была, она разделила бы участь многих других, которых, при всем их обилии, никто не читает. Ведь именно разнообразие содержания придает нашей «Логике» живость, благодаря чему она, быть может, не повергнет читателей в такое уныние, как другие книги подобного рода.
Но главная цель, которую мы преследовали, обращаясь за примерами к другим наукам, заключалась не в том, чтобы привлечь к ней читателей, сделав ее более занимательной по сравнению с обычными «Логиками». Мы полагаем, что нам удалось изложить искусство логики самым естественным и самым удобным способом и, насколько это возможно, устранить помеху, превратившую его изучение в занятие почти что бесплодное.
Ибо, как показывает опыт, из тысячи молодых людей, изучающих логику, не наберется и десятка таких, кто. спустя полгода после окончания курса вспомнит из нее хоть самую малость. А истинная причина этой столь распространенной беспамятности или небрежения кроется, по нашему мнению, в том, что, трактуя предметы, уже сами по себе весьма отвлеченные и очень далекие от практических нужд, логика вдобавок еще пользуется малоинтересными примерами, нигде больше не встречающимися, и оттого ум, которому стоит больших усилий обратиться на такие предметы, не находит здесь ничего, на чем бы он пожелал остановиться, и быстро теряет приобретенные им при этом идеи, так как они никогда не подновляются практикой.
Кроме того, поскольку из обычных примеров не видно, что это искусство можно применить к чему-то полезному, те, кто его изучает, замыкаются в пределах самой логики, хотя она существует лишь затем, чтобы служить инструментом для других наук. Так как они никогда не видели правильного применения логики, они никогда ее и не применяют и даже рады выбросить ее из головы как науку вздорную и бесполезную.
Вот мы и решили, что лучший способ устранить эту помеху — не отделять логику в такой степени, как это принято делать, от других наук, для которых она предназначается, и посредством примеров так связать ее с основательными зданиями, чтобы читатели нашли в ней не только правила, но и образцы их применения и могли судить об этих науках с помощью логики и удерживать в памяти логику с помощью этих наук.
Следовательно, многообразие содержания вовсе по отодвигает на второй план предписания логики; напротив, ничто так не способствует их осмыслению и лучшему запоминанию, потому что сами по себе они слишком отвлеченны, чтобы произвести впечатление на ум, если их де связывают с чем-то более интересным и более осязательным.
Для вящей пользы мы не просто приводили примеры из разных паук, а выбирали самые важные положения, те, что с наибольшим успехом могут служить правилами и началами для отыскания истины в других вопросах, коих мы не имели возможности обсудить.
Например, в отношении риторики мы убеждены, что в подборе нужных мыслей, выражений и всего, что украшает язык, она оказывает не столь уж большую помощь. Ум и без нее не испытывает недостатка в мыслях, опыт подсказывает выражения, а что до фигур и прикрас, то ими мы часто злоупотребляем. Поэтому вся задача состоит в том, чтобы избавиться от некоторых дурных манер письма и речи, в особенности от искусственного риторического стиля, слагающегося из ложного глубокомыслия, напыщенности и вычурных фигур, ибо стиль этот является самым большим пороком. Так вот, в нашей «Логике» изложено немало соображений, касающихся того, как распознавать эти недостатки и избегать их,— пожалуй, даже не меньше, чем в книгах, всецело ИлМ посвященных. В последней главе первой части 3 показывается, в чем суть фигурального стиля и как его надо применять; при этом дается подлинный критерий, с помощью которого следует различать оправданные и неоправданные фигуры. Глава об общих местах послужит очищению речи от преизбытка банальностей. В разделе, где говорится о неправильных умозаключениях, к коим незаметно приводит красноречие4, мы призываем читателей. никогда не обольщаться внешней красивостью ложных мыслей и между прочим приводим одно из важнейших правил истинной риторики, которое больше, чем какое-либо другое, располагает ум к простой, естественной и разумной манере письма. Наконец, данный в той же главе5 совет стараться не возбуждать у собеседника злобы поможет избежать очень многих недостатков, тем более опасных, чем труднее их обнаружить.
Что касается этики, то основная тема нашего сочинения не позволяла нам углубляться в этот предмет. Но, думается, читатели отметят, что глава о ложных идеях блага и зла (в первой части) и глава о неправильных умозаключениях, допускаемых в повседневной жизни, весьма обширны и что в них отражена немалая доля человеческих заблуждений.
В метафизике нет вопросов более важных, чем происхождение наших идей, отличие идей души от телесных впечатлений, различие между душой и телом и доказательства бессмертия души, основанные на этом различии. Все это довольно широко обсуждается в первой и четвертой частях.
В разных местах нашей «Логики» мы приводим даже большую часть общих принципов физики, которые нетрудно свести воедино. Из того, что говорится здесь о тяжести, о чувственных качествах, о действиях, о чувствах, о притягивающих способностях, скрытых свойствах и субстанциальных формах6, можно почерпнуть достаточно знаний, чтобы изжить множество ложных идей, оставшихся в нашем уме от предубеждений детства.
Мы вовсе не думаем, что читателям нет нужды утруждать себя более обстоятельным изучением всех этих предметов, что им уже не надо обращаться к специальным сочинениям. Но те, кто не предназначает себя для теологии, которая требует досконального знания схоластической философии, являющейся как бы ее языком, могут довольствоваться более общим знакомством с перечисленными науками,— а таких людей большинство. И если в приведенных нами сведениях из этих паук они не найдут всего, что им надлежит изучить, то можно, не погрешив против истины, сказать, что они найдут здесь все, что им следует держать в памяти.
Возражение насчет того, что некоторые из приведенных нами примеров недоступны для начинающих, справедливо только в отношении примеров из геометрии. В остальных же сумеют разобраться все, кто наделен некоторой остротой ума, даже если они никогда не изучали философию. И может статься, эти примеры будут понятнее тем, у кого еще пет никаких предубеждений, нежели тем, кому уже вбили в голову максимы общераспространенной философии.
Что касается примеров из геометрии, то их действительно поймут не все, но в этом нет большой беды. Они, как правило, встречаются или в особых, частных, рассуждениях, которые вполне можно пропустить, или там, где излагаются вещи, достаточно ясные сами по себе или достаточно проясненные другими примерами и потому не нуждающиеся в примерах из геометрии.
Если к тому же рассмотреть все те места, где мы их приводим, никто не станет отрицать, что трудно было бы подыскать другие столь же подходящие примеры, потому что это единственная наука, доставляющая нам совершенно ясные идеи и неопровержимые положения.
Так, когда речь шла о взапмозаменимых свойствах 7, было сказано, что в прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равеп сумме квадратов других сторон. Это положение ясно и достоверно для всех, кто его понимает; тем же, кому оно непонятно, надо просто допустить, что оно истинно, чтобы понять мысль, подкрепляемую этим примером.
А если бы мы решили воспользоваться наиболее распространенным примером и сослались на способность смеяться, которую рассматривают как отличительное свойство человека8, мы высказали бы нечто довольно темное и далеко не бесспорное. Ибо если под словами «способность смеяться» разумеют способность делать гримасу, какую делают, когда смеются, то непонятно, почему же нельзя научить животных подражать этой гримасе,— а некоторые животные, возможно, даже умеют делать ее сами. Если же этими словами обозначается не только известная перемена в лице, но вместе и мысль, сопутствующая смеху и являющаяся его причиной, или, ипаче говоря, если под способностью смеяться понимается способность смеяться осмысленно, тогда любые действия людей оказываются взаимозаменимыми свойствами, потому что они не присущи никому, кроме человека, раз их связывают с мышлением. Так, пам придется признать, что ходить, пить, есть — всё это отличительные свойства человека, ибо только человек ходит, пьет, ест осмысленно. При таком подходе у нас не будет недостатка в примерах. Но те, кто приписывает животным мысли и потому вполне может приписать им смех, связанный с мыслью, сочтут эти примеры неубедительными, тогда как пример, которым мы воспользовались, будет убедителен для всех.
В другом месте 9 мы хотели показать, что есть телесные вещи, представляемые нами бестелесно, т. е. мыслимые без участия воображения. С этой целью мы привели пример тысячеугольника, который ясно мыслится умом, хотя никому не под силу вызвать в своем сознании отчетливый образ, представляющий его свойства. Мимоходом мы отметили одно из свойств этой фигуры, а именно что все ее углы в сумме равпы 1996 прямым углам. Ясно, что этот пример прекрасно подтверждает то, что мы хотели доказать.
Остается только ответить на более досадное для нас нарекание — по поводу того, что мы взяли у Аристотеля примеры неудачных определений и неправильных умозаключений, в чем некоторые усмотрели потаенное желание принизить этого философа.
Но они никогда не вынесли бы столь несправедливого суждения, если бы как следует подумали, чем надо руководствоваться, подбирая примеры ошибок, подобных тем, какие мы нашли у Аристотеля.
Прежде всего, опыт показывает, что от большинства примеров, к которым обычно прибегают, нет почти никакого проку: авторы руководств по логике выдумывают их сами, и ошибки в них настолько явны и грубы, что кажутся невероятными. Поэтому, чтобы читатели запомнили. то, что говорится о логических ошибках, и могли их избегать, полезно брать подлинные примеры из сочинений какого-нибудь известного автора, репутация которого побуждает вдвойне остерегаться подобных оплошностей, допускаемых, как выясняется, и самыми великими людьми.
Далее, поскольку мы должны стремиться к тому, чтобы все выходящее из-под нашего пера приносило как можно больше пользы, надо стараться подбирать в качестве примеров такие ошибки, о которых не мешает составить представление; ведь было бы совершенно бесполезно обременять свою память всякими фантазиями Флада, ван Гельмонта и Парацельса 10. Итак, лучше искать эти примеры у авторов столь знаменитых, что мы некоторым образом обязаны знать даже их оплошности.
И дсе это мы находим у Аристотеля. Ибо самый верный способ предостеречь от ошибки — показать, что от нее не уберегся даже такой великий ум. Притом же философию Аристотеля принимали столь многие достойные люди, что необходимо знать и то, что в ней есть ошибочного. Так вот, поскольку мы полагали, что для тех, кто станет читать нашу книгу, будет весьма полезно усвоить, помимо всего прочего, различные положения его философии, но только не заблуждения, мы привели некоторые его суждения, чтобы можно было с ними ознакомиться, и заодно отметили изъяны, которые мы в них обнаружили, дабы никто не усвоил скрывающихся в них заблуждений.
Итак, мы взяли эти примеры из книг Аристотеля вовсе не для того, чтобы его принизить, а наоборот, для того, чтобы по мере возможности воздать ему должное даже тогда, когда мы не разделяем его взглядов. Впрочем, совершенно очевидно, что мы порицаем его в вопросах незначительных и нисколько не затрагивающих самого существа его философии, коего мы отнюдь не опровергаем.
И если мы не привели здесь многих блестящих мыслей, которые встречаются в книгах Аристотеля повсюду, то единственно потому, что они были далеки от темы наших рассуждений. Но если бы нам представился случай, мы были бы рады это сделать и не преминули бы возвеличить его так, как он заслуживает. Ибо Аристотель воистину обладал широчайшим умом, способным обнаружить в изучаемых предметах множество различных связей и следствий. Потому-то он так верно описывает страсти во II книге «Риторики».
Много прекрасных мыслей содержится у него также в «Политике» и «Этиках», в «Проблемах» и в «Истории животных». И какую бы путаницу мы ни отмечали в «Аналитиках», следует признать, что оттуда взяты почти все известные правила логики. Так что ни у какого другого автора мы не заимствовали для этой «Логики» больше, чем у Аристотеля, ибо ему принадлежит основная часть предписаний.
Надо сказать, что наименее совершенное из его произведений, по-видимому, «Физика», которая дольше всего оставалась осужденной и запрещенной церковью, как это показал один сведущий человек в специальной книге н. Другой важнейший ее недостаток заключается не в том, что она ложна, а, напротив, в том, что она слишком уж истинна и учит нас только тому, чего и так невозможно не знать. Ибо кто может сомневаться, что все вещи состоят из материи и определенной формы этой материи? Кто может сомневаться, что для того, чтобы материя приобрела новый способ [бытия] и новую форму, нужно, чтобы прежде она их не имела, т. е. пребывала в состоянии лишенности? Кто, наконец, усомнится в таких метафизических принципах: все зависит от формы; материя сама по себе ничего не производит; существует определенное место, определенные движения, качества, способности? Но только не видно, чтобы, узнав эти истины, мы открыли для себя что-то новое или сумели объяснить какое-либо действие природы.
А если бы нашлись люди, утверждающие, будто совершенно недопустимо выражать несогласие с Аристотелем, нетрудно было бы доказать им, что подобная щепетильность неоправданна.
Ибо если мы должны почитать некоторых философов, то лишь по двум причинам: либо ввиду того, что они были верпы истине, либо ввиду того, что их взгляды разделяют другие.
С точки зрения истины надо оказывать пм уважение, когда они правы, по истина отнюдь не обязывает уважать ложь, кто бы ее ни высказывал.
Что же касается согласия людей в одобрении какого-либо философа, то оно, безусловно, заслуживает некоторого уважения, и было бы неблагоразумно пытаться нарушить его, не проявляя при этом большой осмотрительности, ибо, нападая на то, что принято всеми, мы навлекаем на себя подозрение в самонадеянности, так как предполагаем в себе больше света [разума], чем в других.
Но если в оценке взглядов какого-либо автора все разделились на два лагеря и если на той и на другой стороне есть люди небезызвестные, такая осторожность больше не требуется и любой волен открыто объявлять, что он одобряет и чего не одобряет в книгах, относительно которых просвещенные люди не пришли к согласию. Ведь тогда мы уже не просто ставим свое мнение выше мнения этого автора и тех, кто его разделяет, а присоединяемся к тем, кто в данном вопросе придерживается иных взглядов.
Именно в таком положении оказалась ныне философия Аристотеля. Судьба ее была изменчивой. Некогда всеми отвергаемая, впоследствии она удостоилась всеобщего признания, и теперь за ней осталась средина между этими двумя крайностями: одни ученые отстаивают ее, а другие, не менее известные, опровергают. Каждый день во Франции, Фландрии, Англии, Германии, Голландии свободно пишут в защиту и в опровержение философии Аристотеля; парижские лекции отличаются такой же свободой, как и печатные труды, и если высказаться против Аристотеля, это ни у кого не вызовет возмущения. Знаменитейшие профессора сложили с себя рабскую обязанность слепо принимать на веру все, что они находят в его книгах, А некоторые из его воззрений отовсюду изгнаны. Ибо какой врач вздумал бы в наши дни утверждать, будто нервы отходят от сердца, как полагал Аристотель? 12 Ведь анатомия со всей ясностью показала, что они берут начало в мозге, и еще святой Августин писал: qui ex puncto cerebri et quasi centro sensus omnes quinaria distributione diffudit13. Какой философ стал бы повторять, что скорость падения тел, обладающих тяжестью, возрастает в той же пропорции, что и их вес? 14 Ведь каждый может уяснить себе ошибочность этого представления Аристотеля, бросив вниз с возвышенного места два значительно различающихся по весу предмета и убедившись, что разница в скорости их падения очень мала.
Все, что навязывается силой, как правило, бывает скоропреходящим, а крайности пам всегда навязывают. Мы обошлись бы с Аристотелем чересчур сурово, если бы стали осуждать у пего все подряд, как это делалось прежде; с другой стороны, мы бы себя очень связали, если бы считали своим долгом соглашаться со всем, что бы он ни сказал, и принимать его философские взгляды за воплощение истины, как это, кажется, вздумали делать потом. Люди не могут долго терпеть подобное принуждение и мало-помалу отвоевывают себе естественное и разумное право одобрять то, что они считают истинным, и отвергать то, что представляется им ложным.
Ибо разум не находит странным, что его подчиняют авторитету в науках, кои трактуют о предметах, превосходящих его силы, и потому должны устремляться к иному свету, каковым может быть только свет божественного авторитета. Но, думается, у него есть все основания не мириться с тем, чтобы в науках человеческих, которые вменяют себе в заслугу, что они полагаются только на разум, его противоразумно ставили в рабскую зависимость от авторитета.
Исходя из этого принципа мы и судим о воззрениях философов — как древних, так и новых. У тех и других мы ценим одну только истину, не принимая, по и не отвергая никакое учение целиком.
Так что когда мы опровергаем какое-либо представление Аристотеля или кого-то другого, отсюда можно заключить, что в данном случае мы не разделяем мнение этого автора, но это вовсе не означает, будто мы не согласны с ним в других вопросах и тем более — будто мы питаем к пему неприязнь и хотим его принизить. Мы полагаем, что такая пастроепность будет одобрена всеми, кто не чужд справедливости, и что в нашем труде читатели не найдут ни малейшего предубеждения против кого бы то ни было, а усмотрят лишь искреннее желание содействовать общему благу, насколько это позволяет книга подобного рода.
Логика есть искусство верно направлять разум в познании вещей, к коему прибегают как для того, чтобы обучиться этому самим, так и для того, чтобы обучить других. Это искусство составляют размышления людей о четырех видах действий своего ума: представлении, суждении, умозаключении и упорядочении.
Представлением (concevoir) называют простое созерцание вещей, которые представляются нашему уму, как, например, когда мы представляем себе (nous гергёзеп-tons) Солнце, Землю, дерево, круг, квадрат, мышление, бытие, не вынося о них никакого суждения. Форма же, в какой мы представляем себе эти вещи, называется идеей.
Суждением (juger) называют действие нашего ума, посредством которого он, соединяя различные идеи, утверждает об одной, что она есть другая, либо отрицает это, как, например, когда, обладая идеей Земли и идеей круглого, я утверждаю о Земле, что она есть круглая, либо отрицаю, что она такова.
Умозаключением (raisonner) называют действия нашего ума, посредством которых он образует суждение на основе нескольких других; например, составив суждения, что истинная добродетель должна быть посвящена Богу и что добродетель язычников не была посвящена Богу, отсюда заключают, что добродетель язычников не была истинной добродетелью.
Упорядочением (ordonner) мы называем здесь действия ума, посредством которых различные суждения и умозаключения относительно одного и того же предмета, например, относительно человеческого тела, располагают наиболее подходящим для познания этого предмета способом. Это называется также методом.
Все перечисленные действия производятся сами собой, и подчас они лучше получаются у тех, кто незнаком с правилами логики, нежели у тех, кто выучил правила.
Таким образом, искусство, о котором идет речь, состоит не в выяснении того, как надо производить указанные действия,— ибо способность к этим действиям нам дарует природа, наделяя нас разумом,— а в размышлениях над тем, что нас побуждает делать сама природа. Эти размышления служат нам для трех целей.
Во-первых, для того, чтобы мы могли удостовериться, что правильно пользуемся разумом, так как, рассматривая правила, мы спрашиваем себя, не случалось ли нам их нарушать.
Во-вторых, для того, чтобы легче было обнаружить и уяснить погрешность или ошибку в действиях нашего ума. Ибо нередко бывает, что благодаря одному естественному свету [разума] обнаруживают ложность того или иного умозаключения, однако не могут сказать, почему оно неверно. Так люди, несведущие в живописи, иногда чувствуют, что в картине есть изъян, будучи не в состоянии объяснить, что же производит на них неприятное впечатление.
В-третьих, для того, чтобы, размышляя над действиями нашего ума, мы глубже познали его природу. Такое познание, если при этом исследовать одно только умозрение, превосходит познание любых телесных вещей, ибо они неизмеримо ниже духовных.
Если бы наши размышления над своими мыслями имели отношение только к нам самим, достаточно было бы созерцать мысли сами по себе, не облекая их в слова и не пользуясь какими-либо иными знаками. Но так как мы можем сообщать свои мысли другим только с помощью внешних знаков и привычка эта настолько сильна, что, даже когда мы размышляем наедине с собой, вещи представляются нашему уму не иначе, как вместе со словами, в которые мы привыкли их облекать, говоря с другими людьми, то в логике необходимо рассматривать идеи, соединенные со словами, и слова, соединенные с идеями.
Из всего сказанного следует, что логика может быть разделена на четыре части — в соответствии с четырьмя видами действий нашего ума, над которыми мы размышляем.
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ, В КОТОРОЙ СОДЕРЖАТСЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ ИДЕЯХ, ИЛИ О ПЕРВОМ ДЕЙСТВИИ УМА, НАЗЫВАЕМОМ ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ
Так как мы способны познавать внешние предметы только через посредство имеющихся у нас идей, размышления над нашими идеями составляют, быть может, самое важное в логике, ибо на этом зиждется все остальное.
Эти размышления можно свести к пяти главным пунктам соответственно пяти принятым нами способам рассмотрения идей:
1. С точки зрения их природы и происхождения.
2. С точки зрения наиболее существенного различия в представляемых ими объектах.
3. С точки зрения их простоты либо сложности; здесь мы будем говорить о мысленном отвлечении и исключении.
4. С точки зрения их шпроты либо ограниченности, т. е. их общности, частности, единичности.
5. С точки зрения их ясности либо темноты, или отчетливости либо смутности.
Глава I
ОБ ИДЕЯХ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИХ ПРИРОДЫ И ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Слово идея принадлежит к числу тех, которые настолько ясны, что их нельзя разъяснить с помощью других слов, потому что не существует слов более ясных и более простых.
Для того чтобы исключить неверное понимание его значения, можно единственно лишь отметить, что было бы неправильно относить его только к одному способу рассмотрения вещей, который состоит в обращении ума на образы, рисующиеся в нашем мозгу, и носит название воображения.
Ибо, как не раз замечает святой Августин, человек со времени грехопадения до такой степени привык уделять внимание одним лишь телесным вещам, образы которых входят в наш мозг через чувства, что большинство людей полагают, будто они не могут помыслить вещь, если они не в состоянии ее вообразить, т. е. представить себе в каком-либо телесном образе, как будто у нас есть только один способ мыслить (penser) и представлять (concevoir)
В действительности же, если мы станем размышлять над тем, что происходит в нашем уме, мы обнаружим, что очень многие вещи мыслятся нами без всякого телесного образа, и увидим разницу между воображением и чистым разумением (pure intellection). Ибо когда я, например, воображаю треугольник, я не только мыслю его как фигуру, ограниченную тремя прямыми линиями, но и, более того, как бы вижу ее благодаря усилию и внутреннему сосредоточению своего ума; именно это и называется воображением. Если же я думаю о тысячеугольной фигуре, то я, правда, понимаю, что это фигура, имеющая тысячу сторон, точно так же как я понимаю, что треугольник — это фигура, имеющая только три стороны, по я не могу вообразить тысячу сторон этой фигуры или, так сказать, охватить их своим умственным взором.
Правда, из-за свойственной людям привычки, думая о телесных вещах, прибегать к помощи воображения, часто бывает, что, мысля тысячеугольник, смутно представляют себе некую фигуру; однако очевидно, что эта фигура, представляющаяся в воображении, вовсе не тысячеугольник, ибо она нисколько не отличается от того, что я представил бы себе, если бы думал о фигуре, имеющей десять тысяч углов, и никак не может помочь мне выявить свойства, отличающие тысячеугольную фигуру от всякого другого многоугольника.
Итак, я не могу в собственном смысле слова вообразить тысячеугольную фигуру, поскольку образ ее, который я нарисовал бы в своем воображении, представлял бы мне одновременно любую другую фигуру с большим количеством углов; и тем не менее я способен помыслить ее очень ясно и отчетливо, поскольку я могу доказать все ее свойства, например то, что ее углы в сумме равны 1996 прямым углам. Следовательно, одно дело — воображать, и другое дело — мыслить (concevoir).
В этом мы окончательно убедимся, когда рассмотрим многие вещи, которые мы мыслйм очень ясно, несмотря на то что они недоступны воображению. Что представляется нам яснее, чем сама наша мысль, когда мы о чем-то думаем? Однако же невозможно вообразить себе мысль, или нарисовать ее образ в своем мозгу. Да и нет также не могут иметь никакого образа; ведь у того, кто высказывает суждение, что Земля круглая, и у того, кто говорит, что она не круглая, в мозгу рисуется одно и то же, а именно Земля и круглость, по один добавляет к этому утверждение, каковое является действием его ума, которое он мыслит без всякого телесного образа, а другой — противоположное действие, отрицание, у которого тем более не может быть никакого образа.
Итак, когда мы говорим об идеях, мы называем этим именем не образы, рисующиеся в воображении, а все, что наличествует в нашем уме, когда мы можем сказать, что мыслим вещь, как бы мы ее ни мыслили.
Отсюда следует, что, если только мы понимаем то, что говорим, мы не можем выразить в словах ничего такого, из чего не явствовало бы, что в нас есть идея вещи, которую мы обозначаем этими словами, хотя идея эта бывает иногда более ясной и отчетливой, а иногда — более темной и смутной, как будет показано ниже 2. Ибо нельзя, не впадая в противоречие, утверждать, что мы знаем, что говорим, когда произносим слово, и что, произнося его, мы не мыслим ничего, кроме самого звука слова.
Это показывает ошибочность двух весьма опасных мнений, изложенных двумя современными философами.
Согласно первому из этих мнений, у нас пет никакой идеи Бога3. Но если бы у нас не было идеи Бога, тогда, произнося имя «Бог», мы бы мыслили только эти три буквы — Б, о, г и французу оно говорило бы не больше, чем если бы он, не зная древнееврейского языка, зашел в синагогу и услышал слова «Адопай» и «Элога»4.
И тогда получалось бы, что те, кто именовал себя Богом, подобно Калигуле и Домициану, не проявили никакого нечестия, поскольку в этих буквах или в этих двух слогах — Deus нет ничего, что не могло бы быть отнесено к человеку, коль скоро с ними не связывают никакой идеи. Не обвиняют ясе в нечестии того голландца, который звался Людовик Бог5, Так в чем же заключилось нечестие названных правителей, если не в том, что, оставляя за словом Deus по крайней мере часть обозначаемой им идеи, а именно идею высочайшего, всеми почитаемого существа, они присваивали себе это имя вместе с идеей?
И если бы у нас не было идеи Бога, на чем бы мы основывали все, что мы о нем говорим: что он един, вечен, всемогущ, всеблаг, всемудр? Ведь ничто из перечисленного здесь не заключено в самом звуке Бог, а содержится лишь в нашей идее Бога, соединенной с этим звуком.
По этой причине мы и отказываем в имени «Бог» всем ложным божествам — не потому, чтобы к ним нельзя было отнести это слово, взятое материально (ведь относили же его к своим богам язычники), а потому, что имеющаяся у пас идея верховного существа, которую принято связывать со словом Бог, соответствует только одному, истинному Богу.
Второе из упомянутых ложных мнений, как его излагает один англичанин, следующее: Рассуждение, возможно, представляет собой не что иное, как соединение и связывание имен при помощи слова есть. Отсюда следовало бы, что посредством разума мы вообще ничего не заключаем относительно природы вещей, а только судим об их наименованиях; иными словами, мы просто смотрим, хорошо или плохо мы соединяем имена вещей с точки зрения наших произвольных соглашений относительно их значения6.
Далее этот автор прибавляет: Если это так, как оно, возможно, и есть, то рассуждение будет зависеть от слов, слова — от воображения, а воображение, вполне возможно, зависит от движения телесных органов, и, таким образом, наша душа (mens) окажется не чем иным, как движением в некоторых частях обладающего органами тела.
Эти слова, надо думать, содержат лишь возражение и далеки от мнения того, кто его выдвигает; но так как, истолкованные в утвердительном смысле, они сокрушали бы бессмертие души, важно показать, что они ложны, и сделать это нетрудно. Потому что соглашения, о которых говорит этот философ, свидетельствуют лишь о согласии людей считать определенные звуки знаками идей, имеющихся в нашем уме. Так что если бы мы не располагали, кроме имен, еще и идеями вещей, эти соглашения были бы невозможны, как невозможно посредством какого бы то ни было соглашения внушить слепому, что означают слова «красное», «зеленое», «синее», ибо, не имея этих идей, он не может соединить их с каким-либо звуком.
К тому же, поскольку разные народы дали различные имена даже самым ясным и простым вещам, таким, например, как объекты геометрии, они не могли бы делать одинаковые умозаключения относительно одних и тех же истин, если бы рассуждение было всего лишь соединением имен при помощи слова есть.
И так как из этого различия в словах видно, что арабы и французы, например, не согласились между собой придать звукам одни и те же значения, они не могли бы также сойтись в своих суждениях и умозаключениях, если бы их рассуждения зависели от подобного соглашения.
Наконец, когда говорят, что значение слов произвольно, в слове произвольно кроется двусмысленность. Действительно, такую-то идею соединяют с таким-то звуком, а не с другим совершенно произвольно, но сами идеи отнюдь не являются чем-то произвольным и не зависят от нашей фантазии, по крайней мере те из них, которые ясны и отчетливы. И это очевидно, ибо было бы смешно воображать, будто реальные действия могут зависеть от того, что совершенно произвольно. Так, когда некто путем рассуждения пришел к выводу, что железный вал, проходящий сквозь два мельничных жернова, мог бы вращаться, не вращая нижнего жернова, если бы он был круглым и проходил сквозь круглое отверстие в этом жернове, и что, вращаясь, он не мог бы не вращать верхний жернов, если бы имел квадратное сечение и был вставлен в квадратное отверстие жернова,— предполагаемое действие последовало с необходимостью. И значит, умозаключение этого человека отнюдь не было только соединением имен в соответствии с соглашением, всецело зависящим от человеческой фантазии, а представляло собой основательное, соответствующее действительности суждение о природе вещей, вынесенное благодаря рассмотрению имеющихся в уме идей, которые людям угодно было обозначить определенными именами.
Итак, ясно, что мы понимаем под словом «идея»; остается только сказать о происхождении идей.
Вопрос в том, происходят ли все наши идеи из чувств и следует ли считать истинной распространенную максиму: Nihil est in intellectu quod non prius fuerit in sensu7.
Таково мнение одного признанного философа. Свою «Логику» он начинает с предложения Omnis idea ortum ducit a sensibus — Всякая идея берет начало в чувствах3. Правда, он соглашается с тем, что не все наши идеи были в чувствах такими, каковы они в уме; однако он утверждает, что они были образованы из тех, которые прошли через чувства, либо путем сложения, как, например, когда из отдельных образов золота и горы формируют образ золотой горы; либо путем увеличения (ampliation) и уменьшения, как, например, когда из образа человека обычного роста формируют образ великана или пигмея; либо путем приспособления (accomodation) и соразмерения (proportion), как, например, когда из идеи увиденного дома формируют образ дома, какого никогда не видели. Так, говорит он, мы представляем себе Бога, который недоступен чувствам, в образе почтенного старца 9.
По этой мысли, хотя не все наши идеи похожи на какое-то определенное тело, виденное нами или воздействовавшее на наши чувства, тем не менее все они телесны и не представляют нам ничего, что прежде не вошло бы в наши чувства, по крайней мере по частям. И следовательно, мы способны помыслить что бы то ни было только посредством образов, подобных тем, которые формируются в мозгу, когда мы видим или воображаем себе тела.
Но хотя это мнение разделяют многие схоластики, я не побоюсь сказать, что оно совершенно абсурдно и столь же противно религии, сколь и истинной философии. Ибо, если говорить лишь о ясном, нет ничего, что представлялось бы нам отчетливее, чем сама наша мысль, и нет такого положения, которое было бы для нас более ясным, чем это: Я мыслю, следовательно, я существую. Однако мы никак не могли бы быть уверены в истинности этого положения, если бы не имели отчетливого представления о том, что значит быть и что значит мыслить; и не надо требовать, чтобы мы разъяснили эти термины: они из числа тех, которые понятны каждому, так что, если бы мы пожелали их разъяснить, мы бы их только затемнили. Если, таким образом, нельзя отрицать, что в нас есть идеи бытия и мышления, то я спрашиваю: через какие чувства они вошли? Светлые они или темные, если они вошли через зрение? Низкий или высокий у них звук, если они вошли через слух? Хорошо или дурно они пахнут, коль скоро они вошли через обоняние? Хороши или плохи на вкус, если мы обязаны ими вкусу? Холодные они или теплые, твердые или мягкие, если мы получили их от осязания? Если же мне скажут, что они были получены из других чувственных образов, пусть ответят, каковы эти другие чувственные образы, из которых будто бы получены идеи бытия и мышления, и как они могли быть образованы путем сложения, увеличения, уменьшения или приспособления. И если на это не сумеют дать разумный ответ, останется признать, что идеи бытия и мышления отнюдь не происходят из чувств и что наша душа способна формировать их сама, хотя она часто побуждается к этому какой-либо вещью, воздействующей на чувства. Так художника могут побудить написать картину обещанные за нее деньги, но ведь нельзя же сказать, что картина происходит от денег.
А то, что добавляют те же авторы, — будто наша идея Бога происходит из чувств, потому что мы представляем себе Бога в виде почтенного старца, — мысль, достойная лишь антропоморфистов. Она основана на смешении истинных идей о бестелесных вещах с ложными представлениями о них, которые возникают у нас в силу дурной привычки стараться все вообразить, тогда как в действительности пытаться вообразить, то, что не телесно, так же абсурдно, как желать услышать цвета и увидеть звуки.
Чтобы опровергнуть эту мысль, надо только принять в соображение, что, не будь у нас другой идеи Бога, помимо идеи почтенного старца, составляемые нами суждения о Боге должны были бы казаться нам ложными всякий раз, когда они противоречили бы этой идее. Ибо мы склонны считать своп суждения ложными, когда ясно видим, что они противоречат нашим идеям вещей, и, таким образом, мы не могли бы с уверенностью утверждать, что Бог не имеет частей, что он бестелесен, вездесущ и невидим, поскольку все это никак не согласуется с идеей почтенного старца.
И если Бога иногда представляют себе в таком виде, это не означает, что именно такова должна быть наша идея о нем: ведь по этой логике выходит, что у нас нет другой идеи Святого Духа, кроме идеи голубя, раз он являлся в виде голубя, или что мы мыслим Бога только как звук, коль скоро звук имени «Бог» служит для того, чтобы вызывать в нас идею Бога.
Следовательно, неверно, что все наши идеи берут начало в чувствах; напротив, можно сказать, что ни одна идея в нашем уме не происходит из чувств — разве только окказионально, в том смысле, что движения, возникающие у нас в мозге (а только их и способны вызывать наши чувства), дают душе повод (occasion) образовать различные идеи, которые она иначе бы не образовала, хотя в этих идеях почти никогда не бывает ничего похожего на то, что происходит в чувствах и в мозге, и к тому же есть очень много идей, которые не заключают в себе совершенно никакого телесного образа и не могут быть соотнесены с чувствами, так чтобы в этом не было явной нелепости.
Если же нам возразят, что вместе с идеей некоей бестелесной вещи, например мысли, мы все-таки формируем какой-то телесный образ, хотя бы образ обозначающего ее звука, это не будет противоречить тому, что мы доказали. Ибо возникающий в нашем воображении образ звука мысль вовсе не является образом самой мысли; это всего только образ звука, и когда он появляется у нас в уме, мы думаем о мысли лишь постольку, поскольку душа, привыкшая, представляя себе этот звук, думать о мысли, одновременно формирует чисто духовную идею мысли, не имеющую никакого отношения к идее звука и связанную с ней только вследствие привычки. Это видно из того, что глухие, будучи лишены образов звуков, все же обладают идеями своих мыслей, по крайней мере тогда, когда они делают собственные мысли предметом размышления.
Глава II
ОБ ИДЕЯХ, РАССМАТРИВАЕМЫХ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИХ ОБЪЕКТОВ
Все, что мы мыслим, представляется нашему уму либо как вещь, либо как способ [бытия] вещи (maniere de chose), либо как модифицированная вещь10.
Вещью я называю то, что мыслят как существующее само по себе и являющееся субъектом всего, что в нем мыслится. Это называют также субстанцией.
Способом [бытия] вещи, или модусом, или атрибутом, или качеством я называю то, что, будучи мыслимым в вещи как нечто, не обладающее самостоятельным существовапием, определяет ее быть известным образом, благодаря чему ее называют такой-то.
Модифицированной вещью я называю субстанцию, когда она рассматривается как определенная известным способом, или модусом.
Это будет понятнее из примеров.
Когда я рассматриваю какое-либо тело, моя идея этого тела представляет мне вещь, или субстанцию, потому что я рассматриваю его как вещь, которая существует сама по себе и для того, чтобы существовать, не нуждается ни в каком субъекте.
Но когда я принимаю во внимание, что это тело — круглое, моя идея круглости представляет мне только способ бытия, или модус, каковой, в моем понимании, по самой своей природе не может существовать без тела, свойством которого является круглость.
И наконец, когда, соединяя модус с вещью, я рассматриваю круглое тело, эта идея представляет мне модифицированную вещь.
Имена, служащие для обозначения вещей, называются существительными или абсолютными — например, «Земля», «Солнце», «дух», «Бог».
Те имена, которые первично и прямо обозначают модусы и вследствие этого имеют некоторое отношение к субстанциям, также называются существительными и абсолютными — например, «твердость», «теплота», «справедливость», «благоразумие».
Имена, которые обозначают модифицированные вещи и указывают первично и прямо, хотя и более смутно, на вещь и косвенно, хотя и более отчетливо, на модус, носят название прилагательных или соозначающих (соппо-tatifs) — например, «круглый», «твердый», «справедливый», «благоразумный».
Но следует заметить, что поскольку наш ум привык представлять себе вещи по большей части как модифицированные, ибо он почти всегда представляет их только через акциденции; или качества, воздействующие на наши чувства, он нередко разделяет саму субстанцию в ее сущности на две идеи, из которых одну рассматривает как субъект, а другую — как модус. Так, хотя все, что есть в Боге, — это и есть сам Бог, его мыслят как бесконечное сущее и рассматривают бесконечность как атрибут Бога, а сущее — как субъект этого атрибута. Подобным же образом человек часто рассматривается как субъект человечности, habens humanitatem, и, следовательно, как модифицированная вещь.
В таких случаях в качестве модуса берут сущностный атрибут, т. е. саму вещь, поскольку его мыслят как бы находящимся в субъекте.
Однако очень важно знать, что действительно есть модус и что лишь кажется таковым, ибо одна из главных причин наших заблуждений — смешение модусов с субстанциями и субстанций с модусами. Подлинный модус отличается тем, что без него можно ясно и отчетливо помыслить субстанцию, модусом которой он является, но невозможно, наоборот, ясно помыслить этот модус, не мысля в то же время его отношения к субстанции, модусом которой он является и без которой он по природе своей не может существовать.
Это не значит, чтр невозможно помыслить модус, не обращая явного внимания на его субъект. Но что понятие отношения к субстанции содержится, по крайней мере смутно, в понятии модуса, видно из того, что нельзя было бы отрицать это отношение, не уничтожая самой идеи модуса, тогда как, мысля две вещи и две субстанции, можно отрицать одну относительно другой, но уничтожая идей этих субстанций.
Например, я вполне могу помыслить благоразумие, не обращая явного внимания на человека, который благоразумен, по я не могу помыслить благоразумие, отрицая его отношение к человеку или какому-либо другому наделенному умом существу, обладающему этой добродетелью.
И напротив, когда я рассматриваю все, что присуще протяженной субстанции, называемой телом, как-то: протяженность, фигуру, подвижность, делимость, и, с другой стороны, все, что присуще духу ц мыслящей субстанции, как-то: мышление, сомнение, воспоминание, воление, рассуждение, то я могу отрицать относительно протяженной субстанции все, что входит в мое представление о мыслящей субстанции, и при этом весьма отчетливо мыслить протяженную субстанцию и все ее атрибуты, и наоборот, я могу отрицать относительно мыслящей субстанции все, что входит в мое представление о субстанции протяженной, и при этом весьма отчетливо мыслить все, что я полагаю в мыслящей субстанции.
Из этого видно, что мышление отнюдь не является модусом протяженной субстанции, ибо, отрицая относительно мышления протяженность и все сопутствующие ей свойства, мы тем не менее вполне можем его помыслить.
По поводу модусов заметим еще, что одни из них можно назвать внутренними, поскольку они мыслятся в субстанции, как, например, «круглый», «квадратный», а другие — внешними, поскольку они зависят от чего-то, что не находится в субстанции, как, например, «любимый», «видимый», «желаемый», — всё это имена, связанные с действиями других людей, в школьной логике они называются внешними наименованиями. Если же эти внешние модусы зависят от некоторого способа рассматривать вещи, их называют вторичными интенциями. Так, быть субъектом, быть атрибутом — вторичные интенции, потому что речь идет о двух способах мыслить вещи, обусловленных действиями ума, который связывает две идеи, утверждая одну относительно другой.
Заметим также, что есть модусы, которые могут быть названы субстанциальными, поскольку они представляют нам в действительности субстанции, приложенные к другим субстанциям в качестве модусов и способов [бытия], например: «одетый, «вооруженный».
Другие модусы могут быть названы реальными; это подлинные модусы, которые являются не субстанциями, а способами [бытия] субстанций.
И наконец, есть модусы, которые можно назвать отрицательными, поскольку они представляют нам субстанции вместе с отрицанием некоторого реального или субстанциального модуса.
Если объекты, представленные идеями, будь то идея субстанции или модуса, действительно таковы, какими они представлены, идеи называются истинными; в противном случае они ложны свойственным им образом, — это то, что схоластики называют мыслимыми сущими. Чаще всего это образуемые умом соединения двух таких идей, которые сами по себе реальны, но в действительности не соединены так, чтобы из них получилась одна идея. Например, идея золотой горы есть мыслимое сущее, потому что она составлена из двух идей — горы и золота, которые она представляет соединенными, хотя на самом деле они не таковы.
Глава III
О ДЕСЯТИ КАТЕГОРИЯХ АРИСТОТЕЛЯ
К рассмотрению идей с точки зрения их объектов можно отнести десять категорий Аристотеля, поскольку это не что иное, как различные классы, к которым этот философ сводит все объекты наших мыслей, охватывая первой категорией все субстанции, а девятью другими — все акциденции. Вот эти категории.
I. Субстанция, каковая является либо духовной, либо материальной и т. д.12
II. Количество. Когда части не соединены одна с другой, количество называется раздельным, как, например, число, а когда соединены — непрерывным. Непрерывное количество является либо последовательным (successive), как, например, время, движение, либо одновременным (permanente), что иначе называют пространством или протяжением в длину, ширину и глубину; одна длина образует линии, длина и ширина — поверхности, а все три вместе — тела.
III. Качество. Аристотель различает четыре вида качеств.
Первый — это устойчивые свойства (habitudes), т. е. состояния духа или тела, приобретаемые посредством повторяемых действий; таковы, например, знания, добродетели, пороки, искусность в живописи, в письме, в танцах.
Второй — прирожденные способности, такие, как способности души или тела, разум, воля, память, пять чувств, способность ходить.
Третий — чувственные качества, как-то: твердость, мягкость, тяжесть, холод, тепло, цвета, звуки, запахи, различные вкусовые качества.
Четвертый — вид (forme) и фигура, являющиеся внешним определением количества, например: быть круглым, быть квадратным, шарообразным, кубическим.
IV. Отношение, или связь одной вещи с другой, как, например, отношение отца и сына, хозяина и слуги, короля и подданного; отношение способности к объекту ее приложения, видения — к тому, что видимо; ко всему, что указывает на сравнение, как, например, «подобный», «равный», «больший», «меньший».
V. Действие — либо в себе самом, например, ходить, танцевать, познавать, любить, либо вовне, например, бить, резать, ломать, освещать, нагревать.
VI. Претерпевание — быть битым, ломаемым, освещаемым, нагреваемым.
VII. Где, т. е. то, что отвечают на вопросы, касающиеся места, например, быть в Риме, в Париже, у себя в кабинете, в постели, в кресле.
VIII. Когда, т. е. то, что отвечают на вопросы, касающиеся времени, например: «Когда он жил?» — «Сто лет назад»; «Когда это произошло?» — «Вчера».
IX. Положение — сидеть, стоять, лежать, впереди, сзади, справа, слева.
X. Обладание, о котором говорится тогда, когда имеют на себе что-то, что служит одеждой, или украшением, или снаряжением, — быть одетым, быть украшенным венком, быть вооруженным.
Таковы десять категорий Аристотеля, которым придают столь большое значение, хотя, если сказать правду, они не представляют никакой ценности и не только не помогают развитию способности суждения, что является задачей истинной логики, по и нередко весьма тому мешают — по двум причинам, которые важно указать.
Первая состоит в том, что эти категории рассматривают как нечто коренящееся в разуме и в самой действительности, хотя они совершенно произвольны и основаны только на воображении человека, который был отнюдь не властен предписывать закон другим, ибо каждый вправе распределить объекты своих мыслей иначе, соответственно своему образу философствования. И действительно, некоторые заключили всё, что рассматривается в мире согласно с новой философией, в следующее двустишие:
Mens, mensura, quies, motus, positura, figura Sunt cum materia cunctarum exordia reruml3.
Иными словами, они убеждены, что всю природу можно объяснить, рассматривая в ней только эти семь вещей или модусов.
1. Mens — дух, или мыслящая субстанция.
2. Materia — тело, или протяженная субстанция.
3. Mensura — величина или малость каждой частицы материи.
4. Positura — их положение относительно друг друга.
5. Figura — их фигура. 6. Motus — их движение.
7. Quies — их покой, или наименьшее движение.
Вторая причина опасности, таящейся в изучении категорий, состоит в том, что оно порождает у людей привычку довольствоваться словами — воображать себе, будто онп всё знают, когда им известны лишь произвольные имена вещей, не вызывающие в уме никакой ясной и отчетливой идеи, как это будет показано в другом месте.
Можно было бы сказать здесь еще об атрибутах луллистов — благость, могущество, величие и т. д.14 Но их представление, что, прилагая эти метафизические термины к чему угодно, они смогут всё объяснить, настолько нелепо, что его даже незачем опровергать.
Один современный автор с полным основанием сказал, что правила Аристотелевой логики служат лишь затем, чтобы доказать другому то, что уже знаешь сам, а искусство Луллпя побуждает лишь бездумно разглагольствовать о том, чего не знаешь 15. Неведение гораздо лучше такого лжезпания, дающего повод мнить, будто знаешь то, о чем не имеешь ни малейшего понятия. Как совершенно справедливо заметил святой Августин в своей книге «О пользе веры», подобное расположение ума весьма предосудительно по двум причинам. Во-первых, человек, безосновательно убежденный, что он знает истину, становится неспособным ее воспринять. Во-вторых, эта самоуверенность и чрезмерная смелость не говорят о ясном уме. Opinari, duas ob res turpissimum est, quod discere non potest qui sibi jam se scire persuasit, et per se ipsa temeritas non bene affecti animi signum estie.
Ибо слово opinari в латинском языке первоначально означало такое состояние ума, когда легко соглашаются с тем, что недостоверно, и потому воображают, будто обладают знанием того, чего на самом деле не знают. Поэтому все философы были согласны с утверждением Sapien-tem nihil opinari, а Цицерон, признаваясь в этом пороке, назвал себя magnus opinator.
Глава IV
ОБ ИДЕЯХ ВЕЩЕЙ И ИДЕЯХ ЗНАКОВ
Когда объект рассматривается сам по себе, в своем собственном бытии и наш умственный взор не обращается на то, что он может представлять, имеющаяся у нас идея этого объекта является идеей вещи, как, например, идея Земли, Солнца. Когда же некоторый объект рассматривают только в качестве представляющего какой-то другой объект, его идея является идеей знака и этот первый объект называют знаком. Так обычно смотрят на географические карты и на произведения живописи. Знак заключает в себе, таким образом, две идеи: идею вещи представляющей и идею вещи представляемой, и сущность его состоит в том, чтобы вызывать вторую посредством первой.
Можно произвести различные деления знаков, по мы удовлетворимся здесь тремя самыми необходимыми.
Первое. Есть достоверные знаки, называемые по-гречески rexprjpia: например, дыхание — достоверный знак жизни животных; а есть знаки лишь вероятные, которые по-гречески называются cpeia18: например, бледность — только вероятный знак беременности у женщин.
Большая часть легковесных суждений проистекает из того, что люди смешивают эти два вида знаков и приписывают некоторое действие какой-то определенной причине, хотя оно может быть вызвано также и другими причинами и, следовательно, служит только вероятным знаком этой причины.
Второе. Есть знаки, связанные с вещами; так, выражение лица, являющееся знаком душевных движений, связано с теми чувствами, которые оно обозначает; симптомы, знаки болезней, связаны с этими болезнями; пли, если воспользоваться более высокими примерами, ковчег, знак церкви, был связан с Ноем и его детьми, которые составляли истинную церковь того времени; наши материальные храмы, знаки верующих, часто связаны с верующими; голубь, образ Святого Духа, был связан со Святым Духом; омовение при крещении, символ духовного возрождения, связано с самим возрождением.
Есть также знаки, отделенные от вещей; например, жертвоприношения древнего закона и знаки принесенного в жертву Иисуса Христа были отделены от того, что они представляли.
Это деление знаков позволяет установить следующие максимы.
1. Никогда нельзя с определенностью заключать ни от наличия знака к наличию обозначаемой вещи, поскольку есть и знаки отсутствующих вещей, ни от наличия знака к отсутствию обозначаемой вещи, поскольку есть и знаки вещей наличествующих. Таким образом, о наличии или отсутствии обозначаемой вещи следует судить, исходя из особенности знака.
2. Хотя вещь в некотором состоянии не может быть знаком себя самой в том же состоянии, ибо всякий знак предполагает различие между представляющей вещью и той, которая ею представлена, однако вполне возможно, чтобы вещь в определенном состоянии представляла себя же в другом состоянии, — например, вполне возможно, чтобы человек в своей комнате представлял себя проповедующим; и таким образом, достаточно одного различия состояния между вещью обозначающей и вещью обозначаемой, т. е. одно и то же может быть в одном состоянии обозначающим, а в другом — обозначаемым.
3. Вполне возможно, чтобы одна и та же вещь одновременно скрывала и обнаруживала другую, и, следовательно, те, кто утверждал, будто ничто не являет себя через то, что его скрывает, выдвинули неосновательную максиму. Ведь одна и та же вещь, поскольку она может быть одновременно и вещью, и знаком, может как вещь скрывать то, что она обнаруживает как знак. Например, теплая зола скрывает очаг как вещь и обнаруживает его как знак. Образы, принимаемые ангелами, скрывали их как вещи и обнаруживали как знаки. Символы евхаристии скрывают тело Иисуса Христа как вещи и обнаруживают как символы.
4. Так как сущность знака состоит в том, чтобы вызывать в чувствах посредством вещи обозначающей идею вещи обозначаемой, можно сделать вывод, что пока есть (subsiste) это действие, т. е. пока вызывается эта двоякая идея, есть и знак, даже если бы эта первая вещь была уничтожена в своем естестве. Так, например, неважно, чтобы цвета радуги, которые Бог выбрал в качестве знака того, что он больше не истребит род человеческий потопом, были реальными и настоящими, — лишь бы только наши чувства всегда получали одно и то же впечатление и оно служило к тому, чтобы мы думали о Божием завете.
Неважно также, чтобы хлеб евхаристии существовал в своем естестве, — лишь бы только в наших чувствах всегда вызывалась идея хлеба, дабы мы помышляли о том, каким образом тело Иисуса Христа есть пища наших душ и как объединены между собою верующие.
Третье деление знаков таково: есть знаки естественные, которые не зависят от человеческой фантазии, — например, изображение в зеркале является естественным знаком того, что оно представляет, — и есть знаки по учреждению и установлению, безотносительно к тому, имеют ли они какое-то отдаленное сходство с представляемой вещью или же вовсе с нею несходны. Так, слова суть учрежденные знаки мыслей, а характеры 19 — слов. Когда мы будем говорить о предложениях, мы рассмотрим одну важную истину, касающуюся знаков, а именно что в некоторых случаях относительно знаков можно утверждать обозначаемые ими вещи20.
Глава V
ОБ ИДЕЯХ, РАССМАТРИВАЕМЫХ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИХ СЛОЖНОСТИ ИЛИ ПРОСТОТЫ, — ГДЕ ГОВОРИТСЯ О СПОСОБЕ ПОЗНАНИЯ ПОСРЕДСТВОМ ОТВЛЕЧЕНИЯ, ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЯ (PRECISION)
Во II главе мы между прочим отметили, что можно рассматривать модус, не думая о субстанции, модусом которой он является. Это дает нам повод объяснить, что называют мысленным отвлечением (abstraction d’esprit).
Вследствие своей ограниченности ум наш способен в полной мере попять вещи сколько-нибудь сложные, только рассматривая их по частям и как бы в разных видах, какие они могут принимать. Это и есть то, что в общем можно назвать познанием посредством отвлечения.
Но так как вещи являются сложными различным образом и есть вещи, которые состоят из действительно раздельных частей, называемых составными частями, — например, человеческое тело, разные части числа, — то нетрудно понять, что ум может рассматривать одну часть, не рассматривая другой, поскольку он имеет дело с действительно раздельными частями; однако это не относится к тому, что называют отвлечением.
В вещах подобного рода настолько важно рассматривать отдельные части предпочтительно перед всем целым, что иначе нельзя достичь почти никакого ясного знания. Существует ли, к примеру, иной способ познания человеческого тела, кроме деления его на все его однородные и разнородные части и обозначения всех частей различными именами? На этом основана также вся арифметика. Ведь для того чтобы считать небольшие числа, нет нужды в искусстве, потому что ум способен охватить их целиком, и, следовательно, все искусство заключается в том, чтобы считать по частям, когда невозможно сосчитать все сразу, как невозможно, например, сколь бы изощренным умом мы ни обладали, перемножить два восьми- или девятизначных числа, если брать их целиком.
Второй вид познания по частям — тот, когда рассматривают модус, не принимая во внимание субстанцию, или же когда рассматривают два модуса, соединенных в одной субстанции, по отдельности. Именно так поступают геометры, которые сделали предметом своей науки тело, протяжепное в длину, ширину и глубину. Чтобы лучше его изучить, они сначала рассматривают его только в одном измерении, а именно в длину, и дают ему название линии. Далее они рассматривают его в двух измерениях — в длину и в ширину и называют поверхностью. И затем, рассматривая все три измерения вме-сте — длину, ширину и глубину, они называют его трех- мерной фигурой или телом.
Из этого видно, сколь смешон аргумент тех скептиков, которые хотят заставить нас сомневаться в достоверности геометрии, из-за того что она предполагает линии и поверхности, не существующие в природе. Ибо геометры вовсе не предполагают, что есть линии без ширины или поверхности без глубины; они предполагают лишь, что можно рассматривать длину, отвлекаясь от ширины, а это не подлежит сомнению — ведь, определяя, например, расстояние между двумя городами, измеряют только длину дорог, не глядя на их ширину.
Чем больше различных модусов мы способны выделить в вещах, тем глубже может познать наш ум эти вещи. Так, пока в движении не различали стремление к некоторому месту и само движение и, более того, разные части в одном и том же стремлении22, до тех пор и не могли найти вразумительного объяснения отражению и преломлению света. Между тем благодаря указанному различению эти явления удалось легко объяснить, как это можно видеть во II главе «Диоптрики» господина Декарта.
Третий способ мыслить вещи посредством отвлечения следующий: когда одна и та же вещь обладает разными атрибутами, думают об одном из них, не помышляя о другом, хотя бы различие между ними было чисто умозрительным. Делается это так. Если я, например, размышляю над тем фактом, что я мыслю и, следовательно, являюсь мыслящим я, то в своей идее мыслящего я я могу сосредоточиться на мыслящей вещи, не принимая во внимание, что это есть я, хотя во мне я и тот, кто мыслит, суть одно и то же. И таким образом, полученная мною идея мыслящей личности может представлять мне не только меня самого, но и все другие мыслящие личности. Точно так же, если, начертив на бумаге равносторонний треугольник, я стану рассматривать его там, где он находится, со всеми определяющими его акциденциями, я буду обладать идеей одпого-единственного треугольника. А если я отвлеку свой ум от рассмотрения всех его частных свойств и сосредоточусь на том, что это фигура, ограниченная тремя равными линиями, идея, которую я образую, с одной стороны, в более отчетливом виде представит мне равенство линий, а с другой — сможет представить мне все равносторонние треугольники. Если же я пойду еще дальше и, пренебрегая равенством линий, буду принимать во внимание только то, что это фигура, ограниченная тремя прямыми линиями, я образую идею, которая может представлять треугольники любого рода. Если затем, пренебрегая числом линий, я буду учитывать только, что это плоская поверхность, ограниченная прямыми линиями, то идея, которую я образую, будет представлять мне все прямолинейные фигуры. И так, ступень за ступенью, я дойду до протяжения. Мы видим, что на всех уровнях этого отвлечения низшая ступень включает в себя высшую вместе с каким-либо частным определением, — например, я включает то, что мыслит, равносторонний треугольник включает треугольник, а треугольник — прямолинейную фигуру, — но высшая ступень, будучи менее определенной, способна представлять большее число объектов.
Наконец, очевидно, что посредством такого рода отвлечения идеи единичных вещей становятся общими (communes), а общие идеи — еще более общими. Перейдем теперь к тому, что мы должны сказать об идеях, рассматриваемых с точки зрения их общности (universalite)’ или частности.
Глава VI
ОБ ИДЕЯХ, РАССМАТРИВАЕМЫХ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИХ ОБЩНОСТИ (GENERALITE), ЧАСТНОСТИ И ЕДИНИЧНОСТИ
Хотя все существующее является единичным, благодаря только что описанному отвлечению все мы обладаем несколькими видами идей. Одни идеи представляют нам только одну вещь — такова, например, имеющаяся у каждого идея самого себя; другие же могут представлять многие вещи — так, например, когда кто-нибудь мыслит некоторый треугольник, принимая во внимание лишь то, что это фигура с тремя сторонами и тремя углами, образованная им идея может служить ему для того, чтобы мыслить все прочие треугольники.
Идеи, которые представляют только одну вещь, называют единичными или индивидуальными, а то, что они представляют, — индивидуумами, Идеи, которые представляют множество вещей, называются всеобщими (universelies), общими (communes), родовыми (generales)23.
Имела, служащие для обозначения первых, называются собственными — Сократ, Рим, Буцефал, а те, что служат для обозначения последних, — общими и нарицательными, как, например, человек, город, лошадь. Как общие идеи, так и общие имена могут быть названы родовыми терминами.
Однако следует заметить, что имена являются родовыми двояким образом. Во-первых, они бывают однозначными, а именно когда они связаны с родовыми идеями так, что одно и то же слово не только подходит ко множеству вещей как звук, но и соединяется при этом с одной и той же идеей, — таковы только что приведенные слова: «человек», «город», «лошадь».
Во-вторых, они бывают неоднозначными, а именно когда один и тот же звук люди связали с различными идеями, так что один и тот же звук относится к нескольким вещам, соответствующим не одной и той же идее, а различным идеям, с которыми он оказывается соединенным в обычном употреблении. Например, французское слово canon означает военное орудие, постановление церковного собора и род украшения24, но при этом оно обозначает совершенно разные идеи.
Сама эта неоднозначная общность может быть двоякой. Различные идеи, соединенные с одним и тем же звуком, либо не имеют между собой никакой естественной связи, как, например, в слове canon, либо определенным образом связаны друг с другом, как, папример, когда слово, изначально соединенное с одной идеей, соединяют с другой идеей только потому, что она связана с первой, отношением причины, действия, знака или подобия. Неоднозначные слова такого рода называются аналогическими. Например, слово здоровый применяют к живому существу, к воздуху и к пище. С этим словом изначально соединена идея здоровья, подходящая только к живому существу, однако с ним соединяют и другую, близкую к ней, идею, а именно: быть причиной здоровья, вследствие чего о воздухе и пище говорят, что они здоровые, так как они служат сохранению здоровья.
Но когда мы говорим здесь о родовых словах, мы имеем в виду однозначные слова, соединенные с общими и родовыми идеями.
У общих идей очень важпо строго различать содержание (comprehension) и объем (etendue)25.
Содержанием идеи я называю атрибуты, которые она в себе заключает и которых от пее нельзя отторгнуть, не уничтожив ее самой. Например, содержание идеи треугольника включает протяженность, фигуру, три линии, три угла и равенство этих трех углов двум прямым и т. д.
Объемом идеи я называю субъекты, к которым эта идея подходит; их называют также низшими [субъектами] (les inferieurs) родового термина, который по отношению к ним называется высшим.
Например, идея треугольника вообще простирается на всевозможные виды треугольников.
Но хотя родовая идея простирается на все субъекты, к которым она подходит, т. е. на все низшие [субъекты], и общее имя обозначает все эти низшие [субъекты], однако между атрибутами, которые она содержит, и субъектами, на которые она простирается, существует та разница, что от пее нельзя отторгнуть ни единого атрибута, не уничтожив, как мы уже сказали, ее самой, тогда как в отношении объема ее можно сузить, прилагая ее лишь к какому-то одному из субъектов, к которым она подходит.
Такое ограничение (restriction), или сужение, родовой идеи в отношении объема может осуществляться двумя способами.
Во-первых, путем присоединения к ней другой, отчетливой и определенной идеи, как, например, когда к родовой идее треугольника я присоединяю идею наличия прямого угла, что сужает эту идею до одного-единственного вида треугольника, а именно прямоугольного треугольника.
Во-вторых, путем присоединения к ней одной только расплывчатой и неопределенной идеи части, как, например, когда я говорю: «некоторый треугольник». В этом случае общий термин становится частным, так как он простирается теперь лишь на часть субъектов, на которые он простирался прежде, причем остается неопределенным, какова эта часть, до которой сужают первоначальную идею.
Глава VII
О ПЯТИ РАЗНОВИДНОСТЯХ ОБЩИХ ИДЕЙ; РОДАХ, ВИДАХ, ВИДОВЫХ ОТЛИЧИЯХ, СОБСТВЕННЫХ ПРИЗНАКАХ, СЛУЧАЙНЫХ ПРИЗНАКАХ
Сказанное в предыдущих главах дает нам возможность вкратце описать пять универсалий, рассматриваемых в школьной логике26.
Когда общие идеи представляют нам свои объекты как вещи и обозначаются терминами, называемыми существительными или абсолютными, их называют родами или же видами,
О родах
Родами их называют, когда они настолько общи, что простираются на другие идеи, также общие. Так, например, четырехугольник служит родом по отношению к параллелограмму и трапеции; субстанция — род по отношению к протяженной субстанции, называемой телом, и мыслящей субстанции, называемой духом.
О виде
Те общие идеи, которые подчинены одной, более общей идее, называются видами; например, параллелограмм и трапеция — виды четырехугольника, тело и дух — виды субстанции.
Таким образом, одпа и та же идея может быть родом в сравнении с идеями, на которые она простирается, и видом в сравнении с другой, более общей идеей. Например, тело является родом по отношению к одушевленному и неодушевленному телу и видом по отношению к субстанции; четырехугольник, будучи родом по отношению к параллелограмму и трапеции, является видом по отношению к фигуре.
Но есть и другое понятие вида; оно соответствует лишь тем идеям, которые не могут быть родами. Эго тот случай, когда идея имеет под собой только индивидуумы и единичные вещи: например, круг имеет под собой только единичные круги, ибо все они принадлежат к одному виду» Такую идею называют последним видом, species infima.
Есть также и род, который никоим образом не может быть видом, а именно высший из всех родов, и неважно, является ли таковым бытие или субстанция; этот вопрос относится скорее к метафизике, нежели к логике.
Я сказал, что общие идеи, представляющие нам свои объекты как вещи, называются родами либо видами, ибо нет необходимости в том, чтобы объекты этих идей действительно были вещами и субстанциями, — достаточно, чтобы мы рассматривали их как вещи, т. е. если это модусы, соотносили их не с субстанциями, а с другими идеями модусов, более или менее общими по сравнению с ними. Так, например, фигура, которая есть лишь модус по отношению к телу, обладающему фигурой, является родом по отношению к криволинейным и прямолинейным фигурам.
И наоборот, если идеи представляют нам объекты как модифицированные вещи и обозначаются прилагательными, или соозначающими терминами, и если их связывают с субстанциями, которые эти соозпачающие термины обозначают прямо, но смутно, то независимо от того, обозначают ли данные соозпачающие термины сущностные атрибуты, которые в действительности суть не что иное, как сама вещь, или же они обозначают подлинные модусы, эти идеи называют не видами или родами, а либо видовыми отличиями, либо собственными признаками, либо случайными признаками.
Их называют видовыми отличиями, когда объект этих идей — сущностный атрибут, отделяющий один вид от другого, например, «протяженный», «обладающий весом», «разумный».
Их называют собственными признаками, когда их объект — атрибут, который в действительности принадлежит к сущности вещи, но не является первым атрибутом, рассматриваемым в этой сущности, а только сопутствует первому, как, например, «делимый», «бессмертный», «восприимчивый к знанию».
Их называют общими случайными признаками, когда их объект — подлинный модус, который можно отделить, по крайней мере мысленно, от вещи, случайным признаком коей он именуется, не уничтожив в нашем уме идею данной вещи; например, «круглый», «твердый», «справедливый», «благоразумный». Все это надо изложить подробнее.
О видовом отличии
Когда род имеет два вида, идея каждого вида необходимо должна содержать в себе нечто, что не содержится в идее рода. Иначе, если бы каждая из этих двух идей содержала только то, что заключено в роде, это и был бы род, а так как род подходит к каждому виду, то каждый вид подходил бы к другому. Таким образом, первый сущностный атрибут, который содержится во всяком виде сверх того, что заключает в себе род, называется видовым отличием, а наша идея этого атрибута есть общая идея, ибо одна и та же идея может представлять нам данное отличие везде, где мы его находим, т. е. во всех низших [субъектах] данного вида.
Пример. Тело и дух суть два вида субстанции. Следовательно, необходимо, чтобы в идее тела было нечто сверх того, что есть в идее субстанции, и точно так же — в идее духа. Первое, что мы видим сверх этого в теле, — протяженность, а в духе — мышление. Таким образом, видовым отличием тела будет протяженность, а духа — мышление; иными словами, тело — протяженная субстанция, а дух — мыслящая.
Из этого явствует, во-первых, что видовое отличие имеет отношение как к роду, который оно делит на части, так и к виду, который оно полагает и образует, составляя основную часть того, что заключено в идее вида с точки зрения содержания. Отсюда следует, что всякий вид может быть назван или одним словом — например, «дух», «тело», или сочетанием двух слов, а именно обозначающего род и обозначающего видовое отличие, что называют определением, — например, «мыслящая субстанция», «протяженная субстанция».
Во-вторых, из этого явствует, что, поскольку видовое отличие полагает вид и отделяет его от других видов, оно должно иметь тот же объем, что и вид, и, таким образом, необходимо, чтобы они сказывались друг о друге, например: «Все, что мыслит, есть дух» и «Все, что есть дух, мыслит».
Однако довольно часто бывает, что в вещах не обнаруживается никакого атрибута, который был бы присущ (convienne) всему данному виду и только данному виду; тогда соединяют несколько атрибутов, совокупность которых содержится только в этом виде, составляя его отличие. Так, платоники, считавшие демонов, как и человека, разумными живыми существами, не признавали видовое отличие «разумный» взаимозаменимым по отношению к «человеку»27 и поэтому добавляли к нему другое — «смертный»; это последнее не является взаимозаменимым по отношению к «человеку», поскольку оно присуще и животным, но оба вместе присущи только человеку. То же самое мы делаем при образовании идей большей части животных.
Наконец, надо заметить, что пет необходимости в том, чтобы оба видовых отличия, которые делят род на части, всегда были положительными, — достаточно, чтобы положительным было одно из них. Например, два человека отличны друг от друга, если у одного есть поша, а у другого пет, хотя бы тот, у кого пет ноши, не обладал ничем таким, чего не было бы у другого. И.?и, например, человек в общем отличается от зверя тем, что человек есть животное, наделенное умом, animal mente praeditum, а зверь есть просто животное, animal merum. Ибо идея зверя в общем не заключает в себе ничего положительного, чего не было бы в человеке; с ней соединяют лишь отрицание того, что есть в человеке, а именно ума. Так что все различие между идеей животного и идеей зверя состоит в том, что идея животного не заключает в своем содержании мышления, но и не исключает его и даже имеет его в своем объеме, поскольку оно присуще мыслящему животному, тогда как идея зверя исключает его из своего содержания и, таким образом, не подходит к мыслящему животному.
О собственном признаке
Если мы пашли отличие, полагающее вид, т. е. основной сущностный атрибут, отделяющий его от всех других видов, и при ближайшем рассмотрении сущности данного вида находим еще какой-то атрибут, который необходимо связан с первым и, следовательно, прпсущ всему этому виду и только этому виду, omni et soli, мы называем его свойством (propriete) п, так как он обозначен соозпа-чающим термином, относим его к виду в качестве собственного признака. А поскольку он присущ также всем низшим [субъектам] данного вида и одна и та же идея его, однажды образованная, может представлять это свойство везде, где его обнаруживают, собственный признак рассматривается как четвертый из общих и всеобщих терминов.
Пример. Иметь прямой угол — сущностное видовое отличие прямоугольного треугольника. А так как необходимым сопутствующим признаком прямого угла является то, что квадрат противолежащей стороны равен квадратам двух сторон, его заключающих, то равенство этих квадратов рассматривается как свойство прямоугольного треугольника, которое присуще всем прямоугольным треугольникам и только им одним.
Но иногда выражение «собственный признак» употребляли в более широком смысле и различали четыре вида собственных признаков28.
1- й — тот, который мы сейчас описали: quod convenit omni, et soli, et semper29; например, собственным признаком всякого круга и только круга, причем постоянным признаком, служит равенство линий, проведенных от центра к окружности.
2- й — quod convenit omni, sed non soli30; так, мы говорим, что собственный признак протяжения — быть делимым, ибо всякое протяжение можно разделить на части, хотя длительность, число и сила тоже делимы.
3- й — quod convenit soli, sed non omni31; например, только человек может быть врачом или философом, хотя не все люди являются таковыми.
4- й — quod convenit omni et soli, sed non semper32; сюда относят, к примеру, поседение, canescere, что присуще всем людям и единственно лишь людям, по только в старости.
О случайном признаке
Как мы уже сказали во II главе, модусом называют то, что по природе своей может существовать только в субстанции и не связано необходимым образом с пдеей вещи, так что вполне можно помыслить вещь, не мысля модус, как, например, вполне можно помыслить человека, не мысля его благоразумным, по нельзя помыслить благоразумие, не мысля в то же время человека или какое-нибудь другое наделенное умом существо, отличающееся благоразумием.
Так вот, когда соединяют смутную и неопределенную идею субстанции и отчетливую идею какого-либо модуса, эта последняя способна представлять все вещи, в которых есть данный модус, например, идея благоразумного — всех благоразумных людей, идея круглого — все круглые тела; эта идея, выраженная соозначающим термином — благоразумный, круглый, и составляет пятую универсалию, получившую название случайного признака, поскольку она не существенна для вещи, к которой ее относят. Ибо если бы она была для нее существенной, она являлась бы видовым отличием или собственным признаком.
Но здесь следует отметить, что, когда рассматривают две субстанции вместе, можно, как мы уже сказали, принять одну из них за модус другой. Так, одетый человек может рассматриваться как некое целое, состоящее из самого человека и его одежд; но быть одетым — по отношению к этому человеку, как его рассматривают, только модус, или способ бытия, хотя его одежды относятся к субстанциям. Поэтому «быть одетым» — это только пятая универсалия.
Мы привели более чем достаточно сведений о пяти универсалиях, о которых столь пространно рассуждают схоластики. Ибо немного пользы знать, что есть роды, виды, видовые отличия, собственные и случайные признаки, но важно распознавать истинные роды вещей, истинные виды каждого рода, их истинные отличия и свойства, а также случайные признаки, которые к ним подходят. На это мы сможем пролить некоторый свет в следующих главах, но прежде скажем о сложных терминах.
Глава VIII
О СЛОЖНЫХ ТЕРМИНАХ; ОБ ИХ ОБЩНОСТИ И ЧАСТНОСТИ
Иногда к термину присоединяют какие-то другие термины и они образуют в нашем уме совокупную идею, относительно которой можно утверждать или отрицать то, чего мы не могли бы утверждать или отрицать относительно каждого из этих терминов в отдельности. К примеру, благоразумный человек; прозрачное тело; Александр, сын Филиппа — сложные (complexes) термины.
Такое прибавление иногда делается посредством относительного местоимения, например: тело, которое прозрачно; Александр, который был сыном Филиппа; папа, который является наместником Иисуса Христа.
Можно даже сказать, что, если это относительное местоимение и не всегда выражено, оно всегда так или иначе подразумевается, потому что при желании его могут выразить, не изменив предложения.
Ибо все равно, сказать ли «прозрачное тело» или «тело, которое прозрачно».
В сложных терминах примечательно еще то, что прибавление к термину бывает двух видов: первый можно назвать описанием (explication), второй — ограничением (determination).
Прибавление следует называть описанием, когда в нем всего лишь развертывается то, что было заключено в содержании идеи, выраженной первым термином, или по крайней мере то, что подходит к ней как один из се случайных признаков, если только это подходит к ней в общем и во всем ее объеме, как, например, если я говорю: человек, который есть животное, наделенное разумом, или человек, который по природе своей стремится обрести счастье, или человек, который смертен. Подобные прибавления — не более чем описания, потому что они не вносят никаких Изменений в идею, выражаемую словом «человек» и не сужают ее так, чтобы она обозначала только часть людей, а всего лишь указывают на то, что подходит ко всем людям.
Все прибавления, какие делают к именам, отчетливо обозначающим индивидуум, относятся к этому виду, например: Париж, который является самым большим городом Европы; Юлий Цезарь, который был величайшим в мире полководцем; Аристотель, князь философов; Людовик XV, король Франции. Ведь отчетливо выраженные индивидуальные термины всегда берутся во всем своем объеме, так как они предельно ограничены.
Другой вид прибавления, который можно назвать ограничением, — тот, когда прибавляемое к родовому слову сужает его значение и оно уже не берется как родовое слово во всем его объеме, а обозначает только часть этого объема, как, например, если я говорю: прозрачные тела, ученые люди, разумное животное. Эти прибавления представляют собой не описания, а ограничения, ибо они сужают объем первого термина так, что слово «тело» обозначает уже только часть тел, слово «человек» — только часть людей, «животное» — часть животных.
Такие прибавления иногда делают родовое слово индивидуальным, а именно когда к нему прибавляют индивидуальные обстоятельства. Например, когда я говорю кы-нешний папа, это ограничивает родовое слово «папа» до одпого-едипственпого человека — Бенедикта XIV.
Кроме названных, можно выделить еще два вида сложных терминов: одни являются сложными в выражении, другие — по смыслу.
Первые суть те, в которых прибавление выражено; таковы все термины, приведенные выше в качестве примеров.
Вторые — те, в которых один из терминов не выражен, а только подразумевается. Например, когда мы, находясь во Франции, говорим король, это термин, сложный по смыслу, потому что, произнося слово «король», мы держим в уме не только родовую идею, соответствующую этому слову, — мы присоединяем к ней мысленно идею Людовика XV, нынешнего короля Франции. В обыденной речи встречается очень много терминов, сложных по смыслу; примером может служить слово господин33, как оно употребляется в каждом семействе.
Есть даже слова, сложные в выражении относительно какой-то одной вещи и одновременно сложные по смыслу относительно других вещей. Например, когда говорят князь философов, это термин, сложный в выражении, поскольку слово «кпязь» ограничено словом «философ»; но по отношению к Аристотелю, называемому так в школах, он является сложным лишь по смыслу, поскольку идея Аристотеля лишь подразумевается: она не выражена никаким звуком, который бы ее вызывал.
Все соозначающпе термины, или прилагательные, суть либо части сложного термина — когда существительное, к которому они относятся, выражено, либо термины, сложные по смыслу, — когда оно подразумевается. Потому что, как было сказано во II главе, соозпачающие термины прямо, хотя и более смутно, обозначают субъект и косвенно, хотя и более отчетливо, — форму, или модус. И таким образом, этот субъект есть только весьма общая и весьма смутная идея, иногда некоего существа, иногда какого-то тела, обычно ограниченная соединенной с нею идеей формы; например, album означает вещь, обладающую белизной, что ограничивает смутную идею вещи так, что она представляет только те вещи, которые обладают этим качеством.
Но что еще примечательно в сложных терминах — это то, что среди них есть термины, в действительности ограниченные до одного индивидуума и все же сохраняющие известную неоднозначную общность, которой можно дать название «неоднозначность вследствие заблуждения»; ибо, пребывая в согласии относительно того, что некоторый термин обозначает одпу-единственную вещь, люди, не зная толком, какова же в действительности эта единственная вещь, применяют его одни — к одному, другие — к другому, так что подобные термины необходимо дополнительно ограничивать или различными обстоятельствами, или самим ходом рассуждения, с тем чтобы уточнить их значение.
Так, слово истинная религия34 обозначает одну-единственную религию, а именно католическую, ибо только она является истинной. Но оттого что каждый парод и каждая секта истинной признают только свою религию, это слово в устах людей весьма многозначно, хотя и вследствие заблуждения. И если мы читаем у историка, что некий государь был ревнителем истинной религии, мы не можем сказать, что он под этим понимает, если не знаем, какую религию он исповедовал. Ведь если он протестант, это означало бы протестантскую религию; если бы так говорил о своем правителе араб-магометанин, это означало бы магометанство; и мы не могли бы сделать вывод, что речь идет о католической религии, если бы не знали, что этот историк был католиком.
Сложные термины, неоднозначные вследствие заблуждения, — это в основном те, что заключают в себе качества, о которых судят не чувства, а один лишь разум и относительно которых люди легко расходятся во мнениях.
Если я, к примеру, говорю: «В армию Мария набирали людей ростом не менее шести футов», то сложный термин «человек ростом не менее шести футов» не может быть неоднозначным вследствие заблуждения, так как нетрудно измерить людям рост, чтобы узнать, достигают ли они шести футов. Но если бы сказали, что надо набирать только храбрых людей, термин «храбрые люди» уже мог бы быть неоднозначным вследствие заблуждения, т. е. его могли бы применять к людям, которых считали бы храбрыми, но которые не были бы такими на деле.
Термины, выражающие сравнение, также нередко бывают неоднозначными вследствие заблуждения: самый крупный геометр Парижа, самый ученый человек, самый искусный, самый богатый. Хотя подобные термины ограничены индивидуальными обстоятельствами — ведь только одип человек является самым крупным геометром Парижа, — тем не менее такое слово легко может быть применено к нескольким лицам, несмотря на то что в действительности оно подходит только к одному человеку; ибо вполне естественно, что мнения у людей могут разделиться и каждый назовет подобным именем того, кто, на его взгляд, обладает превосходством над другими,.
Слова точка зрения автора, учение автора о таком-то предмете тоже из этого числа, в особенности когда автор не настолько ясен, чтобы не возникало споров о том, каково было его мнение. Подобные споры, как мы видим, каждодневно ведут философы по поводу мнений Аристотеля, и каждый тянет его на свою сторону. Ибо, хотя у Аристотеля была одна-едипствепная точка зрения по тому или иному вопросу, понимается она по-разному, и поэтому слова мнение Аристотеля неоднозначны вследствие заблуждения; ведь каждый называет мнением Аристотеля то, что он сам принимает за его подлинное мнение, и, таким образом, поскольку один разумеет одно, а другой — другое, слова «мнение Аристотеля по такому-то вопросу», сколь бы индивидуальными они ни были сами по себе, могут относиться ко многим вещам, а именно ко всем тем различным мнениям, которые ему приписали, и в устах каждого человека они будут обозначать то, что представляется ему мнением названного философа.
Но чтобы лучше попять, в чем состоит неоднозначность терминов, которые мы назвали неоднозначными вследствие заблуждения, надо отметить, что эти слова — соозначающие или явно, или по смыслу35. А в соозпа-чающих словах, как мы уже сказали, должно принимать во внимание субъект, выраженный прямо, по смутно, и форму, или модус, выраженную хотя и косвенно, но отчетливо. Например, «белое» смутно обозначает тело и отчетливо — белизну; «мнение Аристотеля» смутно обозначает какое-то мнение, какую-то мысль, какое-то учение и отчетливо — отношение этой мысли к Аристотелю, коему она приписывается.
Так вот, когда соозпачающие слова оказываются неоднозначными, это обусловлено не самой формой, или модусом, которая в силу своей отчетливости непзменпа. Причиной этому и не смутность субъекта, когда он остается смутным. Ведь, к примеру, слово князь философов не может быть неоднозначным, пока идею князя философов не приложат к какому-либо ясно мыслимому индивидууму. Неоднозначность обусловлена единственно тем, что ум вместо смутного субъекта часто подставляет отчетливый и определенный субъект, к которому он относит форму и модус. Ибо, расходясь во мнениях, люди могут приписать какое-то качество разным лицам и затем именовать их обозначающим это качество словом, которое, как они полагают, к ним подходит; так, например, прежде под князем философов разумели Платона, а ныне разумеют Аристотеля.
Слово «истинная религия», если оно не соедппепо с отчетливой идеей какой-либо частной религии и обозначаемая им идея остается смутной, отнюдь не многозначно, так как оно обозначает только то, что действительно представляет собой истинную религию. По когда ум соединяет эту идею истинной религии с отчетливой идеей определенного, ясно мыслимого культа, это слово становится весьма многозначным и обозначает у каждого народа тот культ, который он принимает за истинный.
То же и со словами мнение такого-то философа относительно такого-то предмета. Если с ними связывают одну лишь общую идею, они только в общем обозначают учение, изложенное этим философом относительно данного предмета, например, то, что утверждал Аристотель о природе пашей души: id quod sensit talis scriptor36. И когда это id, т. е. это «учение», не прилагается к какой-либо отчетливой идее и обозначаемая им идея остается смутной, рассматриваемые слова нисколько не многозначны; но когда вместо этого смутного id, этого смутно мыслимого учения, ум подставляет какое-либо определенное учение, какой-либо определенный субъект, тогда, поскольку подставляемые идеи могут быть различными, данный термин оказывается неоднозначным. Так, «мнение Аристотеля относительно природы нашей души» — слово, имеющее разные значения в устах Помпо-нацци, утверждающего, что Аристотель считал душу смертной37, и в устах некоторых других толкователей этого философа, напротив, утверждающих, что подобно своим учителям, Платону и Сократу, он считал ее бессмертной. Поэтому слова такого рода нередко могут обозначать вещь, к которой данная форма, косвенно выраженная, не подходит. К примеру, если предположить, что Филипп на самом деле не был отцом Александра, как это хотел внушить сам Александр 38, то слово сын Филиппа, которое обозначает в общем того, кто рожден Филиппом, примененное вследствие заблуждения к Александру, будет обозначать человека, на самом деле не являющегося сыном Филиппа.
Слово смысл Писания, примененное еретиком к заблуждению, противоречащему Писанию, будет обозначать в его устах это заблуждение, которое он почтет за смысл Писания и соответственно назовет смыслом Писания. Поэтому кальвинисты не становятся в большей мере католиками от своих уверений, что они следуют только слову Божию. Ибо выражение слово Божие обозначает в их устах все те заблуждения, которые они ошибочно считают словом Божиим.
Глава IX
О ЯСНОСТИ И ОТЧЕТЛИВОСТИ ИДЕЙ
И ОБ ИХ ТЕМНОТЕ И СМУТНОСТИ (CONFUSION)
В идее мы можем отличать ясность от отчетливости и темноту от смутности. Ибо можно сказать, что идея нам ясна, когда она производит на нас сильное впечатление, хотя бы она и не была отчетливой. Например, идея боли производит на нас очень сильное впечатление и поэтому может быть названа ясной, и тем не менее она весьма смутна, так как она представляет нам боль находящейся в пораненной руке, хотя на самом деле боль находится лишь в нашем уме.
Но в то же время можно сказать, что всякая идея отчетлива постольку, поскольку она ясна, и что темнота идей происходит лишь от их смутности; например, в случае боли само ощущение, которое мы испытываем, ясно и отчетливо, а то, что смутно, — а именно будто это ощущение находится у нас в руке, — для нас отнюдь не ясно.
Итак, мы будем рассматривать ясность и отчетливость идей как одно и то же. Нам очень важно разобраться, почему одни идеи ясны, а другие темны.
Но это лучше всего показать на примерах, поэтому мы перечислим основные как из наших ясных и отчетливых, так и из смутных и темных идей.
Имеющаяся у каждого идея самого себя как мыслящей вещи весьма ясна; ясны также идеи всего, что неразрывно связано с мышлением, как-то: суждение, умозаключение, сомнение, воление, желание, чувствование, воображение.
Мы обладаем, далее, очень ясными идеями протяженной субстанции и того, что ей присуще, как-то: фигура, движение, покой. Ибо, хотя мы способны вообразить, что не существует никакого тела и никакой фигуры, чего мы не в состоянии вообразить в отношении мыслящей субстанции, доколе мы мыслим, мы, однако, не можем утаить от себя, что ясно мыслим протяженность и фигуру.
Столь же ясно мыслим мы бытие, существование, длительность, порядок, число, если только мы полагаем, что длительность всякой вещи есть модус, или способ, каким мы рассматриваем эту вещь постольку, поскольку она продолжает существовать, и что подобным же образом порядок и число в действительности не отличаются от упорядоченных и счислимых вещей39.
Все приведенные сейчас идеи настолько ясны, что, когда мы не довольствуемся теми идеями, которые образуются у нас сами собой, и пытаемся их разъяснить, мы их часто, наоборот, затемняем.
Можно также сказать, что идея Бога, которой мы обладаем в этой жизни, в известном смысле ясна, хотя она темна в другом смысле и весьма несовершенна.
Она ясна, потому что ее достаточно, чтобы мы могли усмотреть в Боге большое число атрибутов, относительно которых мы уверены, что они присущи одному лишь Богу; однако она темна в сравнении с той идеей Бога, какой обладают блаженные на небесах, и несовершенна в том смысле, что наш ум по причине своей конечности способен мыслить бесконечный объект лишь весьма несовершенным образом. Но совершенство и ясность идеи — это разные свойства. Идея совершенна, когда она представляет нам все, что есть в ее объекте; ясна же она, когда представляет нам столько признаков объекта, что мы можем помыслить его ясно и отчетливо.
К смутным и темным идеям относятся имеющиеся у нас идеи чувственных качеств: цветов, звуков, запахов, вкусов, холода, тепла, тяжести и т. д., наших влечений, голода, жажды, телесной боли и т. д.40 А смутны они по следующей причине.
Так как прежде, чем мы стали взрослыми, все мы были детьми и на нас воздействовали внешние предметы, вызывавшие у нас в душе через впечатления, которые они оставляли в нашем теле, различные ощущения, душа заметила, что эти ощущения не зависят от ее воли, а возникают в ней только по поводу (a 1’occasion de) определенных тел: например, ощущение тепла появляется у нее вблизи огня. Но она не удовольствовалась заключением о существовании вовне чего-то, что служит причиной этих ощущений (в чем она не ошиблась бы), а возомнила, будто в предметах есть нечто совершенно подобное ее ощущениям, или идеям, по поводу этих предметов. Исходя из этого, она образовала соответствующие идеи, перенеся ощущения тепла, цвета и т. и. в самые вещи, находящиеся вовне. Так появились наши идеи чувственных качеств — темные и смутные, ибо душа прибавила эти ложные суждения к тому, что ей внушила природа.
И так как идеи чувственных качеств не даны нам от природы, а являются произвольными, с ними поступили весьма своеобразно. Хотя тепло и жжение суть только два ощущения — более слабое и более сильное, тепло поместили в огонь и стали говорить, что в огне есть тепло, а жжение, или боль, которую испытывают, когда подходят к огню слишком близко, в огонь не поместили и никто не говорит, что в огне есть боль.
Но если люди поняли, что боль не находится в огне, обжигающем руку, то, может быть, они ошибаются и полагая, что она находится в руке, обжигаемой огнем; ведь если вдуматься, она находится лишь в духе, хотя и возникает по поводу того, что происходит в руке, ибо телесная боль есть не что иное, как чувство отвращения, испытываемое душой к некоему движению, противному природному устройству ее тела.
Это признавали не только некоторые древние философы, например киренаики41, но также и святой Августип в разных местах своих сочинений. Боли, называемые телесными, говорит он в XIV книге «Града Божия», гл. XV, испытывает не тело, но душа, пребывающая в теле, а тело только служит их причиной: Dolores qui dicun-tur carnis, animae sunt in carne, et ex carne. Ибо, прибавляет он, боль тела есть не что иное, как огорчение души из-за своего тела и ее сопротивление тому, что происходит в теле, так же как боль души, называемая тоской, есть сопротивление души тому, что совершается вопреки нашей воле: Dolor carnis tantummodo offensio est animae ex carne, et quaedam ab ejus passione dissensio, sicut animae dolor, quae tristitia nuncupatur, dissensio est ab his rebus, quae nobis nolentibus acciderunt.
В VII книге толкований на «Бытие», гл. XIX, болью названо отвращение, которое испытывает душа, видя, что деятельности, посредством коей она управляет телом, препятствует случившееся в нем расстройство: Cum afflic-tiones corporis moleste sentit (anima) actionem suam qua illi regendo adest, turbato ejus temperamento impediri offenditur, et haec offensio dolor vocatur42.
И действительно, что боль, называемая телесной, находится в душе, а не в теле, видно из того, что вещи, которые причиняют нам боль, когда мы о них думаем, не вызывают у нас никакой боли, когда наш ум поглощен чем-то другим. Примером может служить тот кальм-ский пресвитер, о котором говорит святой Августин в XIV книге «Града Божия», гл. XXIV: при желании он становился до такой степени бесчувственным, что был как мертвый и ничего не чувствовал не только когда его щипали или кололи, но даже когда его жгли огнем: qui quando ei placebat ad imitatas quasi lamentantis hominis voces, ita se auferebat a sensibus, et jacebat simillimus mortuo, ut non solum vellicantes atque pungentes minime sentiret, sed aliquando etiam igne ureretur admoto, sine ullo doloris sensu, nisi postmodum ex vulnere 43.
В добавление к сказанному надо заметить, что не само по себе опасное положение руки и не движение, вызываемое в ней жжением, служат причиной того, что душа чувствует боль, — нужно, чтобы это движение сообщилось в мозг через посредство тончайших ниточек, которые, словно в трубках, заключены в нервах, протянутых наподобие тоненьких веревочек от мозга к руке и к другим частям тела, так что нельзя затронуть эти тончайшие ниточки, не затронув и ту часть мозга, где они берут начало. Вот отчего если какая-нибудь преграда помешает тому, чтобы эти ниточки нервов сообщили свое движение в мозг, как это бывает при параличе, то человек может видеть, как ему режут и жгут руку, и не чувствовать боли. И наоборот, хотя это кажется весьма странным, можно чувствовать то, что называют болью в руке, не имея руки, как очень часто бывает с теми, у кого отнята рука. Ведь ниточки нервов, тянувшиеся от руки к мозгу, будучи приведены в движение каким-то течением, направленным к локтю, где они оканчиваются, если рука отнята по локоть, могут раздражать (tirer) ту часть мозга, с которой они связаны, точно так же, как они раздражали ее, когда тянулись до кисти, — так конец веревки можно привести в движение, дергая ее за другой конец или за средину44. Поэтому душа в подобных случаях чувствует такую же боль, как и при наличии руки, ибо она направляет свое внимание на то место, откуда обыкновенно исходило это движение в мозге, — так видимое в зеркале кажется нам находящимся в том месте, где оно находилось бы, если бы мы видели его через посредство прямых лучей, ибо мы обычно видим вещи именно таким образом.
Отсюда ясно, что душа, отделенная от тела, вполне может испытывать муки в огне ада или чистилища, чувствуя такую же боль, какую чувствует человек, когда его жгут, ибо даже тогда, когда она пребывала в теле, боль от жжения находилась в ней самой, а не в теле и была не чем иным, как печальной мыслью, которая возникала в ней по поводу того, что происходило в теле, с коим ее соединил Бог. Почему же мы не можем помыслить, что Бог установил такое соответствие между определенной частью материи и духом, что движение этой материи служит поводом к тому, чтобы в духе возникали огорчительные мысли, как это и происходит с нашей душой при телесной боли?
Но вернемся к смутным идеям. Идея тяжести, которая кажется такой ясной, не менее смутна, чем другие названные выше идеи. Дети, видя, что камни и другие предметы падают вниз, лишь только их выпускают из рук, образовали идею падающего предмета, каковая идея естественна и истинна, и, сверх того, идею некоей при чипы этого падения, также истинную. Но поскольку они не видели ничего, кроме камня, и от их взора было скрыто, что его толкает, они сделали поспешный вывод, что того, чего они не видят, не существует и, значит, камень падает сам по себе, благодаря заключенному в нем внутреннему началу, без посредства какой-либо другой вещи, толкающей его вниз 45. С этой смутной идеей, порожденной одним только заблуждением, они и связали имена «тяжесть» и «вес».
При этом они вынесли совершенно разные суждения о вещах, относительно которых должны были рассуждать одинаково. Ибо они наблюдали не только камни, движущиеся вниз, по направлению к земле, но и соломинки, двигающиеся по направлению к янтарю, и куски железа или стали, двигающиеся по направлению к магниту. Следовательно, у них было такое же основание приписать соломинкам или железу свойство устремляться к янтарю или магниту, что и камням — свойство устремляться к земле. Однако они этого не сделали, а приписали янтарю свойство притягивать соломинки, а магниту — свойство притягивать железо и назвали их притягивающими способностями, как будто они не могли бы приписать земле свойство притягивать тела, обладающие весом. Но, как бы то ни было, эти притягивающие способности, равно как и тяжесть, порождены только ложным умозаключением, в силу которого стали думать, будто железо должно притягивать магнит, раз не видно ничего, что толкало бы магнит к железу, хотя невозможно себе представить, чтобы одно тело могло притягивать другое, если бы само притягивающее тело не приходило в движение и если бы притягиваемое тело не было с ним как-то соединено.
К ложным суждениям нашего детства следует отнести и ту идею, которая представляет нам твердые и тяжелые предметы более материальными и более плотными, нежели вещи легкие и воздушные; так, мы думаем, будто в ларце, полном золота, материи больше, чем в том, который заполнен одним воздухом. Идея эта возникла оттого, что в детстве мы судили обо всех внешних вещах исключительно по их воздействию на наши чувства, и, таким образом, поскольку твердые и тяжелые тела действовали на нас гораздо сильнее, чем тела легкие и воздушные, мы вообразили, будто они содержат в себе больше материи, между тем как разум должен был подсказать нам, что, коль скоро всякая частица материи всегда занимает лишь свое место, равное пространство всегда заполнено одинаковым количеством материи46.
Так что в сосуде объемом в кубический фут, когда он наполнен золотом, содержится не больше материи, нежели тогда, когда он заполнен воздухом, и, более того, будучи заполнен воздухом, он содержит в некотором смысле даже больше плотной материи — по причине, которую нам пришлось бы слишком долго объяснять.
Можно сказать, что именно такое представление породило все сумасбродные мнения тех, кто вообразил, будто наша душа есть или тончайший воздух, состоящий из атомов (у Демокрита и Эпикура), или воспламененный воздух (у стоиков), или частица небесного света (у древних манихеев и даже у нашего современника Флада), или легкое веяние (у соципиап). Ведь никому из этих людей и в голову бы не пришло, что камень, дерево, грязь способны мыслить, и поэтому Цицерон, который, подобно стоикам, утверждает, что наша душа есть тончайший огонь, в то же время отвергает как несносный вздор представление, будто она состоит из земли или из грубого воздуха: Quid enim, obsecro te, terra-ne tibi aut hoc nebuloso, aut caliginoso coelo, sata aut concreta esse videtur tanta vis memoria?47 Однако все они убеждены, что, утончая материю, они сделают ее менее вещественной, менее грубой и менее телесной и в конце концов она станет способной к мышлению, — смехотворное представление, ибо одна материя является более топкой, чем другая, только в том смысле, что, будучи разделена на более мелкие и более подвижные частицы, она, с одной стороны, оказывает меньшее сопротивление другим телам, а с другой — легче проникает в их поры. Но, разделенная или не разделенная, подвижная или не подвижная, она не перестает быть материей и не становится ни менее телесной, ни более способной к мышлению; ибо невозможно вообразить, чтобы существовала какая-либо связь между движением или формой материи, тонкой ли или грубой, и мышлением и чтобы материя, которая не мыслила, когда она пребывала в состоянии покоя, как, например, земля, или в состоянии умеренного движения, как, например, вода, могла достичь самосознания, если бы ее посильнее взрыхлили или же вскипятили лишних три-четыре раза.
Все это можно было бы изложить гораздо более пространно, но сказанного достаточно, чтобы стали понятны все прочие смутные идеи, так как почти все они образованы подобно тем, о которых мы здесь говорили.
Против этого зла есть только одно средство — отрешиться от предубеждений детства и основывать свое мнение относительно любого предмета, доступного нашему разуму, не на том суждении, какое мы вынесли о нем когда-то, а на том, какое мы выносим теперь. Таким образом мы ограничим себя нашими естественными идеями. От смутных же идей мы оставим только то, что содержится в них ясного, например, что в огне есть нечто, вызывающее у нас ощущение тепла, что все предметы, обладающие тяжестью, движутся вниз, побуждаемые какой-то причиной; и мы не будем делать никаких выводов относительно того, почему огонь вызывает у нас ощущение тепла или какова причина падения камня, если у нас нет ясных доказательств, доставляющих такое знание.
Глава X
НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕРЫ СМУТНЫХ И ТЕМНЫХ ИДЕЙ, ВЗЯТЫЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЭТИКИ
В предыдущей главе мы привели различные примеры смутных идей, которые можно также назвать ложными — по причине, нами указанной; но поскольку все они взяты из физики, небесполезно будет присовокупить к этим примерам некоторые другие, из области этики, ибо ложные идеи, образуемые людьми о благе и зле, представляют неизмеримо большую опасность.
Ложную или истинную, ясную или темную идею составит человек о тяжести, о чувственных качествах, о действиях, о чувствах — от этого он не будет счастливее или несчастнее; и если это сделает его немного более или немного менее ученым, то ни более порядочным, ни более порочным человеком он от этого стать не может. Какого бы мнения мы ни придерживались относительно всех этих вещей, они пребудут для пас неизменными; их бытие не зависит от нашего знания, а паша жизнь не зависит от познания их бытия. Поэтому нам позволительно надеяться, что мы познаем их в иной жизни, и во всем, что касается мирового порядка, уповать на благость и мудрость того, кто управляет миром.
Но никто не может воздержаться от суждений о хорошем и дурном, ибо на основе таких суждений должно избирать для себя образ действий, подчинять определенным правилам свои поступки, предуготовляя себе вечное блаженство или вечные муки. А так как ложные идеи о хорошем и дурном служат источником превратных суждений, то неизмеримо важнее было бы прилагать усилия к тому, чтобы распознавать их и исправлять, нежели к тому, чтобы пересматривать те идеи, которые мы вследствие поспешных суждений или предубеждений нашего детства образуем о явлениях природы, составляющих предмет одного лишь бесплодного умозрения.
Чтобы выявить все ложные идеи о благе и зле, потребовалось бы написать целую «Этику», мы же хотим привести лишь несколько примеров, дабы показать, каким образом люди их составляют, соединяя различные идеи, в действительности не связанные друг с другом, и создавая тем самым пустые призраки, которыми они нищенски пробавляются всю свою жизнь.
Человек находит в себе идею счастья и несчастья, и эта идея, пока она остается общей, — не ложная и не смутная; он обладает идеями ничтожества, величия, низости, совершенства; он стремится к счастью и бежит несчастий, восхищается совершенством и презирает низость.
Но прародительский грех, отчуждающий его от Бога, в коем он только и мог бы обрести свое подлинное счастье и с коим он должен был бы связать самую идею счастья, понуждает его соединять эту идею с бесчисленным множеством таких вещей, в которых он жаждет обрести утраченное блаженство; потому он и составил себе неисчислимое множество ложных и темных идей, возомнив, будто все то, чего он алчет, способно его осчастливить, а то, что ему не по нраву, делает его несчастным. После грехопадения человек утратил также истинное величие и истицное совершенство, и чтобы не возненавидеть себя, ему приходится воображать себя не таким, каков он есть в действительности: он должен избегать всякой мысли о собственной ничтожности и убогости и включать в свою идею о себе самом много такого, что совершенно с нею не связано, дабы она представала более величественной и возвышенной.
Первое и главное, на что устремлено вожделение, — это чувственное наслаждение, доставляемое некоторыми внешними предметами, и как только душа замечает, что такого рода наслаждение, столь для нее желанное, исходит от определенных вещей, она тотчас соединяет с ними идею блага, а с тем, что лишает ее наслаждения, — идею зла. Далее, видя, что богатство и могущество, как правило, дают людям возможность завладеть предметами вожделения, она принимает их за великие блага и почитает людей богатых и знатных счастливыми, а бедных — несчастными, коль скоро они этих благ лишены.
А поскольку в счастье есть известное превосходство, душа никогда не разделяет эти две идеи и непременно находит величие во всех тех, кого она признает счастливыми, и ничтожество — в тех, кого она считает бедными и несчастными. По этой причине к бедным питают презрение, а богатых окружают почетом. Подобные суждения столь несправедливы и ложны, что по мнению святого Фомы именно это почитание богатых и преклонение перед ними так сурово осуждает святой апостол Иаков, когда он воспрещает предоставлять богатым в церковных собраниях более высокие места, нежели бедным48. Ибо его слова не могут быть поняты буквально, как воспрещение возлагать известные внешние обязанности не на бедных, а на богатых, потому что установленный в миру порядок, коего религия отнюдь не нарушает, допускает определенные предпочтения, с которыми считались и сами святые. Значит, они, по-видимому, должны быть отнесены к тому внутреннему предпочтению, из-за которого бедных представляют себе как бы стоящими гораздо ниже богатых, а богатых возносят на недосягаемую высоту.
Но хотя такие идеи и проистекающие из них суждения ложны и неразумны, они, однако же, общи всем людям: ведь их порождает вожделение, коим осквернен всякий человек. Поэтому люди не только составляют подобные идеи о богатых, но и передают свои чувства восхищения и преклонения перед ними другим, так что богатых воображают себе не только наслаждающимися всевозможной роскошью и всевозможными благами, связанными с их положением, но и окруженными ореолом всех тех лестных суждений о них, которые люди усваивают из повседневных разговоров с другими или же выносят сами, исходя из собственного опыта.
Именно этот призрак, эта представляющаяся воображению картина всех почитателей сильных мира сего, столпившихся вокруг их трона и взирающих на них с боязнью, благоговением и сознанием своей незначительности, становится идолом честолюбцев, во имя которого они трудятся всю свою жизнь и подвергают себя стольким опасностям49.
Чтобы стало ясно, что именно к этому они стремятся, именно в этом находят упоение, предположим, что на свете есть только один человек, наделенный разумом, а все остальные существа с человеческим обликом — только статуи, способные двигаться. Так вот, если этот единственный разумный человек, зная, что все эти статуи, внешне ему подобные, полностью лишены разума и мыслей, откроет секрет, с помощью каких пружин можно заставить их двигаться и оказывать ему все те услуги, которые оказывают люди, нетрудно себе представить, что его подчас будут забавлять различные движения, какие он сможет сообщать этим статуям, однако почести, которые они станут воздавать ему по его соизволению, конечно же, не доставят ему никакого удовольствия и не будут льстить его самолюбию. Ему не принесут радости их поклоны; они ему даже наскучат, как скоро наскучат и сами марионетки, и он ограничится тем, что будет принимать от них лишь самые необходимые услуги, не требуя от них большего.
Стало быть, для честолюбцев заманчиво не просто внешнее повиновение людей безотносительно к их мыслям; они хотят повелевать людьми, а не автоматами, им приятно видеть чувства страха, почтения и преклонения, которые они возбуждают в других.
Это показывает, что идея, завладевшая ими, столь же суетна и несостоятельна, сколь и идея, движущая теми, кого называют тщеславными, т. е. теми, кто жаден до похвал, одобрительных восклпцапий, хвалебных речей, званий и прочего в том же роде. Разнятся они лишь в тех чувствах и суждениях, какие им лестно вызывать, ибо если тщеславные люди хотят, чтобы другие испытывали к ним чувства любви и уважения за их ученость, красноречие, искусность, доброту, то честолюбивые стремятся вызвать чувства страха, почтения, приниженности перед их величием и внушить соответствующие идеи, так чтобы все представляли их грозными, могущественными, возвышающимися над простыми смертными. Таким образом, и первые и вторые полагают свое счастье в мыслях других, но только мысли предпочитают разные.
Подобные пустые призраки, порожденные ложными суждениями, очень часто подвигают людей на величайшие предприятия и становятся главной целью всей их жизни.
Столь ценимая людьми доблесть, побуждающая тех, что слывут храбрецами, без боязни устремляться навстречу величайшим опасностям, часто бывает следствием того, что ум их находится во власти пустых и обманчивых образов. Немногие воистипу не дорожат жизнью, и те, кто, кажется, с таким бесстрашием встречает смерть лицом к лицу, бросаясь на прорыв или отбивая натиск врага, трепещут так же, как и другие, и часто даже больше других, когда она настигает их в постели. А то великодушие, какое они порой проявляют, объясняется тем, что они живо представляют себе, с одной стороны, насмешки, ожидающие трусов, а с другой — похвалы, достающиеся храбрецам, и этот двоякий призрак, завладевший ими, отвращает их от мыслей об опасности и смерти.
По этой причине те, у кого больше оснований думать, что они у всех на виду, и кого больше беспокоит, какого мнения о них другие, обнаруживают больше храбрости и великодушия. Так, офицеры обыкновенно мужественнее солдат, дворяне мужественнее людей иного звания: они более чувствительны ко всему, что касается чести, ибо в этом отношении им есть что терять и приобретать. Одни и те же ратные труды, говорил великий полководец, для солдата тяжелее, чем для генерала, потому что на генерала смотрит вся армия, и это его ободряет, тогда как солдату придает мужества только надежда получить скудное вознаграждение и заслужить скромную славу хорошего солдата, часто не распространяющуюся за пределы его роты.
Какую цель преследуют люди, которые строят себе роскошные дома, далеко не соответствующие их положе нию в обществе и состоянию? Им нужно не просто удобство; все это непомерное великолепие не столько служит им, сколько мешает, и ясно, что если бы они были одни на свете или же знали, что, увидев их дома, все станут относиться к ним с презрением, они никогда не взяли бы на себя такой труд. Стало быть, они хлопочут, имея в виду людей, и притом людей, их одобряющих. Они воображают, что всякий, кто окинет взглядом их дворцы, будет восхищен и почувствует к ним уважение; и вот они представляют себя посреди своих дворцов в окружении толпы людей, которые смотрят на них снизу вверх, почитая их знатными, могущественными, счастливыми, щедрыми. Эта-то идея и руководит ими, заставляя идти на такие траты и взваливать на себя все эти заботы.
Как вы думаете, для чего, выезжая в карете, берут с собой столько лакеев? Вовсе не для того, чтобы пользоваться их услугами, — ведь они скорее стесняют, — а с единственной целью дать понять каждому встречному, что это проезжает чрезвычайно важная особа; мысль о том впечатлении, какое производит на людей столь роскошная карета, льстит тщеславию ее владельца.
Точно так же если разобраться, чем же, собственно, привлекательны все звания, должности и профессии, пользующиеся почетом, мы увидим, что они часто дают людям случай вообразить себе чувства почитания, благоговения, страха и восхищения, которые они внушают другим, и это скрашивает сопряженные с ними труды и тяготы.
И напротив, одиночество томительно для большинства людей оттого, чтб, не видя других, они не могут знать их суждений и мыслей. Сердце их пребывает пустым и алчущим, будучи лишено этой повседневной пищи и не находя в себе самом, чем себя наполнить. Недаром философы-язычники считали жизнь в одиночестве невыносимой; они прямо говорили, что их мудрец не мог бы обладать всеми телесными и духовными благами, если бы он постоянно жил один и ему некому было бы поведать о своем счастье50. Только христианская религия делает одиночество отрадным, ибо, призывая нас отринуть суетные идеи, она указует нам предметы, которые достойны занимать ум и наполнять сердце и не требуют общения с другими людьми.
Надо, однако, заметить, что люди стремятся не просто узнать мысли и мнения других, — они пользуются ими, чтобы возвеличить и возвысить себя в собственных глазах, связывая со своей идеей о себе самих и включая в нее все эти чужие идеи. Глубоко заблуждаясь, они воображают, будто они и впрямь стали значительнее от того, что у них большой дом и ими восхищается много народу, хотя внешние предметы и мысли других людей ничего им не прибавляют и они остаются такими же ничтожными и жалкими, как и были.
Это объясняет, почему для людей приятны многие вещи, в которых, казалось бы, нет ничего, что могло бы их развлечь и прийтись им по душе. В подобных случаях они испытывают удовольствие оттого, что составленная ими идея о себе самих предстает более внушительной из-за какого-нибудь ничего не значащего обстоятельства, которое к ней присоединяется.
Нам доставляет удовольствие рассказывать об опасностях, коим мы подвергались, потому что из этих злоключений каждый выносит представление о себе самом как о человеке благоразумном или же снискавшем особое благоволение Божие. Мы охотно говорим о недугах, от которых нам удалось исцелиться, потому что мы представляемся себе достаточно крепкими, чтобы сопротивляться тяжелым болезням.
Мы стараемся одержать верх во всем, даже в азартных играх, где не нужно никакого умения, и даже тогда, когда играем не для выигрыша. Оттого что к своей идее самих себя мы присоединяем идею счастливого человека, нам кажется, что судьба остановила на пас свой выбор и что она благосклонна к нам за наши достоинства. Это мнимое счастье мы даже рассматриваем как некое постоянное свойство, дающее право и впредь рассчитывать на удачу. Поэтому есть люди, с которыми игроки садятся играть в паре охотнее, чем с другими, что уж и вовсе смешно, ибо мы, конечно, можем сказать, что человек был счастлив до определенного момента, но вероятность быть счастливым в следующий момент у него нисколько не больше, чем у людей, которые были всех несчастнее.
Таким образом, у тех, кого влечет только мирское, ум обращен лишь на пустые призраки, и те, что слывут самыми разумными, так же как и прочие, питаются одними иллюзиями и грезами. Лишь о тех, кто посвятил жизнь и дела своп вечному, можно сказать, что они обрели подлинную цель, великую и неизменную. Что же до всех остальных, то они прельщаются суетой и ничтожеством и пребывают в плену лжи и обмана.
Глава XI
О ДРУГОЙ ПРИЧИНЕ ПУТАНИЦЫ (CONFUSION) В НАШИХ МЫСЛЯХ И РАССУЖДЕНИЯХ, СОСТОЯЩЕЙ В ТОМ, ЧТО МЫ СВЯЗЫВАЕМ ИХ СО СЛОВАМИ
Как мы уже сказали, вследствие необходимости использовать внешние знаки, для того чтобы нас понимали, мы связываем наши идеи со словами так, что нередко принимаем во внимание скорее слова, а не вещи. Это одна из самых распространенных причин путаницы в наших мыслях и рассуждениях5l.
Ибо следует заметить, что, хотя у людей часто бывают разные идеи об одних и тех же вещах, они обозначают эти идеи при помощи одних и тех же слов; так, например, идея о добродетели, имеющаяся у философа-язычника, не совпадает с идеей теолога, и, однако, они выражают свою идею посредством одного и того же слова.
Далее, одни и те же люди в разном возрасте смотрят на одни и те же вещи по-разному, но они всегда объединяют свои идеи этих вещей под одним именем; поэтому, когда они произносят или слышат это имя, они легко сбиваются, связывая с ним то одну идею, то другую. Например, когда человек стал сознавать, что в нем есть некое начало, благодаря которому он питается и растет, он назвал его душой и распространил эту идею на то, что он обнаружил подобного в животных и даже в растениях. Увидев, далее, что он мыслит, он назвал именем душа также и заключенное в нем мыслящее начало. Таким образом, из-за этого сходства идей он принял за одно и то же то, что мыслит, и то, благодаря чему питается и растет тело. Точно так же слово «жизнь» распространили на то, что служит причиной действий животного, и на то, что является в нас причиной мышления, а это две совершенно разные вещи.
Равным образом весьма двусмысленны слова чувства и ощущения, даже когда ими обозначают одно из пяти телесных чувств. Когда мы пользуемся своими чувствами, например, когда мы что-то видим, в пас обычно происходит следующее. Во-первых, в органах нашего тела, например, в глазе и в мозге, вызываются определенные движения. Во-вторых, эти движения дают душе повод представить себе (concevoir) нечто; например, после того как отражение солнечного света каплями дождя вызывает движение в глазе, в душе возникают идеи красного, синего и оранжевого. В-третьих, мы составляем суждение о том, что видим, например, о радуге, к которой мы относим эти цвета и которая представляется нам имеющей определенные размеры и определенную форму и находящейся на определенном расстоянии. Первое из того, что мы перечислили, находится единственно лишь в теле. Последующее возникает только в душе, хотя и по поводу того, что происходит в теле. Но тем не менее под одним словом — чувство, ощущение, зрение, слух и т. п. мы понимаем и то, и другое, и третье, хотя это далеко не одно и то же. Когда говорят, что глаз видит, а ухо слышит, это можно понимать только в смысле движения в телесном органе, ибо каждому ясно, что глаз отнюдь не воспринимает воздействующих на него предметов и не выносит о них суждений. И наоборот, мы говорим, что не видели человека, который был у нас перед глазами, если мы этого не сознавали. Слово видеть обозначает в данном случае мысль, формирующуюся в душе вслед за тем, что происходит в глазе и мозге. Соответственно этому значению слова «видеть» видит не тело, а душа, как утверждал Платов, а после него Цицерон в следующих словах: Nos enim не nunc quidem oculis cernimus ea quae videmus. Neque enim est ullus sensus in corpore. Viae quasi quaedam sunt ad oculos, ad aures, ad nares, a sed'e animi perforatae. Ita-que saepe aut cogitatione, aut aliqua vi morbi impediti apertis atque integris et oculis et auribus, nec videmus, nec audimus; ut facile intelligi possit, animum et videre et audire, non eas partes quae quasi fenestrae sunt animi52. Наконец, когда говорят, что чувства ошибаются, как, например, когда мы видим палку в воде переломленной или когда нам кажется, будто солнце имеет в диаметре не более двух футов, то словами «чувства», «зрение», «слух» и т. д. обозначают последнее из того, что мы назвали, а именно суждения, прибавляемые нашей душой к восприятиям, которые возникают в ней по поводу движений, происходящих в органах тела. Ибо не может быть ошибки или лжи ни во всем том, что происходит в телесном органе, ни в самом восприятии нашей души, которое есть лишь простое схватывание (apprehension), — всякая ошибка проистекает, без сомнения, лишь из того, что мы неверно судим, заключая, например, что солнце имеет в диаметре всего два фута, так как по причине его удаленности образ, формирующийся в глубине глаза, приблизительно равен по величине тому, который сформировался бы там от предмета диаметром в два фута, находящегося на расстоянии, более соответствующем нашему обычному способу видения. Но поскольку мы выносим это суждение с детства и так к нему привыкли, что почти безотчетно составляем его в тот самый момент, когда видим солнце, мы приписываем его зрению и говорим, что мы видим предметы маленькими или большими в зависимости от того, на большем или на меньшем расстоянии от пас они находятся, хотя в действительности об их величине судит ум, а не глаз.
Любой язык изобилует подобными словами, которые звучат одинаково, но являются знаками совершенно разных идей.
Однако следует заметить, что, когда неоднозначное слово обозначает две такие вещи, которые не имеют между собой никакой связи и которых люди никогда не смешивают, оно едва ли может ввести кого-нибудь в заблуждение и послужить причиной какой-либо ошибки; так, например, тот, в ком есть хоть немного здравого смысла, не будет обманут неоднозначностью слова овен, обозначающего животное и знак Зодиака. Если же неоднозначность проистекает из ошибки, состоящей в том, что люди по небрежности смешали различные идеи, как, например, в слове «душа», преодолеть это заблуждение нелегко. Ведь мы предполагаем, что те, кто ввел в употребление подобные слова, хорошо понимали их смысл, и поэтому часто произносим их, не задумываясь, является ли идея, которую мы с ними связываем, ясной и отчетливой. Мы даже приписываем тому, что обозначаем при помощи одного и то же имени, такие признаки, которые относятся к идеям совершенно несовместимых вещей, не замечая, что смешиваем две разные вещи, называя их одпим и тем же именем.
Глава XII
О СРЕДСТВЕ ПРОТИВ ПУТАНИЦЫ, ВОЗНИКАЮЩЕЙ В НАШИХ МЫСЛЯХ И РАССУЖДЕНИЯХ ОТ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ (CONFUSION) СЛОВ, — ГДЕ ГОВОРИТСЯ О НЕОБХОДИМОСТИ И ПОЛЕЗНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИМЕН, КОТОРЫМИ МЫ ПОЛЬЗУЕМСЯ,
И О РАЗЛИЧИИ МЕЖДУ ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ВЕЩЕЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ИМЕН
Лучший способ избежать неопределенности слов, употребляемых в обычных языках, состоит в том, чтобы создать новый язык и пользоваться новыми словами, представляющими только те идеи, с которыми мы хотим их связать. Но для этого нет необходимости вводить новые звуки, поскольку можно использовать те, которые уже находятся в употреблении: мы можем рассматривать их так, как если бы у них не было никакого значения, и придавать им то значение, какое пожелаем, обозначая другими, простыми и однозначными, словами идею, к которой мы хотим их применить. Например, если я хочу доказать, что наша душа бессмертна, то слово «душа», будучи, как показано выше, неоднозначным, может легко внести в мои рассуждения путаницу. Чтобы этого избежать, я буду рассматривать слово «душа» так, как если бы это был звук, которому еще не придали никакого смысла, и стану применять его единственно к тому, что является в нас мыслящим началом, предупредив: Я называю душой то, что является в нас мыслящим началом.
Это и есть определение имени, definitio nominis, которое геометры применяют с такой пользой; его нужно отличать от определения вещи, definitio rei.
В определении вещи — например: Человек есть разумное животное; время есть мера движения — за определяемым термином — человек, время — оставляют его обычную идею, о которой утверждают, что в ней содержатся другие идеи — разумное животное, мера движения. В определении имени, как мы уже сказали, напротив, рассматривают всего только звук, делая этот звук знаком идеи, обозначаемой другими словами.
Не следует, далее, смешивать то определение имени, о котором мы ведем речь, с тем, о котором говорят некоторые философы, понимающие под определением разъяснение того, что означает слово в обычном употреблении или согласно своей этимологии. Об этом мы будем говорить в другом месте 53. Здесь же мы рассматриваем только те случаи, когда дающий определение, напротив, хочет, чтобы определяемое слово брали в особом значении, дабы могли правильно понять его мысль, и не думает о том, употребляют ли его другие в таком же смысле.
Отсюда следует, во-первых, что определения имен произвольны, а определения вещей — нет. Ибо всякий звук по природе своей может обозначать любую идею, и поэтому мне позволительно для своего частного употребления, при условии что я предуведомлю других, обозначить тем или иным звуком строго определенную вещь, не смешивая ее ни с какой другой. Совершенно иначе обстоит дело с определениями вещей. Ведь от нашей воли не зависит, чтобы идеи содержали то, что пам хотелось бы, и если мы, желая их определить, включаем в них нечто такое, что в них не содержится, мы с необходимостью впадаем в заблуждение.
Приведу пример одного и другого определения. Если, лишив слово параллелограмм его прежнего значения, я применяю его для обозначения треугольника, это вполне допустимо и я не совершаю этим никакой ошибки, при условии что я употребляю данное слово только в таком смысле; и я могу сказать, что параллелограмм имеет три угла, равные двум прямым. Но если, оставив за этим словом его обычное значение и идею, т. е. обозначая им фигуру с параллельными сторонами, я сказал бы, что параллелограмм есть фигура, образованная тремя лилиями, это определение относилось бы уже к определениям вещей и было бы совершенно ложным, так как невозможно, чтобы у фигуры, образованной тремя линиями, были параллельные стороны.
Во-вторых, отсюда следует, что определения имен не могут оспариваться, именно потому, что они произвольны. Ибо мы не можем отрицать, что человек установил для звука то самое значение, какое он, по его утверждению, для него установил, или что, уведомив пас, что он будет понимать под этим звуком, он употребляет его именно в таком значении; что же касается определений вещей, то их мы часто вправе оспаривать, поскольку они, как показано выше, могут быть ложными.
В-третьих, отсюда следует, что всякое определение имени, коль скоро его невозможно оспаривать, может быть принято в качестве начала, тогда как определения вещей никоим образом не могут служить началами: они представляют собой, в сущности говоря, положения, — а всякое положение может быть опровергнуто тем, кто найдет в нем неясность, и, следовательно, они, равно как и другие положения, нуждаются в доказательстве и не должны предполагаться истинными, если только они не ясны сами по себе, как, например, аксиомы.
Однако мое утверждение, что определение имени может быть принято в качестве начала, надо пояснить. Это верно лишь постольку, поскольку нельзя оспаривать, что обозначенная идея может быть названа тем именем, которое она получила; но это не дает основания заключать что-либо в пользу этой идеи или полагать, что, раз у нее есть имя, она обозначает нечто реальное. Ибо я могу, например, определить слово химера так: «Я называю химерой то, что содержит в себе противоречие», однако отсюда вовсе не будет следовать, что химера есть нечто существующее в действительности. Точно так же если какой-нибудь философ скажет мне: «Я называю тяжестью внутреннее начало, заставляющее камень падать на землю без всякого внешнего толчка», — я не буду оспаривать это определение, а напротив, охотно его приму, поскольку оно дает мне возможность попять, что хочет сказать мой собеседник, но я стану отрицать, что начало, подразумеваемое им под словом «тяжесть», есть нечто существующее в действительности, ибо в камне нет такого начала.
Я решил это разъяснить, так как в общераспространенной философии в отношении определения допускаются две большие ошибки. Первая заключается в смешении определения вещи с определением имени и в приписывании первому того, что относится только к последнему. Ибо, измыслив сотню определений — не имен, а вещей, — совершенно ложных и отнюдь не выражающих истинной природы вещей и наших естественных идей о них, философы хотят, чтобы эти определения рассматривались как начала, коих никто не должен оспаривать, и если кто-нибудь их опровергает, — а их, безусловно, можно опровергнуть, — они заявляют, что он не заслуживает того, чтобы вести с ним спор.
Вторая ошибка состоит в том, что философы почти никогда не прибегают к определениям, с тем чтобы, закрепив имена за ясно обозначенными идеями, устранить в них неясность; и так как они оставляют имена неопределенными, большая часть их споров — это всего только споры о словах. Вдобавок они используют то, что содержится в смутных идеях ясного и истинного, для обоснования того, что есть в них темного и ложного; это было бы легко заметить, если бы они определили имена54. Так, философы обычно думают, что не может быть ничего более ясного, как то, что огонь теплый и что камень обладает тяжестью; отрицать это, считают опи, было бы безумием. И в самом деле, пока у них не определены имена, они сумеют убедить в этом каждого; если же мы заставим их дать определения, мы сразу же увидим, будет ли то, чего, по их мнению, нельзя отрицать, ясным или темным. Ибо следует спросить у них, что они понимают под словами «теплый» и «обладающий тяжестью». И если они ответят, что под «теплым» они понимают единственно то, что вызывает в нас ощущение тепла, а под «обладающим тяжестью» — то, что, лишившись опоры, падает вниз, тогда они правы: только безумец станет отрицать, что огонь теплый и что камень обладает тяжестью. Но если они понимают под «теплым» то, в чем есть некое качество, подобное тому, какое мы воображаем, когда ощущаем тепло, а под «обладающим тяжестью» — тело, в котором е$ть внутреннее начало, заставляющее его двигаться к центру без какого-либо толчка извне, то говорить, что в этом смысле огонь не является теплым и камень не обладает тяжестью, значит отрицать отнюдь не ясное положение, а весьма темное, если не сказать — совершенно ложное; и они сами вынуждены будут с этим согласиться, ибо, хотя и ясно, что огонь, воздействуя на наше тело, вызывает у нас ощущение тепла, но отнюдь не ясно, что в огне есть нечто подобное тому, что мы ощущаем, находясь вблизи огпя; хотя и ясно, что камень, выпущенный из рук, летит вниз, отнюдь не ясно, что он падает сам по себе, без всякого внешнего толчка.
Итак, определения имен весьма полезны, поскольку с их помощью поясняют, о чем идет речь, дабы люди не спорили понапрасну о словах, которые одип понимает так, а другой — иначе, как это часто бывает даже и в повседневных разговорах.
Кроме того, они полезны еще в одном отношении. Нередко, чтобы вызвать отчетливую идею какой-либо вещи, надо употребить для ее обозначения большое количество слов. Но постоянно повторять эти слова, выстраивая их в длинный ряд, было бы докучным, в особенности в ученых трудах. Поэтому, указав на некоторую вещь посредством всех этих слов, вызванную таким образом идею связывают с каким-то одним словом, заменяющим все другие. Так, уяснив, что есть числа, которые делятся на два без остатка, данное свойство с целью избежать частого повторения всех этих слов обозначают одним именем, предупреждая: «Я называю всякое число, которое делится на два без остатка, четным числом». Из этого видно, что, пользуясь словом, которому дали определение, надо всякий раз мысленно подставлять определение на место того, что было определено, и держать это определение в уме, так чтобы, слыша, к примеру, слова «четное число», мы понимали, что имеется в виду число, которое делится на два без остатка, и эти две вещи были в нашем мышлении столь нераздельны, что при упоминании одной ум сразу же связывал бы с ней другую. Ибо те, кто определяет термины, как, например, геометры, делающие это с великой тщательностью, хотят только сократить рассуждение, которое от частых описательных выражений стало бы утомительным: не assidue circumloquendo moras faciamus55, как говорил святой Августин. При этом идеям вещей, о которых они рассуждают, не наносится никакого ущерба; ведь они рассчитывают, что ум добавит полное определение к терминам, употребляемым лишь затем, чтобы избежать затруднения, происходящего от обилия слов.
Глава XIII
ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИМЕН
Разъяснив, что такое определения имен и сколь они полезны и необходимы, важно сделать несколько замечаний о том, как их правильно применять.
Первое. Не следует стремиться к тому, чтобы дать определение каждому слову, так как во многих случаях от этого не было бы никакой пользы, да это и невозможно. Я говорю, что во многих случаях от определений имен не было бы никакой пользы. Ведь если у людей есть отчетливая идея некоторой вещи и все, кто понимает данный язык, услышав соответствующее слово, образуют одну и ту же идею, определять это слово нет смысла, поскольку цель определения уже достигнута: слово связано с ясной и отчетливой идеей. Это бывает тогда, когда речь идет о самых простых вещах, относительно которых все имеют одну и ту же идею, так что обозначающие их слова понимаются одинаково всеми, кто ими пользуется. Если же люди иногда и примешивают к идеям подобных вещей что-то темное, их внимание всегда направлено в основном на то, что в них ясно; и таким образом, у тех, кто обозначает этими словами ясную идею, нет причин бояться, что их не поймут. Таковы слова бы-тие, мышление, протяжение, равенство, длительность, или время, и тому подобные. Ибо, хотя некоторые и затемняют идею времени различными суждениями о нем, которые они называют определениями, — как, например, что время есть мера движения с точки зрения предшествовапия и следования, — сами они, однако, не вспоминают о своих определениях, когда слышат что-либо касающееся времени, и не мыслят при этом ничего другого, кроме того, что естественно мыслят все остальные. Так, ученые и невежды представляют себе одно и то же, и с одинаковой легкостью, когда им говорят, что лошадь проходит одно лье быстрее черепахи.
Я утверждаю, далее, что невозможно определить все слова. Ведь для того, чтобы определить слово, нужны другие слова, обозначающие идею, с которой мы хотим его связать, а если бы мы захотели определить, в свою очередь, и те слова, которыми мы воспользовались бы для разъяснения этого слова, потребовались бы другие слова, и так до бесконечности. Следовательно, мы необходимо должны остановиться на некоторых первичных (primitifs) терминах, не подлежащих определению. Определять больше, чем нужно, было бы столь же неразумно, сколь и пренебрегать определениями, потому что и то и другое привело бы к неясности, которой стремятся избежать.
Второе. Не следует менять уже принятые определения, если они не дают повода для возражений; ибо нам легче понять слово тогда, когда оно в соответствии с принятым, по крайней мере среди ученых, употреблением связывается с некоторой идеей, нежели тогда, когда его нужно заново связывать с идеей, отделяя от какой-то другой идеи, с которой его привыкли соединять. Поэтому было бы ошибкой менять определения, принятые у математиков, за исключением тех случаев, когда в них есть какая-либо неясность и они обозначают идею недостаточно четко, как, например, определения угла и пропорции у Евклида.
Третье. Когда необходимо определить слово, надо по возможности сообразоваться с его обычным употреблением, а не придавать ему смысл, далекий от того, какой оно приобрело, и уж тем более — противоречащий его этимологии, как, например, если бы кто сказал: «Я называю параллелограммом фигуру, ограниченную тремя линиями»; надо взять эа правило оставлять за двусмысленными словами только одно из их значений. Так, «тепло» означает в обычном употреблении и наше ощущение, и воображаемое качество огня, совершенно подобное тому, что мы ощущаем. Чтобы избежать двусмысленности, я могу применять слово «тепло» лишь к одной из этих идей, отделив его от другой, например, если я скажу: «Я называю теплом ощущение, которое возникает у меня, когда я приближаюсь к огню»; причине же этого ощущения я дам либо совсем другое имя, например «жар», либо тоже самое имя с каким-нибудь добавлением, которое будет ограничивать его и отличать от тепла как ощущения, — например «тепло в возможности».
Это замечание важно потому, что люди с трудом отделяют от слова идею, с которой они его однажды связали; под влиянием прежней идеи, постоянно приходящей им на память, они легко забывают ту новую идею, которую вы хотите у них вызвать, определяя это слово, так что легче было бы приучить их к слову, вообще ничего не обозначающему, сказав, например: «Я называю бара фигуру, ограниченную тремя линиями», нежели заставить их отделить от слова параллелограмм идею фигуры с попарно параллельными сторонами и обозначить им фигуру, стороны которой не могут быть параллельными.
Подобную ошибку совершили химики56: ради собственного удовольствия они без всякого проку изменили имена у большей части изучаемых ими веществ, назвав их именами, уже обозначающими другие вещи, не имеющие в действительности никакого отношения к тем новым идеям, с которыми их связывают. Это даже послужило основанием для смехотворных заключений — таких, например, какое сделал тот человек, который, воображая, что чума — это болезнь, причиняемая Сатурном, утверждал, будто зачумленных можно излечить, повесив им на шею кусочек свинца, называемого у химиков «Сатурном», с вырезанным на нем названием дня недели — субботы, которая также носит имя Сатурна, и символом, коим пользуются астрономы для обозначения этой планеты; как будто произвольно и безосновательно установленная связь между свинцом и планетой Сатурн, между названной планетой, днем педели субботой и знаком, обозначающим эту планету, может иметь реальные следствия и в самом деле излечивать болезни.
Но самое нетерпимое в языке химиков — это профанация святых тайн религии, коими они прикрывают своп мнимые секреты. Некоторые из них дошли до такого нечестия, что относят сказанное в Писании об истинных христианах — что они избранный род, царственное священство, святой народ, люди, которых Бог взял к себе в удел и призвал из тьмы в свой чудный свет57, — к химерическому братству Розы и креста, члены которого мнят себя мудрецами, кои достигли блаженного бессмертия, обыскав способ с помощью философского камня удерживать свою душу в теле, ибо, говорят они, не существует тела, менее подверженного изменениям и разрушению, нежели золото 58.
Эти измышления, как и многие другие подобного же рода, можно найти в принадлежащем господину Гассенди исследовании философии Флада59. Они показывают, что нет худшего направления ума, чем у этих нарочито темных писателей, вообразивших себе, что самые безосновательные, чтобы не сказать — самые ложные и нечестивые, мысли сойдут за великие тайны, если облечь их в выражения, непонятные для обыкновенных людей.
Глава XIV
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯХ ИМЕН ДРУГОГО РОДА,
ПОСРЕДСТВОМ КОТОРЫХ УКАЗЫВАЮТ,
ЧТО ОНИ ОБОЗНАЧАЮТ В ОБЫЧНОМ УПОТРЕБЛЕНИИ
Все, что мы сказали об определениях имен, относится лишь к тем случаям, когда определяют слова, которыми пользуются для особых целей; такие определения являются свободными и произвольными, ибо каждому человеку позволительно для выражения идеи воспользоваться тем звуком, какой ему понравится, лишь бы только он предупредил, что означает у него этот звук. Но так как, будучи хозяевами своего языка, люди не властны распоряжаться языком других, каждый вправе составить свой собственный словарь, однако никто не имеет права навязывать его другим или же истолковывать то, что они говорят, согласно тем особым значениям, которые он придал различным словам. Поэтому, когда мы не просто уведомляем других, в каком смысле мы понимаем то или иное слово, а намерены разъяснить его общепринятый смысл, предлагаемые нами определения отнюдь не являются произвольными и независимыми, а должны представлять если не истину вещей, то истину употребления слов. И если эти определения не отражают действительного употребления слов, т. е. не соединяют со звуками тех самых идей, которые обычно связывают с ними те, кто ими пользуется, их следует считать ложными. Это показывает также, что подобные определения отнюдь не являются неоспоримыми; недаром же изо дня в день ведутся споры относительно обычного значения слов.
Такого рода определения слов находятся как будто в ведении грамматиков, — ведь именно из таких определений состоят словари, для того и предназначенные, чтобы разъяснять, какие идеи люди условились связывать с теми или иными знаками. Однако по этому поводу можно сделать немало важных замечаний, предостерегающих от неправильных суждений.
Первое и основное из них следующее: мы часто учитываем не все значение слова, иначе говоря, слова нередко обозначают больше, чем мы полагаем, и когда мы хотим разъяснить их значение, мы только частично воспроизводим то впечатление, какое они оставляют в уме.
Когда говорят, что звук, произносимый или же записанный, что-то обозначает, под этим разумеют, что, воздействуя на слух или на зрение, он вызывает в нашем уме связанную с ним идею. Но часто бывает, что слово, помимо основной идеи, рассматриваемой как собственное значение данного слова, вызывает еще и несколько других идей, которые можно назвать добавочными (accessoires). Этим идеям не уделяют никакого внимания, несмотря на то что они тоже производят на ум определенное впечатление.
К примеру, человеку говорят: «Вы солгали». Если рассматривать только основное значение приведенного выражения, это то же самое, как если бы ему сказали: «У вас в мыслях противоположное тому, что вы говорите». Однако помимо своего основного значения эти слова в обычном употреблении влекут за собой идею презрения и обиды и внушают мысль, что человек, который их произносит, не боится нанести нам оскорбление, и это делает их обидными и оскорбительными.
Иногда добавочные идеи не связаны со словами в общепринятом употреблении, а соединяются с ними только людьми, произносящими эти слова. Таковы идеи, вызываемые тоном голоса, выражением лица, жестами и другими естественными знаками, связывающими с нашими словами множество идей, которые вносят в их значение различные оттенки, изменяют его, что-то от него убавляют или, наоборот, прибавляют к нему что-то особенное, отражая чувства, суждения и мнения говорящего.
Поэтому если тот, кто сказал, что мы должны сообразовать тон своего голоса с ушами людей, которые нас слушают60, подразумевал под этим всего лишь, что надо говорить достаточно громко, чтобы нас услышали, он упустил из виду важное свойство голоса, ибо тон значит порой не меньше, чем сами слова. Бывает голос для наставлений, голос для лести, голос для порицания. Часто хотят, чтобы слова не просто дошли до ушей того, к кому обращаются, а задели и уязвили его; и никто не счел бы подобающим, если бы лакей, которого бранят, быть может, слишком громко, ответил: «Сударь, говорите потише, я вас прекрасно слышу», поскольку тон является частью внушения и необходим для образования в уме той идеи, которую в нем хотят запечатлеть61.
Иногда же добавочные идеи связаны с самими словами, так как они вызываются у слушающих почти всегда, кто бы эти слова ни произносил. Поэтому среди выражений, обозначающих, казалось бы, одно и то же, одни оскорбительны, другие лестны, одни скромны, другие бесстыдны, одни пристойны, другие неприличны; ибо, кроме основной идеи, которая их объединяет, люди связывают с ними другие идеи, вносящие в их значение различные оттенки.
Это замечание помогает выявить одну ошибку, которую довольно часто совершают люди, сетующие на высказанные им упреки: они подменяют существительные прилагательными, так что если их обвинили в неведении или во лжи, они говорят, что их назвали невежественными или лживыми, хотя для такого утверждения у них нет оснований, поскольку эти слова обозначают далеко не одно и то же. Прилагательные «невежественный» и «лживый», указывая на известный недостаток, несут в себе еще идею презрения, тогда как слова «неведение» и «ложь» обозначают вещь такой, какова она есть, без колкости, но и без всякого смягчения. Можно было бы подыскать другие слова, которые, обозначая то же самое, заключали бы в себе вдобавок и смягчающую идею и свидетельствовали бы, что того, к кому обращают эти упреки, намерены щадить. Именно такие выражения выбирают умные и сдержанные люди, если только у них нет причины быть более резкими.
Из этого замечания можно также уяснить различие между простым и фигуральным стилем и понять, почему одни и те же мысли кажутся нам гораздо более живыми, когда они выражены с помощью какой-нибудь фигуры, нежели тогда, когда они заключены в совсем простые выражения. Это связано с тем, что фигуральные выражения обозначают, помимо основной вещи, душевное движение и страсть говорящего и запечатлевают в уме идею того и другого, тогда как простое выражение обозначает одну только голую истину.
Например, если бы полустишие Вергилия: Usque adeone mori miserum est!62 — было выражено просто, без этой фигуры — Non est usque adeo mori miserum63, — оно, несомненно, обладало бы гораздо меньшей силой. И объясняется это тем, что первое выражение обозначает намного больше, чем второе. Оно не только передает ту мысль, что смерть — не столь великое зло, как полагают, но и представляет идею человека, который противится смерти и без страха смотрит ей в лицо, — образ, гораздо более живой, нежели сама мысль, с коей он соединен. Неудивительно, что он действует на нас сильнее, ибо душа просвещается образами истин, но тронуть ее способны только образы душевных движений.
Si vis me flere, dolendum est Primum ipse tibi64.
Но так как с помощью фигурального стиля мы обычно не только обозначаем определенные вещи, но и выражаем чувства, с которыми мы думаем и говорим о них, из этого можно сделать вывод, как его надлежит применять и к каким предметам он подходит. Совершенно очевидно, что смешно пользоваться им тогда, когда речь идет о чисто умозрительных предметах, созерцаемых спокойным взором и не вызывающих в душе никаких движений. Ибо фигуры выражают движения нашей души, и поэтому те движения, которые обнаруживают, когда говорят о предметах, не приводящих душу в волнение, суть движения противоестественные и представляют собой подобие судорог. Вот почему нам так неприятны те проповедники, которые обо всем говорят с восклицаниями и у которых философские рассуждения вызывают не меньшее волнение, чем самые потрясающие и самые важные для спасения истины.
И наоборот, когда рассматриваемый нами предмет должен был бы пас взволновать, сухая, холодная и бесстрастная речь выдает определенный недостаток. Ведь это недостаток — быть равнодушным к тому, что должно затрагивать наши чувства.
Таким образом, коль скоро божественные истины возвещаются не просто затем, чтобы их знали, а затем, чтобы их принимали с любовью и благоговением, благородная, возвышенная и образная манера, в какой их излагали святые отцы, без сомнения, подходит к ним гораздо больше, нежели простой, лишенный всяких фигур стиль схоластиков, потому что она не только позволяет поведать нам эти истины, но и передает чувства любви и благоговения, с коими говорили о них отцы. Она вносит в наш ум образ этого святого состояния души и может весьма способствовать тому, чтобы вызвать у нас подобное же состояние, между тем как простой схоластический стиль, выражающий только голую истину, в меньшей степени способен пробудить в душе чувства почитания и любви, кои должно испытывать в отношении христианских истин, и это делает его не только менее подходящим для такой цели, но и менее приятным, ибо удовольствие души состоит скорее в том, чтобы питать чувства, нежели в том, чтобы приобретать познания.
Наконец, исходя из этого же замечания, можно решить известный вопрос древних философов: сухцеству-ют ли непристойные слова — и опровергнуть доводы стоиков, утверждавших, что можно пользоваться и такими выражениями, которые обычно признаются позорными и бесстыдными.
Они утверждают, говорит Цицерон в письме, написанном по этому поводу, будто вовсе не существует ни скверных, ни позорных слов65. Ибо низость, рассуждают они, либо исходит от самих вещей, либо заключена в словах. Но она не исходит от самих вещей, поскольку их можно обозначить другими словами, которые не считаются непристойными. Нет ее и в словах, если рассматривать их просто как звуки, поскольку, как показывает Цицерон, часто бывает, что один и тот же звук, обозначающий разные вещи, признается непристойным в одном значении, но не считается таковым в другом.
Однако все это не более чем пустое изощрение. Дело в том, что философы не уделили должного внимания тем добавочным идеям, которые ум присоединяет к основным идеям вещей. Ибо отсюда явствует, что одна и та же вещь может быть пристойно обозначена одним звуком и непристойно — другим, если один из этих звуков прибавляет к ней еще какую-то идею, прикрывающую ее низость, а другой, напротив, представляет ее уму без всякого стыда. Так, слова «прелюбодеяние», «кровосмешение», «мерзкий грех» не являются низкими, хотя они и представляют крайне низкие поступки; ибо они представляют их под покровом ужаса, так что на них смотрят только как на преступления и эти слова обозначают скорее преступное в этих действиях, нежели сами действия. Но есть и другие слова, которые обозначают их, не внушая ужаса, и представляют их скорее приятными, нежели преступными, соединяя с ними даже идею бесстыдства и дерзости. Эти слова и называют низкими и непристойными.
Так же обстоит дело с известными оборотами речи, посредством которых пристойно обозначают действия хотя и естественные, но свидетельствующие об оскверненности природы. Эти обороты пристойны, потому что они обозначают не просто подобные вещи, но вместе и отношение к ним того, кто изъясняется таким образом и своей сдержанностью показывает, что смотрит на них с огорчением и, сколь возможно, скрывает их от других и от самого себя. А те, кто говорил бы о них иначе, обнаруживали бы, что им доставляет удовольствие рассматривать вещи такого рода, и поскольку удовольствие это дурного свойства, неудивительно, что слова, которые запечатлевают эту идею, признаются неблагопристойными.
Поэтому иногда бывает, что одно и то же слово признается в одно время пристойным, а в другое — постыдным. Это вынудило еврейских богословов написать на полях в некоторых местах Библии древнееврейские слова, чтобы те, кто будет ее читать, произносили их взамен слов, употребленных в Писании. Ибо эти последние в те времена, когда ими пользовались пророки, не были непристойными, потому что они были связаны с некоторой идеей, побуждающей относиться к подобным вещам с надлежащей скромностью и стыдливостью, но в дальнейшем эта идея была от них отделена и с ними соединили другую идею — бесстыдства и дерзости, так что они стали постыдными. И не без оснований раввины, дабы не оскорблять ум этой порочной идеей, желают, чтобы, читая Библию, пропзносили другие слова, хотя они и оставляют текст ее без изменений.
Таким образом, слабый довод привел в свое оправдание тот автор, который, невзирая на свой священный сан, требовавший от него безукоризненной скромности, употребил малопристойное слово, а когда это вызвало справедливые нарекания, сослался на то, что святые отцы свободно пользовались словом lupanar ц что в их сочинениях часто встречаются слова теretrix, leno66 и другие, которые вряд ли были бы терпимы в нашем языке. Ведь именно свобода, с какой святые отцы пользовались этими словами, должна была навести его на мысль, что тогда они не считались непристойными, или, иначе говоря, с ними еще не соединяли идею дерзости, делающую их низкими, и он был неправ, полагая, что ему дозволено употреблять слова, признаваемые в нашем языке непристойными, ибо слова эти в действительности не равнозначны тем, которыми пользовались отцы, поскольку, кроме объединяющей их основной идеи, они заключают в себе также и образ порочного состояния души, в котором есть что-то от распущенности и бесстыдства.
Итак, коль скоро эти добавочные идеи так важны и вносят так много оттенков в основные значения слов, было бы полезно, чтобы составители словарей отмечали их и уведомляли, к примеру, о словах оскорбительных, учтивых, резких, пристойных, непристойных; а еще лучше, если бы они совсем исключили эти последние, потому что нам, конечно же, лучше их и вовсе не знать.
Глава XV
ОБ ИДЕЯХ, ПРИБАВЛЯЕМЫХ УМОМ К ТЕМ, КОТОРЫЕ СОСТАВЛЯЮТ ТОЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ СЛОВ
Добавочными можно также считать идеи другого рода, которые ум по каким-либо соображениям прибавляет к точному значению терминов. Часто бывает, что, помыслив соответствующее слову точное значение, ум не останавливается на нем, если оно является слишком смутным и общим, а простирает свой взор дальше, чтобы рассмотреть еще другие атрибуты и другие стороны представившегося ему предмета и, таким образом, помыслить его посредством более отчетливых идей.
Так бывает, в частности, при употреблении указательных местоимений, когда вместо имени пользуются местоимением среднего рода — hoc, это. Ясно, что это означает «эта вещь» и что hoc означает haec res, hoc negotium67. А слово «вещь», res, обозначает весьма общий и весьма смутный атрибут всякого предмета; ведь оно неприменимо только к «ничто».
Но указательное местоимение hoc не просто обозначает вещь саму по себе, а представляет ее как наличную, и потому ум обычно не останавливается на этом единственном атрибуте — «вещь», а присоединяет к нему некоторые другие, отчетливо мыслимые атрибуты. Например, когда посредством слова это указывают на алмаз, ум не довольствуется тем, чтобы рассматривать алмаз как наличную вещь, а прибавляет к идее наличной вещи идеи твердого и сверкающего тела такой-то формы.
Все эти идеи, как первая и основная, так и те, которые ум к ней прибавляет; вызываются словом hoc, примененным к алмазу. Однако оно вызывает их различным образом: идея атрибута «наличная вещь» вызывается как собственное значение слова, другие же — как идеи, которые мыслятся умом связанными и отождествленными с первой и основной идеей, но не составляют точного значения местоимения hoc. Поэтому в соответствии с тем, что термин hoc употребляют применительно к различным предметам, различны и добавления. Если я говорю hoc, указывая на алмаз, данный термин всегда будет означать: эта вещь, но ум дополнит эту идею и добавит: «которая есть алмаз, т. е. твердое и сверкающее тело», а если это вино, ум прибавит идеи жидкого состояния, вкуса и цвета вина; так же и с другими вещами.
Таким образом, нужно строго отличать подобные прибавляемые идеи от идей обозначаемых; ибо, хотя они содержатся в одном и том же уме, они неравносильны, и ум, прибавляя эти более отчетливые идеи, вместе с тем понимает, что термин hoc сам по себе обозначает только смутную идею, которая, хотя она и соединена с более отчетливыми идеями, всегда остается смутной.
Исходя из этого, можно разоблачить одну известную уловку протестантских священников, на которой они основывают главный аргумент в пользу своего толкования образа евхаристии, и не следует удивляться тому, что мы воспользуемся здесь этим замечанием, чтобы прояснить их аргумент, поскольку он относится скорее к логике, чем к теологии.
Опп утверждают, что в речении Иисуса Христа Сие есть тело мое слово сие обозначает хлеб. Но хлеб, говорят они, не может действительно быть телом Иисуса Христа; следовательно, речение Христа не означает Сие есть действительно тело мое.
Наша задача не в том, чтобы рассмотреть здесь меньшую посылку и показать ее ложность, — это уже сделано в другом месте69; речь идет только о большей посылке, в которой утверждается, что слово сие обозначает хлеб. А на это мы должны сказать, что, согласно установленному нами принципу, слово хлеб, обозначающее отчетливую идею, не есть в точности то, что соответствует термину hoc, обозначающему только смутную идею наличной вещи, но совершенно справедливо, что, поскольку Иисус Хриотос, произнося это слово, обратил внимание своих апостолов на хлеб, который он держал в руках, они, вероятно, прибавили к смутной идее наличной вещи, обозначаемой термином hoc, отчетливую идею хлеба, каковая лишь вызывалась, а не составляла точное значение этого термина.
Неразличение идей вызываемых и идей в точности обозначаемых — единственная причина возникшего у этих священников затруднения. Они всеми силами пытаются доказать, что, поскольку Христос указывал на хлеб, и апостолы видели хлеб, и их внимание было обращено на него словом hoc, они не могли не помыслить хлеб. Мы согласны с тем, что аностолы явно мыслили хлеб и что у них было основание мыслить его. Чтобы это доказать, не нужно прилагать столько усилий; вопрос не в том, мыслили ли они хлеб, — вопрос в том, как они его мыслили.
А на это мы ответим, что если апостолы мыслили хлеб, т. е. если у них в уме содержалась отчетливая идея хлеба, то это была не идея, обозначаемая словом hoc, — • что невозможно, ибо данный термин всегда будет обозначать одну лишь смутную идею, — а идея, прибавленная к этой смутной идее и вызванная в силу обстоятельств.
В дальнейшем читатели уяснят для себя важность этого замечания. Здесь же нужно добавить следующее: отмеченное различие столь несомненно, что, когда пытаются доказать, что слово сие обозначает хлеб, его как раз и устанавливают. Сие, — говорит один священник, последним обсуждавшпй этот вопрос, — означает це просто «эта наличная вещь», но «эта наличная вещь, которая, как вам известно, есть хлеб». Он не видит, что в данном предложении слова которая, как вам известно, есть хлеб именно прибавлены к слову наличная вещь в виде придаточного предложения, а не обозначены в точности словом наличная вещь, так как субъект предложения не означает всего предложения целиком, и, следовательно, в предложении, имеющем тот же смысл: Сие, что, как вам известно, есть хлеб, — слово «хлеб» именно прибавлено к слову сие, а не обозначено им.
Но разве важно, скажут эти священники, чтобы слово сие в точности обозначало хлеб? Ведь апостолы действительно подумали, что вещь, которую Христос назвал сие, есть хлеб.
Да, это важно, и вот почему: слово сие, само по себе обозначающее не более как точную идею наличной вещи, хотя и ограниченную до хлеба посредством отчетливых идей, прибавленных к ней апостолами, всегда может быть подвергнуто иному ограничению — тогда оно окажется связанным с другими идеями, а ум может не заметить замены предмета. Когда Иисус Христос сказал: «Сие есть тело мое», апостолам нужно было только отбросить добавление, которое они сделали к этому слову посредством отчетливых идей хлеба. Удерживая в уме ту же самую идею наличной вещи, они, после того как Иисус Христос произнес своп слова, подумали: «Эта наличная вещь теперь есть тело Иисуса Христа» и, таким образом, связали слово hoc, сие, которое они посредством придаточного предложения связывали с хлебом, теперь уже с атрибутом «тело Иисуса Христа». Отбросив прибавленные идеи, апостолы не изменили идею, в точности обозначаемую словом hoc, а просто подумали: «Это есть тело Иисуса Христа». Вот и вся тайпа этого предложения; ее порождает не темнота слов, а замена, произведенная Иисусом Христом, у которого субъект hoc был подвергнут двум различным ограничениям, как мы это разъясним в гл. XII второй части, когда будем говорить о единстве вследствие смешения субъектов.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЛОГИКИ,
В КОТОРОЙ СОДЕРЖАТСЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ О СВОИХ СУЖДЕНИЯХ
Глава I
О СЛОВАХ В СООТНЕСЕНИИ С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ
Поскольку мы намереваемся изложить здесь различные замечания людей относительно своих суждений, а суждения — это предложения, состоящие из разных частей, начать следуе! с описания этих частей. Главными из них являются имена, местоимения, глаголы.
Пустое занятие — разбирать, грамматике или логике надлежит их рассматривать; коротко говоря, все, что отвечает цели какого-либо искусства, к нему и относится, независимо от того, составляет ли это знание особенность данного искусства или же им пользуются и другие искусства и науки.
Так вот, коль скоро логика ставит своей целью научить людей правильно мыслить, без сомнения, полезно будет ознакомить читателей с различным употреблением звуков, которыми обозначают идеи и которые в силу приобретенной умом привычки связываются с идеями столь тесно, что одно не мыслится без другого: идея вещи вызывает идею звука, а идея звука — идею вещи.
По этому поводу в общем можно сказать, что слова суть отчетливые и членораздельные звуки, которые люди сделали знаками, чтобы обозначить то, что происходит у них в уме.
А так как то, что происходит в уме, сводится, как мы уже сказали, к представлению, суждению, умозаключению и упорядочению, то слова служат для обозначения всех перечисленных действий. Для этой цели придумали три главных вида слов, о которых мы и будем здесь говорить: имена, местоимения и глаголы; два последних вида слов заменяют имена, но только различным образом. Это необходимо изложить более подробно.
Имена
Как мы уже сказали, предметы наших мыслей суть либо вещи, либо способы [бытия] вещей. Слова, которые служат для обозначения тех и других, называются именами.
Те, что обозначают вещи, называются именами существительными, например: земля, солнце. Те, что обозначают способы [бытпя], одновременно указывая на субъект, которому они присущи, называются именами прилагательными, например: хороший, справедливый, круглый.
Поэтому, когда посредством производимого умом отвлечения способы [бытия] мыслят, не связывая их с каким-то определенным субъектом, то, поскольку при этом они существуют в уме в некотором смысле сами по себе, они выражаются существительным, например: мудрость, белизна, цвет.
И наоборот, когда то, что само по себе есть субстанция и вещь, мыслится в связи с некоторым субъектом, слова, обозначающие его в таком качестве, становятся прилагательными, например: человеческий, плотский. Освобождая подобные прилагательные, образованные от имен субстанций, от связи с субъектом, их снова превращают в существительные; так, образовав от существительного человек прилагательное человечный, от прилагательного человечный затем образуют существительное человечность.
Есть имена, которые считаются в грамматике существительными, но в действительности являются прилагательными, поскольку они обозначают способ [бытия] , или модус, субъекта, например: король, философ, врач. Существительными их считают потому, что они относятся толькр к одному субъекту и этот единственный субъект всегда подразумевается, так что выражать его нет необходимости.
По той же причине и слова красное, белое и т. д. в действительности являются прилагательными 1, ибо в них обозначено отношение [к субъекту]; существительное, к коему они относятся, не выражено потому, что это общее существительное, заключающее в себе все субъекты этих модусов и являющееся в своей общности единственным. Так, красное — это всякая красная вещь, белое — всякая белая вещь; пли, как говорят в геометрии, это какая угодно красная вещь.
Таким образом, прилагательные имеют, по существу, два значения: отчетливое, а именно значение модуса, или способа [бытия], и смутное, а именно значение субъекта. Но хотя значение модуса более отчетливо, оно, однако, является косвенным, и наоборот, значение субъекта, хотя оно и смутно, является прямым. Слово белое, oandidum, косвенно, хотя и отчетливо, обозначает белизну.
Местоимения
Местоимения употребляют вместо имен, чтобы избежать их докучливого повторения. Однако не следует полагать, будто, занимая место имен, они производят на ум то же самое впечатление. Это совершенно неверно; напротив, они избавляют от скуки повторения лишь потому, что представляют имена только смутным образом. Имена как бы открывают вещи уму, местоимения же представляют их завуалированными, хотя ум и сознает, что они обозначают те же самые вещи, которые обозначены именами. Вот почему вполне допустимо соединять имя и местоимение: Tu Phaedria, Ессе ego Joannes2.
О различных видах местоимений
Так как люди решили, что называть самих себя по имени часто нет необходимости и что это было бы обременительным, они ввели местоимение первого лица, чтобы ставить его на место имени говорящего: Ego, я.
Чтобы избавить себя от необходимости называть того, с кем говорят, они сочли удобным обозначить его словом, получившим название местоимения второго лица: ты или вы.
А чтобы не повторять имена других людей и предметов, о которых ведут речь, придумали местоимения третьего лица: ille, ilia, illud 3. Среди них есть местоимения, как бы перстом указывающие на ту вещь, о которой идет речь; поэтому их называют указательными: hie, iste, этот, тот.
Есть также местоимение, называемое возвратным, поскольку оно обозначает отношение вещи к себе самой. Это местоимение sui, sibi, себя: Катон убил себя.
Общим для всех местоимений является то, что они, как мы уже сказали, смутно обозначают имя, которое они заменяют. Но у местоимений среднего рода illud, hoc, когда они употребляются в абсолютном смысле, т. е. когда имя не выражено, есть одна особенность. Местоимения других родов — hie, haec, ille, ilia могут относиться и почти всегда относятся к отчетливым идеям, которые они, однако, обозначают лишь смутно: ilium expirantem flammas, т. е. ilium Ajacem; His ego пес metas rerum, nec tempora ропат, t. e. Romanis4. Местоимение среднего рода, наоборот, всегда относится к общему и смутному имени: hoc erat in votis, т. e. haec res, hoc negotium erat in votis; hoc erat alma parens5 и т. д. Таким образом, местоимению среднего рода присуща двоякая смутность, а именно смутность самого местоимения, значение которого всегда расплывчато, и смутность слова negotium, вещь, которое является столь же общим и столь же смутным.
Об относительном местоимении
Есть еще другое местоимение, называемое относительным: qui, quae, quod, что, кто, который, каковой, каковая.
У относительного местоимения есть и общее с другими местоимениями, и своя особенность.
Общее заключается в том, что оно замещает имя и вызывает смутную идею этого имени.
Особенность же — в том, что предложение, в которое опо входит, может быть частью субъекта или атрибута другого предложения, образуя одно из тех добавочных, или придаточных, предложений, о которых ниже будет сказано более подробно: Бог, который благ, мир, который зрим.
Я предполагаю, что, когда речь идет о предложениях, читателям понятны термины «субъект» и «атрибут», хотя они пока еще не разъяснены; ведь они настолько распространенны, что их обычно понимают и не изучавшие логики. Тем же, кто их не поймет, надо будет обратиться к той главе, где раскрывается их смысл б.
Исходя из сказанного, можно решить вопрос, каков точный смысл слова что, когда опо следует за глаголом и кажется ни к чему ие относящимся: Иоанн ответил, что он не Христос1. Пилат сказал, что он не видит в Иисусе Христе никакой вины.
Некоторые делают из него наречие, так же как и из слова quod, которое латиняне иногда понимают в том же смысле, какой имеет наше французское что, хотя это бывает редко: Non tibi objicio quod hominem spoliasti, — говорит Цицерон9.
Но в действительности слово что, quod, является ле чем иным, как относительным местоимением, ибо оно сохраняет его смысл.
Так, в предложении Иоанн ответил, что он не Христос это что сохраняет назначение связывать другое предложение — [он] не Христос с атрибутом, заключенным в слове ответил, которое означает fuit res-pondens 10.
Другое назначение относительного местоимения, состоящее в том, чтобы заменять имя и относиться к пему, здесь, действительно, далеко не так очевидно; поэтому некоторые ученые утверждают, будто слово что в подобных случаях не имеет такого назначения. И все же можно сказать, что оно его также сохраняет. Ибо, говоря Иоанн ответил, подразумевают, что он дал ответ, и что относится именно к этой смутной идее ответа. Точно так же, когда Цицерон говорит: Non tibi objicio quod hominem spoliasti, — quod относится к смутной идее чего-то, в чем обвиняют, вызываемой словом objicio. И это нечто, в чем обвиняют, мыслимое сначала смутно, затем определяется посредством придаточного предложения, присоединяемого с помощью quod: quod hominem spoliasti.
To же самое можно отметить в следующих предложениях: Я предполагаю, что вы будете благоразумны, Я вам говорю, что вы неправы. Слово я говорю вызывает сначала смутное представление о чем-то сказанном, и к чему-то сказанному я и отношу что. Я говорю, что означает Я говорю нечто, а именно. И точно так же тот, кто говорит Я предполагаю, выражает смутную идею чего-то предполагаемого. Ибо я предполагаю означает я делаю предположение] к этой идее чего-то предполагаемого я и отношу что. Я предполагаю, что означает Я делаю предположение, а именно,
к местоимениям можно причислить греческий артикль о, т), то, когда он ставится не до, а после имени. Touto eon то осоца роо то опер upcov Stfiopevov, — говорит святой Лука11. Ибо это то, 1е12 представляет уму тело, осеца, смутным образом. Следовательно, оно выполняет функцию местоимения.
Единственное различие между артиклем в таком употреблении и относительным местоимением состоит в том, что, хотя артикль заменяет собой имя, он соединяет следующий за ним атрибут с предшествующим именем в одном и том же предложении, а относительное местоимение образует вместе со следующим за ним атрибутом отдельное предложение, хотя и соединенное с первым: о 6i6ozai, quod datur, т. е. quod est datum13.
Такое употребление артикля обнаруживает неосновательность замечания одного протестантского священника14 по поводу того, как надо переводить эти слова из Евангелия святого Луки в связи с тем, что в греческом тексте стоит не относительное местоимение, а артикль: Это тело мое, за вас предаваемое, а не «которое за вас предается», то опер ugcov 6t6o|ievov, а не о илер ujicov 6i6oTai. Он утверждает, что совершенно необходимо, дабы выразить значение артикля, переводить этот текст так: Сие есть тело мое, тело мое, за вас предаваемое или тело, за вас предаваемое — и что неправильно переводить его словами Сие есть тело мое, которое за вас предается.
Но это утверждение основано лишь на том, что упомянутый автор не вполне уяснил истинную природу относительного местоимения и артикля. Ибо несомненно, что, как относительное местоимение qui, quae, quod, заменяя имя, представляет его только смутным образом, так же и артикль о, т], то лишь смутно представляет имя, к которому он относится. И поскольку это смутное представление нужно для того, чтобы не повторять одно и то же имя в отчетливом виде, что было бы докучно, постольку переводить артикль явным повторением одного и того же слова — Сие есть тело мое, тело мое, за вас предаваемое — значит не принимать во внимание назначение артикля, так как он поставлен лпшь затем, чтобы избежать этого повторения. А перевод при помощи относительного местоимения — Сие есть тело мое, которое за вас предается сохраняет существенное свойство артикля — представлять имя только смутно и не воздействовать на ум дважды посредством одного и того же образа. Не удается сохранить лишь другое его свойство, которое может показаться менее существенным: артикль заменяет имя так, что присоединяемое к нему прилагательное не образует нового предложения — то и л ер 6i6opevov, тогда как относительное мес-
тоимение qui, quae, quod делит предложение на более обособленные части и становится субъектом нового предложения: о опер opcav бсботаи Таким образом, ни один из двух переводов: Сие есть тело мое, которое за вас предается; Сие есть тело мое, тело мое, за вас предаваемое — не является вполне совершенным, поскольку в одном смутное значение артикля меняется на отчетливое значение, противоречащее его природе, а в другом, сохраняющем это смутное значение, относительное местоимение делит на два предложепия то, что при наличии артикля составляет одно предложение. Но раз мы должны выбирать между этими двумя переводами, мы не вправе, выбрав один, охуждать другой, как это делает упомянутый автор.
Глава II
О ГЛАГОЛЕ
То, что мы сказали здесь об именах и местоимениях, заимствовано из небольшой книги, вышедшей несколько лет назад под заглавием «Общая грамматика»16; исключение составляют несколько вопросов, изложенных нами иначе. Что же касается глагола, о котором трактуется в XIII главе, то я просто перепишу сказанное автором этой книги, поскольку я считаю, что к этому нечего добавить. Люди, говорит он, испытывали не меньшую потребность в словах, обозначающих утверждение, каковое является для нас основным способом мышления, нежели в словах, обозначающих предметы наших мыслей.
Именно в этом и состоит суть того, что называют глаголом: глагол представляет собой не что иное, как слово, основное назначение которого — обозначать утверждение, т. е. указывать на то, что речь, где употребляется это слово, есть речь человека, который не только мыслит вещи, по и судит о них и утверждает их. Этим глагол отличается от некоторых имен, также обозначающих утверждение, таких, как, например, affirmans, affirmatio16, ибо они обозначают утверждение лишь постольку, поскольку оно становится для нас предметом мысли, и, таким образом, указывают не на то, что пользующийся этими словами что-то утверждает, а лишь на то, что он мыслит утверждение.
Я сказал, что основное назначение глагола — обозначать утверждение, так как ниже будет показано, что им пользуются и затем, чтобы обозначить другие движения нашей души: желание, просьбу, приказание и т. д. Но при этом меняются окончания и наклонение глагола; мы же в настоящей главе рассматриваем глагол лишь с точки зрения его основного значения — того, какое он имеет в изъявительном наклонении. Из вышесказанного можно заключить, что глагол сам по себе не должен был бы иметь никакого другого назначения, кроме указания на связь, которую мы устанавливаем в уме между двумя терминами предложения. Но только глагол быть, называемый субстантивным, сохраняет эту простоту, да и то лишь в третьем лице настоящего времени — есть и только в некоторых случаях. Ибо, следуя естественной склонности сокращать свои выражения, люди, как правило, передают одним и тем же словом, помимо утверждения, и другие значения.
I. Они соединяют с утверждением значение некоторого атрибута, так что два слова образуют предложение, как, например, когда я говорю: Petrus vivit, Петр живет; ибо слово vivit заключает в себе само утверждение и, сверх того, атрибут быть живущим и, таким образом, все равно, сказать ли Петр живет или Петр есть живущий. Отсюда проистекает большое разнообразие глаголов в каждом языке; а если бы довольствовались тем, чтобы придать глаголу общее значение утверждения, не соединяя с утверждением никакого частного атрибута, тогда в каждом языке нужен был бы один-единственный глагол — тот, который называют субстантивным.
II. В некоторых случаях с утверждением соединяют субъект предложения, так что два слова или даже одно могут образовать целое предложение. Два слова — когда я, например, говорю: sum homo, потому что sum, обозначая утверждение, включает и значение местоимения ego, которое служит субъектом этого предложения и во французском языке никогда не опускается: Я есмъ человек. Одно слово — когда я, например, говорю: Vivo, sedeo 17. Ибо эти глаголы, как мы уже сказали, заключают в себе утверждение и атрибут, а в первом лице — еще и субъект: Я есмъ живущий, Я есмъ сидящий. Отсюда произошло различие лиц, имеющееся обычно у всех глаголов.
III. С утверждением соединяют также указание на время, по отношению к которому нечто утверждается, так что одно слово, например coenasti18, означает, что я утверждаю относительно того, с кем я говорю, действие «ужинать», имея в виду не настоящее время, а прошедшее; отсюда произошло различие времен, которое также обыкновенно является общим для всех глаголов.
Различие этих значений, соединяемых с одним и тем же словом, помешало многим людям, весьма сведущим, понять природу глагола, потому что они рассматривали глагол не с точки зрения того, что для пего существенно, т. е. утверждения, а с точки зрения этих случайных для него связей.
Так, Аристотель, остановившись на третьем из значений, прибавляемых к тому, которое является для глагола существенным, определяет глагол как vox significans cum tempore — слово, обозначающее в связи со временем 19.
Другие, как, например, Буксторф20, прибавив к этому существенному значению второе значение, определяли глагол как vox, flexilis cum tempore et persona — слово, имеющее различные окончания в зависимости от времени и лица.
Некоторые же, остановившись на первом из прибавляемых значений, а именно на значении атрибута, и приняв во внимание, что атрибуты, которые люди соединяют с утверждением в одном и том же слове, обычно представляют собой действие или претерпевание, сочли, что сущность глагола — в том, чтобы обозначать действие или претерпевание,
И наконец, Юлий Цезарь Скалпгер решил, что в своей книге, посвященной основам латинского языка21, он раскрывает тайну, когда говорит, что деление вещей in permenentes et fluentes — на пребывающие и происходящие есть подлинный источник деления на имена и глаголы, ибо имена обозначают пребывающее, а глаголы — происходящее.
Однако нетрудно увидеть, что все эти определения ложны и отнюдь не выражают истинной природы глагола.
Первые два определения показывают это достаточно ясно, так как в них говорится не о том, что обозначает глагол, а лишь о том, как он обозначает: cum tempore, cum persona.
Последние два еще хуже, ибо им присущи два самых больших порока, какие только могут быть у определения, а именно: они подходят не ко всему определяемому и не только к определяемому — neque omni, neque soli.
Потому что есть глаголы, не обозначающие ни действия, ни претерпевания, ни чего-либо происходящего, например: existit, quiescit, friget, alget, tepet, calet, al-bet, viret, claret22 и т. д.
И есть слова, которые не являются глаголами, но обозначают действие и претерпевание и даже нечто происходящее, в соответствии с определением Скалиге-ра. Ибо несомненно, что причастия — это настоящие имена, но, однако, причастия глаголов действительного залога обозначают действие, а причастия глаголов страдательного залога — претерпевание, так же как и сами глаголы, от которых они образованы, и нет никаких оснований утверждать, что fluens не обозначает нечто происходящее, равно как и fluit.
Вдобавок против двух первых определений глагола можно возразить, что причастия также обозначают в связи со временем, поскольку есть причастия настоящего, прошедшего и будущего времени, особенно в греческом языке. И те, кто не без основания полагает, что звательный падеж [причастия] — это настоящее второе лицо, в особенности когда он имеет окончание, отличное от окончания именительного падежа, найдут, что в этом отношении между причастием и глаголом нет существенного различия.
Таким образом, причастие не является глаголом именно потому, что опо не обозначает утверждения. Отсюда следует, что в отличие от глагола, собственный признак которого составляет способность образовывать предложение, причастие может образовать предложение, только если прибавить к нему глагол, или, иными словами, восстановить то, что убрали, заменив глагол на причастие. В самом деле, почему Petrus vivit, Петр живет, — предложение, a Petrus vivens, живущий Петр, — нет, если вы не прибавите к этому est: Petrus est vivens, Петр есть живущий, — почему, если не по той причине, что утверждение, заключенное в слове vivit, было изъято, чтобы образовать из него причастие vivens? Это показывает, что именно от того, содержится ли в слове утверждение, зависит, является ли оно глаголом.
Попутно заметим еще, что неопределенная форма глагола, которая очень часто бывает именем, как, например, когда говорят le boire, le manger23, в этих случаях отличается от причастий тем, что причастия суть имена прилагательные, а неопределенная форма глагола есть имя существительное, образоваппое от такого прилагательного путем отвлечения, подобно тому как от candidus образуется candor и от белого — белизна. Так, глагол rubet означает есть красный, заключая в себе вместе и утверждение и атрибут; причастие rubens обозначает просто красное без утверждения, a rubere24, взятое как имя, обозначает красноту.
Таким образом, не подлежит сомнению, что, если принимать во внимание только то, что является для глагола существенным, единственно истинное определение следующее: vox, significans affirmationem — слово, обозначающее утверждение. Ибо мы не могли бы найти ни такого слова, которое, обозначая утверждение, не было бы глаголом, ни такого глагола, который не обозначал бы утверждения, по крайней мере в изъявительном наклонении. И несомненно, что, если бы мы придумали глагол, который бы всегда обозначал утверждение без всякого различия в лице и времени, так чтобы различие в лице выражалось только именами и местоимениями, а различие во времени — наречиями (это мог бы быть, например, глагол есть), он тем не менее был бы настоящим глаголом. Так и в предложениях, называемых у философов вечными истинами, — например: Бог есть бесконечный, Всякое тело есть делимое, Целое есть большее, нежели часть, — слово есть обозначает всего лишь простое утверждение, безотносительное ко времени, ибо это истинно в любом времени, и не представляет уму никакого различия в лице.
Итак, глагол с точки зрения того, что для него существенно, есть слово, обозначающее утверждение. Но если мы пожелаем включить в определение глагола его основные случайные признаки, его можно будет определить следующим образом: vox significans affirmatio-nem cum designatione personae, numeri et temporis — слово, обозначающее утверждение с указанием лица, числа и времени. Это в точности соответствует субстантивному глаголу.
Что же касается других глаголов, то, поскольку они отличаются от субстантивного глагола тем, что люди соединили утверждение с некоторыми атрибутами, их можно определить так: vox significans affirmationem ali-cujus attributi cum designatione personae, numeri et temporis — слово, выражающее утверждение некоторого атрибута с указанием лица, числа и времени.
Попутно заметим, что утверждение в качестве предмета мысли также может быть атрибутом глагола — как в глаголе affirmo25. Тогда этот глагол обозначает два утверждения: одно относится к самому говорящему, а другое — к лицу, о котором идет речь, независимо от того, говорит ли человек о себе самом или о ком-либо другом. Когда я говорю: Petrus affirmat, — affirmat есть то же самое, что и est affirmans26, и в этом случае est выражает мое утверждение, или суждение, которое я выношу о Петре, a affirmans — мыслимое мною утверждение, которое я отношу к Петру. Глагол nego27 по той же причине содержит, наоборот, утверждение и отрицание.
Отметим еще, что, хотя наши суждения бывают не только утвердительными, но и отрицательными, глаголы сами по себе всегда обозначают лишь утверждение. Отрицание выражается только частицами поп, не или включающими его именами: nullus, nemo, никакой, никто, которые, будучи соединены с глаголами, меняют утверждение на отрицание: Никакой человек не есть бессмертный- Nullum corpus est indivisibile28.
Глава III
О ТОМ, ЧТО ТАКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ,
И О ЧЕТЫРЕХ ВИДАХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Помыслив вещи посредством идей, мы сопоставляем эти идеи; обнаруживая, что одни из них соответствуют друг другу, а другие — нет, мы связываем их либо разделяем. Это называется утверждать или отрицать, а в общем — выносить суждение 29.
Суждение называется также предложением, и нетрудно увидеть, что в нем должно быть два термина: тот, относительно которого что-либо утверждают или отрицают, — его называют субъектом, и тот, который утверждают или отрицают, — он называется атрибут или praedicatum.
Но мыслить эти два термина еще недостаточно — надо, чтобы ум связывал их либо разделял. Такое действие нашего ума выражается в речи глаголом есть, или самим по себе — когда мы утверждаем, или с отрицательной частицей — когда мы отрицаем. Например, когда я говорю: Бог е&ь справедливый, слово Бог — субъект предложения, справедливый — атрибут, а слово есть выражает действие моего ума, который утверждает, т. е. связывает идеи Бога и справедливого, как соответствующие одна другой. Если же я говорю: Бог не есть несправедливый, то есть в соединении с частицей не обозначает действие, противоположное утверждению, а именно действие отрицания, ибо я рассматриваю эти идеи как несовместимые, поскольку в идее несправедливого содержится нечто противоположное тому, что заключено в идее Бога.
Но хотя всякое предложение необходимо заключает в себе эти три вещи, тем не менее, как уже было сказано в предыдущей главе, в нем может быть и два слова, и даже одно.
Ибо, желая сделать свою речь более краткой, люди образовали множество слов, которые обозначают вместе и утверждение, т. е. то, что обозначается субстантивным глаголом, и утверждаемый атрибут. Таковы все глаголы, за исключением того, который называют субстантивным; например, Бог существует, т. е. есть существующий; Бог любит людей, т. е. Бог есть любящий людей. Да и субстантивный глагол, когда он стоит один, как, например, когда я говорю: Я мыслю, следовательно, я есмь. уже не является чисто субстантивным, потому что при этом с ним соединяют самый общий из атрибутов — сущее. Ибо я есмь означает я есмь некое сущее, я есмь нечто.
Бывают и такие случаи, когда в одном и том же слове заключены субъект и утверждение, например, в первом и втором лице глаголов, особенно в латинском языке; так, когда я говорю: sum Christianus30, субъект этого предложения — ego, заключенное в sum.
Отсюда явствует, что в латинском языке одно слово образует предложение в первом и втором лице тех глаголов, которые по природе своей уже включают утверждение вместе с атрибутом; например, veni, vidi, vici31 — это три предложения.
Из сказанного нами ясно, что всякое предложение является утвердительным либо отрицательным и что это выражено глаголом, который утверждается либо отрицается.
Между предложениями существует и другое различие, обусловленное их субъектом: они бывают общими, частными или единичными.
Ибо термины, как мы уже сказали в первой части, бывают либо единичными, либо общими и всеобщими.
А общие термины могут быть взяты либо во всем своем объеме — когда их соединяют с общими знаками, выраженными или же подразумеваемыми, такими, как omnis, всякий, для утверждения, nullus, ни один, для отрицания: всякий человек, ни один человек;
либо в неопределенной части своего объема, а именно когда к ним присоединяют слово aliquis, некоторый. например: некоторый человек, некоторые люди. или же другие слова, в зависимости от того, что принято в данном языке.
Отсюда проистекает существенное различие между предложениями. Когда субъект предложения — общий термин, взятый во всем своем объеме, предложение называется общим независимо от того, является ли оно утвердительным, как, например, Всякий нечестивец безумен, или отрицательным, как, например, Ни один порочный человек не счастлив.
Когда общий термин берется лишь в неопределенной части своего объема, по той причине что он ограничен неопределенным словом некоторый, предложение называется частным независимо от того, содержит ли оно утверждение — например: Некоторый жестокий человек труслив, или же отрицание — например: Некоторый бедный не есть несчастный.
Если же субъект предложения является единичным, как, например, когда я говорю: Людовик XIII взял Ла-Рошель, оно называется единичным.
Но хотя единичное предложение отлично от общего, поскольку его субъект не является общим, оно должно быть отйесено скорее к общим, нежели к частным предложениям; ведь его субъект, именно потому что он единичный, необходимо берется во всем своем объеме, что составляет сущность общего предложения, отличая его от частного. Ибо для общности предложения неважно, сколь велик объем его субъекта, лишь бы только этот объем, каким бы он ни был, брали весь целиком. Поэтому единичные предложения и заменяют в доказательствах общие. Таким образом, все предложения можно свести к четырем видам; для облегчения памяти их обозначили четырьмя гласными: А, Е, I, О.
А. Общеутвердительное — например: Всякий порочный человек есть раб.
Е. Общеотрицательное — Ни один порочный человек не счастлив.
I. Частноутвердительное — Некоторый порочный человек богат.
О. Частноотрицательное — Некоторый порочный человек не богат.
Чтобы их легче было запомнить, придумали два стиха:
Assent A, negat Е, verum generaliter ambo;
Asserit I, negat 0, sed particulariter ambo32.
Общность или частность предложений принято также называть количеством.
Качеством же называют утверждение или отрицание, зависящее от глагола, каковой рассматривается как форма предложения.
Таким образом, А и Е одинаковы по количеству и различны по качеству, и так же I и О.
А и I одинаковы по качеству и различны по количеству; так же Е и О.
Кроме того, предложения в зависимости от своей материи делятся на истинные и ложные. И ясно, что не может быть предложений, не являющихся ни истинными, ни ложными; ибо всякое предложение, поскольку оно выражает составленное нами суждение о вещах, истинно, когда это суждение соответствует действительности, и ложно, когда оно не соответствует действительности.
Но так как нам часто недостает света [разума], чтобы отличить истинное от ложного, то помимо предложений, представляющихся нам несомненно истинными или несомненно ложными, есть и другие — такие, истинность которых для нас не настолько очевидна, чтобы у нас не было опасения, что они ложны, хотя они и кажутся нам истинными, и такие, в ложности которых мы не уверены, хотя они и кажутся нам ложными. Это предложения, называемые вероятными; из них первые являются более, а вторые — менее вероятными. В четвертой части мы рассмотрим, на основании чего мы можем с уверенностью заключить, что предложение истинно.
Глава IV
О ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ МЕЖДУ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ,
ИМЕЮЩИМИ ОДИН И ТОТ ЖЕ СУБЪЕКТ
И ОДИН И ТОТ ЖЕ АТРИБУТ
Мы сказали, что есть четыре вида предложений — А, Е, I, О. Теперь рассмотрим, какое соответствие или несоответствие существует между ними, когда из одного и того же субъекта и одного и того же атрибута составляют различные виды предложений.
Нетрудно заметить, что противоположность между такими предложениями может быть только трех видов; правда, один из пих, в свою очередь, делится на два вида.
Если онп противоположны одновременно и по количеству и по качеству, как А, О и Е, I, их называют, противоречащими. Например: Всякий человек есть животное, Некоторый человек не есть животное; Ни один человек не безгрешен, Некоторый человек безгрешен.
Если они различны только по количеству и одинаковы по качеству, как А, I и Е, О, их называют подчиненными. Например: Всякий человек есть животное, Некоторый человек есть животное; Ни один человек не безгрешен, Некоторый человек не безгрешен.
Если же они различны по качеству и одинаковы по количеству, их называют противными и подпротивными. Противными — когда они общие, например: Всякий человек есть животное, Ни один человек не есть животное.
Подпротивными — когда они частные, например: Некоторый человек есть животное, Некоторый человек не есть животное.
Рассматривая теперь противоположные предложения с точки зрения истинности и ложности, нетрудно прийти к следующим выводам.
1. Противоречащие предложения никогда не бывают ни одновременно истинными, ни одновременно ложными — если одно из них истинно, другое ложно. Ведь если истинно, что всякий человек есть животное, то не может быть истинным, что некоторый человек не есть животное, и если, наоборот, истинно, что некоторый человек не есть животное, то, следовательно, не может быть истинным, что всякий человек есть животное. Это положение настолько ясно, что дальнейшие разъяснения могли бы только затемнить его.
2. Противные предложения никогда не могут быть одновременно истинными, но они могут быть одновременно ложными. Они не могут быть истинными, потому что тогда были бы истинными противоречащие предложения. Ведь если истинно, что всякий человек есть животное, то ложно, что некоторый человек не есть животное, т. е. противоречащее предложение, и, следовательно, тем более ложно, что ни один человек не есть животное, т. е. противное предложение.
Однако ложность одного из противных предложений не влечет за собой истинности другого. Ибо может быть ложным, что все люди справедливы, по отсюда не следует истинность того, что ни один человек не справедлив, поскольку среди людей могут быть справедливые, хотя справедливы не все.
3. Подпротивные предложения по правилу, обратному тому, ч которому подчиняются противные, могут быть одновременно истинными, как, например, следующие два: Некоторый человек справедлив, Некоторый человек не справедлив; пбо справедливость может быть присуща одной части людей и не присуща другой, и, таким образом, утверждение и отрицание относятся не к одному и тому же субъекту, поскольку некоторый человек означает в одном предложении одну часть людей, а в другом — другую. Однако они не могут быть оба ложными — иначе были бы ложными противоречащие предложения. Ведь если бы было ложным, что некоторый человек справедлив, то, следовательно, было бы истинным, что ни один человек не справедлив, т. е. противоречащее предложение, и тем более — что некоторый человек не справедлив, т. е. подпротпвное предложение.
4. Что ясе касается подчиненных предложений, то это не подлинная противоположность, поскольку частное предложенпе является следствием общего. Ведь если всякий человек есть животное, то и некоторый человек есть животное; если ни один человек не есть обезьяна, то и некоторый человек не есть обезьяна. Поэтому истинность общих предложений влечет за собой истинность частных, по истинность частных не влечет за собой истинности общих. Ибо если истинно то, что некоторый человек справедлив, отсюда не следует истинность того, что всякий человек справедлив. И наоборот, ложность частных предложений влечет за собой ложность общих. Ведь если ложно, что некоторый человек безгрешен, то тем более ложно, что всякий человек безгрешен. Однако ложность общих предложений не влечет за собой ложности частных. В самом деле, хотя ложно, что всякий человек справедлив, отсюда не следует ложность утверждения, что некоторый человек справедлив. Поэтому во многих случаях подчиненные предложения оба истинны или оба ложны.
Я ничего не говорю о приведении противоположных суждений к одному смыслу, потому что это никому не нужно. К тому же соответствующие правила действительны в большинстве своем только для латинского языка.
Глава V
О ПРОСТЫХ И СЛОЖНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ.
О ТОМ, ЧТО ЕСТЬ ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ,
КОТОРЫЕ КАЖУТСЯ СЛОЖНЫМИ,
НО НЕ ОТНОСЯТСЯ К ТАКОВЫМ
И МОГУТ БЫТЬ НАЗВАНЫ СОСТАВНЫМИ.
О ПРЕДЛОЖЕНИЯХ, СОСТАВНЫХ
ПО СВОЕМУ СУБЪЕКТУ ИЛИ АТРИБУТУ
Мы сказали, что всякое предложение должно иметь по крайней мере один субъект и один атрибут. Но отсюда не следует, что в предложении не может быть больше одного субъекта и одного атрибута. Те предложения, в которых есть только один субъект и только один атрибут, называются простыми, а те, в которых больше одного субъекта или больше одного атрибута, — сложными (composees). Например, когда я говорю: «Блага и бедствия, жизнь и смерть, бедность и богатство исходят от Господа»34, атрибут исходить от Господа утверждается но в отношении одного субъекта, а в отношении нескольких, а именно благ, бедствий и т. д.
Но прежде чем мы перейдем к сложным предложениям, надо заметить, что есть такие предложения, которые кажутся сложными и тем не менее относятся к простым. Простота предложения определяется единственностью субъекта и атрибута. Но в некоторых предложениях, имеющих, строго говоря, только один субъект и только один атрибут, субъект и атрибут — сложные термины, включающие другие предложения, которые можно назвать придаточными (incidentes)35. Эти предложения лишь составляют часть субъекта или атрибута; их присоединяют посредством относительных местоимений что, кто, который, каковой, предназначенных соединять несколько предложений в одно.
Так, когда Иисус Христос говорит: Тот, кто исполнит волю отца моего, который пребывает на небесах, войдет в царство небесное зб, субъект этого предложения содержит в себе два предложения, поскольку он включает два глагола; но так как они присоединены посредством местоимений кто и который, они лишь составляют часть субъекта. Л когда я говорю: «Блага и бедствия исходят от Господа», здесь есть два субъекта в собственном смысле этого слова, ибо я утверждаю об одном и о другом, что они исходят от Господа.
Дело в том, что предложения, присоединяемые к другим посредством относительных местоимений что, кто, который, либо являются весьма несовершенными предложениями, как это будет показано ниже, либо рассматриваются не столько как предложения, образуемые в настоящий момент, сколько как предложенпя, которые были образованы прежде и в настоящий момент только мыслятся, наподобие простых идей. Поэтому безразлично, выражать ли придаточные предложения посредством имен прилагательных или причастий — без глаголов и без слов что, кто, который или же при помощи глаголов и слов что, кто, который. Ибо все равно, скажу ли я Незримый Бог создал зримый мир или Бог, который незрим, создал мир, который зрим; Александр, самый доблестный из всех царей, победил Дария или Александр, который был самым доблестным из всех царей, победил Дария. И в первом и во втором случае моя главная цель состоит не в утверждении, что Бог незрим или что Александр был самым доблестным из всех царей, — предполагая и то и другое уже изъясненным прежде, я утверждаю о Боге, который мыслится мною как незримый, что он создал зримый мир, и об Александре, который мыслится мною как самый доблестный из всех царей, что он победил Дария.
Но если бы я сказал: Александр — самый доблестный из всех царей и победитель Дария, то очевидно, что я утверждал бы об Александре равно, что он самый доблестный из всех царей и что он победитель Дария. И таким образом, предложения этого последнего вида с полным основанием называются сложными, тогда как первые можно назвать составными (complexes).
Надо отметить, что составные предложения могут быть двух видов. Их составной характер может быть обусловлен либо материей предложения, т. е. или субъектом, или атрибутом, или обоими сразу, либо одной только формой.
1. Составной характер обусловлен субъектом, когда субъект — сложный термин, как, например, в таком предложении: Всякий человек, который ничего не боится, есть царь — Rex est qui metuit nihil37.
Beatus ille qui procul negotiis, Ut prisca gens mortalium, Paterna rura bobus exercet suis, Solutus omni foenore38.
В этом последнем предложении глагол est подразумевается, beatus — атрибут, а все остальное — субъект.
2. Составной характер обусловлен атрибутом, когда атрибут — сложный термин, например: Благочестие есть благо, которое делает человека счастливым вопреки любым невзгодам.
Sum pius Aeneas fama super aethera notus39.
Но здесь нужно особо отметить, что все предложения, образованные глаголами действительного залога, могут быть названы составными и что они в некотором смысле содержат два предложения. Если я говорю, например: «Брут убил тирана», это означает, что Брут кого-то убил и что тот, кого он убил, был тираном. Отсюда следует, что это предложение можно опровергать двояко — -или говоря: «Брут никого не убивал», или говоря, что тот, кого он убил, не был тираном. Это очень важно отметить, поскольку, включая предложения такого рода в доказательства, иногда доказывают только одну часть предложения, предполагая истинность другой, и поэтому, дабы привести такие доказательства к наиболее естественной форме, нередко приходится заменять действительный залог страдательным, затем чтобы доказываемая часть была выражена прямо (мы скажем об этом подробнее, когда будем рассматривать доказательства, слагающиеся из составных предложений)40.
3. Иногда составной характер обусловлен и субъектом, и атрибутом — когда и тот и другой представляют собой сложные термины, как, например, в таком предложении: Вельможи, которые притесняют бедных, будут наказаны Богом, который является покровителем притесненных.
Ille ego qui quondam gracili modulatus avena Carmen, et egressus sylvis vicina coegi, Ut quamvis avido parerent arva colono;
Gratum opus agricolis. At nunc horrentia Martis Arma virumque cano, Trojae qui primus ab oris, Italiam fato profugus Lavinaque venit littora
Первые три стиха и часть четвертого образуют субъект этого предложения; все остальное — его атрибут. Утверждение же заключено в глаголе сапо42.
Вот каким образом предложения могут быть составными в отношении их материи, т. е. в отношении их субъекта и атрибута.
Глава VI
О ПРИРОДЕ ПРИДАТОЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
ВХОДЯЩИХ В СОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Прежде чем говорить о предложениях, составной характер которых обусловлен формой, т. е. утверждением или отрицанием, надо сделать несколько важных замечаний о природе придаточных предложений, входящих в субъект или в атрибут тех предложений, которые являются составными по своей материи.
1. Как мы уже показали, придаточные предложения суть те, в коих субъектом служит относительное местоимение что, кто, который. Например: люди, которые созданы, чтобы познавать и любить Бога или люди, которые благочестивы. Все, что стоит после слова люди, — придаточное предложение.
Но следует помнить о том, что было сказано в гл. VIII первой части, а именно что прибавления в сложных терминах бывают двух видов. Одни можно назвать простыми описаниями — когда прибавление не вносит никаких изменений в идею, выражаемую данным термином, поскольку то, что к нему прибавляют, подходит к нему в общем и во всем его объеме, как в первом примере: люди, которые созданы, чтобы познавать и любить Бога.
Другие могут быть названы ограничениями, поскольку то, что прибавляют, не подходит к термину во всем его объеме и, следовательно, сужает его и ограничивает его значение, как во втором примере: люди, которые благочестивы. Соответственно этому можно сказать, что местоимение который бывает описательным и ограничительным.
Когда местоимение который является описательным, атрибут придаточного предложения утверждается в отношении субъекта, к коему относится который, хотя для предложения в целом это только случайное прибавление, и поэтому вместо слова который можно подставить сам субъект, как видно из первого примера: люди. которые созданы, чтобы познавать и любить Бога. Ибо можно сказать: Люди были созданы, чтобы познавать и любить Бога.
Когда же местопмение который является ограничительным, атрибут придаточного предложения, собственно, не утверждается в отношении субъекта, к коему относится который. Ведь если бы, сказав: Люди, которые благочестивы, милосердны, мы решили подставить вместо слова которые слово люди: Люди благочестивы, то предложение было бы ложным, потому что это значило бы утверждать слово «благочестивый» относительно людей как таковых. Но говоря: Люди, которые благочестивы, милосердны, мы вовсе не утверждаем ни о людях вообще, ни о каких-либо людях в частности, что они благочестивы. Ум лишь соединяет идею благочестивого с идеей людей и, образуя из них совокупную идею, выносит суждение, что атрибут милосердный подходит к этой совокупной идее. Таким образом, в придаточном предложении выражено только суждение нашего ума о том, что идея благочестивого не является несовместимой с идеей человека и что, следовательно, можно соединять их одну с другой и затем рассматривать, что подходит к ним в этом соединении.
[2.] Нередко встречаются термины, сложные вдвойне или даже втройне, так как они состоят из нескольких частей, каждая из которых является сложной, и, таким образом, в составном предложении может быть несколько придаточных предложении, причем разного рода, поскольку в одних местоимение который — ограничительное, а в других — описательное. Покажем это на следующем примере: Учение, которое полагает высшее благо в телесном наслаждении, каковое учение было изложено Эпикуром 43, недостойно философа. В данном предложении атрибут — недостойное философа, а все остальное — субъект; таким образом, субъект здесь представляет собой сложный термин, включающий два придаточных предложения. Первое — которое полагает высшее благо в телесном наслаждении. Слово которое в этом придаточном предложении является ограничительным, поскольку оно ограничивает общее слово «учение» до того учения, которое утверждает, что высшее благо человека состоит в телесном наслаждении; отсюда следует, что было бы нелепо подставлять вместо слова которое слово учение, говоря: Учение полагает высшее благо в телесном наслаждении. Второе придаточное предложение — которое было изложено Эпикуром, и субъект, к коему относится это которое, — весь сложный термин учение, которое по-лагает высшее благо в телесном наслаждении, обозначающий единичное и индивидуальное учение, способное принимать различные акциденции, например быть защищаемым разными людьми, хотя само по себе оно ограничено настолько, что всегда должно пониматься одинаково, по крайней мере в той его части, которая становится предметом обсуждения. Поэтому слово которое во втором придаточном предложении — которое было изложено Эпикуром — не ограничительное, а только описательное, откуда следует, что вместо него можно подставить субъект, к коему оно относится, сказав: Учение, которое полагает высшее благо в телесном наслаждении, было изложено Эпикуром.
3. И последнее замечание. Чтобы судить о природе придаточных предложений и распознавать, является ли слово который ограничительным или описательным, часто надо обращать внимание не столько на само выражение, сколько на смысл предложения и намерение говорящего.
Ибо сложные термины нередко кажутся простыми или менее сложными, чем они есть на самом деле, так как часть из того, что они заключают в себе в уме говорящего, не выражена, а лишь подразумевается; об этом уже говорилось в гл. VIII первой части, где показано, что в нашей речи нет ничего более обычного, как обозначать единичные вещи общими именами, поскольку обстоятельства разговора достаточно ясно показывают, что к общей идее, соответствующей данному слову, присоединяют единичную и отчетливую идею, которая ограничивает ее до такой степени, что она обозначает одну-едпнственпую вещь.
Я сказал, что это обычно распознается по обстоятельствам, — так, например, в устах французов слово «король» обозначает Людовика XV. Но вот еще и правило, которое позволяет определять, когда общий термин обозначает общую идею, а когда он ограничен другой идеей, отчетливой и частной, хотя и не выраженной.
В тех случаях, когда было бы явпо нелепо связывать атрибут с субъектом, каков он согласно своей общей идее, надо полагать, что тот, кто образовал данное предложение, не оставил его субъект общим. Например, если человек говорит: Rex hoc mihi imperavit — Король повелел мне то-то, я уверен, что слово «король» обозначает у него не общую идею, ибо от «короля вообще» не может исходить частное повеление.
Если бы кто-то сказал мне: «Б рюссельская газета» за 14 января 1662 г. пишет неправду о событиях, происходящих в Париже, я был бы уверен, что в уме у него нечто большее, чем то, что обозначается этими словами, поскольку все это никак не позволяет судить, правду или ложь сообщает названная газета, и что, таким образом, он должен ясно мыслить ту частную новость, которую он считает не соответствующей истине, — как, например, если бы эта газета сообщила: Король произвел в рыцари ордена Святого Духа сто человек.
Так же обстоит дело с суждениями по поводу мнений философов, когда говорят, что учение такого-то философа ложно, не выражая отчетливо, каково это учение, например: Учение Лукреция о природе нашей души ложно. Те, кто высказывает суждения этого рода, должны ясно мыслить под общим словом «учение такого-то философа» некоторое частное мнение, потому что свойство «ложное» может быть присуще учению не постольку, поскольку это есть учение такого-то автора, а лишь постольку, поскольку это есть такое-то частное мнение, противное истине. И следовательно, эти предложения необходимым образом разлагаются на предложения типа: Такое-то учение, которое было изложено таким-то автором, ложно Мнение, будто наша душа состоит из атомов, которое было высказано Лукрецием ложно. Так что подобные суждения всегда заключают в себе два утверждения, даже когда эти утверждения не являются отчетливо выраженными: основное, касающееся истины самой по себе, например, что полагать, будто паша душа состоит из атомов, — большое заблуждение, и придаточное, касающееся только истории вопроса, например, что это ошибочное мнение было высказано Лукрецием.
Глава VII
О ЛЖИ, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ В СЛОЖНЫХ ТЕРМИНАХ
И В ПРИДАТОЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ
Сказанное нами в предыдущей главе может послужить к решению известного вопроса, заключается ли ложь только в предложениях или же она есть и в идеях, и в простых терминах.
Я предпочитаю говорить о лжи, а не об истине, потому что существует истина, которая содержится в вещах по отношению к божественному уму, независимо от того, думают ли о них люди или нет, тогда как ложь может быть в них только по отношению к человеческому или какому-либо другому подверженному заблуждению уму, который полагает, что вещь такова, какой она в действительности не является.
Итак, спрашивается: не встречается ли ложь только в предложениях и суждениях?
Обычно на это дают утвердительный ответ, что в определенном смысле верно; и тем не менее ложь иногда заключается если и не в простых идеях, то в сложных терминах, так как для этого достаточно, чтобы в них содержалось какое-то суждение и какое-то утверждение, явное или скрытое.
Это станет яснее, если мы рассмотрим сложные термины каждого из двух видов: те, в коих слово который является описательным, и те, в коих оно является ограничительным.
Неудивительно, что в сложных терминах первого вида может быть ложь, так как атрибут придаточного предложения утверждается в отношении субъекта, к коему относится который. Александр, который является сыном Филиппа — я утверждаю об Александре, хотя и в добавление, что он сын Филиппа, и, следовательно, если это не так, в этом есть ложь.
Но здесь надо сделать два-три важных замечания.
1. Ложность придаточного предложения, как правило, не мешает тому, чтобы главное предложение было истинным. Например: Александр, который был сыном Филиппа, победил персов — это предложение следовало бы считать истинным, даже если бы Александр не был сы-ном Филиппа, так как утверждение, заключенное в главном предложении, приходится только на Александра и то, что присоединили сюда в добавление, хотя и ложно, не мешает быть истинным тому, что Александр победил персов.
Однако если атрибут главного предложения имеет отношение к придаточному предложению, например, если я говорю: Александр, сын Филиппа, был внуком Аминта, то это единственный случай, когда ложность придаточного предложения влечет за собой ложность главного.
2. Титулы, которые обычно присваивают людям определенного сана, могут даваться всем тем, кто носит этот сан, хотя бы то, что обозначается титулом, никоим образом к ним не подходило. Так, поскольку титул святой и святейший прежде давался всем епископам, католические епископы на Карфагенском соборе, как известно, без колебаний применяли это имя к епископам-донатистам — sanctissimus Petilianus dixit, — хотя они хорошо знали, что не может быть истинной святости у епископа-схизматика 45. Мы видим также, что святой Павел в «Деяниях» называет Феста, правителя Иудеи, благороднейшим и достопочтенным46, поскольку так обычно обращались к иудейским правителям.
3. Иное дело, когда кто-нибудь сам придумывает для другого титул и присваивает его этому человеку от себя, а не потому, что он следует мнению других или общераспространенному заблуждению; в этом случае ему справедливо можно вменить в вину ложность высказываемых им суждений. Так, когда человек говорит: Аристотель, который является князем философов,., или просто: Князь философов полагал, что начало наших нервов находится в сердце, мы не вправе сказать ему: это утверждение ложно, потому что Аристотель — не самый великий из философов; ибо достаточно, чтобы он следовал общему мнению, хотя бы и ложному. Но если бы кто-нибудь сказал: Г-н Гассенди, который является самым ученым из философов, считает, что в природе есть пустота47, у нас было бы основание оспаривать достоинство, коим он наделил бы г-на Гассенди, и возлагать на него ответственность за ложь, которая, как мы могли бы утверждать, заключена в этом придаточном предложении. Следовательно, можно быть обвиненным во лжи, присвоив человеку титул, к нему не подходящий, но не навлечь на себя такого обвинения, присвоив ему другой титул, который на деле подходит к нему еще меньше. К примеру, папа Иоанн XII не был ни святым, ни целомудренным, ни благочестивым, как это признает Бароний48, и однако же те, кто называл его святейшим, не заслуживали упрека во лжи, а те, кто назвал бы его целомудреннейшим и благочестивейшим, были бы изрядными лжецами, даже если бы это было высказано только в придаточном предложении, например: Иоанн XII, целомудреннейший первосвященник, предписал то-то.
Все это относится к придаточным предложениям первого вида, где слово который является описательным; что же касается других, где слово который — ограничительное, таких, как, например: Люди, которые благочестивы; короли, которые любят свой народ, то несомненно, что они, как правило, не могут быть ложными, поскольку атрибут придаточного предложения не утверждается в них в отношении субъекта, к коему относится который.
Ведь если, например, говорят: Судьи, которые ничего не делают по просьбам или из благосклонности, достойны похвал, то этим вовсе не утверждают, что на свете есть хоть один судья, отличающийся таким совершенством. И все же я думаю, что в подобных предложениях всегда содержится неявное и виртуальное утверждение — не о действительном соответствии атрибута субъекту, к коему относится который, а о возможном соответствии. И если в этом ошибаются, тогда, я думаю, можно с полным основанием усмотреть в таких придаточных предложениях ложь. Допустим, что кто-нибудь говорит: Умы, которые являются квадратными, более основательны, нежели круглые. Так как идея квадратного и круглого несовместима с идеей ума, рассматриваемого как мыслящее начало, я полагаю, что подобные придаточные предложения должны были бы считаться ложными.
И можно даже сказать, что именно отсюда проистекает большая часть наших заблуждений. Ибо, обладая идеей какой-либо вещи, мы часто присоединяем к ней другую идею, которая с ней несовместима, хотя мы ошибочно сочли их совместимыми, и поэтому относим к первой идее то, что не может ей соответствовать.
Так, поскольку мы паходпм в себе две идеи — идею мыслящей субстанции и идею субстанции протяженной, нередко бывает, что, рассматривая пашу душу, которая представляет собой мыслящую субстанцию, мы незамет- но примешиваем к ее идее что-то от идеи протяженной субстанции, как, например, когда мы воображаем, будто наша душа, подобно телу, должна занимать какое-то место и ее не существовало бы, если бы она нигде не находилась. Но ведь это относится только к телу. Именно отсюда проистекает нечестивое заблуждение тех, кто считает душу смертной. Прекрасное рассуждение об этом можно видеть у святого Августина, в X книге трактата «О Троице», где показано, что нет предмета более легкого для познания, нежели природа нашей души, но люди ошибаются оттого, что, стремясь познать душу, не довольствуются тем, что они без труда о ней узнают, — именно, что это субстанция, которая мыслит, волит, сомневается, познает, — а прибавляют к тому, что она есть, то, чем она не является, стараясь представить ее в каком-либо из тех чувственных образов (fantomes), в которых они привыкли представлять себе телесные вещи.
С другой стороны, когда мы делаем предметом рассмотрения тело, нам очень трудно удержаться от того, чтобы не примешать к его идее что-то от идеи мыслящей субстанции. Поэтому мы говорим о телах, обладающих тяжестью, что они стремятся к центру, о растениях — что они ищут пригодную для них пищу, о приступах болезни — что природа пожелала освободиться от того, что ей вредило, и о множестве других вещей, в особенности связанных с нашим телом,-- что природа желает сделать то-то и то-то, хотя мы уверены, что вовсе этого не желали и нисколько об этом не думали, да и смешно воображать, будто в нас есть нечто иное, помимо пас самих, и это нечто, зная, что для нас полезно и что вредно, стремится к первому и избегает второго.
Я думаю также, что ропот людей на Бога всегда объясняется подобным смешением идей. Ведь на Бога невозможно было бы роптать, если бы его мыслили таким, каков он поистине, — всемогущим, всеведущим и всеблагим. По злые люди, мысля его всемогущим и всевышним владыкой мира, видят в нем причину всех случающихся с ними несчастий, в чем они правы, и так как они в то же время представляют его жестоким и несправедливым, что несовместимо с его благостью, они приходят в негодование, как если бы он был неправ, послав им те бедствия, кои они претерпевают.
Глава VIII
О ПРЕДЛОЖЕНИЯХ, СОСТАВНЫХ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ УТВЕРЖДЕНИЯ ИЛИ ОТРИЦАНИЯ,
И ОБ ОДНОМ ВИДЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ТАКОГО РОДА,
НАЗЫВАЕМОМ У ФИЛОСОФОВ МОДАЛЬНЫМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ
Помимо предложений, в которых субъект или атрибут — сложный термин, есть и такие, которые являются составными потому, что они включают термины или придаточные предложения, относящиеся только к форме предложения, т. е. к утверждению или отрицанию, выраженному глаголом. Например, если я говорю: Я утверждаю, что Земля круглая, то я утверждаю есть лишь придаточное предложение, каковое должно быть частью чего-либо в главном предложении; однако очевидно, что это придаточное предложение не входит как часть ни в субъект, ни в атрибут, ибо оно ничего в них не меняет и они мыслились бы точно так же, если бы я просто сказал: Земля круглая.
Так же обстоит дело, когда говорят: Я отрицаю, истинно, неверно или когда к предложению добавляют то, что подтверждает его истинность, как, например, когда я говорю: Доводы астрономии убеждают нас в том, что Солнце значительно больше Земли, Первая часть этого предложения только подкрепляет утверждение.
Однако важно отметить, что предложения такого рода иногда бывают двусмысленными и могут быть поняты по-разному в зависимости от намерения того, кто их произносит. Допустим, я говорю: Все философы убеждают нас, что предметы, обладающие тяжестью, сами по себе падают вниз. Если я намерен указать на то, что предметы, обладающие тяжестью, сами по себе падают вниз, первая часть этого предложения будет всего лишь придаточной, предназначенной только для подкрепления утверждения, заключенного во второй части. Но если я, наоборот, намерен просто привести мнение философов, а сам его не разделяю, тогда первая часть будет главным предложением, а вторая — только частью атрибута. Ведь я буду утверждать не то, что предметы, обладающие тяжестью, падают сами по себе, а только то, что в этом убеждены все философы. И нетрудно увидеть, что эти два толкования данного предложения столь различны, что превращают его в два различных предложения, имеющих совершенно разный смысл. Но часто из дальнейшего легко узнать, в каком именно смысле понимается предложение. Если бы, например, образовав приведенное выше предложение, я прибавил: Камни обладают тяжестью, следовательно, они падают вниз сами по себе, было бы очевидно, что я понимаю его в первом смысле и что первая часть является придаточной. Если же я, наоборот, сделал бы такое заключение: Но это заблуждение, следовательно, бывает, что все философы заблуждаются, было бы очевидно, что я понимаю его во втором смысле, т. е. первая часть служит главным предложением, а вторая — только частью атрибута.
Среди предложений, составной характер которых обусловлен глаголом, а не субъектом или атрибутом, философы выделяют те, которые они назвали модальными, так как утверждение или отрицание в них видоизменяется четырьмя модусами: возможное, случающееся (contingent), невозможное, необходимое. Поскольку каждый модус можно утверждать либо отрицать — например, невозможно, не невозможно, — и в той и другой форме соединять с утвердительным либо отрицательным предложением — Земля круглая и Земля не круглая, — каждый модус может иметь четыре предложения, а все четыре модуса — шестнадцать. Их обозначили четырьмя словами: Purpurea, Iliace, Amabimus, Edentuli. Вся тайна этих слов состоит в следующем. Каждый слог обозначает один из четырех модусов:
1- й — возможное;
2- й — случающееся;
3- й — невозможное;
4- й — необходимое.
Гласная же в каждом слоге — А, Е, I или U обозначает, утверждается ли или отрицается модус и утверждается или отрицается предложение, называемое у философов dictum.
А. Утверждение модуса и утверждение предложения. Е. Утверждение модуса и отрицание предложения.
I. Отрицание модуса и утверждение предложения. U. Отрицание модуса и отрицание предложения.
Было бы пустой тратой времени приводить здесь примеры; пайтп их нетрудно. Надо только отметить, что сочетание Purpurea соответствует А песоставных предложений, Iliace — Е, Amabimus — I, Edentuli — О и, следовательно, для того чтобы примеры были истинными, нужно, взяв какой-нибудь субъект, подобрать для Purpurea такой атрибут, который можно было бы утверждать относительно этого субъекта в общем (universellement), для Iliace — такой, который можно было бы отрицать относительно него в общем, для Amabimus — такой, который можно было бы утверждать относительно части его объема (particulierement), и для Edentuli — такой, который можно было бы отрицать относительно части его объема49.
Но какой бы атрибут мы ни взяли, все четыре предложения, обозначаемые одним словом, всегда имеют один и тот же смысл, так что если одно из них истинно, истинны и все остальные.
Глава IX
О РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ СЛОЖНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИИ
Мы уже видели, что сложные предложения суть те, которые имеют или двойной субъект, или двойной атрибут. Они бывают двух видов: в одних сложность явно выражена, в других она более скрыта, почему логики и называют эти последние exponibiles — «нуждающиеся в изъяснении, или развертывании».
Сложные предложения первого вида можно свести к шести разновидностям: соединительные, разделительные; условные, причинные; относительные, различительные.
Соединительные (Copulatives)
Соединительными называют такие предложения, которые включают или несколько субъектов, или несколько атрибутов, связанных утвердительным либо отрицательным союзом: и либо ни. Союз ни в предложениях такого рода выполняет то же назначение, что и союз и: он обозначает и с отрицанием, приходящимся на глагол, а не на соединение двух слов, которые он связывает. Например, если я говорю: Знание и богатства не делают человека счастливым, я точно так же соединяю «знание» с «богатствами», утверждая о том и о другом, что они не делают человека счастливым, как если бы я сказал: «Знание и богатства делают человека тщеславным».
Можно выделить три вида соединительных предложений.
1. Когда в них несколько субъектов.
Mors et vita in manu linguae.
«Смерть и жизнь — во власти языка»50.
2. Когда в них несколько атрибутов.
Auream quisquis mediocritatem Diligit, tutus caret obsoleti Sordibus tecti, caret invidenda Sobrius aula51.
«Тот, кто любит столь ценимую во всем середину, живет и не в грязи, и не в роскоши».
Sperat infaustis, metuit secundis Alteram sortem, bene praeparatum Pectus.
«Тот, у кого ясный ум, в невзгодах надеется на счастливый случай, а в благоденствии страшится невзгод»52.
3. Когда в них несколько субъектов и несколько атрибутов.
Non domus et fundus, non aeris acervus et auri, Aegroto domini deduxit corpora febres, Non animo curas.
«Ни дома, ни земли, ни обилие золота и денег не могут изгнать телесную лихорадку из их обладателя и избавить дух его от тревоги и печали»53.
Истинность этих предложений зависит от истинности обеих частей. Так, если я говорю: «Вера и благая жизнь необходимы для спасения», это истинно, потому что и то и другое для спасения необходимо; а если бы я сказал: «Благая жизнь и богатства необходимы для спасения», такое предложение было бы ложным, потому что благая жизнь для спасения необходима, но богатства для этого не нужны.
Предложениями, отрицательными и противоречащими по отношению к соединительным, а также ко всем другим сложным предложениям, считаются не все те, в которых есть отрицание, а только те, в которых отрицание приходится на сопряжение. Это выражают по-разному, например, постановкой поп в начале предложения.
Non enim amas et deserts54, — говорит святой Августин: нельзя предположить, что ты любил бы человека и покинул бы его.
Предложение становится противоречащим соединительному именно тогда, когда явно отрицают соединение, например, когда говорят, что не может быть так, чтобы вещь в одно и то же время была тем-то и тем-то.
«Нельзя быть влюбленным и благоразумным».
Amare et sapere, vix Deo conceditur
«Любовь и величие несовместимы».
Non bene conveniunt, пес in una sede morantur Majestas et amor68
Разделительные (Disjonctives)
Разделительные предложения весьма употребитель ны; это те, которые включают разделительный союз: vel, или.
«Дружба или находит друзей равными, или делает их равными».
Amicitia pares aut accipit, aut facit57.
«Женщина или любит, или ненавидит; среднего не дано».
Aut amat, aut odit mulier, nihil est tertium4
«Живущий в полном одиночестве, по Аристотелю, либо зверь, либо ангел»59.
«Людьми движет только корысть или страх».
«Либо Земля вращается вокруг Солнца, либо Солнце — вокруг Земли».
«Всякий обдуманный поступок является либо хорошим, либо дурным».
Истинность этих предложений зависит от необходимой противоположности частей, между которыми не должно быть середины. Но если для того, чтобы они были необходимо истинными, они должны вообще не допускать середины, то для того, чтобы мы рассматривали их как морально истинные, достаточно, чтобы между ними не было середины в большинстве случаев. Поэтому абсолютно истинно, что всякий обдуманный поступок является либо хорошим, либо дурным, ибо теологи показывают, что не может быть такого поступка, который был бы безразличным; но когда говорят, что людьми движет только корысть или страх, это не абсолютно истинно, ибо есть люди, которые не движимы ни той, ни другой страстью, а действуют из чувства долга, и, таким образом, здесь заключена только та истина, что это две пружины большинства человеческих поступков.
Предложения, противоречащие разделительным, суть те, в которых отрицается истинность разделения; в латинском языке отрицание при этом ставится в начале, как и во всех других сложных предложениях: Non omnis actio est bona vel mala. И во французском языке: Неверно, что всякий поступок является либо хорошим, либо дурным.
Условные (Condifionnelles)
Условные предложения — это те, которые состоят из двух частей, связанных союзом если; первая из них, та, где содержится условие, называется антецедентом, вторая — консеквентом: Если душа бестелесна — антецедент, она бессмертна — консеквент.
Следствие иногда бывает опосредствованным, а иногда — непосредственным. Оно опосредствованно, когда в двух частях нет таких терминов, которые бы их связывали, как, например, если я говорю:
«Если Земля неподвижна, тогда Солнце вращается».
«Если Бог справедлив, злые люди будут наказаны».
Эти следствия совершенно правильны, но они не являются непосредственными, потому что две части не имеют общего термина и связываются только в силу того, что подразумевают следующее: «Так как положение Земли и Солнца по отношению друг к другу постоянно меняется, то если первая неподвижна, второе необходимо находится в движении».
Для того чтобы следствие было непосредственным, как правило, необходимо:
1. Или чтобы две части имели один и тот же субъект.
Если смерть есть переход к блаженной жизни, то она желанна.
Если вы не накормили бедных, вы их убили,
Si non pavisti occidisli.
2. Или чтобы они имели один и тот же атрибут.
Если мы должны безропотно принимать все испытания, посылаемые Богом,
мы должны безропотно принимать болезни.
[3J Или чтобы атрибут первой части был субъектом второй.
Если терпение — добродетель,
то существуют трудные добродетели.
[4.] Или, наконец, чтобы субъект первой части был атрибутом второй, что возможно только тогда, когда вторая часть — отрицательная.
Если все истинные христиане живут по Евангелию, то истинных христиан не существует.
Для определения истинности условных предложений смотрят только на истинность вывода; ибо, хотя бы и та и другая часть были ложными, если вывод одной из другой тем не менее правилен, предложение, как условное, истинно. Например:
Если воля сотворенного существа способна воспрепятствовать исполнению абсолютной воли Бога, то Бог не всемогущ.
Предложениями, отрицающими условные и противоречащими им, считаются только те, в которых отрицается обусловленность (condition); в латинском языке такое отрицание ставится в начале.
Non si miserum fortuna Sinonem
Finxit, vajium etiam mendacemque improba fingetw.
Во французском языке предложения, противоречащие условным, выражают посредством слова хотя бы и отрицания.
Если вы вкусите запретного плода, вы умрете.
Хотя бы вы и вкусили запретного плода, вы не умрете.
Или же посредством неверно.
Неверно, что, если вы вкусите запретного плода, вы умрете.
Причинные (Causales)
Причинные предложения — это те, которые содержат два предложения, связанных причинным словом: quia, потому что. или ut, для того чтобы.
Горе богатым, потому что утешение их — в этом мире62.
Злые люди возносятся для того, чтобы тем ощутимее было их падение,
Tolluntur in altum, Ut lapsu graviore ruantM.
Они способны это сделать, ибо думают, что способны. Possunt, quia posse videnturб4.
Такой-то государь был несчастлив, оттого что он родился под таким-то созвездием».
К причинным предложениям можно свести те, которые называются удваивающими (reduplicatives).
Человек как таковой обладает разумом.
Цари как таковые подвластны лишь Богу65.
Причинные предложения истинны тогда, когда одна из двух частей предложения является причиной другой; поэтому нужно еще, чтобы обе они были истинными, ибо то, что ложно, не может служить причиной и само не имеет причины. Но при истинности обеих частей причинное предложение может быть ложным; для этого достаточно, чтобы одна часть не была причиной другой. Например, возможно, чтобы такой-то государь, родившийся под таким-то созвездием, был несчастлив, и в то же время утверждение, что он был несчастлив оттого, что родился под этим созвездием, не было истинным.
Поэтому предложения, противоречащие истинным, и состоят, собственно, в отрицании того, что одна вещь есть причина другой: Non ideo infelix, quia sub hoc natus sidere66.
Относительные (Relatives)
Относительные предложения суть те, которые заключают в себе какое-либо сравнение и какое-либо отношение.
Где сокровище, там и сердце67.
Какова жизнь, такова и смерть.
Tanti es, quantum habeas68.
«Люди воздают вам честь смотря по вашему богатству».
Истинность [таких предложений] зависит от истинности отношения, и отрицают их, отрицая отношение,
«Неверно, что, какова жизнь, такова и смерть».
«Неверно, что люди воздают вам честь смотря по вашему богатству».
Различительные (Discretives)
Это предложения, в которых содержатся различные суждения, причем различие их обозначается посредством частиц sed, ко, tamen, однако, и тому подобных, выраженных или подразумеваемых.
Fortuna opes auferre, non animum potest.
«Судьба может лишить богатства, но не мужества»69 Et mihi res, non me rebus submittere conor.
«Я стараюсь быть выше вещей, а не подчиняться им подобно рабу»70.
Coelum non animum mutant qui trans mare currunt71.
«Те, кто переплывает моря, меняют только страну, но не душу».
Истинность предложений этого рода зависит от истинности обеих частей и от разделения, которое между ними полагают. Ибо даже при истинности обеих частей различительное предложение было бы нелепым, если бы между ними не было противоположности, как. например, если бы я сказал:
Иуда был злодеем, однако он не мог вынести того, что Мария изливала благовония на Иисуса Христа72,
Предложений, противоречащих различительным, может быть несколько. Возьмем, например, такое предложение:
Счастье зависит не от богатств, а от знания.
Это предложение можно отрицать следующим образом:
Счастье зависит от богатств, а не от знания.
Счастье не зависит ни от богатств, ни от знания.
Счастье зависит от богатств и от знания.
Из этого видно, что соединительные предложения являются противоречащими по отношению к различительным, так как последние два предложения — соединительные.
Глава X
О ПРЕДЛОЖЕНИЯХ, СЛОЖНЫХ ПО СМЫСЛУ
Существуют и такие сложные предложения, сложность которых не столь очевидна73. Их можно свести к следующим четырем видам. 1. Выделительные. 2. Исключительные. 3. Сравнительные. 4. Предложения о начале или конце.
1. Выделительные (Exclusives)
Выделительными называют те предложения, где указывается, что некоторый атрибут присущ некоторому субъекту и что он присущ только данному субъекту, или, иными словами, не присущ другим субъектам. Отсюда явствует, что они заключают в себе два различных суждения и, следовательно, относятся к предложениям, сложным по смыслу. Это выражают посредством слова только и ему подобных или, во французском языке, посредством словосочетания один лишь.
«Одного лишь Бога любят ради него самого».
Deus solus fruendus, reliqua utenda74.
Это означает, что мы должны любить Бога ради него самого, а все остальное — только во имя Бога.
Quas dederis solas semper habebis opes75.
«Вы навсегда сохраните лишь те богатства, которые не пожалеете отдать».
Nobilitas sola est atque unica virtus76
«Все благородство в доблести, ничто другое не делает истинно благородным».
Hocunum scio quod nihil scio77, — говорили академики.
«Достоверно, что нет ничего достоверного, во всем прочем — лишь темнота и недостоверность».
Лукан, говоря о друидах, образует следующее разделительное предложение, состоящее из двух выделительных:
Solis nosse deos, et coeli numina vobis, Aut solis nescire datum est7e.
«Либо вы знаете богов, а все другие их не знают,
Либо вы их не знаете, а другие знают».
Выделительные предложения отрицаются трояким образом.
1. Можно утверждать, что атрибут, о котором сказано, что он присущ только одному субъекту, вообще ему не присущ.
2. Можно утверждать, что он присущ чему-то другому.
3. Можно утверждать и то и другое.
Так, против сентенции Только в доблести состоит истинное благородство можно возразить:
1. Что одна доблесть еще не делает благородным.
2. Что благородным делает не только доблесть, но и происхождение.
3. Что благородным делает происхождение, а не доблесть. Или, например, максима академиков Достоверно то, что нет ничего достоверного по-разному опровергалась догматиками и пирронистами. Догматики оспаривали ее, утверждая, что она ложна вдвойне, так как мы многое знаем с большой достоверностью и, следовательно, неверно, будто нам достоверно известно, что мы ничего не знаем; пирронисты же заявляли, что она ложна, из противоположных соображений: все настолько недостоверно, полагали они, что сомнительно даже то, действительно ли нет ничего достоверного.
Поэтому в рассуждении Лукана о друидах есть изъян, ибо вовсе не является необходимым, чтобы одни лишь друиды знали истину относительно богов или чтобы они одни пребывали в заблуждении; ведь заблуждений относительно природы Бога может быть немало и вполне могло случиться, что, хотя представления друидов о природе Бога были отличны от представлений других народов, они, равно как и те, пребывали в заблуждении.
Самое примечательное здесь то, что предложения этого рода часто бывают выделительными по смыслу, даже если выделение не выражено. Так, следующий стих Вергилия, где выделение обозначено:
Una salus victis nullam sperare salutem 79l — удачно переведен французским стихом, в котором выделение подразумевается:
Спасение побежденных в том, чтобы не ждать спасения.
Однако выделение гораздо чаще подразумевается в латинском языке, чем во французском, так что в первом нередко встречаются фразы, которые нельзя перевести во всей их выразительности, не делая из них выделительных предложений, хотя в латыни выделение не обозначено.
Например, 2 Кор. 10, 17 — Qui gloriatur in Domino glorietur — должно переводить: «Хвалящийся хвались только о Господе».
Галат. 6, 7. Quae seminaverit homo, haec et metet — «Только то пожнешь, что посеешь».
Ефес. 4, 5. Unus Dominus, una fides, unum baptisma — «Есть только один Господь, только одна вера, только одно крещение».
Матф. 5, 46. Si diligitis eos qui vos diligunt, quam mer-cedem liabebitis? — «Если вы будете любить только любящих вас, какая вам награда?»
Сенека в «Троянках»: Nullas habet spes Troja, si tales habet — «Если у Трои осталась только эта надежда, у нее нет никакой надежды», как если бы было сказано; si tan-tum tales habet80.
2. Исключительные (Exceptive)
Исключительные предложения суть те, где нечто утверждается обо всем субъекте за исключением одного из низших по отношению к данному субъекту ]видов], которому, как указывается посредством какой-либо исключительной частицы, это не присуще. Исключительные предложения очевидно содержат в себе два суждения и, таким образом, являются сложными по смыслу. Например, если я говорю:
«Ни одна из школ древних философов, кроме школы платоников, не признавала, что Бог бестелесен», — то это означает, во-первых, что древние философы мнили, будто Бог телесен, и, во-вторых, что платоники были другого мнения.
A varus, nisi cum moritur, nihil recte facit.
«Скупой не делает никакого добра, разве только то, что умирает»81.
Et miser nemo, nisi comparatus.
«Никто не считает себя несчастным, кроме как в сравнении с более счастливыми людьми»82.
Nemo laeditur nisi a se ipso.
«Нет для пас другого зла, кроме того, которое мы причиняем себе сами».
«За исключением мудреца, — говорили стоики, — все люди — сущие глупцы»83.
Подобные предложения отрицают так же, как и выделительные:
1. Утверждая, что мудрец стоиков столь же глуп, как и прочие люди.
2. Утверждая, что, кроме этого мудреца, есть и другие люди, которые не глупы.
3. Утверждая, что мудрец стоиков глуп, а другие люди — нет.
Следует заметить, что выделительные и исключительные предложения выражают почти одно и то же, несколько различаясь по форме, так что всегда легко заменить одно на другое. Мы видим, например, что исключительное предложение из Теренция:
Imperitus, nisi quod ipse facit, nihil rectum putat — было заменено Корнелием Галлом на выделительное:
Hoc tantum rectum quod facit ipse putat84.
3. Сравнительные (Comparatives)
Предложения, в которых содержится сравнение, заключают в себе два суждения, поскольку в них говорится, что вещь является такой-то и что она такова в большей или меньшей мере, чем другая. Таким образом, предложения этого рода относятся к сложным по смыслу.
Amicum perdere, est damnorum maximum.
«Величайшая из всех утрат — потеря друга»85. Ridiculum acri
Fortius ас melius magnas plerumque secat res8e.
«Даже в самых важных делах остроумная шутка бывает сильнее самых убедительных доводов».
Meliora sunt vulnera amici, quam fraudulenta oscula inimici.
«Побои друга лучше лживых поцелуев врага»87.
Сравнительные предложения отрицают различным образом. Так, максима Эпикура Боль есть величайшее из всех зол по-разному опровергалась стоиками и перипатетиками. Перипатетики признавали, что боль есть зло, но они утверждали, что порок и другие болезни духа (d£r£glemens d’esprit) представляют собой гораздо большее зло; стоики же не только были далеки от того, чтобы признавать боль величайшим из всех зол, но даже не желали признавать ее злом.
Здесь можно рассмотреть один вопрос: всегда ли необходимо, чтобы в подобных предложениях положительная степень сравнения подходила к обоим членам сравнения — надо ли, к примеру, предполагать, что обе вещи хороши, когда мы говорим, что одна из них лучше другой?
Вначале кажется, что это должно быть именно так, однако обычное словоупотребление свидетельствует об обратном. Мы видим, что в Писании слово «лучше» используется не только при сравнении двух благ: Melior est sapientia quam vires, et vir prudens quam fortis — «Мудрость лучше силы, умный человек лучше храброго»88, — но также и при сравнении какого-либо блага с каким-либо злом: Melior est patiens arrogante — «Смиренный человек лучше гордого»89, и даже при сравнении двух зол: Melius est habitare cum dracone, quam cum muliere liti-gosa — «Лучше жить с драконом, чем со сварливой женой»90, И в Евангелии: «Лучше быть брошенным в море с камнем на шее, чем соблазнить самого малого из верующих»91.
Основанием для такого словоупотребления является то, что большее благо лучше, нежели меньшее, ибо в в нем больше благости, чем в меньшем благе. На том же основании можно сказать, хотя уже не в собственном смысле, что благо лучше зла, ибо в том, в чем есть благость, ее больше, нежели в том, в чем ее нет. И можно также сказать, что меньшее зло лучше, нежели большее, ибо уменьшение зла заменяет во всяком зле благо и в том, что менее дурно, больше благости этого рода, нежели в том, что более дурно.
Поэтому в пылу спора нельзя доходить до придирок к подобным способам выражения, как это было с одним грамматиком, последователем Доната 92, по имени Креско-нпй, письменно возражавшим святому Августину. Сей святой сказал, что у католиков больше оснований упрекать донатистов в том, что они отдали священные книги, нежели у донатистов — упрекать в этом католиков: Тга-ditionem nos vobis probabilius objicimus 93. По мнению Кре-скония, святой Августин тем самым признавал, что у донатистов были основания упрекать католиков. Si enim vos probabilius, — говорил Кресконий, — nos ergo probabiliter: nam gradus isle quod ante positum est auget, non quod ante dictum est improbat94. Но святой Августин сначала отвергает это пустое ухищрение с. помощью примеров из Писания, ссылаясь, в частности, на то место из «Послания к евреям», где святой Павел, сказав, что земля, приносящая одни лишь терния, проклята и ее ожидает сожжение, добавляет: Confidimus autem de vobis, fratres cha-rissimi, meliora95. Non quia, — говорит сей отец, — bona ilia erant quae supra dixerat, proferre spinas et tribulos et ustionem mereri, sed magis quia mala erant, ut illis devita-tis meliora eligerent et optarent, hoc est, mala tantis bonis contraria98. Далее он показывает, сколь ложно заключение Крескония, на примере авторов, наиболее прославившихся в его искусстве, ибо мы могли бы точно так же упрекнуть Вергилия в том, что он считал благом жестокую болезнь, заставляющую людей раздирать себя зубами, поскольку он желает лучшей участи благочестивым.
Dii meliora piis, erroremque hostibua ilium: Discissos nudis laniabant dentibus artus97.
Quomodo ergo meliora piis, — вопрошает сей отец, — quasi bona essent istis, ac non potius magna mala qui discissos nudis laniabant dentibus artus?98
4. Предложения о начале или конце (Inceptives ou Desitives)
Когда говорят, что вещь стала такой-то или перестал быть такой-то, высказывают два суждения: одно — о том чем была данная вещь до того времени, о котором идет речь, другое — о том, чем она стала с этого времени. Таким образом, подобные предложения, из которых одни называются предложениями о начале, а другие — предложениями о конце, являются сложными пр смыслу; они настолько сходны, что лучше объединить их в один вид и рассматривать те и другие вместе.
После возвращения из вавилонского плена евреи больше не стали пользоваться своими древними знаками, называемыми ныне самаритянскими.
1. Латинский язык в Италии перестал быть народным 500 лет назад.
2. Евреи только в V в. от Рождества Христова стали пользоваться точками для того, чобы помечать гласные iy0.
Такие предложения отрицаются соответственно этим двум различным временам. К примеру, последнее предложение некоторые отрицают, утверждая, хоть это и неверно, что евреи всегда употребляли точки, по крайней мере для того, чтобы их читать, и что они сохранились в Храме. Другие же отрицают это предложение, наоборот, утверждая, что точки были введены в употребление позднее V в.
Общее соображение
Мы показали, что выделительные, исключительные и т. д. предложения можно отрицать различным образом. Но когда их просто отрицают без последующего разъяс-нения, то отрицание, естественно, приходится на выделение, исключение, сравнение или изменение, выраженное словами «начать» и «перестать». Поэтому если бы кто-нибудь думал, что Эпикур не полагал высшее благо в телесном наслаждении, а ему бы сказали, что только Эпикур полагал в телесном наслаждении высшее благо, то в случае если бы он просто отрицал это, не добавляя ничего другого, он не выразил бы своей мысли, поскольку его можно было бы понять так, будто он согласен с тем, что Эпикур полагал высшее благо в телесном наслаждении, но только не думает, что такого мнения придерживался один Эпикур.
И если бы меня спросили о судье, который, как я знаю, отличается честностью: Он больше не торгует правосудием!, я не мог бы просто сказать нет, поскольку нет означало бы, что он не торгует правосудием, но в то же время позволяло бы думать, будто я признаю, что когда-то он был продажным.
Это показывает, что в отношении некоторых предложений нельзя требовать, чтобы на них отвечали просто «да» или «нет», поскольку они заключают в себе два смысла и правильный ответ на них можно дагь, только изъяснившись относительного того и другого.
Глава XI
ЗАМЕЧАНИЯ,
ПОМОГАЮЩИЕ РАСПОЗНАВАТЬ СУБЪЕКТ И АТРИБУТ
В НЕКОТОРЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ, ВЫРАЖЕННЫХ
В НЕ СОВСЕМ ОБЫЧНОЙ ФОРМЕ
Несомненным недостатком обычной логики является то, что она учит распознавать природу предложений или умозаключений, сообразуясь лишь с тем порядком, в котором их составляют в школах, а он часто очень далек от того, какой бывает в них в речи и в книгах, будь то сочинения по риторике, этике или другим паукам.
Так, например, мало у кого есть иная идея о субъекте и атрибуте, кроме той, что субъект — это первый термин предложения, а атрибут — второй; мало кто имеет иное понятие об общности и частности, кроме того, что в общих предложениях есть omnis или nullus, всякий или ни один, а в частных — aliquis, некоторый.
Однако все это очень часто вводит в заблуждение, и чтобы распознать субъект и атрибут, общность и частность во многих предложениях, следует подумать. Начнем с субъекта и атрибута.
Единственно верное правило здесь — смотреть по смыслу, о чем утверждается и что утверждается. Первое всегда субъект, а второе — атрибут, в каком бы порядке они ни располагались.
Например, в латинском языке нет ничего обычнее предложений такого рода: Тигре est obsequi libidini, Стыдно быть рабом своих страстей. Здесь по смыслу ясно, что turpe, стыдно, есть то, что утверждается, и, следовательно, это атрибут, a obsequi libidini, быть рабом своих страстей, — то, о чем утверждается, т. е. то, о чем говорится, что это постыдно, и, следовательно, это субъект. Так же у святого Павла: Est quaestus magnus pietas, cum suffi-cientia101, — прямой порядок слов здесь был бы: pietas cum sufficientia est quaestus magnus.
И точно так же в стихах:
Felix qui potuit rerum cognoscere causas; Atque metus omnes, et inexorabile fatum Subjecit pedibue, strepitumque Acherontis avail102 — Felix — атрибут, а остальное — субъект.
Субъект и атрибут часто еще труднее распознать в составных предложениях; мы уже видели, что иногда только исходя из дальнейшего рассуждения или из’ намерения автора можно судить, какое предложение в них главное, а какое — придаточное.
Но кроме того, что мы уже сказали, можно еще отметить, что в тех составных предложениях, в которых первая часть — придаточное предложение, а вторая — главное, нередко возникает необходимость заменить глагол действительного залога глаголом страдательного залога, чтобы установить истинный субъект главного предложения. Рассмотрим в качестве примера большую посылку и заключение следующего доказательства:
Бог повелевает почитать царей.
Людовик XV — царь.
Следовательно, Бог повелевает почитать Людовика XV.
Ясно, что, когда я рассуждаю таким образом, в большей посылке я ставлю задачей высказать о царях нечто, из чего я мог бы заключить, что следует почитать Людовика XV, и, значит, то, что я говорю о повелении Божием, есть, собственно, лишь придаточное предложение, подкрепляющее утверждение Цари должны быть почитаемы, Reges sunt honorandi. Отсюда явствует, что цари — это субъект большей посылки, а Людовик XV — субъект заключения, хотя при поверхностном рассмотрении то и другое кажется только частью атрибута.
Весьма обычны для нашего языка и такие предложения: Глупо слушать льстецов; Это град падает; Это Бог искупил наши грехи. Мы должны по смыслу догадаться, что для того, чтобы восстановить в них естественный порядок, поставив субъект перед атрибутом, их следовало бы построить так: Слушать льстецов — глупо; То, что падает, есть град; Тот, кто искупил наши грехи, есть Бог. И почти во всех предложениях, которые начинаются с c’est и в которых далее стоит qui или que, атрибут находится в начале, а субъект — в конце 103. Достаточно предупредить об этом один раз; все приведенные нами примеры должны лишь показать, что о субъекте и атрибуте надо судить исходя из смысла, а не из порядка слов. Это предупреждение необходимо для того, чтобы не считали ложными совершенно правильные силлогизмы; ибо, не распознав в предложениях субъект и атрибут, можно подумать, что силлогизм построен против правил, в то время как он им вполне соответствует.
Глава XII
О СМУТНЫХ СУБЪЕКТАХ,
РАВНОЗНАЧНЫХ ДВУМ СУБЪЕКТАМ
Чтобы разъяснить природу того, что называют субъектом предложения, важно сделать еще одно замечание. Мы нашли его в трудах более значительных, чем наш i04, по поскольку оно относится к логике, оно будет здесь уместным.
Когда две или несколько вещей, между которыми есть какое-то сходство, сменяют друг друга в одном и том же местеж и особенно когда между ними нет заметного различия, люди хотя и могут различать их в метафизических рассуждениях, тем не менее не различают их в обыденной речи, — объединяя их в общей идее, которая не показывает различия между ними и обозначает только то, что у них есть общего, о них говорят так, как если бы это была одна и та же вещь.
К примеру, несмотря на то что воздух вокруг пас меняется каждое мгновение, мы рассматриваем его так, словно он всегда один и тот же; мы говорим, что из холодного он стал теплым, как если бы он был одним и тем же, хотя воздух, который мы воспринимаем как холодный, отличен от того, который мы находили теплым 1и5.
Эта вода, говорим мы о реке, два дня назад была мутной, а теперь чиста, как хрусталь. Но что же еще пужно для того, чтобы это была не одна и та же вода? In idem flumen bis non descendimus, — говорит Сенека, — manet idem fluminis nomen, aqua transmissa estl06.
Мы думаем и говорим о теле животного так, словно оно всегда одно и то же, хотя мы не уверены, что по прошествии нескольких лет в нем остается хоть одна частица того вещества, из которого оно состояло прежде; причем мы говорим о нем как об одном и том же теле не только тогда, когда о нем не размышляем, но и тогда, когда делаем его предметом особого размышления. Ибо наш обычный язык позволяет нам сказать: «Тело этого животного состоит уже не из тех частиц материи, из которых оно состояло десять лет назад, а из других». Казалось бы, в этих словах есть противоречие: ведь если все частицы теперь другие, значит, это уже не то же самое тело. Верно, и тем не менее о нем говорят как об одном и том же теле. Истинными такие предложения делает то, что один и тот же термин в этом разном применении обозначает разные субъекты.
Август говорил о городе Риме, что он принял его кирпичным, а оставил мраморным. Так же о городе, о доме, о храме говорят: он был разрушен тогда-то и отстроен тогда-то. Каков же этот Рим, то кирпичный, то мраморный? Каковы эти города, дома, храмы, разрушенные в одно время и отстроенные в другое? Был ли тот Рим из кирпича тем же самым, что и Рим из мрамора? Нет, но, однако, ум образует смутную идею Рима к которой он относит эти два качества — быть кирпичным в одно время и мраморным — в другое. И когда мы затем образуем предложения, например, когда мы говорим, что Рим был кирпичным до Августа и мраморным, когда он умер, слово Рим, которое кажется одним субъектом, обозначает, однако же, два субъекта, в действительности различных, но объединенных в одной смутной идее Рима, вследствие чего ум не замечает их различия.
Таким образом в книге, откуда мы заимствовали это замечание, разъяснено затруднение, которое протестантские священники находят в предложении Сие есть тело мое и которого в нем не найдет ни один здравомыслящий человек. Ведь никто не станет утверждать, что получается очень темное и очень трудное для понимания предложение, если о сгоревшей и отстроенной церкви говорят: «Эта церковь десять лет тому назад сгорела, а год назад была отстроена». Но точно так же нет оснований говорить о какой-либо трудности в понимании предложения Сие, что есть хлеб в это мгновение, в следующее мгновение есть тело мое. Правда, в разные мгновения это сие — не одно и то же, равно как сгоревшая церковь и церковь отстроенная — в действительности не одна и та же церковь. Однако ум, мысля хлеб и тело Иисуса Христа в одной и той же общей идее наличествующего предмета, выражаемой словом сие, приписывает этому предмету, в действительности двойственному и кажущемуся единым только вследствие смешения, свойство быть в одно мгновение хлебом, а в другое — телом Иисуса Христа, точно так же как, соединяя эти две церкви — сгоревшую и отстроенную — в общей идее некоей церкви, он наделяет эту смутную идею двумя атрибутами, которые не могут быть присущи одному и тому же субъекту.
Отсюда следует, что в предложении Сие есть тело мое не заключено никакой трудности, если понимать его в том смысле, какой вкладывают в него католики, поскольку оно представляет собой лишь сокращение другого, совершенно ясного предложения: Сие, что есть хлеб в это мгновение, в следующее мгновение есть тело мое и ум восполняет все то, что осталось невыраженным. Ибо, как мы заметили в конце первой части, когда указательным местоимением hoc пользуются для обозначения какой-то чувственно воспринимаемой вещи, к смутной идее, вызываемой местоимением, ум добавляет в виде придаточного предложения ясные и отчетливые идеи, полученные из чувств. Так, когда Иисус Христос произнес слово сие, апостолы добавили к нему в уме: что есть хлеб; а поскольку они подумали: «Это есть хлеб в это мгновение», они сделали еще одно добавление — времени. Таким образом, слово сие вызывало следующую идею: сие, что есть хлеб в это мгновение. Точно так же, когда Христос сказал, что это было тело его, они подумали, что это было тело его в то мгновение. Итак, услышав слова Сие есть тело мое, они образовали полное предложение: Сие, что есть хлеб в это мгновение, в следующее мгновение есть тело мое; и в силу того что это последнее выражение ясно, ясно и сокращение предложения, не наносящее идее никакого ущерба.
Что же касается выдвинутого этими священниками возражения, что одна и та же вещь не может быть и хлебом, и телом Иисуса Христа, то, поскольку оно в равной мере относится и к развернутому предложению: Сие, что есть хлеб в это мгновение, в следующее мгновение есть тело мое, и к предложению сокращенному: Сие есть тело мое, — ясно, что это не более как пустая придирка, подобная тому возражению, которое можно было бы выдвинуть против предложений типа: «Эта церковь сгорела тогда-то и была отстроена тогда-то». Все предложения такого рода должны распознаваться по этой манере мыслить несколько разных субъектов в одной и той же идее, вследствие чего один и тот же термин обозначает то один, то другой субъект, так что ум не замечает перехода от одного субъекта к другому.
Впрочем, у нас нет намерения решать здесь важный вопрос, как надлежит понимать слова Сие есть тело мое — в образном или же в буквальном смысле. Ибо недостаточно доказать, что предложение можно понимать в определенном смысле, — надо еще доказать, что именно в этом смысле его и следует понимать. Но так как есть священники, которые, исходя из принципов совершенно ложной логики, упорно утверждают, что приведенные слова Иисуса Христа не допускают католического толкования, то вполне уместно было показать здесь в общем виде, что в католическом толковании не содержится ничего, что не было бы ясным, разумным и согласующимся с обычным языком всех людей.
Глава XIII
ДРУГИЕ ЗАМЕЧАНИЯ,
ПОМОГАЮЩИЕ РАСПОЗНАВАТЬ
ОБЩИЕ И ЧАСТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Несколько, подобных же замечаний, столь же необходимых, можно сделать касательно общности и частности.
I замечание. Следует различать всеобщность двоякого рода: одну можно назвать метафизической, другую — моральной.
Я называю всеобщность метафизической, когда она является совершенной и не допускает исключений. Например: Всякий человек есть живое существо, — это не допускает никаких исключений.
Моральной я называю всеобщность, допускающую некоторые исключения, ибо в отношении того, что связано с моралью, довольствуются тем, что вещи таковы в большинстве случаев, ut plurimum. Морально всеобщим является, например, высказывание, которое приводит святой Павел и с которым он соглашается: Cretenses semper mendaces, malae bestiae, ventres pigri107.
Или то, что говорит этот же апостол: Omnes quae sua sunt quaerunt, non quae Jesu Christi108
Или то, что говорит Гораций:
Omnibus hoc vitium est cantoribus, inter amicos Ut nunquam inducant animum cantare rogati, Injussi nunquam desistantl09.
Или то, что можно услышать от многих:
Что все женщины болтливы;
Что все молодые люди непостоянны;
Что все старики хвалят прошлые времена.
Для всех предложений этого рода достаточно, чтобы так было в большинстве случаев; из них, строго говоря, нельзя ничего заключать.
Ибо эти предложения не настолько общи, чтобы они не допускали исключений, и поэтому возможно, что заключение будет ложным. Так, папример, мы не могли бы заключить о каждом критянине в отдельности, что он лжец и злой зверь, хотя апостол в общем соглашается со словами одного из критских поэтов: Критяне всегда лжецы, злые звери, большие любители поесть; ведь некоторые жители этого острова, возможно, не имели пороков, свойственных остальным.
Таким образом, в отношении предложении, которые являются лишь морально всеобщими, мы должны соблюдать меру. С одной стороны, прежде чем выводить из них частные следствия, надо хорошо подумать. С другой стороны, надо не опровергать их и не отказываться от них как от ложных, хотя бы и можно было найти случаи, на которые они не распространяются, а просто показывать, если им придают слишком широкий смысл, что их не следует понимать во всей строгости.
И замечание. Есть предложения, которые, несмотря на то что они допускают исключения, должны считаться метафизически всеобщими, если в обычной речи эти редкие исключения не мыслятся в значении общих терминов. Например, если я говорю: У всех людей только по две руки, такое предложение в обиходе, безусловно, должно считаться истинным. И было бы придиркой возражать, что существовали уроды о четырех руках, которые тем не менее были людьми, ибо достаточно очевидно, что в подобных общих предложениях не говорится об уродах, а утверждается лишь, что по природе у людей только две руки. Точно так же можно сказать, что все люди для выражения своих мыслей пользуются звуками, но не все пользуются письменностью. И если бы кто-нибудь, желая найти в этом предложении ложь, указал на немых, такое возражение было бы неосновательным, поскольку достаточно очевидно, что, хоть это и не выражено, здесь имеются в виду лишь те, для кого природа не создала препятствия к тому, чтобы пользоваться звуками, будь то отсутствие возможности их слышать, как у людей, глухих от рождения, или неспособность их производить, как у немых.
III замечание. Есть предложения, которые являются общими только потому, что их следует относить к generibus singulorum, а не к singulis generum110, как принято говорить у философов. Иными словами, ко всем видам некоторого рода, а не ко всем индивидуумам этих видов. Так, например, говорят, что все животные спаслись в Ноевом ковчеге, потому что спаслось по нескольку животных каждого вида. Иисус Христос сказал о фарисеях, что они платят десятину со всех трав, decimatis omne olus J11, не в том смысле, что они платят десятину со всякой травинки, а в том смысле, что нет таких видов трав, с которых бы они не платили десятины. Святой Павел говорит: Sicut et ego omnibus per omnia placeoll2, разумея, что он приноравливается к людям всякого рода — иудеям, язычникам, христианам, хотя он пришелся не по нраву своим многочисленным гонителям. Или, например, о человеке говорят, что он испытал все тяготы, — это означает «все виды тягот».
IV замечание. Есть предложения, которые являются общими только потому, что субъект в них мыслится ограниченным частью атрибута. Я говорю «частью», так как было бы смешно, если бы он был ограничен всем атрибутом, как, например, если бы кто-нибудь утверждал, что предложение Все люди праведны истинно, — ибо он понимал бы его в том смысле, что все праведные люди праведны, что было бы нелепо. Но когда атрибут является сложным и состоит из двух частей, как, например, в предложении Все люди праведны благодатью Иисуса Христа, можно с полным основанием утверждать, что термин праведные в субъекте подразумевается, хотя он и не выражен, поскольку ясно, что хотят сказать лишь то, что все праведные люди праведны только благодатью Иисуса Христа. И таким образом, это предложение истинно в самом строгом смысле, хотя оно и кажется ложным, если принимать во внимание только то, что выражено в субъекте, ибо существует множество людей злых и грешных и, следовательно, отнюдь не оправданных благодатью Иисуса Христа. В Писании есть очень много предложений, которые следует понимать в таком смысле, и в числе прочих речение святого Павла: Как чрез Адама все умирают, так чрез Иисуса Христа все оживут пз. Ибо несомненно, что бесчисленные язычники, умершие в неверии, не были оживлены Иисусом Христом и что они не примут никакого участия в жизни славы, о которой говорит в этом месте святой Павел. И таким образом, смысл приведенных слов апостола следующий: как все те, что умирают, умирают чрез Адама, так все те, что оживают, оживают чрез Иисуса Христа.
Есть также много морально всеобщих предложений такого вида: Французы — хорошие солдаты; Голландцы — хорошие матросы; Фламандцы — хорошие живописцы; Итальянцы — хорошие комедианты. Это означает, что французы, которые служат солдатами, обыкновенно хорошие солдаты и т. д.
V замечание. Не следует полагать, будто нет другого признака частности, кроме слов quidam, aliquis, некоторый и тому подобных. Напротив, ими пользуются довольно редко, особенно в нашем языке.
Когда частица des или de обозначает множественное число артикля un, имена, согласно новому замечанию, которое можно найти в «Общей грамматике»114, понимаются в частном смысле, а с артиклем les они обычно понимаются в общем смысле. Поэтому существует большая разница между следующими двумя предложениями: В наше время врачи (les mSdecins) считают, что при лихорадке полезно питье и т. 3.; В наше время врачи (des medecins) считают, что кровь образуется не в печени, В первом предложении слово врачи обозначает всех нынешних врачей, а во втором — только отдельных врачей.
Нередко перед des, или de, или un в единственном числе ставят слово есть, например: есть врачи. Делают это двояким образом.
Во-первых, после des или un ставят только существительное, служащее субъектом предложения, и прилагательное, служащее его атрибутом независимо от того, стоит ли оно на первом или на втором месте. Например: Есть целительные боли; Есть пагубные удовольствия; Есть ложные друзья; Есть благородное уничижение; Есть пороки, скрывающиеся под личиной добродетели. Так в нашем языке выражают то, что в школьном стиле выражается при помощи слова некоторый: Некоторые боли целительны; Некоторое уничижение благородно и т. д.
Во-вторых, к существительному присоединяют прилагательное посредством слова который: Есть опасения, которые обоснованны. Но несмотря на наличие слова который, подобные предложения по смыслу относятся к простым, хотя они и являются сложными в выражении. Ибо это равнозначно тому, как если бы просто сказали: Некоторые опасения обоснованны. Такие обороты речи еще более употребительны, чем вышеприведенные. Есть люди, которые любят только себя; Есть христиане, которые недостойны этого имени.
Подобным оборотом иногда пользуются в латыни. У Горация:
Sunt quibus in satyra videor nimis acer, et ultra Legem tendere opus.
Это то же самое, как если бы он сказал!
Quldam existimant me mmis acrem esse In satyra
«Есть такие, кто считает, что я слишком ре-зок в сатире».
Так же и в Писании: Est qui nequiter se humiliat — «Есть такие, кто притворно уничижает себя»118,
Omnis, всякий, с отрицанием также делает предложение частным, с той разницей, что в латыни отрицание предшествует слову omnis, а во французском языке оно следует после слова всякий: Non omnis qui dicit mihi, Do-mine, Domine, intrabit in regnum coelorum — «Не всякий, говорящий мне „Господи, господи Г‘, войдет в царство небесное» 117; Non omne peccatum est crimen — «Не всякий грех есть преступление».
Одпако в древнееврейском языке non omnis часто означает nullus, как, например, в псалме: Non justificabi-tur in conspectu tuo omnis vivens — «Ни один из ныне живущих не оправдается пред Богом»118. Это связано с тем, что в таких случаях отрицание приходится на глагол, а не на omnis.
VI замечание. Предыдущие замечания могут быть полезны, когда [в предложении] есть термин, обозначающий общность, — всякий, ни один и т. д. Но когда его нет и, с другой стороны, нет никакого термина, обозначающего частность, как, например, когда я говорю: Человек разумен, Человек справедлив, тогда возникает занимающий философов вопрос, должны ли предложения, называемые у них неопределенными, считаться общими или частными. При этом имеются в виду те случаи, когда такие предложения не входят в последовательное рассуждение или когда из дальнейших слов не видно, в каком из этих двух смыслов их надо понимать; ибо несомненно, что о смысле предложений, в которых есть какая-либо двусмысленность, следует судить по тому, что сопутствует им в речи тех, кто их образует.
Рассматривая неопределенное предложение само по себе, большинство философов утверждают, что оно должно считаться общим при необходимом содержании и частным — при случайном.
С этой максимой, насколько я зпаю, согласны весьма сведущие люди, и тем не менее она совершенно ложна; наоборот, надо сказать, что, когда некоторое качество относят к общему термину, неопределенное предложение должно считаться общим при любом содержании. И таким образом, при случайном содержании оно должно рассматриваться не как частное, а как ложное общее предложение. Именно таково естественное суждение, которое люди выносят о них, отвергая их как ложные, когда они не истинны в общем смысле, по крайней мере в смысле моральной общности, коей люди довольствуются в обыденных разговорах о различных предметах.
Ибо кто потерпел бы, чтобы говорили, что медведи белые, что люди черные, что жители Парижа — дворяне, поляки — социниане. англичане — трусы} Но, однако, согласно различению этих философов подобные предложения следовало бы считать совершенно истинными, поскольку, будучи неопределенными при случайном содержании, они должны были бы рассматриваться как частные предложения. Ведь истинно же, что есть белые медведи, например в Новой Зеландии; что есть черные люди, например эфиопы; что некоторые жители Парижа — дворяне, некоторые поляки — социниане, некоторые англичане — трусы. Итак, ясно, что, каково бы ни было содержание неопределенных предложений такого рода, их принимают за общие, но при случайном содержании довольствуются моральной всеобщностью. Поэтому очень часто говорят: Французы храбры. Итальянцы подозрительны; Немцы высокорослы; Жители Востока сладострастны. хотя нельзя сказать, что это верно в отношении всех индивидуумов, ибо довольствуются тем, чтобы это было верно в отношении большинства.
Более разумно другое различение: неопределенные предложения являются общими, когда они относятся к какому-либо учению, напрпмер: «Ангелы не имеют тела», в описании же фактов и в повествованиях они являются частными. Например, когда в Евангелии говорится: Mi-lites plectentes coronam de spinis, imposuerunt capiti ejus119, ясно, что здесь имеются в виду только некоторые, а не все воины. Дело в том, что, когда говорят о единичных действиях, в особенности если они ограничены определенным временем, эти действия обычно соответствуют общему термину лишь потому, что они относятся к нескольким индивидуумам, отчетливая идея которых содержится в уме тех, кто образует эти предложения; так что подобные предложения, если хорошо подумать, — скорее единичные, нежели частные 12°, как можно судить из того, что было сказано о терминах, сложных по смыслу, в гл. VIII первой части и гл. VI второй части.
VII замечание. Имена тело, общество, народ, понимаемые, как обычно, собирательно — как обозначающие все тело, все общество, весь народ, не образуют ни собственно общих, ни тем более частных предложений, а только лишь единичные. Например, когда я говорю: Римляне победили карфагенян; Венецианцы воюют с турками; Судьи такой-то местности осудили преступника, — эти предложения не являются общими; иначе можно было бы заключить о каждом римлянине, что он победил карфагенян, что было бы ложным. Они не относятся и к частным, ибо это означает больше, чем если бы я сказал, что некоторые римляне победили карфагенян. Такие предложения являются единичными, поскольку любой народ рассматривают как некую моральную личность, живущую долгие века, существующую, доколе народ составляет государство, и действующую в течение всего этого времени через людей, которые ее составляют, подобно тому как человек действует посредством своих членов. Поэтому и говорят, что римляне, которые были побеждены галлами, завоевавшими Рим, победили галлов во времена Цезаря, относя, таким образом, к одному и тому же термину римляне два атрибута: быть побежденными в одно время и быть победителями — в другое время, хотя при Цезаре не было в живых ни одного римлянина из тех, что жили во времена галльского завоевания Рима. Это показывает, почему каждый индивидуум тщеславится великими делами своего народа, в коих он не участвовал, — что так же глупо, как глупо было бы тщеславие уха, которое, будучи глухим, гордилось бы зоркостью глаза и проворством руки.
Глава XIV
О ПРЕДЛОЖЕНИЯХ,
В КОТОРЫХ ЗНАКАМ ДАЮТ ИМЕНА ВЕЩЕЙ
В первой части мы сказали, что одни идеи имеют своим объектом вещи, другие же — знаки. Когда идеи знаков, связанные со словами, образуют предложения, происходит нечто, что нам важно здесь исследовать и что должно быть предметом логики, а именно: иногда относительно этих идей утверждают обозначаемые ими вещи121. Речь идет о том, чтобы выяснить, когда мы вправе это делать, причем главным образом в отношении учрежденных знаков: в отношении естественных знаков трудности не возникает, поскольку очевидая связь между такими знаками и вещами ясно показывает, что, утверждая относительно знака обозначаемую им вещь, хотят сказать не то, что этот знак действительно есть эта вещь, а то, что он есть эта вещь в обозначении и в образном смысле. Так, о портрете Цезаря без подготовки 122 и без лишних слов скажут: «Это Цезарь», о карте Италии — «Это Италия».
Следовательно, правило, разрешающее утверждать относительно знаков обозначаемые ими вещи, надо рассмотреть только в отношении учрежденных знаков, которые, не имея очевидной связи с вещами, не предупреждают о том, в каком смысле понимают подобные предложения. Это правило послужило поводом для многочисленных споров.
Ибо некоторым представляется, будто это можно делать без разбора и будто для того чтобы показать, что то или иное предложение, понимаемое в смысле образа и знака, вполне разумно, достаточно напомнить, что давать знаку имя обозначаемой вещи — обычное дело. Однако это неверно; ведь есть множество предложений, которые были бы нелепыми, если бы знакам давали имена обозначаемых вещей, чего никогда и не делают, поскольку такие предложения нелепы. Так, человек, который установил бы для себя, что определенные вещи обозначают какие-то другие вещи, был бы смешон, если бы он, никого не предупредив, позволил себе давать этим воображаемым знакам имена этих вещей и говорил, к примеру, что камень — это лошадь, осел — персидский шах, потому что он установил для себя эти знаки. Итак, первое правило, которому здесь должно следовать, заключается в том, что нельзя без разбора давать знакам имена вещей.
Второе правило, вытекающее из предыдущего, состоит в том, что одной очевидной несовместимости слов недостаточно, для того чтобы сделать вывод, что предложение не может быть понято в собственном смысле и, следовательно, должно истолковываться в смысле знака.
Иначе предложения наподобие приведенных выше не были бы нелепыми; чем более они были бы несообразны в собственном смысле, тем легче бы мы воспринимали их в смысле знака, что, однако ясе, не так. Ибо кто потерпел бы, чтобы без какой-либо иной подготовки, а только на основании некоего тайного решения говорили, что море — это небо, Земля — Луна, дерево — король? Кто не видит, что нет кратчайшего пути прослыть безумцем, нежели пытаться ввести в обиход подобный язык? Следовательно, нужно, чтобы те, к кому мы обращаемся, были определенным образом подготовлены, дабы мы имели право пользоваться предложениями такого рода. Об этой подготовке надо заметить, что она бывает или безусловно недостаточной, или же безусловно достаточной.
1. Отдаленные связи, не являющие себя ни чувствам, ни первому взору ума и открываемые только путем размышления, недостаточны для того, чтобы впервые давать знакам имена обозначаемых вещей. Ибо едва ли существуют вещи, между которыми нельзя было бы найти такого рода связей; и ясно, что связи, которых поначалу не видно, недостаточны для того, чтобы навести ум на образный смысл.
2. Чтобы дать знаку имя обозначаемой вещи при его первоначальном установлении, недостаточно знать, что те, с кем мы ведем разговор, уже рассматривают его как знак другой, совершенно отличной вещи. К примеру, известно, что лавр служит знаком победы, а олива — знаком мира. Но это знание ни в коей мере не подготавливает наш ум к тому, чтобы мы не удивлялись, если кто-нибудь пожелает сделать лавр знаком китайского императора, а оливу — знаком родовитой особы и, прогуливаясь по саду, скажет без каких-либо пояснений: «Взгляните на этот лавр — -это китайский император, "а эта олива — родовитый турок».
3. Всякая подготовка, которая лишь наводит на мысль, что речь идет о чем-то великом, не настраивая ум на то, чтобы рассматривать какую-то определенную вещь как знак, отнюдь не достаточна для того, чтобы мы имели право дать этому знаку имя обозначаемой вещи при его первоначальном установлении. Это ясно, ибо между идеей величия и идеей знака пет никакою прямого и близкого отношения следования и, таким образом, одна не подводит к другой.
Но когда мы видим, что люди, с которыми мы говорим, рассматривают определенные вещи как знаки и хотят лишь узнать, что они означают, такая подготовка безусловно достаточна для того, чтобы давать знакам имена вещей.
Так, Иосиф мог ответить фараону, что семь тучных коров и семь полных колосьев, увиденных им во сне, — это семь лет изобилия, а семь тощих коров и семь тощих колосьев — это семь лет неурожая 123, ибо он видел, что фараон затрудняется лишь толкованием этого сна и, в сущности, задает ему такой вопрос: «Что означают эти семь тучных и тощих коров и эти семь полных и тощих колосьев?»
Даниил был вправе ответить Навуходоносору, что он — золотая голова; ибо тот поведал ему, что видел во сне истукана, голова которого была из золота, и спросил его о значении этого сна124.
Если мы рассказали притчу и объяснили ее, то, поскольку те, с кем мы говорим, уже рассматривают все, что в ней заключено, как знаки, мы вправе при объяснении каждой части давать знаку имя обозначаемой вещи.
Когда Бог явил пророку Иезекиилю в видении, in spiritu, поле, покрытое мертвыми, то, поскольку пророки отличали видения от действительности и привыкли понимать их как знаки, Бог говорил вполне понятно, возвещая ему, что эти кости суть дом Израилев 125, т. е. что они его обозначают.
Все это примеры не вызывающей сомнений подготовки, и так как мы не знаем других случаев, когда мы согласились бы, чтобы знаку дали имя обозначаемой вещи, помимо тех, когда есть такая подготовка, отсюда можно вывести следующую максиму, подсказываемую здравым смыслом: знаку дают имя обозначаемой вещи только тогда, когда имеют основапие предполагать, что он уже рассматривается как знак, и видят, что другие хотят узнать не что это такое, а что это означает.
Но так как у большей части моральных правил есть исключения, можно было бы поставить вопрос, не следует ли в одном случае сделать исключение и для данного правила. Это тот случай, когда обозначаемая вещь в некотором смысле требует того, чтобы ее выразили знаком, так чтобы как только произнесут имя этой вещи, в уме сразу же возникала мысль, что предмет, с которым се связали, служит для ее обозначения. Так, коль скоро заветы обыкновенно отмечают внешними знаками, то если бы слово завет утверждали относительно какой-то внешней вещи, ум мог бы понять, что его утверждают относительно этой вещи как знака завета; и если бы в Писании было сказано: Обрезание есть завет, то, возможно, в этом не было бы ничего удивительного126, ибо завет накладывает идею знака на вещь, с коей он связан. И таким образом, поскольку человек, который слышит какое-либо предложение, мыслит атрибут и качества атрибута прежде, чем он соединит его с субъектом, можно предположить, что человек, который слышит предложение Обрезание есть завет, достаточно подготовлен к тому, чтобы понять, что обрезание есть завет только в смысле знака, так как слово завет позволило ему образовать эту идею — хотя и не до того как оно было произнесено, по до того как оно было связано в его уме со словом обрезание,
Я сказал — можно было бы подумать, что вещи, по нашему разумению требующие, чтобы их выражали в знаках, являются исключением из установленного правила, которое предписывает предварительную подготовку, дабы знак рассматривался как знак и относительно него могли утверждать обозначаемую им вещь. Ведь можно было бы подумать и обратное. Ибо, во-первых, в Писании нет предложения Обрезание есть завет, а сказано только: Вот завет, который вы будете соблюдать между вами, вашими потомками и мною, да будет у вас обрезан весь мужской пол 127. Здесь не говорится, что обрезание есть завет, — обрезание предписывается здесь как условие завета. Правда, Бог требовал этого условия, чтобы обрезание было знаком завета, как сказано в следующем стихе: ut sit in signum foederis; но чтобы оно было знаком, нужно было предписать его соблюдение и сделать его условием завета, и именно это содержится в предыдущем стихе.
Во-вторых, слова святого Луки: Сия чаша есть новый завет в моей крови, на которые также ссылаются, тем более не подтверждают этого заключения 128. Ибо, если перевести буквально, у святого Луки сказано: Сия чаша есть новое завещание в моей крови, А так как слово завещание обозначает не только последнюю волю завещателя, но и в собственном смысле слова свидетельство, ее выражающее, то чаша с кровью Иисуса Христа отнюдь не образно названа завещанием, потому что это в собственном смысле слова свидетельство и знак последней воли Христа, свидетельство нового завета 129.
Как бы то ни было, поскольку это исключение, с одной стороны, сомнительно, а с другой — весьма редко и поскольку лишь немногие вещи сами по себе требуют, чтобы их выражали в знаках, они не мешают пользоваться правилом и применять его ко всем другим вещам, которые не обладают этим свойством и которые не принято выражать в учрежденных знаках. Ибо следует быть справедливым и не забывать: если правила большей частью имеют исключения, это не значит, что они теряют силу в отношении того, что не является исключением.
Исходя из изложенных принципов надо решить важный вопрос, можно ли придавать словам Сие есть тело мое образный смысл, или, вернее, исходя из этих принципов весь мир его и решил, ибо все народы склонны понимать их в буквальном смысле, исключая образный смысл. Ведь апостолы вовсе не рассматривали хлеб как знак и не задавались вопросом, что он означает, и потому Иисус Христос не мог бы дать знакам имена вещей, так чтобы это не противоречило обычному словоупотреблению и не вводило людей в заблуждение. Вероятно, апостолы рассматривали происходившее как нечто великое, но этого недостаточно 130.
По поводу знаков, которым дают имена вещей, мне осталось лишь заметить, что надо строго различать те выражения, в коих для того, чтобы назвать знак, пользуются именем вещи (например, когда изображение Александра называют именем Александра), и те, в коих знак назван своим собственным именем или местоимением и относительно него утверждают обозначаемую вещь. Ибо правило, требующее, чтобы те, с кем мы говорим, уже рассматривали знак как знак и только задавались вопросом, знаком чего он служит, ни в коей мере не распространяется на выражения первого вида, а действительно лишь для выражений второго вида, в которых относительно знака определенно утверждается обозначаемая вещь. Ведь подобными выражениями пользуются только для того, чтобы сказать тем, с кем ведут беседу, что означает данный знак, и делают это лишь тогда, когда они достаточно подготовлены к тому, чтобы понять, что знак есть обозначаемая вещь только в обозначении и в образном смысле.
Глава XV
О ДВУХ ВИДАХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
ПОЛУЧИВШИХ БОЛЬШОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ В НАУКАХ, —
ДЕЛЕНИИ И ОПРЕДЕЛЕНИИ,
И В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ О ДЕЛЕНИИ
Необходимо сказать, в частности, и о двух видах предложений, получивших большое распространение в науках, — делении и определении.
Деление есть расчленение целого на то, что оно в себе содержит.
Но так как целое бывает двух видов, существует и два вида деления. Есть целое, состоящее из нескольких действительно раздельных частей. По-латыни оно называется totum, части же его называют составными частями. Деление этого целого называется разделением на части (partition). Например, когда дом делят на квартиры, город — на кварталы, королевство или государство — на области, человека — на тело и душу, тело — на члены. Единственное правило такого деления состоит в том, чтобы делать точные перечисления, в которых бы ничего не было упущено.
Другое целое называется по-латыпи omne, а части его носят название субъектных или низших частей, потому что это целое — общий термин, а части его — субъекты, входящие в его объем. Слово животное представляет собой целое такого рода. Его субъектными частями являются человек и зверь — низшие [субъекты], входящие в его объем. Подобное деление и есть деление в собственном смысле слова (division). Можно установить четыре вида деления.
1. Когда род делят, исходя из видов. Всякая субстанция есть тело либо дух. Всякое животное есть человек либо зверь.
2. Когда род делят, исходя из видовых отличий, Всякое животное есть разумное либо лишенное разума. Всякое число — четное либо нечетное. Всякое предложение истинно либо ложно. Всякая линия — прямая либо кривая.
3. Когда общий субъект делят, исходя из противоположных случайных признаков, которыми он может обладать или в соответствии с различными низшими [субъектами], или же в разное время. Например: Всякое светило излучает либо свой собственный свет, либо отраженный] Всякое тело находится в движении либо в покое; Все французы — либо дворяне, либо простолюдины; Всякий человек здоров либо болен; Все народы либо изъясняются только устно, либо, кроме устной речи, имеют еще и письменность.
4. [Деление] случайного признака на различные субъекты, к которым он относится, например, деление благ на блага духа и блага тела.
Правила деления следующие. Первое: оно должно быть полным, т. е. члены деления должны заключать в себе весь объем термина, подвергаемого делению. Например, четное и нечетное заключают в себе весь объем термина число, так как не существует числа, которое не было бы четным либо нечетным. Пожалуй, ничто другое не привело к стольким ложным умозаключениям, как невнимание к этому правилу. В заблуждение нас вводит то, что часто встречаются такие термины, которые, казалось бы, столь противоположны, что не допускают никакой середины, тогда как в действительности она существует. Так, между невежественным и ученым есть известная середина — когда человек уже не относится к невежественным людям, но еще не может быть причислен к ученым. Между порочным и добродетельным также существует некое состояние, о котором можно сказать то, что Тацит говорит о Гальбе: magis extra vitia quam cum virtutibus 131. Ибо есть люди, не имеющие тяжких пороков, по и не делающие никакого добра. Их нельзя назвать ни порочными, ни добродетельными, хотя пред Богом это большой порок — не быть добродетельным. Между здоровым и больным есть состояние человека недомогающего и выздоравливающего. Между днем и ночью есть сумерки. Между противоположными пороками середина — добродетель, как, например, благочестие есть середина между неверием и суеверием. Иногда эта середина — двоякая; так, между скупостью и расточительностью есть щедрость и похвальная бережливость; между боязливостью, которая всего страшится, и смелостью, не знающей никакого страха, есть великодушие, которое не дрогнет перед опасностью, и разумная осторожность, побуждающая людей избегать ненужного риска.
Второе правило, вытекающее из первого, состоит в том, что члены деления должны быть противоположны ДРУГ другу, как, например, четное, нечетное; разумное, лишенное разума. Но следует отметить то, что уже было сказано в первой части: не обязательно, чтобы все видовые отличия, каковыми являются эти противоположные члены, были положительными, — достаточно, чтобы положительным было одно из них, а другое было просто родом с отрицанием другого видового отличия. Более того, именно таким образом члены деления и делают наверное противоположными друг другу. Так, видовым отличием зверя от человека является только лишенность разума, в которой нет ничего положительного; нечетность есть лишь отрицание делимости на две равные части. В простом числе нет ничего такого, чего не было бы в составном, потому что оба этих числа имеют мерой единицу и то, которое называется простым, отличается от составного лишь тем, что оно не имеет другой меры, кроме единицы.
Однако надо признать, что видовые отличия следует по возможности выражать в положительных терминах: это позволяет лучше понять природу членов деления. Поэтому деление субстанции на мыслящую и протяженную намного лучше обычного деления на материальную и нематериальную или же на телесную и бестелесную субстанции, ибо слова нематериальная и бестелесная внушают нам лишь весьма несовершенную и весьма смутную идею того, что гораздо понятнее выражается словами мыслящая субстанция.
Третье правило, вытекающее из второго, следующее: один член деления не должен заключаться в другом так, чтобы можно было утверждать относительно него этот другой член, хотя иногда он может заключаться в нем иным образом. Действительно, линия заключается в поверхности как граница поверхности, а поверхность — в теле как граница тела, но, однако, протяжение делится на линию, поверхность и тело, так как нельзя сказать, что линия есть поверхность или что поверхность есть тело. И наоборот, нельзя делить число на четное, нечетное и квадратное, потому что всякое квадратное число, являясь четным либо нечетным, заключено в двух первых членах.
Не должно также делить мнения на истинные, ложные и вероятные, ибо всякое вероятное мнение либо истинно, либо ложно. Но можно сначала делить мнения на истинные и ложные, а затем делить те и другие на достоверные и вероятные.
Рамус и его приверженцы бились над тем, чтобы показать, что во всяком делении должно быть только два члена. Когда это нетрудно выполнить, это лучшее; но так как в науках надо принимать в соображение прежде всего ясность и легкость, то не следует отвергать деление на три члена и более, если оно более естественно и для того, чтобы сделать его двучленным, понадобилось бы искусственное подразделение. Ибо тогда не облегчают ум — что составляет главную цель деления, — а только обременяют его большим количеством подразделений, так что удержать их в памяти гораздо труднее, чем если бы сразу же установили больше членов в том, что подвергается делению. Например, гораздо короче, проще и естественнее сказать: Всякое протяжение есть либо линия, либо поверхность, либо тело, нежели говорить, как Рамус: Magnitude est linea vel lineatum; lineatum est superficies vel solidum 132.
Под конец можно отметить, что, когда делений производят слишком мало или слишком много, и то и другое является недостатком, ибо первое не позволяет просветить ум в должной мере, а второе слишком рассеивает его. Крассо, философ, почитаемый у толкователей Аристотеля, повредил своей книге преизбытком всевозможных делений 133. Таким образом вносят путаницу, которой стремятся избежать. Confusum est quidquid in pulverem sec-tum est134.
Глава XVI
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ,
НАЗЫВАЕМОМ ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ВЕЩЕЙ
В первой части мы весьма подробно говорили об определениях имен. Мы показали, что их не надо смешивать с определениями вещей: если определения имен произвольны, то определения вещей зависят не от нас, а от
166 ВТОРАЯ ЧАСТЬ
того, что заключено в истинной идее вещи, и их нельзя принимать за начала, а следует рассматривать как положения, которые часто нуждаются в обосновании и которые можно оспаривать. Теперь мы будем говорить лишь об этом последнем роде определений.
Такие определения бывают двух видов: более строгие, сохраняющие за собой название определений, и менее строгие, называемые описаниями.
Самое строгое определение то, которое раскрывает природу вещи через ее сущностные атрибуты; при этом атрибуты, являющиеся общими, называются родом, а те, что составляют особенность данной вещи, — видовым отличием.
Так, человека определяют как разумное животное; дух — как мыслящую субстанцию; тело — как протяженную субстанцию; Бога — как всесовершенное существо. То, что полагают в определении как род, должно быть родом, сколь возможно близким к определяемому, а не отдаленным от пего.
Иногда вещь определяют и через ее составные части — например, когда говорят, что человек есть нечто состоящее из духа и тела. Но даже в этом случае что-либо занимает место рода, как, например, слово «нечто состоящее», а остальное занимает место видового отличия.
Менее строгое определение, называемое описанием, дает некоторое знание о вещи через свойственные ей случайные признаки, которые определяют ее в такой-степени, что о ней можно составить идею, отделяющую ее от других вещей.
Таким образом описывают травы, плоды, животных по их очертаниям, величине, окраске и тому подобным случайным признакам. К этому роду определений принадлежат описания у поэтов и ораторов.
Есть также определения, или описания, через причины, через материю, через форму, через цель и т. д. — например, когда часы определяют как железный механизм, состоящий из различных колес, равномерное движение которых служит для того, чтобы указывать время.
Для правильного определения необходимы три условия: оно должно быть всеобщим, отличительным (ргорге) и ясным.
1. Надо, чтобы определение было всеобщим, т. е. чтобы оно охватывало все определяемое. Поэтому обычное определение времени как меры движения, может быть, неправильно, ибо очевидно, что временем равно измеряются и движение, и покой, — ведь говорят не только что вещь такое-то время двигалась, но и что вещь такое-то время находилась в покое; так что время, по-видимому, есть не что иное, как длительность сотворенной вещи, в каком бы состоянии она ни пребывала 135.
2. Надо, чтобы определение было отличительным, т. е. чтобы оно подходило только к определяемому. Поэтому обычное определение элементов — простое тело, подверженное разложению136 представляется неправильным. Ведь небесные тела, по признанию самих же этих философов, не менее просты, чем элементы, и притом нет оснований думать, будто в небесах не происходит изменений, подобных тем, какие происходят на Земле, поскольку, не говоря уже о кометах, которые, вопреки мнению Аристотеля 137, вовсе не состоят, как ныне известно, из испарений Земли, обнаружены пятна на Солнце, то возникающие, то исчезающие подобно нашим облакам, хотя это гораздо большие тела.
3. Надо, чтобы определение было ясным, т. е. чтобы оно давало нам более ясную и отчетливую идею определяемой вещи и по мере возможности позволяло понять ее природу, дабы мы могли объяснить ее основные свойства. Именно это следует учитывать в определениях в первую очередь, и именно этого недостает многим определениям Аристотеля.
Ибо кому помогло лучше понять природу движения такое определение: Aetas entis in potentia quatenus in po-tentia — «действительность сущего в возможности, поскольку оно есть в возможности»? 138 Ведь стократ яснее идея движения, данная нам самой природой. И разве это определение позволило кому-нибудь объяснить хоть одно свойство движения?
Ничуть не лучше четыре известных определения основных качеств: сухого, влажного, теплого, холодного 139.
Сухое, говорит Аристотель, есть то, что легко удерживается в своих границах и с трудом — в границах другого тела: quod suo termino facile continetur, difficulter alieno.
Влажное же есть то, что, наоборот, легко удерживается в границах другого тела и с трудом — в своих собственных границах: quod suo termino difficulter contino-tur, facile alieno.
Но, во-первых, эти два определения больше подходят к твердым и жидким телам, нежели к сухим и влажным. Ибо говорят, что один воздух сухой, а другой — влажный, хотя воздух всегда легко удерживается в границах другого тела, потому что он всегда является жидким. Кроме того, непонятно, как Аристотель мог сказать, что огонь, т. е. пламя, согласно этому определению является сухим, — ведь он легко приспосабливается к границам других тел. Недаром Вергилий называет огонь жидким: et liquidi simul ignis 140. И говорить вместе с Кампанеллой, что огонь в замкнутом пространстве aut rumpit, aut rumpitur 141 — пустое ухищрение, ибо это происходит не по причине его сухости, а потому, что без доступа воздуха его гасит образующийся дым. Поэтому огонь очень легко приспособится к границам другого тела, если будет какое-то отверстие, откуда он сможет изтпать то, что из него беспрерывно выделяется.
Теплое Аристотель определяет как то, что соединяет однородные тела и разъединяет неоднородные: quod con-gregat homogenea et disgregat heterogenea.
Холодное же — как то, что соединяет неоднородные тела и разъединяет однородные: quod congregat heterogenea et disgregat homogenea142. Эю иногда свойственно теплому и холодному, но не всегда. К тому же это нисколько не помогает нам понять истинную причину, по которой мы называем одно тело теплым, а другое — холодным. Так что канцлер Бэкон справедливо сказал, что эти определения похожи на то, какое дали бы человеку, определив его как животное изготавливающее башмаки и возделывающее виноградники. Тот же философ определяет природу следующим образом: Principium inotus et quietis in eo in quo est — «начало движения и покоя в том, в чем она есть»143. Это основано лишь на его представлении, будто естественные тела отличаются от искусственных тем, что они содержат в себе начало своего движения, а у искусственных это начало находится вовне. Но ведь очевидно и достоверно, что нп одно тело не способно само привести себя в движение, потому что материя, будучи сама по себе безразлична к движению и покою, может быть определена и к тому и к другому только какой-лпбо внешней причиной; а так как это не может уходить в бесконечность, то движение необходимо сообщено материи Богом, который его и сохраняет.
Знаменитое определение души представляется еще более несовершенным: Actus primus corporis naturalis organic! potentia vitam habentis — первая осуществленность имеющего органы естественного тела, обладающего в возможности жизнью 144. Не известно, что он хотел определить. 1. Если это душа, общая для человека и зверя, то он определяет химеру, так как между тем и другим нет ничего общего. 2. Он объясняет темный термин с помощью четырех-пяти еще более темных. А что касается термина жизнь, то имеющаяся у нас идея жизни не менее смутна, чем идея души, поскольку эти два термина одинаково туманны и неоднозначны.
Таковы некоторые правила деления и определения. Но хотя в науках нет ничего важнее, как правильно производить деление и правильно определять, нам нет необходимости говорить об этом подробнее, ибо это в гораздо большей степени зависит от знания предмета, о котором трактуют, нежели от знания правил логики.
Глава XVII
ОБ ОБРАЩЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ, —
ГДЕ БОЛЕЕ ОБСТОЯТЕЛЬНО РАССМАТРИВАЕТСЯ ПРИРОДА УТВЕРЖДЕНИЯ И ОТРИЦАНИЯ,
КОТОРОЙ ОБУСЛОВЛЕНО ЭТО ОБРАЩЕНИЕ;
И ПРЕЖДЕ ВСЕГО О ПРИРОДЕ УТВЕРЖДЕНИЯ
Нижеследующие главы несколько трудны для понимания и необходимы только для умозрения. Поэтому те, кто не пожелает утомлять свой ум предметами, малополезными для практики, могут их пропустить.
Мы говорим об обращении предложений в последнюю очередь, потому что отсюда выводятся основания всякого доказательства, а о доказательстве мы должны трактовать в следующей части и, таким образом, важно было приблизить обсуждение вопроса об обращении предложений к тому, что нам надлежит сказать об умозаключении. Но чтобы как следует изложить этот вопрос, нужно повторить кое-что из сказанного выше об утверждении и отрицании и обстоятельнее рассмотреть природу того и другого.
Несомпеппо, что мы не могли бы изъяснить предложение другим, если бы не пользовались двумя идеями: одной — в качестве субъекта, другой — в качестве атрибута, и еще одним словом, обозначающим связь, которую мы между ними устанавливаем.
Эта связь лучше всего может быть выраженд теми словами, какими пользуются для утверждения, когда говорят, что одна вещь есть другая.
Отсюда ясно, что природа утверждения состоит в том, чтобы соединять и, так сказать, отождествлять субъект с атрибутом, поскольку именно это обозначается словом есть.
Отсюда следует также, что в природе утверждения — полагать атрибут во все, что выражено в субъекте соответственно тому объему, какой он имеет в предложении. Например, когда я говорю: Всякий человек есть животное, я хочу сказать и изъясняю, что все, что есть человек, есть также и животное, и, таким образом, я мыслю «животное» во всех людях.
А если я говорю только: Некоторый человек справедлив, я полагаю атрибут справедливый не во всех людей, а лишь в некоторого человека.
Но здесь надо принять во внимание и то, что, как мы уже сказали, в идеях необходимо различать содержание и объем (extension); содержание — это атрибуты, заключенные в идее, а объем — субъекты, которые содержат данную идею.
Ибо из этого явствует, что идея всегда утверждается соответственно своему содержанию, так как, лишая идею одного из ее сущностных атрибутов, ее полностью уничтожают и она становится уже другой идеей. И следовательно, когда она утверждается, она всегда утверждается соответственно всему тому, что она в себе содержит. Например, когда я говорю: Прямоугольник есть параллелограмм, я утверждаю относительно прямоугольника все, что содержится в идее параллелограмма. Ведь если бы какая-то часть этой идеи не подходила к прямоугольнику, отсюда следовало бы, что к нему подходит не вся идея, а только ее часть. И таким образом, слово «параллелограмм», обозначающее всю идею целиком, падо было бы отрицать, а не утверждать относительно прямоугольника. Далее мы увидим, что это лежит в основе всех утвердительных доказательств.
И напротив, из этого явствует, что идея атрибута берется не во всем своем объеме, если только ее объем больше объема субъекта.
Ведь если я говорю, что все распутники будут осуждены, то я не говорю, что только они одни и будут осуждены, а утверждаю лишь, что они будут в числе осужденных.
Таким образом, поскольку утверждение полагает идею атрибута в субъект, именно субъект определяет объем атрибута в утвердительном предложении и выражаемое в этом предложении тождество относится к атрибуту, ограниченному до объема, равного объему субъекта, а не взятому во всей его обшности, если он более общий, чем субъект. Ибо истинно, что все львы — животные, т. е. что всякий лев заключает в себе идею животного, по ложно, что львы — это все животные.
Я сказал, что атрибут берется не во всей своей общности, если он более общий, чем субъект. Ибо атрибут ограничивается только субъектом, и ясно, что, если субъект будет столь же общим, как атрибут, то атрибут сохранит всю свою общность, поскольку она будет такой же, как и у субъекта, и поскольку мы предполагаем, что по природе своей он не может быть более общим.
Из этого можно извлечь следующие четыре несомненные аксиомы.
Аксиома первая
Утвердительным предложением атрибут полагается в субъект соответственно всему тому объему, какой субъект имеет в предложении. Иными словами, если субъект общий, атрибут мыслится во всем объеме субъекта, а если субъект частный, атрибут мыслится только в части объема субъекта.
Аксиома вторая
Атрибут утвердительного предложения утверждается соответственно всему своему содержанию, т. е. соответственно всем своим атрибутам. Доказательство дано выше.
Аксиома третья
Атрибут утвердительного предложения утверждается не во всем своем объеме, если его объем больше объема субъекта. Доказательство дано выше.
Аксиома четвертая
Объем атрибута ограничивается объемом субъекта, так что он обозначает только ту часть своего объема, которая подходит к субъекту. Например, когда говорят, что люди суть животные, слово «животное» обозначает не всех животных, а только тех, которые суть люди.
Глава XVIII
ОБ ОБРАЩЕНИИ УТВЕРДИТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Обращением предложения называют такую замену субъекта атрибутом и атрибута — субъектом, при которой предложение остается истинным, если до этого оно было таковым, или, лучше сказать, такую замену, чтобы из обращения с необходимостью следовало, что предложение истинно, если предполагается, что оно было таковым.
Из сказанного в предыдущей главе нетрудно понять, как должно производиться обращение. Поскольку невозможно, чтобы одна вещь была связана и соединена с другой, а та, другая, не была связана с первой и поскольку отсюда следует, что если Л связано с В, то и В связано с А, ясно, что невозможно мыслить две вещи отождествленными — а это является наиболее совершенным из всех соединении, — так чтобы это соединение не было обоюдным, т. е. так чтобы польза было утверждать относительно друг друга два термина, соединенных таким образом, как они соединены.
Следовательно, поскольку в частпоутвердительных предложениях, например: Некоторый человек справедлив, субъект и атрибут оба частные (субъект человек является частным в силу прибавляемого к нему знака частности, атрибут справедливый — потому, что его объем ограничен объемом субъекта и он обозначает только ту справедливость, каковая есть в некотором человеке), постольку очевидно, что если некоторый человек отождествляется с некоторым справедливым, то некоторый справедливый также отождествляется с некоторым человеком и что, таким образом, для обращения предложений этого рода надо просто сделать атрибут субъектом, сохраняя ту же частность.
Этого нельзя сказать об общеутвердительных предложениях — по той причине, что общим в них является только субъект, т. е. только суъект берется во всем своем объеме, атрибут же, наоборот, ограничен и сужен, и, следовательно, если посредством обращения его сделают субъектом, надо будет сохранить за ним ту же ограниченность, прибавив к нему ограничивающий знак из опасения, как бы его не поняли в общем смысле (generale-ment). Например, если я говорю: Человек есть животное, я соединяю идею человека с идеей животного, ограниченной и суженной до людей. И таким образом, если я хочу рассмотреть это соединение как бы с другой стороны и, начав с термина животное, затем утверждаю относительно него термин человек, мне надо сохранить за первым термином его ограниченность и, чтобы в отношении его объема не ошиблись, прибавить к нему какой-либо знак ограничения.
Из того, что общеутвердптельные предложения могут обращаться только в частноутвердительные, не должно заключать, что они не обращаются в собственном смысле слова, как другие; но так как они состоят из общего субъекта и ограниченного атрибута, ясно, что, когда их обращают, делая атрибут субъектом, они должны иметь ограниченный и суженный, т. е. частный, субъект.
Отсюда можно вывести следующие два правила.
Правило первое
Общеутвердительные предложения могут быть обра-щены прибавлением к атрибуту, ставшему субъектом, знака частности.
Правило второе
Частноутвердительные предложения должны обращаться без какого-либо прибавления или изменения, т. е. за атрибутом, превращенным в субъект, должен сохраняться знак частности, который был при первом субъекте.
Но нетрудо увидеть, что эти два правила можно свести к одному, в котором будут содержаться они оба.
Так как во всех утвердительных предложениях атрибут ограничен субъектом, то, чтобы превратить его в субъект, на ним надо сохранить его ограниченность и, следовательно, снабдить его знаком частности независимо от того, является ли первый субъект общим или частным.
Вместе с тем общеутвердительные предложения довольно часто могут обращаться в другие общие предложения. Но это возможно только тогда, когда атрибут сам по себе имеет не больший объем, чем субъект, как, например, когда относительно вида утверждают видовое отличие или собственный признак. Ибо в этих случаях атрибут, не будучи ограниченным, может быть взят в обращении таким же общим, каким был субъект. Всякий человек разумен. Всякий разумный — человек.
Но так как подобные обращения истинны только в частных случаях, они не считаются истинными обращениями, каковые должны быть верными и непогрешимыми в силу одной лишь перестановки терминов.
Глава XIX
О ПРИРОДЕ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Природу отрицательного предложения нельзя выразить яснее, как сказав: это значит полагать, что одна вещь не есть другая.
Но для того чтобы одна вещь не была другой, не обязательно, чтобы у них не было ничего общего, — достаточно, чтобы одна не обладала всем тем, чем обладает другая; например, для того чтобы зверь не был человеком, достаточно, чтобы он не обладал всем тем, чем обладает человек, и не обязательно, чтобы он не обладал ничем из того, что есть в человеке. Из этого можно извлечь следующую аксиому.
Аксиома пятая
Отрицательное предложение не отделяет от субъекта все части, имеющиеся в содержании атрибута, — оно отделяет только совокупную и полную идею, образованную соединением всех атрибутов.
Если я говорю, что материя не есть мыслящая субстанция, этим я не утверждаю, что она не есть субстанция, а лишь говорю, что она не есть мыслящая субстанция, каковая есть совокупная и полная идея, которую я отрицаю относительно материи.
Иначе обстоит дело с объемом идеи. Отрицательное предложение отделяет от субъекта идею во всем ее объеме. Это понятно: ведь быть субъектом идеи и входить в ее объем — значит не что иное, как заключать в себе эту идею; и следовательно, когда говорят, что идея не заключает в себе другой идеи, что и называется отрицанием, тем самым говорят, что она не является одним из субъектов этой идеи.
Так, если я говорю, что человек не есть лишенное чувствительности существо, я хочу сказать, что он не есть ни одно из лишенных чувствительности существ, и, следовательно, я отделяю от него все эти существа. А из этого можно извлечь вторую аксиому.
Аксиома шестая
Атрибут отрицательного предложения всегда берется как общий (g6neralement). Более четко это можно выразить так: Все субъекты идеи, которая отрицается относительно другой, также отрицаются относительно этой другой идеи. т. е. идея всегда отрицается во всем своем объеме. Если относительно квадрата отрицается «треугольник», тем самым относительно квадрата отрицается все, что есть треугольник. В школьной логике это правило обычно выражают в следующих словах, имеющих тот же смысл: Если отрицают род. отрицают также и вид. Ибо вид есть субъект рода, «человек» есть субъект «животного», так как первый термин входит в объем второго.
Отрицательные предложения не только отделяют атрибут от субъекта соответственно всему объему атрибута — они отделяют этот атрибут от субъекта и соответственно всему тому объему, какой имеет в предложении субъект, т. е. они отделяют его вообще (universellement), если субъект общий, и частично (particulierement) — если субъект частный. Если я говорю, что ни один порочный человек не счастлив, я отделяю всех счастливых людей от всех порочных; если я говорю, что некоторый доктор не учен, я отделяю ученого от некоторого доктора. Из этого мы должны извлечь третью аксиому.
Аксиома седьмая
Всякий атрибут, который отрицается относительно какого-либо субъекта, отрицается относительно всего, что входит в тот объем, какой имеет в предложении этот субъект.
Глава XX
ОБ ОБРАЩЕНИИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Поскольку невозможно полностью разделить две вещи так, чтобы это разделение не было взаимным и обоюдным, ясно, что, если я говорю: Ни один человек не есть камень, я также могу сказать: Ни один камень не есть человек. Ибо если бы некоторый камень был человеком, то какой-то человек был бы камнем и, следовательно, не было бы истинным, что ни один человек не есть камень. Итак:
Правило третье
Общеотрицателъные предложения могут быть обращены простой заменой субъекта атрибутом с сохранением за атрибутом, ставшим субъектом, той же общности, какую имел первый субъект.
Ибо атрибут в отрицательных предложениях всегда берется как общий, потому что он отрицается во всем своем объеме, — это мы показали выше.
Но по той же самой причине нельзя обращать частноотрицательные предложения; нельзя, например, сказать: Некоторый врач не есть человек на том основании, что говорят: Некоторый человек не есть врач. Это вытекает, как мы сказали, из самой природы отрицания, которую мы только что рассмотрели, а именно из того, что в отрицательных предложениях атрибут всегда берется как общий, во всем своем объеме, так что, когда частный субъект становится атрибутом через обращение в частноотрицательном предложении, он становится общим и меняет свою природу, вопреки правилам истинного обращения, которое должно оставлять без изменения ограниченность или широту термина. Например, в предложении Некоторый человек не есть врач термин человек берется как частный. Но при ложном обращении Некоторый врач не есть человек слово «человек» берется как общее.
Итак, из того, что качество «врач» отделено от некоторого человека в предложении Некоторый человек не есть врач, и из того, что идея треугольника отделена от идеи некоторой фигуры в предложении Некоторая фигура не есть треугольник, — из этого вовсе не следует, что есть врачи, которые не являются людьми, и треугольники, которые не являются фигурами.
ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ ЛОГИКИ
ОБ УМОЗАКЛЮЧЕНИИ
Эта часть, которую нам предстоит изложить, содержит правила умозаключения. Она считается в логике наиболее важной, и пожалуй, это единственная часть, излагаемая в ней сколько-нибудь тщательно. Однако у нас есть основания сомневаться, так ли она полезна, как полагают. Человеческие заблуждения, как мы уже сказали в другом месте проистекают в большинстве своем из того, что люди основывают умозаключения на ложных началах, а не из того, что они неправильно умозаключают, исходя из принятых ими начал. Редко когда умозаключение ложно лишь по той причине, что неправильно выведено следствие, и те, кто неспособен распознать ложность таких умозаключений благодаря одному только свету разума, обычно неспособны понять правила, которые им преподают, и тем более — их применить. Но, однако, если бы эти правила рассматривались только как умозрительные истины, они всегда служили бы для упражнения ума. К тому же нельзя отрицать, что в некоторых случаях они находят применение и что они полезны для тех людей, которые, будучи от природы сообразительными и проницательными, иногда выводят ложные следствия лишь по невнимательности, чего можно избежать, если думать об этих правилах. Как бы то ни было, мы приведем то, что обычно говорится о правилах умозаключения, и даже кое-что прибавим.
Глава I
О ПРИРОДЕ И РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ УМОЗАКЛЮЧЕНИЯ
Необходимость умозаключений коренится в ограниченности человеческого ума. Когда нам нужно вынести суждение об истинности или ложности некоторого предложения, называемого в таком случае вопросом, ум наш не всегда может сделать это посредством рассмотрения двух идей, составляющих данное предложение, из которых та, что служит субъектом, называется также меньшим термином, поскольку субъект обычно имеет меньший объем, чем атрибут, а та, что служит атрибутом, называется также большим термином — по противоположной причине. Так вот, когда одного лишь рассмотрения двух идей недостаточно, чтобы вынести суждение о том, должно ли утверждать или отрицать одну из них относительно другой, необходимо прибегнуть к третьей идее, простой или сложной (в соответствии с тем, чю было сказано о сложных терминах), и эта третья идея называется средним термином.
Было бы бесполезно, желая сопоставить две идеи через посредство третьей, сопоставлять ее только с одним из двух терминов. Если я хочу узнать, например, бестелесна ли душа, п, не усматривая этого сразу, выбираю, чтобы уяснить это, идею мышления, то ясно, что мне нет смысла сопоставлять «мышление» с «душой», если я не полагаю в мышлении никакой связи с атрибутом «бестелесный», благодаря которой я мог бы судить о том, присущ ли этот атрибут душе или нет. Я скажу, к примеру: «Душа мыслит», по отсюда я не смогу заключить: «следовательно, она бестелесна», если я не полагаю никакой связи между термином мыслить и термином бестелесная.
Таким образом, средний термин надо сопоставлять как с субъектом, или меньшим термином, так и с атрибутом, или большим термином, будь то с каждым из этих терминов по отдельности, как в силлогизмах, называемых поэтому простыми, или с обоими сразу, как в доказательствах, называемых сопрягательными (conjonctifs).
Но, так или иначе, это conoci явление требует двух предложений.
О сопрягательпых доказательствах мы будем говорить особо2; в применении же к простым это ясно. Средний термин, будучи, во-первых, сопоставлен с атрибутом заключения (что можно сделать, только утверждая либо отрицая), образует предложение, называемое ббльшим, так как атрибут заключения называется большим термином.
Будучи, во-вторых, сопоставлен с субъектом заключения, он образует предложение, называемое меньшим, так как субъект заключения называется меньшим термином.
Далее следует заключение — это и есть то самое предложение, которое надлежало доказать и которое до того, как оно было доказано, называлось вопросом.
Надо знать, что два первых предложения называются посылками (praemissae), потому что они ставятся, по крайней мере мысленно, до заключения3, которое должно быть необходимым следствием из них, если силлогизм является правильным, т. е. если в предположении истинности посылок заключение необходимо истинно.
Правда, не всегда выражают обе посылки, поскольку часто достаточно одной, чтобы помыслить две. Когда выражают только два предложения, умозаключение называется энтимемой. Энтимёма является в уме настоящим силлогизмом, потому что ум добавляет опущенное предложение, но она неполна в выражении и заключает только в силу этого подразумеваемого предложения.
Я сказал, что в умозаключении есть по крайней мере три предложения; но их может быть гораздо больше, и оно не станет от этого ошибочным, лишь бы только всегда соблюдались правила. Ведь если, обратившись к третьей идее, чтобы узнать, подходит ли атрибут к субъекту или нет, и сопоставив ее с одним из терминов, я еще не знаю, подходит ли он ко второму термину, я мог бы подобрать четвертый, чтобы уяснить это, и пятый, если четвертого недостаточно, пока я не пришел бы к идее, которая связывала бы атрибут заключения с субъектом.
Если я, к примеру, задаюсь вопросом, несчастны ли скупые, то я мог бы сначала принять во внимание, что скупые преисполнены желаний и страстей. Если это не позволит мне сделать заключение: следовательно, они несчастны, я рассмотрю, что значит быть преисполненным желаний, и найду в этой идее идею отсутствия многих вещей, которых желают, а в лишенности того, чего желают — несчастье; это позволит мне построить следующее умозаключение: Скупые преисполнены желаний', те, кто преисполнен желаний, многого не имеют, ибо невозможно, чтобы они удовлетворили все свои желания', те, кто не имеет желаемого, несчастны. Следовательно, скупые несчастны.
Такого рода умозаключения, состоящие из ряда предложений, из которых второе зависит от первого и так далее, называют соритами. Чаще всего они встречаются в математике. Но поскольку длинные умозаключения ум прослеживает с большим трудом и поскольку умозаключение, состоящее из трех предложении, в полной мере соответствует возможностям нашего ума, в логике больше всего заботились о том, чтобы рассмотреть правила верных и ошибочных силлогизмов, т. о. доказательства из трех предложений; и этому надо следовать, потому что устанавливаемые для них правила нетрудно применить к любым умозаключениям, состоящим из ряда предложений, тем более что все такие умозаключения, если они правильны, могут быть сведены к силлогизму.
Глава II
ДЕЛЕНИЕ СИЛЛОГИЗМОВ
НА ПРОСТЫЕ И СОПРЯГАТЕЛЬНЫЕ,
А ПРОСТЫХ — НА НЕСОСТАВНЫЕ И СОСТАВНЫЕ
Силлогизмы бывают либо простыми, либо сопряга-тельными.
Простые суть те, в которых средний термин соединен одновременно только с одним из терминов заключения. Сопрягательные суть те, в которых он соединен с обоими. Так, следующее доказательство является простым:
Всякий добрый государь пользуется любовью своих подданных.
Всякий благочестивый король — добрый государь.
Следовательно, всякий благочестивый король пользуется любовью своих подданных.
Ибо средний термин соединен здесь по отдельности с термином благочестивый король, т. е. с субъектом заключения, и с термином пользующийся любовью своих подданных, т. е. с его атрибутом. А нижеследующий силлогизм является сопрягательпым — по противоположной причине:
Если государство с выборной властью подвержено раздорам, оно не долговечно.
Государство с выборной властью подвержено раздорам. Следовательно, государство с выборной властью не долговечно.
Ибо субъект государство с выборной властью и атрибут долговечное входят в большую посылку.
Так как эти два вида силлогизмов имеют каждый свои правила, мы будем говорить о них по отдельности.
Простые силлогизмы, а именно те, в которых средний термин соединен с каждым из терминов заключения по отдельности, делятся, в свою очередь, на два вида.
В одних каждый термин целиком соединен со средним термином: атрибут целиком — в большей посылке и субъект целиком — в меньшей посылке.
В других, где заключение составное, т. е. состоит из сложных терминов 4, берут только часть субъекта или часть атрибута, чтобы соединить ее со средним термином в одном из предложений, а все остальное, т. е. теперь уже только один термин, соединяют со средним термином в другом предложении, как, например, в следующем доказательстве:
Божественный закон повелевает почитать царей.
Людовик XV — царь.
Следовательно, божественный закон повелевает почитать Людовика XV5.
Доказательства первого вида мы будем называть неосложненными (d£mel6s) и несоставными (incomplexes), а второго — осложненными (impliques)6 или составными (complexes), не потому, что все доказательства, в которых есть составные предложения, принадлежат к этому последнему виду, а потому, что среди доказательств этого-последнего вида нет таких, в которых не было бы составных предложений.
Правила, обыкновенно устанавливаемые для простых силлогизмов, действительны в отношении всех составных силлогизмов, при условии, однако, что они будут перевернуты, так как истинность (force) заключения не зависит от этого перевертывания7. Но мы применим здесь правила простых силлогизмов только к песоставпьш силлогизмам, а составные силлогизмы будем рассматривать особо.
Глава III
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРОСТЫХ НЕСОСТАВНЫХ СИЛЛОГИЗМОВ
Эта глава и нижеследующие вплоть до двенадцатой относятся к тем, о которых говорилось в Рассуждении, они содержат тонкости, необходимые для логической теории, но не имеющие широкого применения.
Из предыдущих глав мы уже знаем, что в простом силлогизме должно быть только три термина: два термина заключения и один средний термин; каждый из них повторяется дважды, и так они образуют три предложения: большее, в которое входят средний термин и атрибут заключения, называемый большим термином, меньшее, в которое входят средний термин и субъект заключения, называемый меньшим термином, и заключение, субъектом которого является меньший термин, а атрибутом — больший термин.
Но так как мы не можем вывести заключение любого рода из любого рода посылок, есть общие правила, показывающие, что заключение не может быть верно выведено в силлогизме, в котором они не соблюдены. Эти правила основаны на аксиомах, установленных во второй части относительно природы утвердительных и отрицательных, общих и частных предложений. Мы просто приведем здесь эти аксиомы, поскольку они были обоснованы в другом месте.
1. Частные предложения заключены в общих предложениях того же рода, а не наоборот, общие в частных: I в А и О в Е, а не А в I и не Е в О.
2. Общим или частным предложение делает субъект, взятый как общий или как частный.
3. Атрибут утвердительного предложения, который никогда не бывает большего объема, чем субъект, всегда рассматривается как частный: если он иногда и берется как общий, то лишь случайно (par accident).
4. Атрибут отрицательного предложения всегда берется как общий.
На этих аксиомах главным образом и основаны общие правила силлогизмов, нарушение которых приводит к ложным умозаключениям.
Правило первое
Средний термин не может быть дважды взят как частный — он должен быть хотя бы один раз взят как общий.
В самом деле, так как средний термин должен соединять или разделять два термина заключения, то ясно, что он не может служить для этой цели, если он обозначает две разные части одного целого, потому что с этими двумя терминами будет соединена или же от них будет отделена, возможно, не одна и та же часть. А взятый дважды как частный, он может обозначать две разные части одного целого и, следовательно, из него ничего нельзя будет заключить, во всяком случае с необходимостью. Этого достаточно, чтобы доказательство было ложным, поскольку правильным, как мы уже сказали, называют лишь тот силлогизм, в котором при истинности посылок заключение не может быть ложным. Так, в следующем доказательстве: Некоторый человек — святой; некоторый человек — вор; следовательно, некоторый вор — святой, — слово человек, обозначающее разные части людей, не может соединять вора со святым, потому что не один и тот же человек является святым и вором.
Нельзя сказать то же о субъекте и атрибуте заключения. Будь они даже дважды частными, их можно соединять друг с другом, соединяя один из этих терминов со средним соответственно всему объему среднего термина. Ибо отсюда определенно следует, что если средний термин соединяется в какой-либо из своих частей с какой-то частью другого термина, то тогда первый термин, о котором мы сказали, что он соединяется со всем средним термином, окажется соединенным также и с тем термином, с которым соединена какая-то часть среднего термина. Если в каждом доме Парижа есть французы и если в некоторых домах Парижа есть немцы, то имеются дома, где есть и француз и немец.
Если некоторые богатые — глупцы и если всякий богатый почитаем, то существуют почитаемые глупцы8. Ибо те богатые, которые глупы, также почитаемы, поскольку все богатые почитаемы, и, следовательно, в этих глупых и почитаемых богатых качества «глупый» и «почитаемый» соединены.
Правило второе
Термины заключения не могут быть взяты в заклю чении более общими, чем в посылках.
Поэтому, когда тот или другой термин берется в заключении как общий, умозаключение будет ложным, есди он берется как частный в двух первых предложениях.
Это связано с тем, что нельзя заключать от частного к общему (согласно 1-й аксиоме9). Ведь из того, что некоторый человек черен, нельзя заключить, что всякий человек черен.
1- й королларий
В посылках всегда должно быть на один общий термин больше, чем в заключении. Ибо всякий термин, общий в заключении, должен быть таковым и в посылках. И кроме того, средний термин в посылках должен быть хотя бы один раз взят как общий.
2- й королларий
Когда заключение отрицательное, необходимо, чтобы больший термин был взят в большей посылке как общий. Ибо он берется как общий в отрицательном заключении (по 4-й аксиоме) и, следовательно, он должен быть взят как общий также и в большей посылке (по 2-му правилу).
3- й королларий
Большая посылка доказательства с отрицательным заключением никогда не может быть частноутвердительным предложением. Ибо субъект и атрибут частноутвердительного предложения оба берутся как частные (по 2-й и 3-й аксиомам). И таким образом, больший термин был бы взят в большей посылке как частный, что противоречило бы 2-му королларию.
4- й королларий
Меньший термин в заключении всегда такой же, как в посылках, г. е. когда в посылках он частный, в заключении он может быть только частным, и наоборот, когда в посылках он общий, он всегда может быть общим и в заключении. Действительно, когда меньший термин является субъектом меньшей посылки, он не может быть общим, не будучи в общем (generalement) соединен со средним термином либо в общем отделен от среднего термина; когда же он является ее атрибутом, он может быть взят в ней как общий, только если предложение отрицательное, потому что атрибут утвердительного предложения всегда берется как частный. А отрицательные предложения означают, что атрибут, взятый во всем своем объеме, отделяется от субъекта.
И следовательно, предложение, в котором меньший термин является общим, обозначает либо соединение среднего термина со всем меньшим термином, либо отделение среднего термина от всего меньшего термина.
Так вот, если посредством соединения среднего термина с меньшим заключают, что и другая идея соединена с этим меньшим термином, то должно заключить, что она соединена со всем меньшим термином, а не только с его частью. Ибо средний термин, будучи соединен со всем меньшим термином, посредством этого соединения не может доказывать что-либо в отношении одной части, не доказывая этого также и в отношении других, поскольку он соединен со всеми частями.
Равным образом, если отделение среднего термина от меньшего доказывает что-либо в отношении некоторой части меньшего термина, оно доказывает это в отношении всех частей, поскольку он одинаково отделен от всех его частей.
5-й королларий
Когда меньшая посылка является общеотрицательпым предложением и из нее можно вывести законное заключение, оно всегда может быть общим. Это следствие из предыдущего короллария. Ибо в общеотрицательной меньшей посылке меньший термин не может не быть общим, независимо от того, служит ли он в ней субъектом (по 2-й аксиоме) или атрибутом (по 4-й).
Правило третье
Из двух отрицательных предложений нельзя вывести никакого заключения.
Два отрицательных предложения отделяют, субъект от среднего термина и атрибут — от этого же среднего термина. А из того, что две вещи отделены от одного и того же, не следует ни что они суть, ни что они не суть одно и то же. Из того, что испанцы не турки и турки не христиане, не следует, что испанцы не христиане, и равным образом отсюда не следует, что китайцы — христиане, хотя они не турки и не испанцы.
Правило четвертое
Отрицательное заключение нельзя доказать посредством двух утвердительных предложений.
Ибо исходя из того, что два термина заключения соединены с третьим, нельзя доказать, что они отделены друг от друга.
Правило пятое
Заключение всегда соответствует более слабой части, т. е. если одно из двух предложений отрицательное, заключение должно быть отрицательным, если одно из них частное, заключение должно быть частным.
Это доказывается так: если [в силлогизме] есть отрицательное предложение, то средний термин отделен от одной из частей заключения и, таким образом, он не может их соединять, что необходимо для того, чтобы сделать утвердительное заключение.
А если есть частное предложение, заключение не может быть общим. В самом деле, если заключение об-щеутвердительпое, то его субъект, будучи общим, должен быть общим и в мепыпей посылке, и, следовательно, он должен быть в ней субъектом, поскольку атрибут в утвердительных предложениях никогда не берется как общий. Следовательно, средний термин, соединенный с этим субъектом, в меньшей посылке будет частным. Следовательно, он будет общим в большей посылке, потому что иначе он дважды был бы частным. Таким образом, он будет в ней субъектом, и, значит, большая посылка также будет общей. Итак, не может быть частного предложения в утвердительном доказательстве с общим заключением.
Это тем более ясно в отношении общеотрицательных заключений. Ибо отсюда следует, что в двух посылках должно быть три общих термина, — согласно 1-му корол-ларию. А так как, по 3-му правилу, в посылках должно быть утвердительное предложение, атрибут которого берется как частный, из этого следует, что три остальных термина берутся как общие, а значит — и два субъекта двух предложений, что делает эти предложения общими. Что и требовалось доказать.
6-й королларий
То, что дает общее заключение, дает и частное заключение.
То, что дает заключение А, дает и заключение I; то, что дает заключение Е, дает и заключение О. Но то, что дает частное заключение, не дает общего заключения. Это следствие из предыдущего правила и 1-й аксиомы. Однако надо заметить, что, рассматривая виды силлогизма, люди принимают во внимание лишь самое сильное (noble) заключение — общее; так что когда они делают частное заключение только благодаря тому, что можно сделать и общее заключение, это не считается особым видом силлогизма.
Поэтому не существует силлогизма, в котором большая посылка — А, меныпая -Ей заключение — О. Ибо (по 5-му королларию) заключение из общеотрицательной меньшей посылки всегда может быть общим. Так что если из нее нельзя вывести общего заключения, то потому, что нельзя вывести никакого. Таким образом, АЕО не является особым силлогизмом — это силлогизм лишь постольку, поскольку он может быть заключен в АЕЕ.
Правило шестое
Из двух частных предложений ничего не следует.
Если они оба утвердительные, средний термин в них будет дважды взят как частный, независимо от того, служит ли он субъектом (по 2-й аксиоме) или атрибутом (по 3-й аксиоме). А по 1-му правилу, посредством силлогизма, средний термин которого дважды берется как частный, нельзя сделать никакого заключения.
Если же одно из них отрицательное, то, поскольку заключение также является отрицательным (по предыдущему правилу), в посылках должно быть по крайней мере два общих термина (согласно 2-му королларию). Следовательно, среди этих двух посылок должно быть общее предложение, поскольку в двух предложениях, в которых должно быть два общих термина, невозможно расположить три термина так, чтобы не сделать или два атрибута отрицательными, что противоречило бы 3-му правилу, или один из субъектов общим, что делает предложение общим.
Глава IV
О ФИГУРАХ И МОДУСАХ СИЛЛОГИЗМОВ В ОБЩЕМ.
О ТОМ, ЧТО СИЛЛОГИЗМ МОЖЕТ ИМЕТЬ
ТОЛЬКО ЧЕТЫРЕ ФИГУРЫ
После установления общих правил, которые необходимо соблюдать в отношении всех простых силлогизмов, остается рассмотреть, сколько может быть видов таких силлогизмов.
В общем можно сказать, что есть столько видов простых силлогизмов, сколькими способами мы можем расположить, соблюдая эти правила, три предложения силлогизма и три термина, из которых они составлены.
Расположение трех предложений с точки зрения четырех отличительных признаков — А, Е, I, О называется модусом.
Расположение трех терминов, т. е. среднего и двух терминов заключения, называется фигурой.
Можно подсчитать, сколько будет заключающих модусов, не рассматривая различных фигур, соответственно которым один и тот же модус может образовывать различные силлогизмы. По теории сочетаний, 4 термина (А, Е, I, О), взятые по три, могут,. быть по-разному расположены только 64 способами. Но те, кто потрудится рассмотреть их по отдельности, найдут, что из этих 64 различных способов
28 исключаются по 3-му и 6-му правилам, согласно которым из двух отрицательных и из двух частных посылок нельзя вывести никакого заключения,
18 — по 5-му, согласно которому заключение соответствует наиболее слабой части,
6 — по 4-му, согласно которому нельзя сделать отрицательное заключение из двух утвердительных посылок,
1, а именно ТЕО, — по 3-му королларию общих правил,
1, а именно АЕО, — по 6-му королларию общих правил.
В совокупности это составляет 54 модуса. И следовательно, остается только десять заключающих модусов:
ААА
4 утв [ердительных]
АП AAI
6 отрицательных]
IAI
[ЕАЕ АЕЕ ЕАО АОО ОАО ЕЮ
Но это не значит, что существует только десять видов силлогизмов, каждый из этих модусов, в свою очередь, может образовывать различные виды силлогизмов, так как есть еще один признак, полагающий различия между силлогизмами, а именно различное расположение трех терминов, называемое, как мы уже сказали, фигурой.
Что касается расположения трех терминов, то оно имеет отношение только к двум первым предложениям, потому что заключение предполагается до того, как построен силлогизм, чтобы его доказать. И таким образом, поскольку средний термин можно расположить относительно двух терминов заключения лишь четырьмя различными способами, есть только четыре возможных фигуры.
Либо средний термин является субъектом в большей посылке и атрибутом в меньшей, что составляет первую фигуру.
Либо, он является атрибутом и в большей, и в меньшей посылке, что составляет вторую фигуру.
Либо он является субъектом и в той и в другой посылке, что составляет третью фигуру.
Либо, наконец, он является атрибутом в большей посылке и субъектом в меньшей, что составляет четвертую фигуру, ибо несомненно, что иногда можно с необходимостью заключать таким образом, а этого достаточно, чтобы построить истинный силлогизм. Примеры будут приведены ниже.
Однако ввиду того, что умозаключение по четвертому способу не естественно и ум к нему не склонен, Аристотель и его последователи не дали этому способу умозаключения название фигуры. Гален утверждал обратное 10, и ясно, что это всего только спор о словах, для разрешения которого те и другие должны сказать, что они подразумевают под словом «фигура».
Но, безусловно, ошибаются те, кто, обвиняя Аристотеля в том, что он не признавал четвертую фигуру, при-нимает за эту фигуру доказательства первой, когда большая и меньшая посылки в ней переставлены, как, например, когда говорят: Всякое тело делимо; все, что делимо, несовершенно; следовательно, всякое тело несовершенно. Меня удивляет, что господин Гассенди допустил такую ошибку11. Ибо смешно принимать за большую посылку силлогизма предложение, которое стоит первым, а за меньшую — то, которое стоит вторым: если бы это было так, мы часто должны были бы принимать за большую или за меньшую посылку доказательства само заключение, поскольку оно нередко бывает первым или вторым из трех предложений, составляющих доказательство. Так, например, в следующих стихах Горация заключением является первое предложение, меньшей посылкой — второе, а большей — третье.
Qui melior servo, qui liberior sit avarus, In triviis fixum cum se dimittit ad assem Non video: nam qui cupiet, metuet quoque; porro Qui metuens vivit, liber mihi non crit unquam 12<
Ибо все это сводится к такому доказательству:
Тот, кто постоянно испытывает опасения, не свободен. Всякий скупой постоянно испытывает опасения. Следовательно, ни один скупой не свободен.
Итак, надо принимать во внимание не просто место предложений, которое, по существу, ничего не меняет, — силлогизмами первой фигуры следует считать все те, в которых средний термин служит субъектом в том предложении, где содержится больший термин (т. е. атрибут заключения), и атрибутом — в том, где содержится меньший термин (т. е. субъект заключения). И таким образом, для четвертой фигуры остаются только те силлогизмы, в которых среднее, наоборот, служит атрибутом в большей посылке и субъектом в меньшей. Мы даем им такое название, и никто не может против этого возражать, поскольку мы заранее предупреждаем, что под термином «фигура» мы понимаем лишь различное расположение терминов.
Глава V
ПРАВИЛА, МОДУСЫ И ОСНОВАНИЕ ПЕРВОЙ ФИГУРЫ
Итак, первая фигура — та, в которой средний термин является субъектом в большей посылке и атрибутом в меньшей.
У этой фигуры только два правила.
Правило первое
Надо, чтобы меньшая посылка была утвердительной.
Если бы она была отрицательной, то большая посылка была бы, по 3-му общему правилу, утвердительной, а заключение, по 5-му, — отрицательным. Следовательно, больший термин был бы взят как общий в заключении, потому что оно было бы отрицательным, и как частный — в большей посылке, потому что в первой фигуре он служит ее атрибутом, а она была бы утвердительной; но это противоречило бы 2-му правилу, которое запрещает заключать от частного к общему. Это соображение относится и к третьей фигуре, в которой больший термин также является в большей посылке атрибутом.
Правило второе
Большая посылка должна быть общей.
Действительно, по предыдущему правилу меньшая посылка — утвердительная, и поэтому средний термин, являющийся в ней атрибутом, берется здесь как частный. Следовательно, он должен быть общим в большей посылке, в которой он является субъектом, что делает ее общей, — иначе он был бы дважды взят как частный, а это противоречило бы первому общему правилу.
Доказательство того, что у первой фигуры может быть только четыре модуса
В предыдущей главе мы показали, что может быть только десять заключающих модусов. Но из этих десяти модусов ЛЕЕ и ЛОО исключаются по 1-му правилу рассматриваемой фигуры, согласно которому меныпая посылка должна быть утвердительной.
IAI и ОАО исключаются по 2-му, согласно которому большая посылка должна быть общей.
AAI и ЕАО исключаются по 6-му королларию общих правил. Ибо в силу того, что меньший термин является в меньшей посылке субъектом, она не может быть общей, так чтобы не могло быть общим также и заключение.
И таким образом, остается только четыре следующих модуса:
2 утвердительных] 2 отрицательных]
Что и требовалось доказать.
Чтобы легче было запомнить эти четыре модуса, их приводят в виде искусственных слов, в которых три слога обозначают три предложения, а гласная в каждом слоге указывает, каким должно быть данное предложение. Эти слова очень удобны для школьного преподавания том, что при помощи одпого-едипствепного слова яспо обозначают определенный вид силлогизма; иначе для того, чтобы сказать что-либо о каком-то виде силлогизма, его пришлось бы долго описывать.
BAR- Всякий, кто оставляет умирать с голоду тех, кого он должен накормить, — убийца.
В А- Все богатые, которые не жертвуют на обществен-
ные нужды, оставляют умирать с голоду тех, кого они должны накормить.
RA. Следовательно, они убийцы.
СЕ- Ни один нераскаявшийся вор не должен надеяться на спасение.
LA- Все те, которые обогатились церковным имуществом и умерли, не вернув его, — нераскаявшиеся воры.
RENT. Следовательно, ни один из них не должен надеяться на спасение.
DA- Все, что служит во спасение, полезно RI- Некоторые скорби служат во спасение I, Следовательно, есть скорби, которые полезны. FE- Не должно желать того, что вызывает справедливое раскаяние,
RI- Есть удовольствия, которые вызывают справедливое раскаяние.
О. Следовательно, есть удовольствия, которых не должно желать.
Основание первой фигуры
Поскольку в этой фигуре больший термин утверждается либо отрицается отнооительно среднего, взятого общим, а средний термин утверждается затем в меньшей посылке относительно меньшего термина, или субъекта заключения, ясно, что она основана на следующих двух принципах, из которых один действует в отношении утвердительных модусов, а другой — в отношении отрицательных.
Принцип утвердительных модусов
То, что подходит к идее, взятой в качестве общей, подходит и ко всему, относительно чего эта идея утверждается, или что служит субъектом этой идеи, или, что содержится в ее объеме, так как эти выражения — синонимы.
Например, идея животного, которая подходит ко всем людям, подходит и ко всем эфпопам. Этот принцип достаточно разъяснен в главе, где мы трактовали о природе утвердительных предложений 14, так что в дальнейшем разъяснении его нет необходимости. Достаточно будет сказать, что в школьной логике его обычно выражают следующим образом: Quod convenit consequent!, convenit antecedent!15 и что под словом «консеквент» понимают общую идею, которая утверждается относительно другой, а под словом «антецедент» — субъект, относительно которого она утверждается, потому что в действительности атрибут выводится как следствие субъекта: «Если он человек, он есть животное».
Принцип отрицательных модусов
То, что отрицается относительно идеи, взятой в качестве общей, отрицается относительно всего того, о чем утверждается эта идея.
Дерево отрицается относительно всех животных — следовательно, и относительно всех людей, потому что они суть животные. В школьной логике это выражают так: Quod negatur de consequent!, negatur de anteceden-ti16. To, что мы сказали, когда рассматривали отрицательные предложения, избавляет нас от необходимости говорить об этом подробнее.
Надо заметить, что только первая фигура дает заключение любого рода: А, Е, I, О. И только она одна дает в заключении А. В самом деле, для того чтобы заключение было общеутвердптельным, надо, чтобы меньший термин был взят в меньшей посылке как общий и, следовательно, чтобы он был ее субъектом, а средний термин — атрибутом, откуда явствует, что средний термин берется в ней как частный. Таким образом, надо, чтобы в большей посылке он был взят как общий (по 1-му общему правилу) и, следовательно, чтобы он был ее субъектом. Но первая фигура в том и состоит, что средний термин в ней служит субъектом в большей посылке и атрибутом в меньшей.
Глава VI
ПРАВИЛА, МОДУСЫ И ОСНОВАНИЕ ВТОРОЙ ФИГУРЫ
Вторая фигура — та, в которой средний термин дважды служит атрибутом. А отсюда следует, что для того, чтобы она заключала с необходимостью, нужно соблюдать следующие два правила.
Правило первое
Надо, чтобы одно из двух первых предложений было отрицательным и, следовательно, чтобы заключение также было отрицательным, по 6-му общему правилу.
Если бы они оба были утвердительными, то средний термин, который всегда является атрибутом, был бы дважды взят как частный, что противоречило бы 1-му общему правилу.
Правило второе
Надо, чтобы большая посылка была общей.
Ибо в силу того, что заключение отрицательное, больший термин, или атрибут, берется как общий. Но этот же термин служит субъектом большей посылки. Следовательно, он должен быть общим, а значит, общей должна быть и большая посылка.
196 третья часть
Доказательство того, что у второй фигуры может быть только четыре модуса
Из десяти заключающих модусов четыре утвердительных исключаются по 1-му правилу этой фигуры, согласно которому одна из посылок должна быть отрицательной.
ОАО исключается по 2-му правилу, согласно которому большая посылка должна быть общей.
ЕАО исключается по той же причине, что и в первой фигуре, потому что во второй фигуре меньший термин также является в меньшей посылке субъектом.
Итак, из десяти модусов остается только четыре следующих:
2 общ [их] 2 част[ных]
Что и требовалось доказать.
Эти четыре модуса обозначили следующими искусственными словами:
СЕ- Ни один лжец не заслуживает доверия.
SA- Всякий добропорядочный человек заслуживает доверия.
RE. Следовательно, ни один добропорядочный человек не лжец.
СА- Все те, которые Христовы, распинают свою плоть 17.
MES- Все те, кто проводит жизнь в неге и сладострастии, не распинают своей плоти.
TRES. Следовательно, ни один из них не Христов.
FES- Ни одна добродетель не противна любви к истине.
TI- Существует любовь к покою, противная любви к истине.
NO. Следовательно, существует любовь к покою, которая не является добродетелью.
ВА- Всякой добродетели сопутствует скромность,
RO- Бывает рвение без скромности.
СО. Следовательно, бывает рвение, которое не является добродетелью.
Основание второй фигуры
Нетрудно было бы окольным путем свести все эти различные виды доказательств к одному и тому же принципу; по полезнее свести два из них к одному принципу и два — к другому, так как зависимость их от этих принципов и связь с ними более ясна и -более непосредственна.
1. Принцип доказательств по Cesare и Festino
Первый из этих принципов — тот, который служит основанием также и для отрицательных доказательств первой фигуры, а именно: То, что отрицается относительно общей идеи, отрицается также относительно всего того, о чем эта идея утверждается, т. е. относительно всех субъектов этой идеи. Ибо очевидно, что доказательства по Cesare и Festino основаны на этом принципе. Чтобы показать, к примеру, что ни один добропорядочный человек не лжец, я утверждал атрибут «заслуживающий доверия» относительно всякого добропорядочного человека и отрицал атрибут «лжец» относительно всякого человека, заслуживающего доверия, говоря, что ни один лжец не заслуживает доверия. Правда, этот способ отрицания является непрямым, поскольку вместо того, чтобы отрицать атрибут «лжец» относительно человека, заслуживающего доверия, я отрицал атрибут «заслуживающий доверия» относительно лжеца. Но так как общеотрицательные предложения обращаются просто, то, отрицая атрибут относительно общего субъекта, этот общий субъект отрицают относительно атрибута.
Это показывает, однако, что доказательства по Cesare являются в некотором смысле непрямыми, поскольку то, что надлежит отрицать, отрицается в них лишь косвенно. Но раз это не мешает уму без всякого напряжения яспо понимать силу доказательства, их можно считать прямыми, разумея под этим словом доказательства ясные и естественные.
Это показывает также, что рассматриваемые два модуса — Cesare и Festino отличаются от двух модусов первой фигуры Celarent и Ferio только тем, что большая посылка в них перевернута. Но хотя можно сказать, что отрицательные модусы первой фигуры в большей мере являются прямыми, однако соответствующие им два модуса второй фигуры часто более естественны и ум более склонен лменно к ним. Например, в приведенном выше умозаключении, придерживаясь прямого порядка отрицания, следовало бы сказать: «Ни один человек, заслуживающий доверия, не лжец», что образовало бы доказательство в Celarent, однако для нашего ума естественнее выражать это так: «Ни один лжец не заслуживает доверия».
[2.J Принцип доказательств по Camestres и Вагосо
В этих двух модусах средний термин утверждается относительно атрибута заключения и отрицается относительно субъекта, из чего видно, что они основаны на следующем принципе: Все, что содержится в объеме общей идеи, не подходит ни к одному из субъектов, относительно которых она отрицается, поскольку атрибут отрицательного предложения берется во всем своем объеме, как это доказано во второй части.
«Истинный христианин» содержится в объеме «милосердного», ибо всякий истинный христианин милосерден; «милосердный» отрицается относительно безжалостного к бедным. Следовательно, «истинный христианин» отрицается относительно безжалостного к бедным. Это составляет такое доказательство:
Всякий истинный христианин милосерден.
Ни один человек, безжалостный к бедным, не милосерден.
Следовательно, ни один человек, безжалостный к бедным, не является истинным христианином.
Глава VII
ПРАВИЛА, МОДУСЫ И ОСНОВАНИЕ ТРЕТЬЕЙ ФИГУРЫ
В третьей фигуре средний термин дважды служит субъектом. Отсюда следует
Правило первое
Меньшая посылка в ней должна быть утвердительной.
Это мы уже доказали, обосновывая 1-е правило первой фигуры, потому что и в той и в другой фигуре атрибут заключения служит атрибутом также и в большей посылке.
Правило второе
По третьей фигуре можно сделать только частное заключение.
Действительно, поскольку мепыпая посылка всегда утвердительная, меньший термин, который служит в ней атрибутом, является частным. Следовательно, он не может быть общим в заключении, где он служит субъектом, так как это означало бы заключать общее из частного, что противоречило бы 2-му общему правилу.
Доказательство того, что у третьей фигуры может быть только шесть модусов
Из десяти заключающих модусов ЛЕЕ и А00 исключаются по 1-му правилу этой фигуры, согласно которому меньшая посылка не может быть отрицательной.
АЛА и ЕАЕ исключаются по 2-му правилу, согласно которому заключение в ней не может быть общим.
Итак, остается только шесть следующих модусов:
(ЛЛ1
3 утв [ердительных]
АП 1AI
3 отр [тщательных]
ЕЛО
ЕЮ
ОАО
Что и требовалось доказать.
Эти модусы приводят в виде следующих шести искусственных слов, хотя их и располагают в другом порядке:
DA- Бесконечная делимость материи непостижима.
RA- Бесконечная делимость материи не подлежит
сомнению.
PTL Следовательно, есть не подлежащие сомнению истины, которые непостижимы.
FE- ни один человек не может уйти от самого себя.
LA- Всякий человек — враг самому себе.
PTON. Следовательно, есть враги, от которых не уйти.
DI- Есть злые люди, обладающие огромным состоянием.
SA- MIS. Все злые люди несчастны. Следовательно, есть несчастные, обладающие огромным состоянием.
DA-TI-SI. Всякий служитель Божий есть царь. Есть служители Божии, которые бедны. Следовательно, есть бедные, которые суть цари.
BOCARDO. Есть гнев, который не предосудителен. Всякий гнев — страсть. Следовательно, есть страсти, которые не предосудительны.
FE- RI- Никакая глупость не красноречива. Есть глупости, выраженные посредством фигур.
SON. Следовательно, есть фигуры, которые не красноречивы. Основание третьей фигуры
Так как два термина заключения в двух посылках отнесены к одному и тому же термину, который служит средним, то утвердительные модусы этой фигуры можно свести к следующему принципу.
Принцип утвердительных модусов
Когда два термина могут утверждаться относительно одной и той же вещи, они могут также утверждаться один относительно другого, взятого частным.
Действительно, так как они соединены в этой вещи, — поскольку они к ней подходят, — отсюда следует, что они иногда соединены и, значит, можно утверждать один относительно части объема другого (particuliere-ment). Ио для того чтобы мы могли быть уверенными, что эти два термина утверждаются относительно одной и той же вещи, а именно относительно среднего термина, надо, чтобы средний термин хотя бы один раз был взят как общий; ведь если бы он был дважды взят как частный, то это могли бы быть две разные части общего термина, которые не были бы одной и той же вещью.
Принцип отрицательных модусов
Когда из двух терминов один можно отрицать, а другой утверждать относительно одной и той же вещи, можно отрицать один относительно части объема другого.
Ибо несомненно, что они не всегда соединены друг с другом, раз они не соединены в этой вещи. Следовательно, иногда их можно отрицать один относительно другого, т. е. можно отрицать один относительно другого, взятого частным. Но по той же причине для того, чтобы это была одна и та же вещь, надо, чтобы средний термин хотя бы один раз был взят как общий.
Глава VIII
О МОДУСАХ ЧЕТВЕРТОЙ ФИГУРЫ
Четвертая фигура — та, в которой средний термин является атрибутом в большей посылке и субъектом в меньшей. Она столь неестественна, что давать ее правила нет необходимости. Но мы их все же приведем, чтобы показать все простые способы умозаключения.
Правило первое
Когда большая посылка утвердительная, меньшая всегда общая.
Ибо средний термин в утвердительной большей посылке берется как частный, потому что он служит в ней атрибутом. Следовательно, надо, чтобы он был взят как общий в меньшей посылке (по 1-му общему правилу), и, таким образом, меньшая посылка должна быть общей, потому что он является в ней субъектом,
Правило второе
Когда меньшая посылка утвердительная, заключение всегда частное.
Ибо меньший термин служит в меньшей посылке атрибутом, и, таким образом, когда она утвердительная, он берется в ней как частный. Отсюда следует (по 2-му общему правилу), что он должен быть частным также и в заключении, что делает заключение частным, поскольку этот термин является в нем субъектом.
Правило третье
В отрицательных модусах большая посылка должна быть общей.
Действительно, так как заключение отрицательное, больший термин в нем взят как общий. Следовательно, надо, чтобы он был взят как общий и в посылках (по 2-му общему правилу). Но он является субъектом большей посылки, так ясе как и во второй фигуре, и, следовательно, как и во второй фигуре, будучи взят общим, он должен делать большую посылку общей.
Доказательство того, что у четвертой фигуры может быть только пять модусов
Из десяти заключающих модусов АП и ЛОО исключаются по 1-му правилу.
ААА и ЕАЕ исключаются по 2-му,
ОАО — по 3-му,
Итак, остается только пять следующих модусов:
ЛЕЕ
ЕЛО
ЕЮ
2 утвердительных] 3 отр[ицательпых]
Эти пять модусов можно заключить в следующие искусственные слова 18:
J3AR- Все чудеса природы естественны.
ВА- Все, что естественно, нас не поражает.
RI. Следовательно, есть вещи, которые нас не поражают и которые являются чудесами природы.
СА- Всякое зло этой жизни есть зло преходящее. LEN- Никакого преходящего зла не должно бояться.
TES. Следовательно, никакое зло, которого должно бояться, не есть зло этой жизни.
DI- Есть безумцы, говорящие истину.
ВА- Всякий, кто говорит истину, заслуживает
того, чтобы к нему прислушивались.
TIS. Следовательно, есть люди, которые заслуживают того, чтобы к ним прислушивались, и которые тем не менее безумны.
FES- Ни одна добродетель не есть прирожденное свойство,
РА- Всякое прирожденное свойство дается Богом. МО. Следовательно, есть свойства, которые даются Богом и которые не являются добродетелями.
FRE- Ни один несчастный не доволен.
SI- Есть довольные люди, которые бедны.
SOM. Следовательно, есть бедные, которые не являются несчастными.
Надо заметить, что эти пять модусов обычно обозначают так: Baralipton, Celantes, Dabitis, Fapesmo, Fri-sesomorum. Это связано с тем, что у Аристотеля они не составляли отдельной фигуры и их рассматривали как непрямые модусы первой фигуры, ибо утверждали, что заключение в них перевернуто и подлинным субъектом его является атрибут. Поэтому те, кто разделял это мнение, поставили первым предложением то, в которое входит субъект заключения, а меньшим — то, в которое входит атрибут.
И таким образом, они наделили первую фигуру девятью модусами — четырьмя прямыми и пятью непрямыми, которые они заключили в следующие два стиха:
Barbara, Celarent, Darii, Ferio, Baralipton,
Celantes, Dabitis, Fapesmo, Frisesomorum.
А для двух других фигур —
Cesare, Camestres, Festino, Baroco, Darapti,
Felapton, Disamis, Datisi, Bocardo, Ferison 19.
Но так как заключение всегда предполагается, поскольку это то, что хотят доказать, в сущности, нельзя сказать, что опо когда-либо перевертывается, и поэтому мы решили, что целесообразнее всегда принимать за большее то предложение, в которое входит атрибут заключения. Вот почему, чтобы поставить большую посылку первой, нам пришлось перевернуть эти искусственные слова. Для лучшего запоминания их можно заключить в следующий стих:
Barbari, Calentes, Dibatis, Fespamo, Fresisom20.
Краткое повторение
Различные виды силлогизмов
Из всего сказанного можно сделать заключение, что есть 19 видов силлогизмов, которые можно делить различным образом.
4. В соответствии с различными фигурами подразделяя их на модусы, что мы уже сделали при разъяснении каждой фигуры.
5. Или, наоборот, в соответствии с модусами подразделяя их на фигуры; при этом также выявится 19 видов силлогизмов, потому что есть три модуса, каждый из которых заключает только по одной фигуре, шесть, каждый из которых заключает по двум фигурам, и один, который заключает по всем четырем21.
Глава IX
О СОСТАВНЫХ СИЛЛОГИЗМАХ;
О ТОМ, КАК ИХ МОЖНО СВЕСТИ К ОБЫЧНЫМ СИЛЛОГИЗМАМ
И СУДИТЬ О НИХ НА ОСНОВЕ ТЕХ ЖЕ ПРАВИЛ
Надо признать, что если есть люди, которым логика полезна, то есть и много таких, кому она вредна. Надо признать, далее, что никому она не вредит больше, нежели тем, которые больше всех хвалятся своими логическими познаниями, желая выдать себя за хороших логиков. Ведь само это желание служит признаком недалекого и поверхностного ума, и поэтому часто бывает, что, сообразуясь скорее с внешней формой правил, нежели со здравым смыслом, составляющим их суть, подобные люди, недолго думая, отвергают как неверные совершенно правильные умозаключения: у них недостает света [разума] для того, чтобы согласовать эти умозаключения с правилами, которые только вводят их в заблуждение, так как они для них не вполне понятны.
Чтобы избежать такой ошибки, отдающей столь недостойным добропорядочного человека педантизмом, мы должны определять основательность умозаключения не по формальным признакам, а скорее руководствуясь естественным светом [разума]. Один из способов достичь в этом успеха, когда мы находим в умозаключении какую-либо трудность, состоит в том, чтобы построить другие умозаключения подобного рода относительно различных предметов; и когда нам ясно, что с точки зрения здравого смысла это умозаключение правильно, и в то же время мы находим, что оно содержит нечто такое, что кажется не согласующимся с правилами, то скорее следует думать, что мы попросту в нем не разобрались, нежели полагать, что оно действительно противно правилам.
Но труднее всего вынести верное суждение и легче всего ошибиться в отношении тех умозаключений, которые, как мы уже сказали, можно назвать составными22, не просто потому, что в них есть составные предложения, а потому, что термины заключения, будучи сложными, не берутся целиком в каждой из посылок, чтобы быть соединенными со средним термином, а берется только часть одного из терминов. Например:
Солнце есть бесчувственная вещь.
Персы поклонялись Солнцу.
Следовательно, персы поклонялись бесчувственной вещи. Здесь видно, что, поскольку атрибут заключения — поклонялись бесчувственной вещи, в большую посылку полагают лишь часть его, а именно термин бесчувственная вещь, а слово поклонялись полагают в меньшую посылку.
В отношении силлогизмов этого рода мы, во-первых, покажем, как их можно свести к несоставным силлогизмам, о которых мы говорили до сих пор, и судить о них на основе тех же правил.
Во-вторых, мы покажем, что можно установить более общие правила, чтобы сразу судить об истинности или ложности составных силлогизмов, не прибегая ни к какому сведению.
Несмотря на то что логике придают, быть может, гораздо большее значение, чем следовало бы, и даже утверждают, что она совершенно необходима для приобретения знаний, ее, как это ни странно, излагают столь небрежно, что почти ничего не говорят о том, что может иметь какое-то применение. Ведь обычно в логике даются только правила простых силлогизмов, и почти все силлогизмы такого рода, приводимые в качестве примеров, построены из несоставных предложений, настолько ясных, что никому и в голову не приходит всерьез включать их в какое-либо рассуждение. В самом деле, слыхано ли, чтобы кто-нибудь строил такие силлогизмы: «Всякий человек есть животное; Петр — человек; следовательно, Петр есть животное»?
А вот о том; как применять правила силлогизмов к доказательствам с составными предложениями, авторы руководств по логике обычно не задумываются. Между тем это часто вызывает трудности, и есть много подобных доказательств, которые кажутся неправильными и, однако же, несомненно правильны, причем такие доказательства встречаются гораздо чаще совершенно простых силлогизмов. Это легче будет показать на примерах, нежели с помощью правил.
Первый пример
Мы сказали, что все предложения, образованные глаголами действительного залога, в некотором смысле являются составными23. Из таких предложений часто строят доказательства, форму и основательность которых трудно определить. Возьмем доказательство, уже приводившееся нами в качестве примера.
Божественный закон повелевает почитать царей.
Людовик XV — царь.
Следовательно, божественный закон повелевает почитать Людовика XV.
Некоторые не очень понятливые люди сочли силлогизмы этого рода ошибочными. Подобные силлогизмы, говорили они, относятся ко второй фигуре и состоят из одних утвердительных предложений, что представляет собой существенный недостаток. Но тем самым они показали, что обращаются скорее к букве и к внешней форме правил, нежели к свету разума, с помощью которого эти правила были найдены. Ибо приведенное нами доказательство является истинным и заключающим (concluant), так что если бы оно противоречило правилу, это было бы свидетельством ложности правила, а не ошибочности доказательства.
Итак, я говорю, во-первых, что это доказательство правильно. Ибо в предложении Божественный закон повелевает почитать царей слово цари берется как общее для всех отдельных царей и, следовательно, Людовик XV принадлежит к числу тех, кого божественный закон повелевает почитать.
Я говорю, во-вторых, что средний термин царь в предложении Божественный закон повелевает почитать царей не является атрибутом. Правда, он соединен с атрибутом повелевает, но это другое дело; ибо то, что действительно служит атрибутом, утверждается [о вещи] и подходит [к ней], а царь отнюдь не утверждается и никоим образОлМ не подходит к божественному закону. Кроме того, атрибут ограничен субъектом. Но слово царь в предложении Божественный закон повелевает почитать царей не ограничено, поскольку оно берется как общее.
Если же меня спросят, чем же оно является, ответить на этот вопрос не составит труда: оно является субъектом другого предложения, в свернутом виде содержащегося в рассматриваемом. Ибо, когда я говорю, что божественный закон повелевает почитать царей, я отношу почитание к царям точно так же, как действие «повелевать» — к закону. Ведь это то же самое, как если бы я сказал: Божественный закон повелевает, чтобы цари были почитаемы.
Равным образом в заключении Божественный закон повелевает почитать Людовика XV термин «Людовик XV» не атрибут, хотя он и соединен с атрибутом; наоборот, он служит субъектом свернутого предложения. Ибо это то же самое, как если бы я сказал: Божественный закон повелевает, чтобы Людовик XV был почитаем.
Итак, эти предложения развертываются следующим образом:
Божественный закон повелевает, чтобы цари были почитаемы.
Людовик XV — царь.
Следовательно, божественный закон повелевает, чтобы Людовик XV был почитаем.
Ясно, что все доказательство состоит в следующих предложениях:
Цари должны быть почитаемы.
Людовик XV — царь.
Следовательно, Людовик XV должен быть почитаем.
Предложение Божественный закон повелевает, кажущееся главным, является в этом доказательстве только придаточным предложением, присоединенным к утверждению, которое обосновывается божественным законом.
Ясно также, что это доказательство по первой фигуре в модусе Barbara, поскольку единичные термины, такие, как «Людовик XV», принимаются за общие, ибо, как мы уже отмечали, они берутся во всем своем объеме.
Второй пример
По той же причине следующее доказательство, которое кажется относящимся ко второй фигуре и согласующимся с правилами этой фигуры, не имеет никакой силы:
Мы должны верить Писанию.
Предание не есть Писание.
Следовательно, мы не должны верить Преданию.
Ибо оно должно быть приведено к первой фигуре, как если бы было сказано:
Писание есть то, чему должно верить.
Предание не есть Писание.
Следовательно, Предание не есть то, чему должно верить.
А по первой фигуре из отрицательной меньшей посылки нельзя вывести никакого заключения.
Третий пример
Есть и другие доказательства, в которых заключение, казалось бы, выводится по второй фигуре из одних утвердительных предложений и которые тем не менее совершенно правильны. Например:
Всякий добрый пастырь готов отдать жизнь за свою паству.
В наше время мало таких пастырей, которые были бы готовы отдать жизнь за свою паству.
Следовательно, в наше время мало добрых пастырей.
Это умозаключение правильно в силу того, что здесь только по видимости заключают утвердительно. Ибо меньшая посылка — выделительное предложение, которое по смыслу содержит в себе следующее отрицательное: Многие пастыри в наше время не готовы отдать жизнь за свою паству. И заключение также сводится к отрицательному предложению: Многие из пастырей в наше время не являются добрыми пастырями.
Четвертый пример
Вот еще одно доказательство, которое относится к первой фигуре и, казалось бы, имеет отрицательную меньшую посылку, но тем не менее является совершенно правильным.
Все те, кого нельзя лишить того, что они любят, недосягаемы для своих врагов.
Когда человек любит одного только Бога, его нельзя лишить того, что он любит.
Следовательно, все те, кто любит одного только Бога, недосягаемы для своих врагов.
Это доказательство совершенно правильно потому, что меньшая посылка только по видимости отрицательная, а на самом деле утвердительная.
Ибо субъект большей посылки, который должен быть атрибутом в меньшей посылке, — не те, кого можно лишить того, что они любят, а наоборот, те, кого нельзя этого лишить. И утверждается это относительно тех, кто любит одного только Бога, так что смысл меньшей посылки следующий:
Все те, кто любит одного только Бога, принадлежат к числу тех, кого нельзя лишить того, что они любят, что очевидно является утвердительным предложением.
Пятый пример
Это бывает еще тогда, когда большая посылка — вы делительное предложение, как в таком примере;
Только друзья Божии счастливы.
Есть богатые, которые не являются друзьями Божиими.
Следовательно, есть богатые, которые не счастливы. Ибо частица только делает первое предложение таких силлогизмов равнозначными двум следующим: Друзья Божии счастливы и Все другие люди, которые не являются друзьями Божиими, не счастливы.
И поскольку сила данного умозаключения зависит от этого второго предложения, меньшая посылка, казавшаяся отрицательной, становится утвердительной, потому что субъект большей посылки, который должен быть атрибутом в меньшей посылке, не друзья Божии, а те, которые не являются друзьями Божиими, и все доказательство надо понимать так:
Все те, которые не являются друзьями Божиими, не счастливы.
Есть богатые, принадлежащие к числу тех, которые не являются друзьями Божиими.
Следовательно, есть богатые, которые не счастливы.
Но выражать меньшую посылку подобным образом нет необходимости. Ее оставляют по видимости отрицательной потому, что одно и то же — сказать в отрицательной форме, что человек не есть друг Божий, и сказать в утвердительной форме, что он есть не друг Божий, т. е. принадлежит к числу тех, которые не являются друзьями Божиими.
Шестой пример
Есть много доказательств подобного рода, в которых все предложения кажутся отрицательными и которые тем не менее являются вполне правильными, потому что одно предложение в них — отрицательное лишь по видимости, а на самом деле утвердительное, как мы только что показали и как будет видно также из следующего примера:
То, что не имеет частей, не может уничтожиться через разложение своих частей.
Наша душа не имеет частей.
Следовательно, наша душа не может уничтожиться через разложение своих частей.
Некоторые приводят силлогизмы такого рода, чтобы показать, что не следует утверждать, будто логическая аксиома Из одних отрицательных посылок нельзя вывести никакого заключения является безоговорочной истиной. Но они не принимают во внимание, что по смыслу меньшая посылка этого силлогизма и ему подобных утвердительная. Действительно, средний термин, который служит субъектом большей посылки, в меньшей посылке является атрибутом. Но субъект большей посылки не то, что имеет части, а то, что не имеет частей. И таким образом, смысл меньшей посылки следующий: Наша душа есть нечто, не имеющее частей, что пред, ставляет собой утвердительное предложение с отрицательным атрибутом.
Эти эд;е самые логики утверждают, что отрицательные доказательства иногда бывают заключающими, ссылаясь на такие примеры: Жан не обладает разумом; следовательно, он не человек. Ни одно животное не обладает зрением; следовательно, человек не обладает зрением. Но они должны были бы учесть, что эти примеры — лишь энтимемы и что всякая энтимема заключает только в силу подразумеваемого предложения, которое, следовательно, должно быть в уме, хотя оно и не выражено. Так вот, в каждом из этих примеров подразумеваемое предложение необходимо является утвердительным. В первом — Всякий человек обладает разумом; Жан не обладает разумом; следовательно, Жан не человек. Во втором — Всякий человек есть животное; ни одно животное не обладает зрением; следовательно, ни один человек не обладает зрением. Итак, нельзя сказать, что это силлогизмы из одних отрицательных посылок. И следовательно, энтимемы, которые заключают только потому, что они содержат в себе подобные полные силлогизмы в уме того, кто их образует, не могут быть приведены в качестве примеров, показывающих, что доказательства из одних отрицательных посылок иногда бывают заключающими.
Глава X
ОБЩИЙ ПРИНЦИП, ИСХОДЯ ИЗ КОТОРОГО
БЕЗ ВСЯКОГО ПРИВЕДЕНИЯ К ФИГУРАМ И МОДУСАМ
МОЖНО СУДИТЬ О ПРАВИЛЬНОСТИ ИЛИ ОШИБОЧНОСТИ
ЛЮБОГО СИЛЛОГИЗМА
Мы показали, каким образом можно судпть о том, являются ли составные доказательства заключающими или ложными: для этого их надо привести к форме более простых доказательств, чтобы применить к ним обычные правила. Однако очевидно, что наш ум и без того способен вынести такое суждение. Это навело нас на мысль, что должны существовать более общие правила, лежащие в основе обычных правил и позволяющие нам еще легче распознать истинность или ложность силлогизмов любого рода. И вот к чему мы пришли.
Когда хотят доказать положение, истинность которого не очевидна, требуется, по нашему представлению, только одно: найти какое-нибудь более известное положение, подтверждающее это первое, — оно может быть названо содержащим предложением. Нотак как оно не может содержать первое предложение явно и в тех же самых терминах, поскольку в этом случае оно бы от него не отличалось и, следовательно, не делало бы его более ясным, необходимо еще одно предложение, показывающее, что то, которое мы назвали содержащим, действительно содержит то, которое хотят доказать. Это предложение может быть названо добавочным (applicative).
В утвердительных силлогизмах часто безразлично, какое из двух предложений называют содержащим, потому что оба они в некотором смысле содержат заключение и каждое из них служит для того, чтобы показывать, что другое его содержит.
Допустим, я не могу решить, несчастен ли порочный человек, и рассуждаю таким образом:
Всякий раб своих страстей несчастен.
Всякий порочный человек — раб своих страстей.
Следовательно, всякий порочный человек несчастен.
Какое бы предложение вы ни взяли, вы можете сказать, что опо содержит заключение и что другое предложение показывает это. Большая посылка содержит заключение, потому что раб своих страстей содержит в себе порочного, т. е. порочный заключен в его объеме и является одним из его субъектов, как это показывает меньшая посылка. Меньшая посылка также содержит заключение, потому что раб своих страстей содержит в своей идее идею несчастного, как это показывает большая посылка.
Тем не мепее, поскольку большая посылка почти всегда более общая, ее обычно рассматривают как содержащее предложение, а меньшую — как добавочное.
Что касается отрицательных силлогизмов, то, поскольку в них есть только одно отрицательное предложение и отрицание заключено лишь в самом отрицании, нам представляется, что всегда должно принимать отрицательное предложение за содержащее, а утвердительное — только за добавочное, все равно, является ли отрицательное предложение большей посылкой, как в Сеlarent, Ferio, Cesare, Festino, или же меньшей, как в Camestrcs и Вагосо.
Ибо если я привожу следующее доказательство того, что ни один скупой не счастлив:
Всякий счастливый человек доволен.
Ни один скупой не доволен.
Следовательно, ни один скупой не счастлив, — то естественнее сказать, что меньшая посылка, которая является отрицательной, содержит заключение, также являющееся отрицательным, а большая посылка показывает, что она его содержит; ибо эта меньшая посылка — ни один скупой не доволен, полностью отделяя довольного от скупого, отделяет от пего также и счастливого, так как, согласно большей посылке, счастливый целиком заключен в объеме довольного.
Нетрудно убедиться, что все изложенные нами правила служат только для того, чтобы показывать, что заключение содержится в одйом из первых предложений, а другое предложение делает это очевидным, и что доказательства ошибочны только тогда, когда это не соблюдается, и всегда правильны, когда это соблюдено. Ибо все эти правила сводятся к двум главным, которые лежат в основе других. Первое: Ии один термин не может быть в заключении более общим, чем в посылках. А это очевидно зависит от того общего принципа, что посылки должны содержать заключение, Заключение не могло бы содержаться в посылках, если бы термин, встречающийся в посылках и в заключении, имел в посылках меньший объем, чем в заключении. Ибо менее общее не содержит более общего, некоторый человек не содержит всякого человека.
Второе общее правило следующее: Средний термин хотя бы один раз должен быть взят как общий. Это также вытекает из того принципа, что заключение должно содержаться в посылках. Предположим, нам надо доказать, что некоторый друг Божий беден, и мы воспользуемся для этого таким предложением: Некоторый святой беден, — мы можем удостовериться, утверждаю я, что это предложение содержит заключение, не иначе как только посредством другого предложения, в котором средний термин — святой будет взят как общий. Ибо очевидно, что для того, чтобы предложение Некоторый святой беден содержало заключение Некоторый друг Божий беден, необходимо и достаточно, чтобы термин некоторый святой содержал в себе термин некоторый друг Божий, поскольку другой термин у этих двух предложений общий. Но частный термин но имеет определенного объема, он безусловно содержит только то, что он заключает в своем содержании и в своей идее.
И следовательно, для того чтобы термин некоторый святой содержал в себе термин некоторый друг Божий, надо, чтобы друг Божий входил в содержание идеи святого.
А все, что входит в содержание идеи, может утверждаться о ней в общем; все, что заключено в содержании идеи треугольника, может утверждаться о всяком треугольнике; все, что заключено в идее человека, может утверждаться о всяком человеке. Следовательно, для того чтобы друг Божий был заключен в идее святого, надо, чтобы всякий святой был другом Божиим. Отсюда явствует, что заключение Некоторый друг Божий беден может содержаться в предложении Некоторый святой беден, в котором средний термин святой берется как частный, только в силу предложения, в которохм он был бы взят как общий, ибо оно должно показывать, что друг Божий входит в содержание идеи святого. Показать это можно, лишь утверждая термин друг Божий относительно термина святой, взятого общим: Бсякий святой есть друг Божий24. И следовательно, ни одна из посылок не содержала бы заключения, если бы средний термин, взятый как частный в одном из предложений, не был взят как общий в другом. Что и требовалось доказать.
Глава XI
ПРИМЕНЕНИЕ ЭТОГО ОБЩЕГО ПРИНЦИПА К НЕСКОЛЬКИМ СИЛЛОГИЗМАМ,
КОТОРЫЕ КАЖУТСЯ ЗАПУТАННЫМИ
Итак, зная из того, что было сказано во второй части, что такое объем и содержание терминов, благодаря чему мы можем судить о том, когда одно предложение содержит или не содержит другое, можно судить о правильности или ошибочности всякого силлогизма, не принимая в соображение, простой он или сложный, составной или несоставпой, и не обращая внимания ни на фигуры, ни на модусы, на основе одного только следующего общего принципа: Одно из двух предложений должно содержать заключение, а другое — показывать, что оно его содержит. Это будет понятнее из примеров.
Первый пример
Я сомневаюсь, правильно ли следующее умозаключение:
Долг христианина — не одобрять тех, кто совершает преступные действия.
Те, кто сражается на дуэли, совершают преступное действие.
Следовательно, долг христианина — не одобрять тех, кто сражается на дуэли.
Мне надо только дать себе труд выяснить, к какой фигуре или к какому модусу его можно привести. Но достаточно просто рассмотреть, содержится ли заключение в одном из первых предложений и показывает ли это другое предложение. И я сразу же нахожу, что первое предложение отличается от заключения только тем, что в нем есть те, кто совершает преступные действия, а в заключении — те, кто сражается на дуэли, и, значит, предложение, в котором есть термин совершать преступные действия, будет содержать предложение, в котором есть термин сражаться на дуэли, при условии, что термин совершать преступные действия содержит в себе термин сражаться на дуэли.
Но по смыслу видно, что термин те, кто совершает преступные действия берется как общий и что под ним понимаются все те, кто совершает такие действия, каковы бы эти действия ни были. И следовательно, меньшая посылка — Те, кто сражается на дуэли, совершают преступное действие, показывая, что термин сражаться на дуэли содержится в термине совершать преступные действия, показывает также, что первое предложение содержит заключение.
Второй пример
Я сомневаюсь в правильности такого умозаключения: Евангелие обещает спасение христианам.
Есть злые л}оди, являющиеся христианами.
Следовательно, Евангелие обещает спасение злым людям.
Чтобы вынести суждение об этом умозаключении, я должен только учесть, что большая посылка не может содержать заключение, если слово христианин не обозначает в ней вообще всех христиан, а не только некоторых христиан. Ведь если Евангелие обещает спасение только некоторым христианам, отсюда не следует, что оно обещает его злым людям, являющимся христианами, так как эти злые люди могут не входить в число тех христиан, которым Евангелие обещает спасение. Поэтому данное умозаключение правильно, но большая посылка ложна, если слово христианин обозначает в ней всех христиан, и неправильно, если это слово обозначает только некоторых христиан, ибо тогда первое предложение не содержит заключения.
Но чтобы узнать, должно ли это слово пониматься в общем смысле, следует применить другое правило, помещенное во второй части, а именно: Помимо фактов, все, о чем что-либо утверждается, понимается в общем смысле, когда оно выражено неопределенно25. Ибо, хотя те, кто совершает преступные действия в первом примере или христиане во втором составляют часть атрибута, они, однако, занимают место субъекта по отношению к другой части того же атрибута, так как они суть те, о ком утверждается, что их не должно одобрять или что им обещано спасение. И следовательно, не будучи ограниченными, они должны пониматься в общем смысле. Таким образом, и то и другое доказательство правильны по форме, но во втором большая посылка ложна, если под словом христианин не разумеют тех, кто живет по Евангелию, в каковом случае и меньшая посылка была бы ложной, потому что не существует злых людей, живущих по Евангелию
Третий пример
Благодаря тому же принципу легко усмотреть, что следующее умозаключение не имеет никакой силы:
Божественный закон повелевает подчиняться представителям светской власти.
Епископы не являются представителями светской власти.
Следовательно, божественный закон не повелевает подчиняться епископам.
Ни одно из первых двух предложений не содержит заключения, ибо из joro, что божественный закон повелевает одно, не следует, что он не повелевает другое. Меньшая посылка ясно показывает, что епископы не входят в объем термина представители светской власти и что повеление почитать представителей светской власти на епископов не распространяется. Но большая посылка не говорит, что, помимо этого, Бог не повелел ничего другого, как должно было бы быть, если бы она содержала заключение в силу меньшей посылки. Л нижеследующее заключение правильно.
Четвертый пример
Христианская вера обязывает слуг служить своим господам лишь в том, что не противоречит закону Божию.
Дурное дело противоречит закону Божию.
Следовательно, христианская вера не обязывает слуг служить своим господам в дурных делах.
Большая посылка содержит заключение, поскольку меньшая — Дурное дело... содержится в числе тех вещей, которые противоречат закону Божию, а большая, будучи выделительной, означает то же самое, как если бы сказали: Божественный закон не обязывает слуг служить своим господам во всем том, что ему противоречит.
Пятый пример
Исходя из одного этого принципа, можно легко разрешить следующий известный софизм:
Тот, кто говорит, что вы животное, говорит истину.
Тот, кто говорит, что вы гусенок, говорит, что вы животное.
Следовательно, тот, кто говорит, что вы гусенок, говорит истину.
В самом деле, достаточно сказать, что ни одно из двух первых предложений не содержит заключения. Если бы его содержала большая посылка, отличающаяся от заключения только тем, что в ней есть животное, а в заключении — гусенок, то термин животное содержал бы в себе термин гусенок. Но термин животное в большей посылке берется как частный, поскольку он является атрибутом утвердительного придаточного предложения вы животное, и, значит, он мог бы иметь гусенка только в своем содержании. Чтобы показать это, нужно было бы взять слово животное в меньшей посылке как общее, утверждая термин гусенок относительно всякого животного. Но этого сделать нельзя и этого не делают, потому что слово животное берется как частное также и в меньшей посылке, будучи, как и в большей посылке, атрибутом утвердительного придаточного предложения вы животное.
Шестой пример
Таким образом можно разрешить и древппй софизм, который приводит святой Августин:
Бы — не то, что я.
Я человек.
Следовательно, вы не человек.
Это доказательство по правилам фигур не имеет никакой силы, потому что оно относится к первой фигуре и первое предложение, являющееся меньшей посылкой, отрицательное. Но достаточно сказать, что заключение не содержится в первом из этих предложений и что второе предложение — Я человек не показывает, что оно в нем содержится. Действительно, поскольку заключение отрицательное, термин «человек» берется в нем как общий и, таким образом, он не содержится в термине я. Ведь тот, кто так говорит, — не всякий человек, а только некоторый человек, как это видно уже из одного того, что он говорит в добавочном предложении — Я человек, в котором термин «человек» ограничен до частного значения, потому что он является атрибутом утвердительного предложения. А общее не содержится в частном.
Глава XII
О СОПРЯГАТЕЛЬНЫХ СИЛЛОГИЗМАХ
Сопрягательпые силлогизмы — это не все те, в которых предложения являются сопрягательными, или сложными, а те, в которых большая посылка составлена таким образом, что она содержит все заключение. Их можно свести к трем родам: условные, разделительные и соединительные.
Условные (condifionnels) силлогизмы
Условные силлогизмы суть те, в которых большая посылка — условное предложение, содержащее все заключение, например:
Если Бог существует, его надо любить.
Бог существует.
Следовательно, его надо любить.
Большая посылка состоит из двух частей. Первая называется антецедентом: Если Бог существует, вторая — - консеквентом: его надо любить.
Условный силлогизм может быть двух видов, так как, исходя из одной и той же большей посылки, можно сделать два заключения.
Первый вид — тот, когда, утверждая в большей посылке консеквент, в меньшей утверждают антецедент, согласно такому правилу: Полагая антецедент, полагают консеквент
Если материя не может сама приводить себя в движение, то первоначальное движение должно быть сообщено ей Богом
Материя не может сама приводить себя в движение.
Следовательно, первоначальное движение должно быть сообщено ей Богом.
Второй вид — тот, когда исключают консеквепт, чтобы исключить антецедент, согласно правилу: Исключая консеквент, исключают антецедент29.
Если кто-нибудь из избранных погибает, то Бог совершает ошибки.
Но Бог никогда не совершает ошибок.
Следовательно, никто из избранных не погибает.
Это умозаключение святого Августина: Horum si quis-quam perit, fallitur Deus, sed nemo eorum perit quia non fallitur Deus30.
Условные доказательства бывают ложными двояким образом. Прежде всего, когда большая посылка — нелепое условное предложение, в котором вывод делается против правил, как, например, если бы я заключал общее из частного, говоря: «Если мы в чем-либо ошибаемся, то мы ошибаемся во всем».
Но такого рода ложь в большей посылке условных силлогизмов относится скорее к их материи, нежели к форме; поэтому они рассматриваются как ложные по форме только тогда, когда из большей посылки, истинной или ложной, разумной или нелепой, выводят неправильное заключение. Это делают двумя путями.
Во-первых, когда выводят антецедент из консеквента, например:
Если китайцы — магометане, то они неверные.
Они неверные.
Следовательно, они магометане.
Второй вид ложных условных силлогизмов — тот, когда из отрицания антецедента выводят отрицание консеквента, как в этом же примере:
Если китайцы — магометане, то они неверные.
Но они не магометане.
Следовательно, они не являются неверными.
Однако есть такие условные доказательства, которые, казалось бы, имеют этот второй недостаток и тем не менее являются совершенно правильными, потому что в большей посылке есть хотя и не выраженное, но подразумеваемое исключение. Вот пример. Когда Цицерон издал закон против тех, кто подкупал избирателей, Мурена был обвинен в этом преступлении. Цицерон, защищавший Мурену в суде, в ответ на упрек Катона, что он действует вопреки своему же закону, привел в свое оправдание такое доказательство: Etenim si largitionem factam esse confiterer, idque recte factum esse defenderem, facerem improbe, etiam si alius legem tulisset; cum vero nihil commissum contra legem esse defendam, quid est quod meam defensionem latio legis impediat?31 Это доказательство внешне похоже на доказательство богохульника, который говорил бы в свое извинение: Если бы я отрицал, что Бог существует, я был бы дурным человеком; но хотя я богохульствую, я не отрицаю, что Бог существует; следовательно, я не дурной человек. Подобное доказательство не имело бы никакой силы, потому что, кроме атеизма, есть еще другие преступления, делающие человека дурным; но доказательство Цицерона, несмотря на то что Рамус привел его как пример неправильного умозаключения, правильно, так как по смыслу в нем есть выделительная частица и его надо свести к следующим словам:
Только тогда можно было бы справедливо обвинять меня в том, что я действую вопреки своему же закону, если бы я признавал, что Мурена подкупил избирателей, и тем не менее оправдывал бы его поступок.
Но я утверждаю, что он не подкупал избирателей.
И следовательно, я не делаю ничего противного моему закону.
То же самое надо сказать о таком умозаключении Вергилиевой Венеры, говорящей Юпитеру:
Si sine расе tua, atque invito numine Troes Italiam petiere, luant peccata, neque illos Juveris auxilio: sin tot response sequuti, Quae superi manesque dabant, cur nunc tua quisquam Flectere jussa potest, aut cur nova condere fata32.
Эти стихи сводятся к следующему умозаключению: Если бы троянцы прибыли в Италию против воли богов, они заслуживали бы наказания.
Но они прибыли туда не против воли богов. Следовательно, они не заслуживают наказания. Таким образом, к этому умозаключению надо что-то добавить, — иначе оно было бы подобно следующему силлогизму, который, безусловно, не заключает:
Если бы Иуда принял апостольство без призвания, он должен был бы быть отвержен Богом.
Но он не принял апостольство без призвания. Следовательно, он не должен был быть отвержен Богом.
Но умозаключение Веперы у Вергилия не является ложным, потому что большую посылку надо рассматривать как выделительную по смыслу, как если бы было сказано:
Троянцы заслуживали бы наказания и были бы недостойны помощи богов только в том случае, если бы они прибыли в Италию против их воли.
Но они прибыли туда не против их воли.
Следовательно, и т. д.
Или, что то же самое, надо сказать, что утвердительное предложение Si sine расе tua... заключает в себе по смыслу следующее отрицательное:
Если троянцы прибыли в Италию только по велению богов, то было бы несправедливо, чтобы боги их покинули.
Они прибыли туда только по велению богов.
Следовательно, и т. д.
Разделительные (disjoncfifs) силлогизмы
Разделительными силлогизмами называются те, в которых первое предложение разделительное, т. е. такое, части которого соединены посредством vel, или, — как, например, следующий силлогизм Цицерона:
Убившие Цезаря — отцеубийцы или защитники свободы.
Они не отцеубийцы.
Следовательно, они защитники свободы.
Разделительные силлогизмы бывают двух видов. Первый — тот, когда исключают одну часть, чтобы сохранить другую33, как в только что приведенном силлогизме или же в таком:
Все злые люди должны быть наказаны или в этом мире, или в ином.
Есть злые люди, которые не наказаны в этом мире. Следовательно, они будут наказаны в ином мире.
В силлогизмах этого вида иногда бывает три члена, и тогда исключают два, чтобы оставить один, как в следующем доказательстве святого Августина, которое он приводит в книге «О лжи», гл. VIII: Aut non est credendum bonis, aut credendum est eis quos credimus debere aliquando mentiri, aut non est credendum bonos aliquando mentiri. Horum primum perniciosum est; secundum stultum. Restat ergo ut nunquam mentiantur boni34.
Второй вид, правда менее естественный, — тот, когда берут одну часть, чтобы исключить другую35, например:
Св. Бернард, свидетельствующий, что Бог подтвердил посредством чудес его проповедь крестового похода36, был либо святым, либо лжецо&.
Это был святой.
Следовательно, это был не лжец.
Разделительные силлогизмы бывают ложными только вследствие ложности большей посылки, в которой деление не является строгим, так как между противоположными членами есть середина, как, например, если бы я сказал:
Надо или повиноваться государям в том, что они повелевают вопреки закону Божию, или восставать против них.
Но не надо повиноваться им в том, что противно закону Божию.
Следовательно, надо восставать против них.
Или: Но против них не надо восставать.
Следовательно, надо повиноваться им в том, что противно закону Божию.
И то и другое умозаключение ложны, так как в этом разделении есть середина, которая соблюдалась первыми христианами, а именно: смиренно претерпевать любые гонения, но не делать ничего противного закону Божию и при этом не восставать против государей.
Подобные ложные разделения — один из главных источников ложных умозаключений.
Соединительные (copulafifs) силлогизмы
Такие силлогизмы бывают только одного вида: когда берут отрицательное соединительное предложение и затем утверждают одну его часть, чтобы исключить другую.
Человек не может быть одновременно служителем Божиим и идолопоклонником своих денег.
Скупой — идолопоклонник своих денег.
Следовательно, он не служитель Божий,
Ибо силлогизм этого вида не заключает с необходимостью, когда исключают одну часть, чтобы доказать другую, как можно видеть из следующего умозаключения, построенного на основе этого же предложения:
Человек не может быть одновременно служителем Божиим и идолопоклонником своих денег.
Расточительные люди не идолопоклонники своих денег.
Следовательно, они служители Божии,
Глава XIII
О СИЛЛОГИЗМАХ С УСЛОВНЫМ ЗАКЛЮЧЕНИЕМ
Мы показали, что в полном силлогизме не может быть меньше трех предложений. Но это истинно только тогда, когда заключают безусловно; когда же заключают условно, одно условное предложение может содержать, кроме заключения, одну из посылок или даже обе посылки.
Пример. Если я хочу доказать, что Луна — это шероховатое тело, а не гладкое, словно зеркало, как считал Аристотель, то я могу безусловно заключить это лишь в трех предложениях:
Всякое тело, отражающее свет во всех направлениях, является шероховатым.
Луна отражает свет во всех направлениях. Следовательно, Луна — шероховатое тело.
Но мне нужны только два предложения, чтобы заключить это условно таким образом:
Всякое тело, отражающее свет во всех направлениях, является шероховатым.
Следовательно, если Луна отражает свет во всех направлениях, она является шероховатым телом.
И я могу даже вместить такое умозаключение в одно-едппствепное предложение — или следующим образом:
Если всякое тело, отражающее свет во всех направлениях, является шероховатым и если Луна отражает свет во всех направлениях, то надо признать, что ото не гладкое тело, а шероховатое, —
или же присоединяя одно из предложений посредством причинной частицы потому что или поскольку, например:
Если всякий истинный друг должен быть готов отдать жизнь за своего друга,
то истинных друзей очень мало, поскольку очень мало таких, кто был бы на это способен.
Это весьма распространенный и очень красивый способ умозаключения, и поэтому не надо думать, будто умозаключение имеется только тогда, когда -мы видим три отдельных предложения, расставленных в таком порядке, какой принят в школьной логике. Ибо несомненно, что последнее из приведенных предложений содержит в себе следующий полный силлогизм:
Всякий истинный друг должен быть готов отдать жизнь за своих друзей.
Но очень мало таких, кто готов отдать жизнь за своих друзей.
Следовательно, истинных друзей очень мало.
Все различие между безусловными силлогизмами и теми, в которых заключение вместе с одной из посылок содержится в условном предложении, состоит в следующем. Когда мы полностью соглашаемся с первыми, мы соглашаемся с тем, в чем нас хотели убедить; что же до последних, то даже когда мы со всеми согласны, тот, кто их строит, еще ничего не достигает, поскольку ему остается доказать, что условие, от которого зависит заключение, с коим мы согласились, является истинным.
Таким образом, подобные доказательства представляют собой, в сущности, лишь приготовления к безусловному заключению; по они для этого очень подходят, и надо признать, что такие способы умозаключения весьма распространенны и весьма естественны и обладают тем преимуществом, что они больше отличаются от школьных доказательств и потому люди их лучше воспринимают.
Так можно заключать во всех фигурах и во всех модусах, и, следовательно, при этом не надо соблюдать других правил, помимо правил фигур.
Нужно только отметить, что условное заключение, в котором всегда содержится, кроме заключения, одна из посылок, иногда содержит большую, а иногда меньшую посылку.
Это будет видно на примере ряда условных заключений, которые можно вывести из двух общих максим — твердительной и отрицательной, независимо от того, доказана ли уже утвердительная максима или с ней просто соглашаются.
Всякое чувство боли есть мысль.
Отсюда заключают утвердительно:
1. Следовательно, если все животные чувствуют боль, все животные мыслят. Barbara.
2. Следовательно, если некоторое растение чувствует боль, некоторое растение мыслит. Darii.
3. Следовательно, если всякая мысль есть действие ума, всякое чувство боли есть действие ума. Barbara.
4. Следовательно, если всякое чувство боли есть зло, некоторая мысль есть зло. Darapti.
5. Следовательно, если чувство боли находится в обжигаемой огнем руке, в обжигаемой огнем руке есть некоторая мысль. Disamis.
Отрицательно:
6. Следовательно, если ни одна мысль не находится в теле, никакое чувство боли не находится в теле. Celarent.
7. Следовательно, если ни одно животное37 не мыслит, ни одно животное не чувствует боли. Camestres.
8. Следовательно, если некоторая часть человека не мыслит, некоторая часть человека не чувствует
боли. Вагосо.
9. Следовательно, если никакое движение материи не есть мысль, никакое чувство боли не есть движение материи. Cesare.
10. Следовательно, если чувство боли не приятно, некоторая мысль не приятна. Felapton.
11. Следовательно, если некоторое чувство боли не произвольно, некоторая мысль не произвольна. Bocardo.
Из общей максимы Всякое чувство боли есть мысль можно было бы вывести и некоторые другие условные заключения, по так как они менее естественны, их приводить не стоит.
Среди выведенных нами следствий одни, кроме заключения, содержат меньшую посылку, а именно 1-е, 2-е, 7-е, 8-е, другие — большую, а именно 3-е, 4-е, 5-е, 6-е, 9-е, 10 е, 11-е.
Отметим также различные условные заключения, которые могут быть выведены из общеотрицательного предложения. Пусть это будет, например, следующее:
Никакая материя не мыслит.
1. Следовательно, если всякая душа животного есть материя, ни одна душа животного не мыслит. Се-larent.
2. Следовательно, если некоторая часть человека есть материя, некоторая часть человека не мыслит. Fe-rio.
3. Следовательно, если наша душа мыслит, наша душа не есть материя. Cesare.
4. Следовательно, если некоторая часть человека мыслит, некоторая часть человека не есть материя. Festino.
5. Следовательно, если все, что чувствует боль, мыслит, никакая материя не чувствует боли. Саше-stres.
6. Следовательно, если всякая материя есть субстанция, некоторая субстанция не мыслит. Felapton.
7. Следовательно, если некоторая материя является причиной каких-то действий, кажущихся чудесными, все то, что является причиной чудесных действий, не мыслит. Ferison38.
Среди этих условных предложений только пятое содержит, кроме заключения, большую посылку, а все остальные содержат меньшую.
Умозаключения этого вида применяются в основном для того, чтобы заставить человека, которого хотят в чем-то убедить, признать сначала правильность заключения: он должен согласиться, что заключение выведено верно, ни к чему большему себя не обязывая, так как это заключение ему представляют лишь условно, отдельно от предметной (materielle) истины — если можно так выразиться, — т. е. от того, что оно в себе содержит.
Делают это затем, чтобы он легче согласился с безусловным заключением, которое отсюда выводят — или полагая антецедент, чтобы обосновать консеквент, или исключая консеквент, чтобы исключить антецедент.
Так, если мой собеседник признал, что никакая материя не мыслит, отсюда я заключу: Следовательно, ес-ли душа животных мыслит, то она должна быть отлична от материи
И поскольку он не сможет отрицать это условное заключение, я выведу отсюда какое-либо из двух следующих безусловных заключений.
Душа животных мыслит.
Следовательно, она отлична от материи.
Или наоборот:
Но душа животных не отличается от материи. Следовательно, она не мыслит.
Итак, мы видим, что нужны четыре предложения, чтобы умозаключения этого вида были законченными и чтобы они устанавливали что-либо безусловно. Но, однако, их не должно причислять к силлогизмам, которые называют сложными (composes)39, потому что эти четыре предложения по смыслу не содержат ничего, кроме трех предложений обычного силлогизма:
Никакая материя не мыслит.
Всякая душа животного есть материя.
Следовательно, никакая душа животного не мыслит.
Глава XIV
ОБ ЭНТИМЕМАХ И ЭНТИМЕМАТИЧЕСКИХ ИЗРЕЧЕНИЯХ
Мы уже сказали, что энтимема — это силлогизм, полный в уме, но неполный в выражении40, потому что в нем опускают какое-либо из положений, как совершенно ясное и общеизвестное и как легко восполпямое в уме теми, к кому обращаются. Этот способ доказательства столь распространен в устной речи и в сочинениях, что, наоборот, редко когда в доказательстве выражают все предложения, ибо среди них обычно есть одно достаточно ясное, чтобы его предположить, да и ум человеческий так уж устроен, что любит, когда ему остается что восполнить, и не следует думать, будто ему нужно все растолковывать.
Таким образом, опущение одного из предложений льстит тщеславию тех, к кому обращаются, поскольку при этом в чем-то полагаются на их ум; кроме того, сокращая речь, ее делают более выразительной и более живой, Несомненно, например, что, если бы стих из Овидиевой «Медеи»41, содержащий весьма стройную энтимему:
Servare potui, perdere an possim rogas?
Я смогла тебя спасти, и разве не могла бы я тебя погубить! — превратили в доказательство по всей форме: Тот, кто может спасти, может и погубить, я смогла тебя спасти, следовательно, я могу тебя погубить, — он утратил бы всю свою прелесть. Ведь о красоте речи можно говорить лишь при условии, что она исполнена смысла и вызывает в уме мысль более пространную, нежели выражение, и напротив, один из самых больших недостатков речи — когда она скудна по содержанию и заключает в себе мало мыслей, что почти неизбежно в философских силлогизмах. Ум быстрее языка, и одного предложения достаточно, чтобы помыслить оба; поэтому выражать второе нам нет надобности. Полные доказательства мы применяем в жизни очень редко: мы безотчетно уклоняемся от того, что паводит на нас скуку, и ограничиваемся тем, что совершенно необходимо для того, чтобы нас поняли.
Таким образом, энтимемы представляют собой обычный способ, каким мы выражаем свои умозаключения. Мы опускаем то предложение, которое, по нашему мнению, может быть легко восполнено. Этим предложением бывает то большая, то меньшая посылка, а иногда и само заключение, хотя в последнем случае это уже, строго говоря, не энтимема, так как все доказательство в определенном смысле содержится в двух первых предложениях.
Иногда бывает также, что два предложения энтимемы заключают в одно-единственное предложение. Аристотель называет его энтимематическим изречением и приводит такой пример:
Смертный, не питай бессмертной ненависти2.
Полным доказательством было бы: Тот, кто смертен, не должен питать бессмертной ненависти. Вы смертны. Следовательно, и т. д., а совершенная энтимема была бы такой: Вы смертны, и потому пусть не будет в а ила ненависть бессмертной.
Глава XV
О СИЛЛОГИЗМАХ,
СОСТОЯЩИХ БОЛЕЕ ЧЕМ ИЗ ТРЕХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Мы уже сказали, что силлогизмы, состоящие более чем из трех предложений, в общем называют соритами. Можно выделить три вида таких силлогизмов. 1. Последовательности, о которых нет необходимости говорить что-либо сверх того, что было сказано о них в I главе данной части.
2. Дилеммы, о которых мы будем вести речь в следующей главе.
3. Те силлогизмы, которые греки называли эпихире-мами; они содержат подтверждение или какого-либо одного из двух первых предложений, или их обоих43. О них мы и будем говорить в этой главе.
Если нам нередко приходится опускать в рассуждении некоторые совершенно ясные положения, то часто приходится и, наоборот, выдвигая сомнительные положения, сразу же присоединять к ним подтверждения, дабы не раздражать тех, с кем мы говорим, потому что они иногда чувствуют себя уязвленными, когда их стараются убедить с немощью доводов, которые кажутся им ложными или сомнительными. Хотя мы потом и рассеиваем их сомнения, все же опасно даже на короткое время вызывать у них недовольство, и, таким образом, гораздо лучше, чтобы подтверждения не отделялись от этих сомнительных положений, а были с ними соединены. Отделяя их, создают еще одно, довольно досадное, неудобство, а именно: приходится повторять предложение, которое хотят подтвердить. Поэтому если школьный метод заключается в том, что сначала приводят полное доказательство, а затем уже подтверждают предложение, вызывающее возражения, то в обычной речи следуют другому методу: к сомнительным предложениям присоединяют подтверждения, которые их обосновывают. Подобные доказательства состоят из ряда предложений: к большей посылке присоединяют подтверждение большей посылки, к меньшей — подтверждение меньшей и затем делают заключение.
Таким образом можно свести всю речь за Милона к сложному доказательству, в большей посылке которого говорится, что позволительно убить того, кто строит нам козни. Подтверждения большей посылки берутся из естественного закона, из человеческого права, из примеров. В меньшей посылке говорится, что Клодий строил козни Милону, а подтверждения меньшей посылки — это вооружение Клодия, его люди и т. д. Заключение таково: следовательно, Милону позволительно было его убить.
Первородный грех с помощью диалектического метода доказывался бы несчастьями детей следующим образом.
«Дети не могли бы быть несчастными иначе как только в наказание за некий грех, который они несут на себе от рождения. Они несчастны. Следовательно, причиной этому — первородный грех». Затем надо было бы подтвердить большую и меньшую посылки. Большую — посредством такого разделительного доказательства: «Несчастье детей может происходить только от одной из следующих четырех причин. 1. От прошлых грехов, совершенных в другой жизни. 2. От бессилия Бога, не властного оградить их от несчастий. 3. От несправедливости Бога, безосновательно обрекшего их несчастьям. 4. От первородного греха. Но было бы нечестиво говорить, что оно происходит от первых трех причин. Следовательно, оно может происходить только от четвертой причины — от первородного греха».
Меньшая посылка — что дети несчастны — подтверждалась бы перечислением их несчастий.
Но легко убедиться, что святой Августин излагает это подтверждение первородного греха с большим изяществом и выразительностью, приводя следующее сложное доказательство.
«Обратите свой взор на множественность и тяжесть бед, коими угнетаются чада, на то, сколь наполнены первые годы их жизни суетой и страданиями, обманчивыми представлениями и страхами. После, когда они подрастают и даже когда они начинают служить Богу, заблуждение покушается их прельстить, труды и скорби — обессилить, вожделение — зажечь в них свой пламень, печаль — изнурить, гордость — заставить превозноситься. Кто сумел бы в немногих словах изобразить столько различных горестей, отягчающих бремя чад Адамовых? Очевидность сих несчастий побуждала языческих философов, не ведавших и не помышлявших о грехе нашего праотца, говорить, что мы рождаемся на свет для того, чтобы понести кару, которую мы заслужили за некие преступления, совершенные не в этой, но в другой жизни, и что связь наших душ с тленными телами есть подобие пытки, какой тосканские тираны подвергали тех, кого они живьем привязывали к мертвым телам. Но мнение, будто души соединены с телами в воздаяние за прошлые провинности другой жизни, отвергнуто Апостолом. Что же тогда остается, как не то, что причина сих ужасных бед — либо несправедливость Бога, либо его бессилие, либо наказание первого греха, совершенного человеком? Но коль скоро Бог не может быть ни несправедливым, ни бессильным, остается только одно — то, чего вы не желаете признавать и что вы, однако же, должны признать вопреки вашей воле: что этого столь тягостного бремени, которое чада Адамовы обречены влачить с того самого дня, как их тело будет исторгнуто из материнского лона и до тех пор, пока они не вернутся в лоно нашей общей матери — земли, не было бы, если бы они не заслужили его за преступление, которое лежит на них от рождения»45.
Глава XVI
О ДИЛЕММАХ
Дилемму можно определить как сложное умозаключение, в котором, разделив некое целое на части, утвердительно или отрицательно заключают о целом то, что заключили о каждой части.
Я говорю то, что заключили о каждой части, а не просто «то, что о них утверждали», ибо дилемму в собственном смысле слова мы имеем только тогда, когда то, что говорят о каждой части, получает свое обоснование.
Например, если нужно доказать, что мы не могли бы быть счастливы в этом мире, это можно сделать посредством следующей дилеммы:
В этом мире можно жить, только предаваясь своим страстям или борясь с ними.
Если им предаются, это несчастное состояние, потому что оно постыдно и при этом невозможно быть довольным.
Если с ними борются, это также несчастное состояние, потому что нет ничего мучительнее той внутренней борьбы, которую человек принужден беспрестанно вести с самим собой.
Следовательно, в этой жизни не может быть истинного счастья.
Если мы хотим доказать, что епископам, которые не трудятся ради спасения вверенных им душ, нет прощения пред Богом, это можно сделать посредством такой дилеммы:
Либо они способны на этот труд, либо неспособны.
Если способны — им нет прощения за то, что они от него уклоняются.
Если неспособны — им нет прощения за то, что они взяли на себя столь важную обязанность, которую они не в состоянии исполнять.
И следовательно, как бы то ни было, им нет прощения пред Богом, если они не трудятся ради спасения вверенных им душ.
Относительно умозаключений этого рода можно сделать несколько замечаний.
Первое. Не всегда выражают все входящие в них предложения. Например, только что приведенная нами дилемма заключена в торжественной речи святого Карла при открытии одного из провинциальных соборов в следующие немногие слова: Si tanto muneri impares, cur tarn ambitiosi? si pares, cur tam negligentes?48
Многое подразумевается и в известной дилемме, с помощью которой один древний философ доказывал, что не должно вмешиваться в государственные дела:
Если будешь поступать правильно, обидишь людей; если будешь поступать неправильно, оскорбишь богов; следовательно, не должно вмешиваться в государственные дела47.
И точно так же в той дилемме, посредством которой другой философ доказывал, что не надо жениться: Если женщина, которую вы берете в жены, красива, она вызывает ревность, если некрасива — становится неприятной; следовательно, не надо жениться43.
В обеих этих дилеммах подразумевается то предложение, которое должно было содержать разделение на части. Так бывает во многих случаях: это предложение подразумевается само собой, поскольку оно в достаточной мере выражено посредством частных предложений, в которых рассматривается каждая часть.
Кроме того, чтобы в посылках содержалось заключение, надо подразумевать в обеих посылках и в заключении что-то общее, что относилось бы ко всему, как в первой дплемме:
Если будешь поступать правильно, обидишь людей, что нежелательно.
Если будешь поступать неправильно, оскорбишь богов, что также нежелательно.
Следовательно, так или иначе, нежелательно вмешиваться в государственные дела.
Это предупреждение очень важно для того, чтобы правильно судить об истинности (force) дилеммы. Например, данная дилемма не является заключающей, потому что не страшно обидеть людей, когда этого можно избежать, лишь оскорбив Бога.
Второе замечание: дилемма бывает ложной в основном из-за двух недостатков. Во-первых, когда разделительная посылка, на которой основана дилемма, неверна, так как она не содержит всех членов подвергаемого делению целого.
Например, дилемма, доказывающая, что не надо жениться, не является заключающей, потому что женщина может быть не настолько красивой, чтобы вызывать ревность, но и не такой некрасивой, чтобы она была неприятна.
По той же причине совершенно ложна дилемма, которой пользовались древние философы, чтобы доказать, что не надо бояться смерти. Либо наша душа, — говорили они, — ь погибает вместе с телом, и тогда, не обладая больше чувствами, мы не способны будем ощущать боль; либо, если душа переживает тело, она будет более блаженна, нежели в теле; следовательно, не должно бояться смерти49. Ибо, как совершенно справедливо заметил Монтень, большая слепота — не видеть, что между этими двумя состояниями можно помыслить третье, а именно: душа, остающаяся после тела, будет пребывать в состоянии мучений и страдания, что дает полное основание бояться смерти, из страха впасть в это состояниеб0.
Во-вторых, дилеммы не являются заключающими тогда, когда заключения каждой части не являются необходимыми. Так, не является необходимым, чтобы красивая женщина вызывала ревность: ведь она может быть столь благонравной и добродетельной, что не подаст никакого повода усомниться в ее верности.
Равным образом не является необходимым, чтобы, будучи некрасивой, она стала неприятна своему мужу, ибо она может обладать другими качествами — умом и добродетелью, столь выгодно отличающими ее, что она не перестанет ему нравиться.
Третье замечание: тот, кто пользуется дилеммой, дол- жен остерегаться, как бы ее не обратили против него самого. Так, по свидетельству Аристотеля, против философа, утверждавшего, что не следует вмешиваться в общественные дела, обратили дилемму, которой он воспользовался, чтобы это доказать. Ему возразили:
Если будешь руководствоваться извращенными человеческими законами, угодишь людям.
Если будешь соблюдать подлинную справедливость, будешь угоден богам.
Следовательно, надо вмешиваться в общественные дела.
Такое возражение было, однако, неосновательным, ибо нет пользы в том, чтобы угождать людям, оскорбляя Бога.
Глава XVII
ОБ ОБЩИХ МЕСТАХ,
ИЛИ О МЕТОДЕ НАХОЖДЕНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ.
О ТОМ, СКОЛЬ МАЛОПРИМЕНИМ ЭТОТ МЕТОД
То, что риторики и логики называют общими местами, loci argumentorum, суть некие основные положения, под которые можно подвести все доводы, какими пользуются при рассмотрении различных вопросов; и в том разделе логики, который посвящен изобретению, они наставляют читателей именно в отношении этих общих мест61.
Рамус спорит по этому поводу с Аристотелем и схоластиками, рассматривающими общие места после изложения правил доказательства. Об общих местах и о том, что касается изобретения, утверждает он, нужно говорить прежде, чем об этих правилах.
Довод Рамуса таков: надо прежде найти материю52, а потом уже думать, как ее расположить.
А излагая общие места, как раз и учат находить материю; правила же доказательств могут научить лишь располагать уже найденное.
Но это очень слабый довод, потому что хотя и необходимо найти материю для того, чтобы ее расположить, однако же нет необходимости учить находить материю прежде, чем научат ее располагать. Ибо, чтобы научить располагать материю, достаточно иметь кое-какие общие материи, которые можно было бы использовать в качестве примеров, но ум и здравый смысл всегда предоставляют их сколько угодно, так что нет нужды заимствовать их из какого-либо искусства или из какого-либо метода. Следовательно, справедливо, что нужно иметь материю, чтобы применить к ней правила доказательств, но неверно, что, отыскивая эту материю, необходимо прибегать к методу общих мест.
Наоборот, мы могли бы сказать, что, коль скоро в разделе общих мест, как утверждают, преподается искусство получать доказательства и силлогизмы, надо прежде знать, что такое доказательство и силлогизм. Но на это нам, в свою очередь, могли бы возразить, что мы от природы имеем общее представление о том, что такое умозаключение, и этого достаточно, чтобы понимать то, что о нем говорят, когда ведут речь об общих местах.
Итак, не стоит задаваться вопросом, когда следует рассматривать общие места: это не важно. Быть может, полезнее разобраться, не лучше ли было бы не рассматривать их вовсе.
Известно, что древние придавали этому методу слишком большое значение и чтй Цицерон даже предпочитает его всякой диалектике, в том виде, как ее преподавали стоики, потому что они ничего не говорили об общих местах. Оставим, говорит он, всю эту науку, которая молчит об искусстве нахождения доказательств, но зато слишком многоречиво учит нас судить о доказательствах. Istam artem tot am relinquamus quae in excogitandis argu-mentis muta nimium est, in judicandis nimium loquax53. Квинтилиан и все другие риторики, Аристотель и все философы говорят по этому поводу то же самое, так что трудно было бы не согласиться с их мнением, если бы общий опыт не представлялся полностью ему противоречащим.
Этому можно взять в свидетели почти столько же людей, сколько прошло обычный курс занятий и обучилось такому искусственному методу нахождения доказательств, преподаваемому в коллежах. Ибо есть ли среди них хоть один, кто мог бы искренне сказать, что, когда ему надлежало рассмотреть какой-либо вопрос, он размышлял об общих местах и искал в них необходимые ему доводы? Спросите у стольких адвокатов и проповедников, сколько их есть на свете, у стольких людей, сколько их говорит и пишет, никогда не имея недостатка в материи, — не знаю, найдется ли среди них хоть один, кто когда-нибудь намеревался построить доказательство a causa, ab effectu, ab adjunctis64, чтобы обосновать то, в чем он желал убедить других.
Поэтому Квинтилиан, хоть он и выказывает уважение к этому искусству, вынужден признать, что, рассматривая какой-либо вопрос, не надо стучаться в дверь ко всем этим общим местам, чтобы почерпнуть из них доказательства и доводы. Illud quoque, — говорит он, — studiosi eloquentiae cogitent non esse cum proposita fuerit materia dicendi, scrutanda singula et velut ostiatim pulsanda, ut sciant an ad id probandum quod intendimus, forte res-pondeant55.
Верно, что все доказательства, какие строят относительно любого предмета, могут быть поставлены в зависимость от тех основных положений и общих терминов, которые называют общими местами, однако находят доказательства вовсе не этим методом. К ним подводит людей сама природа, а искусство затем относит их к определенным родам. Так что об общих местах справедливо будет сказать то, что святой Августин говорит о предписаниях риторики вообще. Мы обнаруживаем, говорит он, что в рассуждениях красноречивых людей соблюдаются правила красноречия, хотя, когда они говорят, они не думают об этих правилах, независимо от того, знают ли они их плп нет. они применяют эти правила, потому что они красноречивы, а не пользуются ими для того, чтобы быть красноречивыми. Implent quippe ilia quia sunt eloquentes, non adhibent ut sint eloquentes5b.
Люди ходят естественным образом, замечает этот же отец в другом месте, и при ходьбе производят определенные размеренные телодвижения. Но никому не помогло бы научиться ходить, если бы ему сказали, к примеру, что надо посылать [животные] духи в определенные нервы, приводить в движение определенные мышцы, совершать определенные движения в суставах, ставить одну ногу вперед другой и опираться на одну ногу, занося другую. Конечно, наблюдая то, что нас заставляет делать сама природа, можно вывести некоторые правила, но никогда эти действия не производятся с помощью этих правил. Точно так же в обычной речи обращаются с общими местами. Под них можно подвести все, что мы говорим, но эти мысли67 появляются у нас не потому, что мы размышляем над тем, откуда их взять, ибо такое размышление может только охладить пыл ума и помешать ему найти убедительные и естественные доводы, являющиеся истинным украшением речи любого рода.
Вергилий в IX книге «Энеиды», изобразив Эвриала застигнутым и окруженным врагами, которые готовы отмстить ему за смерть своих сотоварищей, убитых Нисом, другом Эвриала, вкладывает в уста Ниса такие слова, полные волнения и страсти:
Me mo adsum, qui feci, in me convertite ferrum. О Rutuli! mea fraus omnis; nihil iste nec ausus, Nec potuit. Coelum hoc, et sidera conscia tester. Tantum infelicem nimium dilexit amicum M.
Это, как говорит Рамус, доказательство a causa efficient©59; но мы могли бы с полной уверенностью сказать, что, сочиняя эти стихи, Вергилий вовсе не думал об общем месте действующей причины. он никогда бы их не сочинил, если бы остановился и стал искать эту мысль; и чтобы создать стихи столь благородные и столь одухотворенные, он непременно должен был не только забыть правила, если бы он их знал, но и некоторым образом забыть себя, дабы проникнуться изображаемой им страстью.
Малое применение, какое получил метод общих мест за столь долгое время, прошедшее с тех пор, как он был открыт и его стали преподавать в школах, — ясное свидетельство того, что он и не может иметь широкого применения. Даже если бы мы постарались извлечь из него всю пользу, какую только можно из пего извлечь, мы вряд ли могли бы с его помощью прийти к чему-либо действительно полезному и цепному. Ибо, применяя этот метод, мы можем рассчитывать лишь на то, что найдем в отношении любого предмета различные общие мысли, ближайшие или же более отдаленные, как находят их луллисты посредством своих таблиц. Но изобилие общих мыслей не принесет нам никакой пользы; напротив, нет ничего, что в большей мере вредило бы способности суждения.
Ничто так не заглушает добрые посевы, как обилие сорных трав; ничто не делает ум более бесплодным в мыслях верных и основательных, нежели пагубная бесплодность общих мыслей. Ум привыкает к этой легкости и больше не делает усилий, чтобы в каждом случае найти убедительные и естественные доводы, которые отыскиваются лишь при внимательном изучении предмета.
Следовало бы задуматься над тем, что изобилие, которого хотят достичь посредством общих мест, дает очень малое преимущество. Это не то, чего не хватает большинству людей. Гораздо чаще грешат преизбытком, нежели недостатком; рассуждения обычно изобилуют материей сверх меры. Таким образом, чтобы обучить людей рассудительному и основательному красноречию, было бы гораздо полезнее учить их молчать, а не говорить — иными словами, учить их отбрасывать мысли неглубокие, банальные и ложные, а не нагромождать, как они это делают, правильные и неправильные умозаключения, которыми полны и книги, и устная речь.
И так как общие места применяются для нахождения именно такого рода мыслей, можно сказать, что если нам нужно знать то, что о них говорится (ибо они обсуждались столькими известными людьми, что стало своего рода необходимостью иметь о них некоторое понятие), то еще важнее убедиться, что нет ничего более смешного, как пользоваться ими для того, чтобы до бесконечности рассуждать обо всем на свете — по примеру луллистов с их общими атрибутами, являющимися разновидностью общих мест, и что та предосудительная способность, не затрудняясь, разглагольствовать о чем угодно и черпать доводы отовсюду, коей тщеславятся иные люди, представляет собой весьма существенный порок ума, значительно худший, чем глупость.
Поэтому вся польза, какую можно извлечь из ознакомления с общими местами, сводится, самое большее.
к тому, чтобы получить о них общее представление, благодаря которому мы, быть может, сами того не сознавая, будем рассматривать обсуждаемые нами вопросы более разносторонне и более тщательно.
Глава XVIII
ДЕЛЕНИЕ ОБЩИХ МЕСТ
НА ОБЩИЕ МЕСТА ГРАММАТИКИ, ЛОГИКИ И МЕТАФИЗИКИ
Те, кто трактовал об общих местах, делили их по-разному. Деление, которого придерживались Цицерон в трактате «Об изобретении» и во II книге трактата «Об ораторе» и Квинтилиан в V книге «Наставлений», является недостаточно методическим и больше подходит к судебным речам, к коим они его главным образом и относят. Деление, принятое у Рамуса, слишком запутано подразделениями.
А вот деление, которое представляется довольно удобным, — оно принадлежит весьма рассудительному и основательному немецкому философу по имени Клауберг60, чья «Логика» попала мне в руки, когда эта уже была в печати.
Общие места берут или из грамматики, или из логики, или из метафизики.
Общие места грамматики
Общие места грамматики следующие: этимология и слова, образованные от одного корпя, называемые по-латыни conjugata, а по-гречески napdvopa.
Через этимологию доказывают, когда говорят, например, что многие люди никогда не развлекаются в собственном смысле слова, потому что «развлекаться» — значит освобождать себя от серьезных занятий, а они никогда не занимаются ничем серьезным.
Слова, образованные от одного корня, также помогают находить мысли.
Homo sum, human! nil а те alienum putoб1«
Mortali urgemur ab hoste, mortales.
Quid tam dignum misericordia quam miser?
Quid tam indignum misericordia quam super bus miser?
«Кто более достоин сострадания, чем страждущий? И кто менее достоин сострадания, чем страждущий гордец?»
Общие места логики
Общие места логики суть общие термины — род, вид, видовое отличие, собственный признак, случайный признак, — определение, деление. Поскольку все это рассматривалось нами выше, здесь нет необходимости говорить об этом подробнее.
Надо только заметить, что обычно с названными общими местами связывают определенные общие максимы, которые подобает знать, не потому чтобы они были так уж полезны, а потому, что они общепризнанны. Мы уже приводили некоторые из них в других словах, но не мешает усвоить их и в общепринятом виде.
1. То, что утверждается либо отрицается относительно рода, утверждается либо отрицается относительно вида, /о, что присуще всем людям, присуще и вельможам. Но они не могут обладать преимуществами, которые для человека недостижимы.
2. Исключая (en d6truisant) род, исключают также и вид. Тот. кто вообще ни о чем не судит, не судит неверно'. тот. кто ни о чем не говорит, никогда не говорит нескромно.
3. Исключая все виды, исключают и род. Формы, получившие название субстанциальных (кроме разумной души), не являются ни телом, ни духом; следовательно. это не субстанции.
4. Если относительно какой-либо вещи можно утверждать либо отрицать общее видовое отличие, то относительно нее можно утверждать либо отрицать и вид. Мысли не присуще протяжение, следовательно, она не есть материя.
5. Если относительно какой-либо вещи можно утверждать либо отрицать отличительное свойство, то относительно нее можно утверждать либо отрицать и вид. Так как невозможно вообразить ни половину мысли, ни круглую и квадратную мысль, невозможно, чтобы она была телом.
6. Определяемое утверждают либо отрицают и относительно того, относительно чего утверждают либо отрицают определение. Справедливых людей мало, потому что мало таких, кто обладает твердой и непреклонной волей воздавать каждому по заслугам.
Общие места метафизики
Общие места метафизики суть определенные общие термины, которые относятся ко всякому бытию и с которыми связывают многие доказательства. К ним относятся, например, причины, действия, целое, части, противоположные термины. Полезно знать некоторые общие деления этих терминов, и в особенности причин.
Определения причины, которые даются в схоластической философии: Причина есть то, что производит действие, или то, благодаря чему вещь существует, — нечетки, и очень трудно усмотреть, как они подходят ко всем видам причин. С таким же успехом можно было бы оставить это слово не определенным, поскольку имеющаяся у нас идея причины не менее ясна, чем те определения, какие ей дают.
Но деление причин на четыре вида, а именно: конечная причина, действующая, материальная и формальная, столь распространенно, что его необходимо знать03.
Конечной причиной называют цель, ради которой вещь существует.
Есть цели основные — это те, которые рассматривают в первую очередь, и цели второстепенные — их рассматривают лишь в дополнение к основным.
То, что стремятся сделать или приобрести, называется finis cujus gratia64. Так, здоровье есть цель врачебного искусства, потому что оно стремится его доставить.
Того, ради кого трудятся, называют finis cui65: в таком смысле человек есть цель врачебного искусства, потому что это ему оно стремится принести исцеление.
Нет ничего более обычного, как выводить доказательства из цели — или чтобы показать, что нечто несовершенно, например, что речь плохо составлена, если она не убеждает; или чтобы показать вероятность того, что человек совершил или совершит какой-то поступок, поскольку такой поступок соответствует цели, которую он перед собой поставил (отсюда знаменитое изречение римского судьи, что прежде всего прочего надо разобрать, cui bono66, т. е. какой интерес был у человека поступить определенным образом, ибо люди обычно действуют соответственно своему интересу); или, наоборот, чтобы показать, что не должно подозревать человека в том или ином поступке, поскольку он противоречил бы его цели.
Есть еще многие другие способы умозаключения через причину, которые здравый смысл откроет нам лучше всяких предписаний; это относится и к другим общим местам.
Действующая причина — та, которая производит какую-то вещь. Доказательства из нее выводят, показывая, что некоторого действия нет, потому что для него не было достаточной причины, или что оно есть или будет, потому что есть его причины. Если это причины необходимые, доказательство является необходимым, если свободные и привходящие — опо лишь вероятно.
Есть различные виды действующей причины, названия которых полезно знать.
Бог, сотворивший Адама, был полной причиной, так как ничто ему не содействовало; но отец и мать являются каждый лишь частичной причиной своего ребенка, потому что они нуждаются друг в друге.
Солнце есть собственная причина света; но оно лишь привходящая причина смерти человека, которого убил его жар, так как он был нездоров.
Отец есть ближайшая причина своего сына.
Дед есть лишь его отдаленная причина.
Мать есть порождающая причина.
Кормилица есть только поддерживающая причина.
Отец — единообразная (univoque) причина по отношению к своим детям, так как они подобны ему по природе.
Бог — неединообразная (equivoque) причина по отношению к тварям, ибо они обладают иной природой, нежели Бог.
Мастер есть главная причина своего изделия, инструменты суть его инструментальная причина.
Воздух, входящий в oprdn, есть общая причина благозвучия органа.
Особенное расположение каждой трубы и тот, кто играет на органе, суть особенные причины, которые определяют общую.
Солнце — это естественная причина.
Человек — разумная причина по отношению к тому, что он делает сознательно.
Огонь, сжигающий дерево, есть необходимая причина.
Идущий человек — свободная причина.
Солнце, освещающее комнату, есть собственная причина освещенности, оконный проем есть лишь причина, или условие, без которой действие было бы невозможно, conditio sine qua non.
Огонь, сжигающий дом, — физическая причина пожара, человек, который его поджег, — моральная причина.
К действующей причине относят также образцовую причину: это образец, коему следуют, когда что-либо создают, — как, например, чертеж здания, которым руководствуется зодчий, — или вообще все, что является причиной объективного бытия нашей идеи или какого бы то ни было другого образа, — например, король Людовик XV есть образцовая причина своего портрета.
Материальная причина есть то, из чего вещь образована; например, золото есть материя золотого сосуда. То, что присуще либо не присуще материи, присуще либо но присуще и вещам, которые из нее состоят.
Ф о р м а — то, что делает вещь такой, какова она есть, и отделяет ее от других, независимо от того, есть ли это бытие, реально отделенное от материи (согласно схоластическому воззрению), или это лишь расположение частей. Только через познание формы мы можем объяснить существенные свойства вещи.
Есть столько же различных действий, сколько и причин, так как эти слова взаимосвязаны. Обычный способ выводить из них доказательства таков: показывают, что если есть действие, то есть и причина, ибо ничто не происходит без причины. Доказывают также, что причина является благой или губительной, поскольку она производит благие или губительные действия. Это не всегда справедливо в отношении привходящих причин.
О целом и частях мы уже достаточно сказали в главе о делении67, и, таким образом, здесь нет необходимости что-либо добавлять.
Различают четыре вида противоположных терминов;
Соотносительные, как, например, «отец» — «сын», «хозяин» — «слуга».
Противные, как, например, «холодный» и «теплый», «здоровый» и «больной».
Привативные — такие, как «жизнь» — «смерть», «зрение» — «слепота», «слух» — «глухота», «знание» — «неведение».
Противоречащие, — это термин и простое отрицание данного термина: «видеть» — «не видеть».
Различие между двумя последними видами противоположных терминов состоит в том, что привативные термины заключают в себе отрицание некоторой формы в предмете, способном ее принимать, тогда как отрицательные не указывают на такую способность. Поэтому не говорят, что камень слеп или мертв, ибо он не обладает зрением и не подвержен смерти.
Противоположные термины применяют таким образом: для отрицания одного пользуются другим. Противоречащие термины имеют ту особенность, что, исключая один, полагают другой.
Существует несколько видов сравнения. Сравнивают вещи равные или неравные, подобные или несходные. Доказывают, что свойство, присущее либо не присущее вещи равной или подобной, присуще либо не присуще и той вещи, которой она равна или подобна.
В отношении вещей неравных доказывают отрицательно, что если нет того, что более вероятно, то нет и того, что менее вероятно, или же утвердительно, что если есть то, что менее вероятно, есть также и то, что более вероятно. Различием или несходством обычно пользуются, чтобы опровергнуть то, что другие утверждают, ссылаясь на сходство. Так, напрпмер, доказательство, основанное на постановлении суда, опровергают, показывая, что оно вынесено для другого случая.
Мы вкратце изложили часть из того, что говорится об общих местах. Есть вещи, которые полезно знать лишь в таких пределах. Тот, кто пожелает узнать об общих местах больше, может обратиться к сочинениям, трактовавшим о них более подробно. Мы, однако, никому не посоветовали бы искать сведений о них в «Топиках» Аристотеля, потому что это книги крайне запутанные. Но кое-какие небезынтересные мысли на этот счет содержатся у него в I книге «Риторики»68, где он учит различным способам показывать, что вещь полезна, приятна, является большей или меньшей. Однако верно и то, что таким путем мы никогда не придем к какому-либо основательному знапию.
Глава XIX
О РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ НЕВЕРНЫХ УМОЗАКЛЮЧЕНИЙ,
НАЗЫВАЕМЫХ СОФИЗМАМИ
Зная правила верных умозаключений, нетрудно распознать те умозаключения, которые ошибочны; тем не менее, поскольку примеры того, чего следует избегать, часто действуют сильнее примеров для подражания, небесполезно будет показать главные источники ошибочных умозаключений, называемых софизмами или паралогизмами. это поможет их избегать.
Я сведу встречающиеся софизмы к семи-восьми основным, так как среди них есть настолько грубые, что о них не стоит и говорить.
I
Доказывать не то, что требуется доказать
Этот софизм называется у Аристотеля ignoratio elenchi69, т. е. незнание того, что нужно доказать для опровержения противника. Это обычный недостаток, который обнаруживают спорящие. Люди спорят с горячностью и часто не понимают друг друга. Из-за пристрастности или недобросовестности противнику приписывают то, что далеко от его мнения, чтобы получить преимущество в споре, или же ссылаются на следствия, которые, как полагают, можно вывести из его учения, хотя он не признает и отрицает их. Все это относится к названному виду софизмов, коего добропорядочный и искренний человек должен избегать больше, чем каких-либо других логических ошибок.
Было бы хорошо, если бы Аристотель позаботился не только о том, чтобы предостеречь нас от этой ошибки, но и о том, чтобы самому ее избежать. Ибо невозможно скрыть, что он опровергал некоторых древних философов, неверно излагая их мнения. Он опровергает Парменида и Мелисса, допускавших только одно начало всех вещей, как если бы они понимали под этим началом то, из чего вещи состоят, тогда как они подразумевали одно-единственное начало, из которого все вещи произошли, каковое есть Бог70.
Он обвиняет всех древних в том, что они не признавали лишенность одним из начал природных вещей, и считает их из-за этого невежественными и примитивными. Но кто же не видит, что выдаваемое им за великую тайну, до него никем не познанную, было известно каждому, ибо невозможно не видеть, что материи, из которой делают стол, должна быть присуща лишенность формы стола, т. е. она не должна быть столом прежде, чем из нее сделают стол. Правда, древним не приходило в голову воспользоваться подобным знанием для выявления начал природных вещей, так как в действительности нет ничего, что способствовало бы этому в столь малой степени; ведь ясно, что нас не приближает к знанию того, как делаются часы, знание, что материя, из которой их деЛают, не была часами прежде, чем из нее сделали часы.
Следовательно, Аристотель несправедливо упрекал древних философов, что они не знали того, чего просто невозможно не знать, и вменял им в вину, что при объяснении природы они не прибегли к началу, которое ничего не объясняет. Заблуждение и софизм — измышлять начало лишенности, выдавая его за величайшую тайну, ибо, когда ставят перед собой цель открыть начала природы, ищут совсем другое. Предполагая известным, что вещь не существует до того, как она будет создана, хотят знать, из каких начал она состоит и какая причина ее произвела.
Не было на свете ваятеля, который, чтобы научить человека своему искусству, преподал бы ему в качестве первого наставления такой урок, коим, по мнению Аристотеля, надлежит начинать объяснение всех творений природы: «Друг мой, прежде всего ты должен знать следующее: для того чтобы изваять статую, надо выбрать мрамор, который бы еще не был той статуей, какую ты собираешься изваять».
II
Предполагать истинным то, что требуется доказать
Аристотель называет этот софизм предвосхищением основания Совершенно очевидно, что предвосхищение основания противоречит истинному разуму, поскольку во всяком умозаключении то, что служит основанием, должно быть более ясным и более известным, нежели то, что хотят обосновать!
Однако Галилей справедливо обвиняет Аристотеля в том, что он сам допускает такую ошибку, когда хочет обосновать посредством следующего доказательства положение, что Земля находится в центре мира.
Тяжелые предметы по природе своей стремятся к центру мира, а легкие удаляются от него.
Опыт показывает нам, что тяжелые предметы стремятся к центру Земли, а легкие удаляются от него.
Следовательно, центр Земли — тот же, что и центр мира.
Ясно, что в большей посылке этого доказательства есть очевидное предвосхищение основания. Ибо мы, конечно, видим, что тяжелые предметы стремятся к центру Земли, но откуда Аристотелю известно, что они стремятся к центру мира, если он не предполагает, что центр Земли — тот же, что и центр мира? А это и есть заключение, которое он хочет обосновать с помощью приведенного доказательства.
Чистейшее предвосхищение основания допускают также в большинстве доказательств, которыми пользуются, чтобы обосновать некий странный род субстанций, называемый в схоластической философии субстанциальными формами74. Эти субстанции, как утверждают, являются телесными, не будучи телами, — понять это не так-то легко. Если бы не было субстанциальных форм, говорят схоластики, то не было бы возникновения (generation). Но в мире есть возникновение. Следовательно, есть и субстанциальные формы.
Достаточно различать два смысла слова «возникновение», чтобы увидеть, что это доказательство — чистейшее предвосхищение основания. Ибо если под «возникновением» подразумевают естественпое появление нового целого в природе, например образование цыпленка в яйце, тогда есть основание говорить, что в этом смысле возникновение существует; но отсюда нельзя заключить, что существуют субстанциальные формы, поскольку новое целое и новое природное сущее может быть произведено и одним перераспределением частиц в природе. Если же под «возникновением» подразумевают (а чаще всего так оно и есть) появление новой субстанции, которой не было прежде, а именно этой самой субстанциальной формы, тогда предполагается как раз то, что нужно доказать, ибо очевидно, что отрицающий субстапциальные формы не может согласиться с тем, что природа производит субстанциальные формы. И это доказательство никак не заставит его признать, что они существуют; более того, он выведет отсюда прямо противоположное заключение, рассуждая таким образом: если бы были субстанциальные формы, то природа могла бы производить субстанции, прежде не существовавшие; но природа не может производить новые субстанции, поскольку это было бы своего рода творением (creation), и, следовательно, нет никаких субстанциальных форм.
Вот еще одно доказательство подобного рода. Если бы не было субстанциальных форм, говорят схоластики, природные сущие были бы не целокупностями, называемыми per so; totum per se75, а акцидентально сущими; но они являются целокупностями per se; следовательно, субстанциальные формы существуют.
Здесь мы тоже должны попросить тех, кто прибегает к этому доказательству, пояснить, что они разумеют под «целокуппостью per se, totum per se». Если они разумеют под этим, как оно и есть, сущее, состоящее из материи и формы, ясно, что это предвосхищение основания, потому что это то же самое, как если бы они сказали: если бы не было субстанциальных форм, природные сущие не состояли бы из материи и субстанциальных форм; но они состоят из материи и субстанциальных форм; следовательно, субстанциальные формы существуют. А если они разумеют под этим нбчто иное, пусть они изъяснятся, и тогда будет видно, что они ничего не доказывают.
Мы обратили внимание читателей на слабость доказательств, коими схоластики обосновывают субстанции этого рода, которые не открываются ни чувствами, ни умом и о которых не известно ничего, кроме того что их называют субстанциальными формами. Это нужно было сделать потому, что хотя их отстаивают с самыми благими намерениями, однако же основания, при этом выдвигаемые, и идеи, высказываемые относительно субстанциальных форм, затемняют и запутывают совершенно верные и весьма убедительные доказательства бессмертия души, выведенные из разделения тела и духа и из невозможности того, чтобы субстанция, не являющаяся материей, уничтожилась вследствие изменений, происходящих в материи. Ибо приверженцы субстанциальных форм, сами того не сознавая, доставляют вольнодумцам примеры субстанций, которые уничтожаются, не будучи материей в собственном смысле этого слова, и с которыми при рассмотрении живых существ связывают множество мыслей, т. е. чисто духовные действия. Вот почему для пользы религии и для убеждения нечестивых и вольнодумцев важно лишить их возможности выдвигать такое возражение, показав им, что нет ничего столь слабо обоснованного, как эти подверженные уничтожению субстанции, называемые субстанциальными формами.
К рассматриваемому виду софизмов можно отнести также доказательство, выводимое из принципа, который отличен от того, что требуется доказать, но о котором известно, что он тоже оспаривается тем, с кем ведут спор. Возьмем, например, два следующих догмата, принимаемых католиками. Согласно первому, с помощью одного Писания нельзя обосновать все положения вероучения; согласно второму, то, что младенцы способны принять крещение, есть одно из положений вероучения. Значит, анабаптист, который доказывал бы, что католики неправы в том, что младенцы способны принять крещение, поскольку в Писании об этом ничего не сказано, рассуждал бы неверно; ведь такое доказательство предполагало бы, что в вопросах веры надо руководиться лишь тем, что есть в Писании, а это католики отрицают.
Наконец, к данному софизму относятся все умозаключения, в которых неизвестное доказывают через то, что столь же или даже еще более неизвестно, или недостоверное — через то, что столь же или даже еще более недостоверно.
III
Принимать за причину то, что не является причиной
Этот софизм называется non causa pro causa76. Он весьма распространен, и впадают в это заблуждение по-разному. Прежде всего, из-за простого незнания истинных причин вещей. Так, философы приписали боязни пустоты тысячу действий, которые, как подтверждено в наше время и демонстративным путем, и путем весьма искусных опытов, имеют своей причиной только вес воздуха, — это можно видеть в превосходном трактате Г-на Паскаля77. Те же философы обычно утверждают, что сосуды, наполненные водой, разрываются при ее замерзании оттого, что вода сжимается и, таким образом, оставляет пустоту, которой природа не терпит. Однако же признано, что сосуды разрываются только оттого, что замерзшая вода, наоборот, занимает больше места, чем до замерзания; этим объясняется и то, что лед плавает на поверхности воды.
К названному софизму можно отнести и такие умозаключения, когда приводят причины отдаленные и ничего не доказывающие, чтобы доказать вещи, или достаточно ясные сами по себе, или ложные, или, по меньшей мере, сомнительные. Например, Аристотель хочет доказать, что мир совершенен, с помощью такого довода: Мир совершенен, так как он содержит тела; тело совершенно, так как оно имеет три измерения; три измерения совершенны, так как три суть всё (quia tria sunt omnia); три суть всё, так как словом «всё» не пользуются, когда есть только одна вещь или две, но лишь когда их три73. С помощью этого довода мы докажем, что малейший атом столь же совершенен, как и мир, потому что он, равно как и мир, имеет три измерения. Но это вовсе не доказывает, что мир совершенен; наоборот, всякое тело как таковое по самой своей сущности несовершенно и совершенство мира состоит прежде всего в том, что он включает создания, которые не являются телами.
Тот же самый философ доказывает, что есть три простых вида движения, поскольку есть три измерения79. Трудно усмотреть, каким образом одно следует из другого.
Он доказывает также, что небо не подвержено изменениям и уничтожению, поскольку оно совершает круговое движение и поскольку нет ничего, что было бы противоположно круговому Движению. Но, во-первых, не видно, как связана противоположность движения с уничтожением или изменением тела. И, во-вторых, тем более не ясно, почему круговое движение с востока на запад не противоположно обратному круговому движению — с запада на восток.
Другая причина того, что люди впадают в подобный софизм, — глупое тщеславие, из-за которого мы стыдимся признать свое неведение. Ведь именно из тщеславия мы предпочитаем измышлять несуществующие причины тех вещей, которые нас просят объяснить, лишь бы не сознаваться, что мы не знаем их причины, и способ, каким мы уклоняемся от признания своего неведения, довольно забавен. Когда мы наблюдаем действие, причина которого нам неизвестна, мы воображаем, будто открыли ее, если мы связали с этим действием общеа слово сила или способность, не вызывающее в нашем уме никакой другой идеи, кроме той, что у этого действия есть некоторая причина, — что мы прекрасно знали и до того, как нашли это слово. Нет, например, такого человека, который не знал бы о биении пульса; о том, что железо, помещенное вблизи магнита, притягивается к нему; о том, что сенна очищает, а мак усыпляет. Те, кто не хвалится своей ученостью и не стыдится неведения, искренне признают, что им известны эти действия, но они не знают их причины. Ученые ясе, которые от такого признания сгорели бы со стыда, выходят из поло-ясения иначе. Они утверждают, что им удалось открыть истинную причину этих действий, а именно: в артериях есть пульсирующая сила, в магните — магнетическая, в сенне — очистительная, в маке — снотворная. Вот как просто решается затруднение, и любому китайцу было бы так же легко не разделять восторга, вызванного в этой стране ’часами, когда их привезли из Европы. Ему надо было бы только сказать, что он доподлинно знает причину того, что другие находят столь удивительным: в этом механизме есть указательная сила, показывающая время на циферблате, и бьющая сила, отбивающая часы. Таким образом он сделался бы столь же сведущим в часах, как философы — в биении пульса, в свойствах магнита, сенны и мака.
Есть еще другие слова, благодаря которым можно без труда стать ученым, — например, «симпатия», «антипатия», «скрытые качества». Но все эти люди еще не сказали бы ничего ложного, если бы они довольствовались тем, чтобы придать словам сила и способность общее значение какой бы то ни было причины, внутренней или внешней, предрасполагающей или действующей. Ибо несомненно, что в магните есть некая предрасположенность, благодаря которой железо притягивается именно к нему, а не к какому-либо другому камню, и людям позволительно называть эту предрасположенность, в чем бы она ни состояла, магнетической силой. Если они ошибаются, то лишь в том, что воображают, будто стали более учеными, когда нашли это слово, или хотят, чтобы мы понимали под этим некое мнимое качество, благодаря которому магнит притягивает железо, каковое качество ни они сами, ни кто-либо другой никогда не могли постичь.
Но есть и другие люди — те, кто выдает за истинные природные причины чистые химеры, как это делают астрологи, которые всё объясняют влиянием звезд и, исходя из этого, даже нашли, что превыше всех тех небес, кои они наделяют движением, должно существовать неподвижное небо: так как земля приносит в разных странах разное (Non omnis fert omnia tellus; India mittit ebur; molies sua thura Sabaei80), причиной этого, полагают опи, могут быть только влияния неба, которое, будучи неподвижным, всегда обращено одними и теми же частями к одним и тем же местам Земли.
А некий астролог, пытаясь доказать с помощью доводов физики неподвижность Земли, одним из своих главных доказательств делает тот непостижимый довод, что, если бы Земля вращалась вокруг Солнца, влияния звезд были бы обратными, что учинило бы в мире большой беспорядок.
Этими влияниями запугивают народы, когда появляется какая-нибудь комета или происходит большое затмение, подобное затмению 1654 года, которое должно было сокрушить мир, и в первую очередь город Рим, как определенно указывалось в «Хронологии» Гельвикуса — Romae fatalis8l. Между тем нет никакого основания ни для того, чтобы кометы и затмения оказывали сколько-нибудь значительное воздействие на Землю, ни для того, чтобы столь общие причины, как эти, действовали скорее в одном месте, нежели в другом, и угрожали скорее королю или принцу, нежели ремесленнику; мы видим также сотни комет и затмений, которые не сопровождаются никаким заметным действием. И если после комет и затмений иногда случаются войны, мор, эпидемии чумы и смерть какого-нибудь правителя, то ведь это бывает и без пих. К тому же эти явления столь общи и распространенны, что их можно чуть ли не ежегодно наблюдать в каком-нибудь месте земного шара. Поэтому тот, кто бросает пустую фразу: «Эта комета угрожает кому-то из вельмож смертью», мало чем рискует
Еще хуже, когда астрологи выдают эти химерические влияния за причину порочных или добродетельных склонностей людей и даже их поступков и событий их жизни, основываясь только на том, что из тысячи предсказаний некоторые случайно сбываются. Но если мы хотим судить о вещах, руководствуясь здравым смыслом, то надо признать, что свеча, зажженная в комнате роженицы, должна оказывать большее воздействие на ее ребенка, нежели планета Сатурн, под каким бы углом ни посылала на него свои лучи эта планета и как бы она ни располагалась по отношению к другим светилам.
Наконец, есть и такие, кто приводит химерические причины химерических действий, как, например, те, кто, предполагая, что природа боится пустоты и силится ее избежать (что является мнимым действием, ибо природа ничего не боится и все действия, приписываемые этой боязни, обусловлены одной только тяжестью воздуха), приводят основания этой мнимой боязни, еще более мнимые. Природа боится пустоты, говорит один из них, так как для передачи воздействий и для распространения качеств ей нужно, чтобы между телами не было незаполненных промежутков. Странная наука — та, которая доказывает несуществующее посредством несуществующего.
Поэтому прежде чем отыскивать причины каких-либо необыкновенных действий, надо тщательно исследовать, не являются ли эти действия мнимыми; ибо люди часто понапрасну утомляют себя в поисках объяснения несуществующих вещей и многое надо решать так же, как Плутарх решает следующий вопрос, который он себе задает: почему жеребята, которых преследовали волки, бегают быстрее других? Сначала он замечает, что это, возможно, объясняется тем, что более медлительные были схвачены волками и, таким образом, спасшиеся оказались самыми быстрыми, или же тем, что страх придал им необычайную быстроту и они сохранили способность к быстрому бегу, но затем он приводит другое решение, по-видимому, истинное: возможно, говорит он, что это неверно. Именно так надо смотреть на многочисленные действия, приписываемые Луне, например, будто кости полны мозга, когда она полная, и пусты, когда она на ущербе, и то же — в отношении сочности раков. Мы должны просто сказать, что все это ложно, как подтвердили весьма пунктуальные люди, проверившие это: и кости и раки одинаковы во все фазы Луны. Совершенно очевидно, что так же обстоит дело и со многими советами относительно рубки леса, сбора или посева хлебов, прививки деревьев, приема лекарств. Люди постепенно освободятся от всех условностей, не имеющих иного основания, кроме предположений, истинность коих никто никогда не подвергал серьезной проверке. Поэтому неправы те, которые думают, что, если они ссылаются на опыт или на какой-либо факт, приведенных! у какого»либудь древнего автора, это не должно подвергаться сомнению.
К данному виду софизмов следует отнести и такое весьма распространенное заблуждение человеческого ума: post hoc, ergo propter hoc82. «Это произошло сразу же после того-то, следовательно, оно и должно быть причиной этого». Так заключили, что причиной необычайного зноя, стоящего в дни, называемые каникулярными, служит звезда под названием Каникула, почему Вергилий и говорит об этой звезде, именуемой по-латыни Seirius:
Aut Seirius ardor;
Ille sitim morbosque ferens mortalibus aegris Nascitur, et laevo contristat lumine coelum83.
Однако, по весьма справедливому замечанию г-на Гассенди, нет ничего более неправдоподобного, чем этот вымысел. Ведь эта звезда находится по ту сторону экватора и ее действия должны быть сильнее в тех местах, где лучи ее более отвесны; между тем дни, которые мы называем каникулярными, на той стороне являются зим-, ним временем. Так что у жителей той местности Ьольше оснований считать, что Каникула приносит им холод, нежели у нас — думать, что она вызывает в наших краях тепло.
IV
Неполное перечисление
Вряд ли есть такие ошибки, которые ученые мужи допускали бы в своих умозаключениях чаще, нежели неполные перечисления и недостаточно внимательное изучение того, каким способом нечто может существовать или происходить, вследствие чего они делают поспешные заключения или что вещь не существует, потому что она не существует определенным образом, хотя она может существовать иным образом, или что она существует таким-то и таким-то образом, хотя она может существовать и иным образом, чего они не приняли в соображение.
Примеры таких ошибочных заключений можно найти в доказательствах, которыми г-н Гассенди обосновывает начало своей философии, а именно распространенную между частицами материи пустоту, называемую у него vacuum disseminatum. Я приведу эти примеры тем охотнее, что господин Гассенди был человеком весьма известным и обладавшим многими редкими познаниями и потому даже самые ошибки, которые могут обнаружиться в тех многочисленных трудах, что изданы после его смерти, не должны быть оставлены без внимания: они заслуживают того, чтобы их знали, — в отличие от заблуждений, которые мы находим у авторов, не пользующихся славой, ибо было бы совершенно бесполезно обременять ими свою память.
Первое доказательство, применяемое г-ном Гассенди для обоснования этой распространенной пустоты и выдаваемое им в одном месте за доказательство столь же ясное, как и математические, следующее.
Если бы не существовало пустоты и все было заполнено телами, было бы невозможно движение и мир представлял бы собой лишь огромную массу твердой, неподатливой и неподвижной материи. Ибо если мир совершенно заполнен, то никакое тело не может сдвинуться, не заняв при этом место другого; так, если тело А приходит в движение, оно должно сместить другое тело, по меньшей мере равное ему, — В, а В, чтобы прийти в движение, в свою очередь должно сместить третье тело. Но это может происходить лишь двояким образом: либо такое смещение тел продолжается до бесконечности, что нелепо и невозможно, либо оно совершается по кругу и последнее смещенное тело занимает место А.
Здесь пока еще нет неполного перечисления; кроме того, справедливо, что нелепо предполагать, будто, сдвигая какое-то одно тело, сдвигают бесконечное количество тел, которые смещают друг друга; утверждается только, что движение происходит по кругу и что последнее смещенное тело занимает место первого — А, и, таким образом, все оказывается заполненным. Господин Гассенди пытается опровергнуть также и это. Он прибегает к следующему доказательству: первое тело, приводимое в движение, — А, не может двигаться, если не может сдвинуться последнее тело — X. Но тело X не может сдвинуться, так как для того, чтобы сдвинуться, оно должно занять место А, которое еще не свободно, и, значит, поскольку X не может сдвинуться, А также не может прийти в движение; следовательно, все пребывает в неподвижности. Все это умозаключение основано лишь на том предположении, что тело X, соприкасающееся с А, может сдвинуться только в одном случае: если место А будет уже свободным, когда X начнет двигаться, так что до того момента, когда X его займет, будет момент, когда можно будет сказать, что оно свободно. Но это предположение ложно и неполно, потому что тело X может прийти в движение еще в одном случае, а именно: если в тот самый момент, когда оно занимает место А, А покидает свое место. В этом случае ничто не препятствует тому, чтобы А толкало В, В толкало С и так вплоть до тела X и чтобы тело X в тот же момент занимало место А; таким образом будет существовать движение и не будет пустоты.
А что этот случаи возможен, т. е. что тело может занимать место другого тела в тот самый момент, когда это тело покидает свое место, должны признать при любой гипотезе, если только допускают некую непрерывную материю. Представим себе, например, что палка состоит из двух частей. Ясно, что, когда ее перемещают, в тот же самый момент, когда первая часть покидает некоторое пространство, это пространство занимает вторая, и пет такого места, относительно которого можно было бы сказать, что это пространство свободно от первой и не заполнено второй. Зто еще лучше видно на примере железного обруча, вращающегося вокруг своего центра. Каждая часть обруча в тот же самый момент занимает место, покидаемое предшествующей, так что но нужно прпдумывать никакой пустоты. Но если это возможно в железном обруче, то почему это невозможно в круге, который будет состоять частью из дерева и частью из воздуха, и почему, если тело А, состоящее, по предположению, из дерева, толкает и смещает тело В, состоящее, по предположению, из воздуха, тело В не может сместить другое тело, а то, другое, — третье и так до тела X, которое заступит место А в то самое время, когда А его покинет?
Итак, ясно, что ошибка в умозаключении г-на Гассенди связана с тем, что он решил, будто для того, чтобы одно тело заняло место другого, нужно, чтобы это место уже было свободно в предшествующий момент, и не учел, что оно может освобождаться в тот же самый момент.
Другие доказательства, приводимые г-пом Гассенди, взяты из различных опытов, с помощью которых он правильно показывает, что воздух сжимается и что можно впустить новый воздух в пространство, казалось бы, уже совершенно заполненное воздухом, как это видно в мячах и аркебузах.
На основе этих опытов он строит такое умозаключение. Если пространство А, будучи ужо совершенно заполнено воздухом, способно принять под давлением еще некоторое количество воздуха, то либо входящий туда новый воздух должен проникать в пространство, уже занятое другпм воздухом, что невозможно, либо нужно, чтобы воздух, заключенный в пространстве Л, не заполнял его целиком и между частицами воздуха оставались пустые пространства, которые и принимали, бы новый воздух. «Эта вторая гипотеза, — говорит он, — доказывает то, что я утверждаю, а именно что между частицами материи есть пустые пространства, которые могут быть заполнены новыми телами». Но странно, что г-н Гассеп-ди не заметил того, что он делает умозаключение, исходя из неполного перечисления, и что помимо гипотезы о проникновении, которую он справедливо считает противоестественной, и гипотезы о распространенных между частицами материи пустотах, которую он хочет обосновать, есть еще третья гипотеза, о которой он ничего не говорит, и поскольку она вероятна, его доказательство ничего не заключает. Ведь можно предположить, что между более грубыми частицами воздуха есть более тонкая и более легкая материя, способная выходить сквозь поры всех тел, и пространство, казалось бы, заполненное воздухом, может принять новый воздух потому, что эта тонкая материя изгоняется частицами воздуха, которые вталкиваются в это пространство силой, и уступает им место, выходя сквозь поры.
Г-н Гассенди тем более должен был опровергнуть гипотезу о пустотах, что он и сам допускает эту тонкую материю, которая проникает тела и проходит сквозь все поры. Ведь он утверждает, что холод и тепло — это корпускуйы, входящие в поры нашего тела; то же он говорит о свете. Он даже признает, что в известном опыте со ртутью, удерживающейся на высоте двух футов трех с половиной дюймов в трубках большей длины, чем эта высота, и оставляющей сверху пространство, которое кажется пустым и которое, безусловно, не заполнено никакой чувственно воспринимаемой материей, — он признает, говорю я, что неверно утверждать, будто это пространство — абсолютно пустое’, поскольку сквозь него проходит свет, рассматриваемый им как тело.
Таким образом, заполняя Пространства, по его утверждению Пустые, тонкой материей, он нашел бы там столько же места для новых тел, сколько его было бы, если бы они действительно были пустыми.
V
Судить о вещи по тому, что относится к ней лишь случайным образом
Этот софизм называется в школьной логике fallacia accidentis85. В пего впадают, когда выводят безусловное, простое и не ограниченное заключение из того, что истинно лишь случайным образом. Это делают, например, те люди, которые высказываются против сурьмы на том основании, что при неправильном применении она оказывает вредные действия, а также те, которые вменяют красноречию все дурные последствия, к коим оно приводит, когда им злоупотребляют, или относят на счет врачебного искусства ошибки иных невежественных лекарей.
С помощью такого софизма нынешние еретики внушили обманутым народам, что должно отвергнуть как дьявольскпе измышления призыванье святых, поклонение мощам, молитву за умерших, коль скоро в эти религиозные обычаи, утвердившиеся с давних времен, вкрались злоупотребления и суеверие, — как будто благотворные вещи становятся хуже от того, что люди употребляют их во зло.
Подобное ошибочное умозаключение допускают и тогда, когда сопутствующие обстоятельства принимают за истинные причины, как, например, если бы кто обвинил христианскую религию в том, что она была причиной убиения множества людей, которые предпочли смерть отречению от Иисуса Христа, между тем как эти убийства следует отнести не к христианской религии и не к стойкости мучеников, но лишь к неправедности и жестокости язычников. Вследствие такого же софизма добропорядочным людям нередко ставят в вину, что они были причиной всего того зла, коего они могли бы избежать, поступив против своей совести, ибо, если бы они пожелали уклониться от строгого соблюдения закона Божия, этого зла не случилось бы.
Достойный упоминания пример подобного софизма мы видим также в смехотворном умозаключении эпикурейцев, которые пришли к выводу, что боги должны иметь человеческий облик, поскольку из всего сущего в мире только человек пользуется разумом. Ноги, — говорили они, — в высшей степени блаженны; никто не может быть блаженным без добродетели; добродетель предполагает разум; разум же есть только в том, что имеет человеческий облик; следовательно, надо признать, что боги имеют человеческий облик86. Но они были слепы, ибо не видели, что, хотя в человеке мыслящая и умозаключающая субстанция соединена с человеческим телом, однако вовсе не человеческий образ является причиной того, что человек мыслит и умозаключает, — ведь нелепо думать, будто его разум и мышление зависят от того, что у пего есть нос, рот, щеки, две руки, две ноги. И таким образом, со стороны этих философов было ребяческим софизмом заключать, что разум может быть только в существе, имеющем человеческий облик, потому что в человеке он случайно соединен с человеческим обликом.
VI
Переходить от разделительного смысла к соединительному или от соединительного — к разделительному
Один из этих софизмов называется fallacia composi-tionis, другой — fallacia divisionis 87. Их легче понять на примерах.
Иисус Христос говорит в Евангелии, имея в виду чудеса: Слепые видят, хромые ходят, глухие слышат68.
Это может быть истинно, только если брать эти идец по отдельности, а не в соединении, т. е. понимать их в разделительном, а не в соединительном смысле. Ведь дело обстояло не так, что слепые видели, оставаясь слепыми, а глухие слышали, оставаясь глухими, ио те, кто был слеп прежде, теперь, прозрев, уже не были слепымп, и так же — глухие.
В таком же смысле в Писании сказано, что Бог оправдывает нечестивых89. Ибо это не означает, что он считает праведными тех, кто еще нечестив, но только что ои благодатью делает праведными тех, кто был нечестив прежде.
И наоборот, есть предложения, которые истинны только в смысле, противоположном указанному, а именно в соединительном смысле, как, например, когда святой Павел говорит, что злоречивые, блудники, скупые не войдут в царство небесное90. Ибо это но означает, что ни один из тех, кто повинен в перечисленных грехах, не спасется, по лишь что те, которые не отринут их и не обратятся к Богу, не наследуют царства небесного.
Легко увидеть, что нельзя, не впадая в софизм, перейти от одного из этих смыслов к другому и что, к примеру, неверию рассуждали бы те, которые, по раскаявшись в своих преступлениях, прочили бы себе небеса, коль скоро Иисус Христос пришел, чтобы спасти грешников и коль скоро он говорит в Евангелии, что распутные женщины прежде фарисеев будут в царствии Божием91; или же те, которые, напротив, прожив неправедную жизнь, отчаялись бы в своем спасении, не ожидая ничего, кроме кары за свои преступления, ибо сказано, что гнев Божий поразит всех тех, кто живет неправедно, и что все порочные люди не имеют участия в наследии Иисуса Христа. Первые перешли бы от разделительного смысла к соединительному, проча себе, все еще грешникам, то, что обещано лишь тем, которые перестанут быть грешниками через истинное обращение; вторые же перешли бы от соединительного смысла к разделительному, прилагая к тем, которые были грешниками, по перестали быть таковымп, обратившись к Богу, то, что касается только грешников, не избавившихся от своих грехов и продолжающих вести неправедную жизнь.
VII
Переходить от того, что истинно в некотором отношении, к тому, что истинно вообще
Схоластики называют это a dicto secundum quid ad dictum simpliciter92. Вот примеры. Эпикурейцы доказывали, что боги должны иметь человеческий облик, также и тем, что нет облика прекраснее человеческого, а Богу присуще все, что прекрасно93. Это было неверное умозаключение. Ибо человеческий облик есть нечто прекрасное не безусловно, а лишь в отношении к телу; и, таким образом, поскольку он есть нечто совершенное лишь в некотором отношении, а не вообще, отсюда но следует, что он должен быть присущ Богу, коль скоро в Боге есть все совершенства: ведь Богу необходимо присущи только безусловные совершенства, т. е. те, которые не заключают в себе никаких несовершенств.
У Цицерона в III книге трактата «О природе богов»94 приведено смехотворное доказательство, которым Котта опровергает существование Бога. Оно относится к тому же виду ошибочных умозаключений. Как мы можем помыслить Бога, — говорит он, — если ему нельзя приписать никакой добродетели? Скажем ли мы, что он обладает благоразумием? Но так как благоразумие состоит в различении добра и зла, что нужды Богу в таком различении? Ведь его не может коснуться никакое зло. Скажем ли мы, что ему присущи способность понимания (intelligence) и разум? Но способность понимания и разум служат нам для того, чтобы через явное постигать сокровенное. Для Бога же нет ничего сокровенного. В Боге не может быть и справедливости, поскольку она относится лишь к человеческому обществу, также и воздержанности, ибо ему не свойственны наслаждения, которые надлежало бы умерять, также и силы, ибо он не испытывает боли и страданий и не подвержен никакой опасности. Так как же может быть Богом то, что не обладает ни умом, ни добродетелью?
Трудно представить себе что-либо более несообразное, чем этот способ рассуждения. Точно так же крестьянин, не видавший никаких других домов, кахс только крытых соломой, услышав, что в городах нет соломенных крыш, мог бы заключить отсюда, что в городах нет домов и их обитатели очень несчастны, ибо им негде укрыться от ненастья. Именно так рассуждает Котта или, вернее, Цицерон. «В Боге не может быть добродетелей, подобных тем, какие есть в людях; следовательно, в Боге не может быть добродетели». Вот что удивительно: он делает вывод, что в Боге нет добродетели, только потому, что в Боге не может быть несовершенства, заключенного в человеческой добродетели. Таким образом, что Бог не обладает умом, доказывается тем, что от пего ничего не скрыто, — иными словами, он не видит ничего, ибо он видит все; что он ничего не может — тем, что он может все; что он не наслаждается никаким благом — тем, что он владеет всем.
VIII
Злоупотреблять двусмысленностью слов, что можно делать двояким образом
К этому виду софизмов95 относятся все силлогизмы, которые ложны оттого, что в них оказывается четыре термина — или потому, что среднее в них дважды берется как частпое, или потому, что оно понимается в первом предложении в одном смысле, а во втором — в другом смысле, или, наконец, потому, что термины заключения понимаются в посылках в ином смысле, нежели в заключении. Слово «двусмысленность» мы применяем по только к тем словам, которые явно неоднозначны и поэтому почти никогда не вводят в заблуждение, — мы разумеем под ним все, что склоняет людей изменить смысл слова, особенно когда им трудно заметить подмену, так как они принимают разные вещи, обозначенные одним и тем же звуком, за одно и то же. Здесь можно обратиться к изложенному в конце первой части, где говорилось о средстве против смешения двусмысленных слов — о том, что мы должны определять их с такой четкостью, чтобы они никого не могли ввести в заблуждение.
Поэтому я просто приведу несколько примеров двусмысленности, иногда вводящей в заблуждение ученых мужей. Такова двусмысленность, заключенная в словах, которые обозначают некое целое и могут быть поняты либо собирательно — как обозначающие все его части в совокупности, либо распределительно — как обозначающие каждую из его частей. На этом основан следующий софизм стоиков, заключавших, что мир есть живое существо, наделенное разумом. То, что пользуется разу-мом, — говорили они, — лучше того, что им не пользуется. Нет ничего, что было бы лучше мира. Следовательно, мир пользуется разумом96. Меньшая посылка этого доказательства ложна, так как они приписывают миру то, что присуще одному лишь Богу, а именно свойство быть таким, чтобы нельзя было помыслить ничего лучше и совершеннее. Но даже если мы ограничимся творениями, то хотя можно было бы сказать, что нет ничего лучшего, нежели мир, понимая слово «мир» собирательно — как совокупность всего созданного Богом, однако помимо этого о мире можно заключить лишь то, что он пользуется разумом в некоторых своих частях, таких, как ангелы и люди, а не то, что все целое есть живое существо, пользующееся разумом.
Точно так же мы построили бы неправильное умозаключение, если бы сказали: «Человек мыслит; человек состоит из тела и души; следовательно, тело и душа мыслят». Ибо для того чтобы можно было отнести мышление ко всему человеку, достаточно, чтобы мыслила одна его часть, из чего отнюдь не следует, что мыслит и другая.
IX
Делать общее заключение на основе недостаточной индукции
Об индукции мы говорим тогда, когда исследование многих частных вещей приводит нас к познанию общей истины. Например, когда в отношении многих морей убедились, что вода в них соленая, а в отношении многих рек — что вода в них пресная, сделали общее заключение, что морская вода соленая, а речная — пресная. Различные опыты, показывающие, что вес золота не уменьшается под действием огня, позволили заключить, что это верно для всякого золота. И так как не обнаружено народа, который бы не обладал речью, считается весьма достоверным, что все люди обладают речью, т. е. для обозначения своих мыслей пользуются звуками.
С индукции начинаются все паши познания, потому что единичное представляется пам прежде всеобщего, хотя всеобщее и служит затем для познания единичного
Но, однако, индукция сама по себе не может быть верным средством достигнуть совершенного знания, как мы покажем в другом месте, потому что рассмотрение единичных вещей является только поводом к тому, чтобы наш ум обратил внимание на свои врожденные идеи, сообразуясь с которыми ои судит об истине вещей в общем, В самом деле, мне, возможно, никогда не пришло бы в голову рассматривать природу треугольника, если бы моим глазам не представился треугольник, который дал мне повод о нем подумать. Однако вывести достоверное и общее заключение, что площадь всякого треугольника равна площади построенного на его основании прямоугольника, высота которого составляет половину его высоты, мне позволило не исследование всех отдельных треугольников, ибо такое исследование было бы невозможно, а одно лишь рассмотрение того, что заключено в идее треугольника, которую я нахожу в моем уме.
Как бы то ни было, оставим обсуждение этого вопроса для другого места97; скажем здесь только, что недостаточная индукция, т. е. та, которая не является полной, часто бывает причиной заблуждений, и ограничимся тем, что приведем примечательный пример подобной ошибки.
Все философы до педавнего времени считали несомненной истиной, что если цилиндр с поршнем плотно закупорен, то невозможно вытянуть из него поршень, пе. разорвав цилиндра, и что воду с помощью всасывающих насосов можно поднять на любую высоту. В этом были так твердо убеждены потому, что полагали, будто подтвердили это путем совершенно достоверной индукции, проделав множество опытов. Но и то и другое оказалось ложным: были произведены новые опыты, которые показали, что поршень из цилиндра, как бы плотно он ни был закупорен, можно вытянуть, если только приложить к нему силу, равную весу столба воды высотой более тридцати трех футов, имеющего ту же толщину, что и цилиндр, и что с помощью всасывающего насоса невозможно поднять воду на высоту более 32 — 33 футов.
Глава XX
О НЕПРАВИЛЬНЫХ УМОЗАКЛЮЧЕНИЯХ,
ДОПУСКАЕМЫХ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ
И В ОБЫДЕННЫХ РАЗГОВОРАХ
Мы привели несколько примеров наиболее распространенных ошибок, допускаемых людьми в рассуждениях по научным вопросам. Но так как эти вопросы не являются главной областью применения разума, ибо от них мало зависят наши поступки и заблуждаться в них даже менее опасно, то, без сомнения, было бы гораздо полезнее рассмотреть в общих чертах, что приводит людей к ложным суждениям, какие они выносят в самых различных вопросах, и особенно в том, что касается нравственности и всего прочего, имеющего большое значение для повседневной жизни и служащего обычным предметом их бесед. Однако для воплощения такого замысла потребовалось бы написать особое сочинение, которое вмещало бы почти всю науку о нравах; поэтому мы ограничимся тем, что покажем здесь в общем виде только некоторые из причин этих столь распространенных у людей ложных суждений.
Мы не проводим различия между ложными суждениями и неправильными умозаключениями и исследуем причины как тех, так и других, — во-первых, потому, что ложные суждения являются источником неправильных умозаключений и с необходимостью приводят к ним; во-вторых, потому, что на самом деле в том, что кажется пам простым суждением, почти всегда Содержится неявное и свернутое умозаключение, ибо всегда есть нечто, что служит причиной и основанием данного суждения. Например, когда выносят суждение, что палка, кажущаяся в воде переломленной, действительно такова, это суждение основано на том ложном общем положении, что предметы, которые представляются нашим чувствам переломленными, действительно таковы, и, следовательно, оно содержит в себе умозаключение, хотя и не развернутое. Итак, мы будем рассматривать причины наших заблуждений в целом. Нам думается, что их можно свести к двум основным: это внутренняя причина, а именно вмешательство воли, нарушающей и расстраивающей способность суждения98, и внешняя, каковой являются предметы, о которых выносят суждение и которые обманывают ум ложной видимостью. Хотя эти причины почти всегда сопутствуют друг другу, все же одни заблуждения вызваны скорее первой из них, а другие — второй; поэтому мы рассмотрим их по отдельности.
Софизмы самолюбия, личного интереса и страсти
I
Если как следует разобраться, что обычно заставляет людей придерживаться одного мнения, а не другого, то обнаружится, что это не знание истины и не сила доводов, а узы самолюбия, личного интереса или страсти. Это груз, который склоняет чашу весов и, как правило, определяет наш выбор в случае колебапий; это главное, что движет нами, когда мы выносим суждения, и укрепляет нас в наших мнениях. Мы судим о вещах не по тому, каковы они сами по себе, а по тому, каковы они по отношению к нам; истинность и полезность для пас одно и то же.
Этому но требуется иных подтверждений, помпмо того, что мы видим каждодневно: вещи, повсюду почитаемые сомнительными или даже ложными, считаются совершенно достоверными у людей какой-либо одной национальности или одного рода занятий или же у всех приверженцев какого-либо учения. Поскольку невозможно, чтобы то, что истинно в Испании, было ложным во Франции или чтобы все испанцы столь отличались ио своему паправ-лепию ума от всех французов, что, если судить о вещах согласно правилам разума, суждение, истинное с точки зрения любого испанца, казалось бы ложным любому французу, — постольку очевидно, что это различие в суждениях не может быть вызвано ничем иным, кроме как тем, что одни считают истинным то, что им выгодно, а другие, пмея своп интерес, рассуждают иначе.
Но есть ли что-нибудь более неразумное, чем верить во что-либо на основании одного только собственного интереса? Личная заинтересованность может, самое большее, побудить нас более внимательно рассмотреть доводы, которые, возможно, помогут нам выявить истинность того, что мы хотели бы считать истинным, но убедить нас должна только истина самих вещей, не зависящая от наших желаний. «Я живу в такой-то стране, следовательно, я должен верить, что такой-то святой проповедовал здесь Евангелие». «Я принадлежу к такому-то сословию, следовательно, я должен верить, что такая-то привилегия оправданна». Это не доводы. К какому бы сословию вы ни принадлежали и в какой бы стране ни жили, вы должны верить лишь в то, что истинно и во что вы были бы расположены верить, если бы жили в другой стране, принадлежали к другому сословию н имели другой род занятий.
II
Эта иллюзия еще более очевидна, когда происходит перемена в страстях; ибо, хотя все остается на своих местах, людям, волнуемым новой страстью, кажется, будто перемена, происшедшая на самом деле только у них в сердце, коснулась и всех внешних вещей, имеющих какое-то отношение к их страсти. Сколько мы видим людей, которые уже не могут признать никакого достоинства — ни прирожденного, ни благоприобретенного, в тех, к кому они прониклись отвращением, или в тех, кто оспаривает их мнение по какому-нибудь вопросу или поступает вопреки их желаниям и интересам! Этого достаточно, чтобы сразу стать в их глазах безрассудными, спесивыми, невежественными, по имеющими ни веры, ни чести, ни совести. Их привязанности и желания столь же неоправданны и неумеренны, как и их ненависть. Если они кого-нибудь любят, для них это человек без недостатков. Все, чего они желают, оправданно и легко, все, что им неугодно, неоправданно и невозможно. Для всех этих суждений они не могут привести никакого основания, кроме самой овладевшей ими страсти. Таким образом, хотя они и не составляют в уме явного умозаключения: «Я его люблю, следовательно, это самый ученый человек на свете»; «Я его ненавижу, следовательно, это человек ничтожный», — они в каком-то смысле составляют его в своем сердце. Поэтому заблуждения подобного рода можно назвать софизмами и иллюзиями сердца; они состоят в том, что мы переносим наши страсти на самые предметы этих страстей, заключая, что они суть то, чем мы хотим их видеть, а это, конечно же, верх нелепости, ибо наши желания ничего не меняют в бытии того, что от нас не зависит, и один только Бог обладает столь действенной волей, что вещи суть всё, чем он желает их видеть.
III
К этой же иллюзии самолюбия можно отнести самообольщение тех людей, которые решают любые вопросы, исходя из весьма общего и весьма простого принципа, а именно что они правы, что им известна истина. Из этого им нетрудно заключить, что все, кто не разделяет их мнений, ошибаются; действительно, такое заключение следует отсюда с необходимостью.
Заблуждение подобных людей проистекает только из того, что, будучи весьма высокого мнения о собственном уме (lumierc), они воображают, будто все их мысли настолько ясны и очевидны, что достаточно их высказать — и все признают их истинность; поэтому они не заботятся о подтверждении своих мыслей, не прислушиваются к доводам других и всегда стараются взять авторитетом, ибо разум и их личный авторитет для них неразделимы. Они считают верхоглядами всех тех, кто расходится с ними во мнениях, и не принимают в соображение, что если другие не разделяют их мнений, то ведь и они не разделяют мнений других и что не должно предполагать свою правоту как нечто само собой разумеющееся, когда мы хотим переубедить людей, придерживающихся иного мнения только потому, что они уверены в нашей неправоте.
IV
Есть и такие, кто отвергает те или иные мнения на основании следующего забавного умозаключения: «Если бы это было так, то я не был бы сведущим человеком; но я сведущий человек; следовательно, это не так». Это главная причина, заставлявшая людей долгое время отвергать некоторые весьма полезные средства и совершенно неоспоримые опыты, потому что у тех, кто о них узнавал, возникала мысль, что, стало быть, они до сих пор заблуждались. «Если бы кровь, — говорили они, — совершала в теле кругообращение; если бы было неверно, что питательные соки поступают в печень по междольковым венам; если бы кровь в сердце несла венозная артерия; если бы кровь поднималась по нижней полой вене; если бы природа не боялась пустоты; если бы воздух обладал весом и своей тяжестью давил вниз, — все это означало бы, что я недостаточно сведущ в анатомии и физике, раз мне неизвестны столь важные истины. Следовательно, так быть не должно». Но чтобы они отрешились от этой мысли, надо только убедпть их, что человеку простительно ошибаться и что они останутся сведущими в других вопросах, даже если они не будут знать о новых открытиях.
V
Очень часто доводится слышать, как люди обращают друг к другу одпи и те же упреки, называя друг друга, к примеру, упрямыми, пристрастными, придирчивыми, когда они придерживаются разных мнений. Мало бывает таких тяжб,, чтобы спорящие не обвиняли друг друга в затягивании процесса и в сокрытии правды с помощью хитросплетений, так что правые и неправые говорят почти что одним языком, сетуют на одно и то же и приписывают друг другу одни и те же пороки. Это одна из наших главных бед: истина и заблуждение, справедливость и несправедливость окутываются из-за этого столь густым мраком, что большинство людей неспособно их различить; поэтому многие наугад и вслепую присоединяются к одной из сторон, а иные осуждают обе стороны как равно заблуждающиеся,
Порождается эта странность той же болезнью, пз-за которой каждый исходит из принципа, что он прав: ведь отсюда нетрудно заключить, что все, кто нам перечит, упрямы, поскольку быть упрямым — значит не соглашаться с тем, кто прав.
Хотя упреки в пристрастности, в слепоте, в придирках, совершенно несправедливые со стороны людей заблуждающихся, справедливы и законны со стороны тех, кто не заблуждается, однако же; поскольку эти упреки предполагают, что истина на стороне того, кто их высказывает, люди умные и рассудительные, обсуждая какой-либо спорный вопрос, должны воздерживаться от них, пока не подтвердят правоту дела, которое они защищают. И значит, они никогда не станут обвинять своих противников в упрямстве, безрассудстве, отсутствии здравого смысла, пока это не будет ими доказано. Они не станут говорить, если они этого еще не показали, что те впадают в несносные нелепости и сумасбродства, — ведь и другие, со своей стороны, скажут о них то же самое, и спор зайдет в тупик. Таким образом, они предпочтут придерживаться очень верного правила святого Августина: Omittamus ista communia, quae dici ex utraque parte possunt, licet vere dici ex utraque parte non possint". Они удовольствуются тем, что будут защищать истину подобающим ей оружием, которым не сумеет воспользоваться ложь: это оружие — ясные и основательные доводы.
VI
Человек по природе своей не только самолюбив — ом еще и ревнив, завистлив, злобен по отношению к другим людям. Ему трудно примириться с тем, что у кого-то есть преимущество перед ним: он хочет, чтобы всеми преимуществами обладал только он один; а так как знать истину и нести людям новый свет — это определенное преимущество, человек втайне алчет похитить у других эту славу, что часто заставляет его безосновательно оспаривать чужие мысли и изобретения.
Таким образом, если самолюбие часто побуждает людей делать нелепое умозаключение: «Это мнение, к которому я пришел, это мнение моего сословия, это суждение, для меня приемлемое; следовательно, оно истинно», то природная злоба нередко побуждает их делать другое умозаключение, не менее абсурдное: «Это сказал не я, а другой, следовательно, это ложно; эта книга написана не мною, следовательно, она никуда не годится».
В этом источник столь свойственного людям духа противоречия. Когда они слышат что-то от других или читают что-либо написанное другйми, они не склонны останавливать свое внимание на доводах, которые могли бы их убедить, а стараются только найти доводы, с помощью которых они могли бы это опровергнуть. Они всегда стоят на страже против истины и помышляют лишь о том, как бы ее отвергнуть и затемнить, в чем они почти всегда достигают успеха, ибо плодовитость человеческого ума в измышлении ложных доводов неистощима.
Этот порок, развитый сверх всякой меры, является одним из главных признаков педантства: ведь для педанта величайшее удовольствие — мелочно придираться к другим и злобно оспаривать все подряд. Но часто он более скрыт, и можно даже сказать, что от него не свободен ни один человек, так как он коренится в самолюбии, а самолюбие в людях неистребимо.
Знание того, что в глубине души люди настроены злобно и завистливо, позволяет установить одно из важнейших правил, которые надо соблюдать, чтобы не ввергать в заблуждение тех, с кем мы говорим, и не давать им уклоняться от истины, в коей мы хотим их убедить. Оно состоит в том, чтобы возбуждать в них как можно меньше зависти и ревности, говоря о себе или о предметах, которые могли бы вызвать у них эти чувства.
Ибо люди, питая любовь лишь к себе самим, не терпят, чтобы другой обращал на себя их внимание и хотел, чтобы на пего смотрели с уважением. Все, что они по относят к самим себе, им ненавистно и докучно, и враждебность к людям обычно оборачивается у них враждебным отношением к тем или иным мнениям и доводам. Поэтому умные люди не выставляют перед другими своих преимуществ. Они не стремятся быть на виду и, наоборот, стараются затеряться в общей массе и быть незаметными, дабы в их речах воспринимали одну только высказанную ими истину.
Покойный господин Паскаль, сведущий в истинном красноречии, как никто другой, утверждал, что добропорядочный человек должен избегать называть свое имя и даже пользоваться словом я. Он часто говорил, что христианское благочестие обращает человеческое я в ничто, а людская благопристойность прячет его и убирает. Нельзя сказать, что это правило следует соблюдать неукоснительным образом: бывают случаи, когда пытаться избежать этого слова значило бы понапрасну затруднять себя; по полезно всегда иметь его в виду, чтобы не усвоить дурную привычку иных людей, говорящих только о себе и всюду заявляющих себя, когда их мнения никто не спрашивает. Это дает повод тем, кто их слушает, подозревать, что столь частное обращение взора на самих себя вызвано тайным самодовольством, постоянно направляющим их внимание на этот предмет их любви, так что у слушающих естественно возникает скрытое отвращение к подобным людям и ко всему, что они говорят. Отсюда ясно, что совершенно недостойна добропорядочного человека та чорта, которую явил Монтень, рассказывающий читателям только о своих настроениях, склонностях, фантазиях, болезнях, о своих добродетелях и пороках, и что эта черта порождается недостатком способности суждения, равно как и сильнейшим себялюбием. Правда, он, как может, старается отвести от себя подозрение в обыкновенном низком тщеславии, непринужденно говоря о своих недостатках, так же как и о своих достоинствах. Из-за видимости искренности в этом есть что-то располагающее; по нетрудно убедиться, что все это только игра и уловка, которая представляет его в еще более отвратительном виде. Он говорит о своих пороках только для того, чтобы поведать о них, а вовсе не для того, чтобы внушить отвращение к ним. Он не считает, что из-за них его надо меньше уважать; он смотрит на них чуть ли не с безразличием и видит в них нечто скорее утонченное, нежели постыдное. Если он их открыто признает, то лишь потому, что они его мало волнуют и он убежден, что от них он не становится ни более низким, ни более презренным человеком. Когда же у него есть опасение, что какой-то порок малость роняет его, он скрывает его более ловко, чем кто-либо другой. Один известный современный автор остроумно замечает по этому поводу 10°, что, потрудившись без всякой надобности уведомить нас в двух местах своей книги, что у него был паж — лицо ненужное в доме дворянина с шестью тысячами ливров годового дохода, — он не потрудился рассказать нам и о том, что у него был подъячий, так как он когда-то был советником бордоского парламента. Эта должность, сама по себе весьма почетная, не удовлетворяла его тщеславия, ибо он везде выказывал умонастроение дворянина и рыцаря и чуждость судейской мантии и тяжбам101,
Однако он, уж верно, не утаил бы от нас этого обстоятельства своей жизни, если бы мог выискать какого-нибудь маршала Франции, бывшего в прошлом советником в Бордо. Ведь он охотно сообщил нам, что был мэром этого города, но лишь после того как уведомил нас, что принял эту должность от господина маршала де Бирона и оставил ее господину маршалу де Матиньопу102.
Но тщеславие — не самая большая беда этого автора. Его писания исполнены столь многочисленных постыдных гнусностей и нечестивых эпикурейских правил, что странно, как это они так долго ходили по рукам, и удивительно, что даже некоторые умные люди не распознали в них отравы.
Чтобы убедиться в его вольнодумстве, не требуется иных доказательств, помимо самой его манеры говорить о своих пороках. Признавая в нескольких местах, что он участвовал во многих преступных распрях, он, однако же, в других местах заявляет, что ни в чем не раскаивается и что, если бы ему довелось прожить еще одну жизнь, он жил бы так, как прожил. Что до меня, — говорит он, — то, вообще говоря, я могу хотеть быть другим, могу осуждать себя в целом и не нравиться сам себе и умолять Бога о полном моем преображении и о том, чтобы он простил мне природную слабость. Но все это, по-моему, я могу называть раскаянием не более, чем мое огорчение, что я не ангел и не Катон. Мои поступки по-своему упорядочены и находятся в соответствии с тем, что я есть, и с моими возможностями. Делать лучше я не могу. Раскаянье, в сущности, не распространяется на те вещи, которые нам не по силам. Я никогда не вынашивал в себе чудовищной мысли напялить на голову и тело того, кто, в сущности, уже мертв, — а что иное я представляю собой? — колпак и халат философа и никогда не стремился к тому, чтобы это жалкое рубище осудило и унизило самую яркую, лучшую и продолжительную часть моей жизни. Если бы мне довелось прожить еще одну жизнь, я жил бы так же, как прожил, я не жалею о прошлом и не страшусь будущего1С3. Ужасные слова, свидетельствующие о полной утрате всякого религиозного чувства, но достойные того, кто говорит в другом месте: Опустив голову, в полном оцепенении, погружаюсь я в смерть, не рассматривая и не узнавая ее, словно в мрачную и немую пучину, которая тотчас смыкается надо мной и сковывает меня неодолимым, беспробудным, бесчувственным сном 10\ И в другом месте: Каких-нибудь четверть часа страданий, после чего все кончается и не воспоследует никаких новых мук, не стоят того, чтобы к ним особо готовиться.
Хотя это отступление кажется довольно далеким от нашей темы, оно, однако, имеет к ней непосредственное отношение, потому что пет такой книги, которая в большей мере поощряла бы дурную привычку говорить о самом себе, быть запятым самим собой и притязать на то, чтобы тобой были заняты и другие. Это до крайности развращает разум — и в нас самих, так как подобным речам всегда сопутствует тщеславие, и в других, так как эти речи вызывают у них досаду и отвращение. Говорить о себе позволительно только людям исключительной добродетели, которые уже тем, как они это делают, свидетельствуют, что если они предают гласности свои добрые дела, то лишь для того, чтобы побудить других воздать за это хвалу Богу, или же затем, чтобы их наставить, и если они рассказывают о своих проступках, то лишь для того, чтобы уничижить себя перед людьми и отвратить их от подобных проступков. Но для людей обыкновенных осведомлять других о своих ничтожных преимуществах — нелепое тщеславие, а расписывать своп беспутства, нисколько о них не сокрушаясь, — бесстыдство, достойное наказания, ибо крайняя степень закоснения в пороке — не краснеть от него и не испытывать ни смущения, ни раскаяния, а говорить о нем с безразличием, как о любой другой вещи, в чем, собственно, и состоит дух Монтеня.
VII
От злобного и ревнивого прекословия несколько отличается другая настроенность, не столь предосудительная, но порождающая те же ошибки в умозаключениях. Это страсть к спорам, также являющаяся недостатком, который очень вредит уму.
Было бы неверно порицать споры вообще; напротив, можно сказать, что если их правильно вести, нет ничего, что открывало бы большие возможности и для того, чтобы найти истину, и для того, чтобы убедить в ней других. Ум, занятый только исследованием какого-либо предмета, обыкновенно слишком холоден и слишком вял; ему нужен некоторый пыл, оживляющий его и пробуждающий в нем идеи. К тому же именно благодаря различным возражениям, которые нам приходится выслушивать, мы обычно обнаруживаем, в чем заключаются трудность и неясность, и делаем усилие, чтобы их преодолеть.
Но насколько это упражнение полезно, когда спорят с толком и без всякого пристрастия, настолько же оно и опасно, когда им злоупотребляют и считают делом чести отстоять свое мнение любой ценой, опровергнув мнение других. Подобная настроенность, как ничто другое, способна отдалить нас от истины и ввергнуть в заблуждение. Незаметно для себя мы привыкаем черпать доводы отовсюду и пренебрегать чужими доводами, так как мы постоянно отказываемся их признавать; это постепенно приводит к тому, что для пас уже не остается ничего достоверного и мы смешиваем истину с заблуждением, рассматривая то и другое как одинаково правдоподобное. Поэтому немногие вопросы разрешаются путем спора и очень редко бывает, чтобы два философа пришли к согласию. Мы всегда стараемся возражать и защищаться, потому что боимся не заблуждения, а молчания и считаем, что не так стыдно постоянно заблуждаться, как признавать своп ошибки.
Вот почему, если мы не научились благодаря длительному упражнению хорошо владеть собой, в спорах очень трудно не потерять из виду истину, ибо мало какие действия возбуждают больше страстей. «Каких только пороков они не пробуждают, — говорит один знаменитый автор, — ведь ими почти всегда управляет гнев!106 Враждебное чувство вызывают в пас сперва доводы противников, а затем и сами люди. Мы учимся в споре лишь возражать, а так как каждый только возражает и выслушивает возражения, это приводит к тому, что теряется, уничтожается истина. Один из спорщиков устремляется на запад, другой — на восток, оба они теряют из виду самое главное, плутая в дебрях несущественных частностей. После часа бурного обсуждения они уже сами не знают, чего ищут: один погрузился на дно, другой залез слишком высоко, третий метнулся в сторону. Тот цепляется за одно какое-нибудь слово или сравнение; этот настолько увлекся своей собственной речью, что не слышит собеседника и отдается лишь ходу своих мыслей, не обращая внимания на ваши. А третий, сознавая свою слабость, всего боится, все отвергает, с самого начала путает слова и мыслп или же в разгаре спора вдруг раздраженно умолкает, напуская на себя горделивое презрение от досады на свое невежество либо из глупой ложной скромности уклоняясь от возражений. Одному важно только наносить удары и все равно, что прп этом он открывает свои слабые места. Другой считает каждое свое слово, и они заменяют ему доводы. Одип действует только силой своего голоса и легких. Другой делает выводы, противоречащие его же собственным положениям. Этот забивает ваш ум пустословием всяческих предисловий и отступлений в сторону. Тот вооружен лишь бранными словами и ищет любого пустякового предлога, чтобы рассориться и тем самым уклониться от беседы с человеком, с которым он не может тягаться умом». Таковы обычные пороки наших споров, довольно искусно изображенные этим писателем, который, не ведая истинного величия человека, хорошо знал его недостатки. Все это показывает, до какой степени беседы подобного рода могут расстроить ум, если мы по прилагаем стараний к тому, чтобы не только не допускать первыми подобных оплошностей, по и не следовать примеру тех, кто их допускает, и, видя их заблуждения, самим не заблуждаться и не отклоняться от своей цели, — а целью для пас должно быть только прояснение обсуждаемой истины.
VIII
Находятся людп — преимущественно среди тех, кто часто бывает при дворе, — которые, хорошо сознавая, сколь досаден и пеприятеп этот дух противоречия, избирают прямо противоположный путь: они ничего не оспаривают, а одинаково всё хвалят и одобряют. Такая настроенность называется снисходительностью; она более способствует успеху, по столь же неблагоприятна для способности суждения, ибо, как прекословящие принимают за истинное противоположное тому, что пм говорят, так снисходительные, кажется, считают истинным все, что слышат, и эта привычка портит сначала их речь, а затем и ум.
Не случайно похвалы сделались столь привычными; их раздают кому попало, и уже неизвестно, что за ними кроется. Нет в «Газете»107 проповедника, который но принадлежал бы к числу самых красноречивых и не восхищал бы слушателей глубиной своих познаний; всякий, кто умирает, являет собой образец благочестия; самые незначительные авторы могли бы составить целые книги из хвалебных отзывов, полученных ими от друзей. При таком обилии бездумно расточаемых похвал можно только удивляться, что есть люди, столь жадные до восхвалений и так бережно хранящие в памяти все похвалы, какие им воздают.
Эта сумятица в языке не может по породить подобной же сумятицы в уме, и тот, кто привыкает все хвалить, привыкает и все одобрять. Но даже если бы ложь содержалась только в словах, а ие в уме, одного этого было бы достаточно, чтобы отвратить от нее тех, кто искрение любит истину.
Нет необходимости бранить все, что мы видим дурного; но хвалить падо лишь то, что поистине достойно похвалы. Иначе у тех, кого хвалят понапрасну, порождают иллюзии, тех, кто судит об этих людях по таким похвалам, вводят в заблуждение, а тем, кто действительно заслуживает похвал, наносят ущерб, воздавая им такие же хвалы, как и людям, их не заслуживающим; наконец, пустыми похвалами подрывают всякое доверие к языку и затуманивают идеи, обозначаемые словами, так что слова становятся уже не знаками наших суждений и мыслей, а только знаками внешней учтивости по отношению к тем, кого мы хвалим, чем-то вроде поклона, ибо это все, что кроется за обычными похвалами и комплиментами.
IX
Говоря о различных путях, коими самолюбие ввергает людей в заблуждение или, вернее, укрепляет нх в заблуждении и мешает им преодолеть его, не следует забывать тот, который, •несомненно, является одним из самых главных и самых обычных. Это желание отстоять какое-то мнение, которого придерживаются не потому, что оно истинно, а по другим соображениям. Когда человек решил защищать свое мнение до конца, он уже не смотрит, истинны или ложны приводимые им доводы, — ему важно одно: могут ли они убедить в том, что он отстаивает. он прибегает к самым различным доказательствам, и правильным, и ошибочным, чтобы убедить всякого, и подчас даже высказывает мысли, как ему прекрасно известно, совершенно ложные, только бы достичь своей цели. Вот некоторые примеры.
Разумный человек никогда не заподозрит Монтеня в том, что он верил во все бредни астрологии судеб; по когда они нужны ему, чтобы попусту принижать людей, он считает возможным использовать их в качестве доводов. Если мы примем в соображение, — говорит он, — какую власть имеют эти тела не только над нашей жизнью и судьбой, но даже над нашими наклонностями, которыми они управляют, поддерживая и возбуждая их своими влияниями, как мы можем лишить их души, жизни и разума?108
Оспаривает ли он преимущество людей перед животными, выражающееся в словесном общении, — он передает нам вздорные россказни, нелепость которых известна ему лучше, чем кому-либо другому, и выводит из ппх еще более вздорные заключения. Некоторые люди, — говорит он, — хвалились, что понимают язык животных, например, Аполлоний Тианский, Меламп, Тиресий, Фалес и другие, и коль скоро, как утверждают космографы, есть народы, которые ставят над собой царем собаку, они должны определенным образом истолковывать ев лай и движения109.
На этом основании можно заключить, что, когда Калигула сделал консулом своего коня, он непременно должен был понимать распоряжения, отдаваемые конем при исполнении этой должности. Но мы бы ошиблись, если бы приписали это неверное заключение самому Монтепю: его замысел состоял не в том, чтобы высказать нечто разумное, а в том, чтобы свалить в одну кучу все, что можно сказать нелестного о людях, чтс, однако, обнаруживает порок, несовместимый с правильностью ума и искренностью добропорядочного человека.
А кого не возмутит другое умозаключение того же автора, относительно предзнаменований, которые язычники усматривали в полете птиц и над которыми наиболее мудрые из них смеялись? Самыми древними и самыми верными из всех тех предсказаний, которые делались в прошлые времена, — говорит он, — были предсказания по полету птиц. Есть ли в нас что-либо похожее или столь замечательное? Правильность и закономерность взмахов их крыльев, по которым судят о предстоящих вещах, — эти замечательные действия должны направляться каким-то изумительным способом, ибо приписывать эту выдающуюся способность какому-то естественному велению, не связывая его ни с разумом, ни с пониманием, ни с волей того, кто производит эти движения, — точка зрения, лишенная смысла и очевидно ложная110.
Не забавно лп, что человек, для которого не существует ничего очевидно истинного или очевидно ложного, в трактате, написанном специально для того, чтобы обосновать пирропизм и сокрушить очевидность и достоверность, всерьез преподносит нам эти бредни как несомненные истины и рассматривает противоположное мнение как очевидно ошибочное? Но он попросту смеется над нами, когда говорит подобные вещи, и непростительно ему потешаться над своими читателями, говоря им то, во что он не верит и во что не может поверить человек, пребывающий в здравом уме.
Он был, без сомнения, таким же хорошим философом, как и Вергилий, который не усматривал у птиц ума, коему можно было бы приписать определенные изменения, наблюдаемые в их движениях в зависимости от состояния воздуха и позволяющие строить предположения о дождливой или ясной погоде, как можно видеть из этих чудесных стихов «Георгии»:
Non equidem credo quia sit divinitus illis Ingenium, aut rerum fato prudentia major; Verum ubi tempestas et coeli mobiiis humor Mutavere vias, et Jupiter humidus austris Densat erant quae rara modo, et quae densa relaxat; Vertuntur species animorum, et pectora motus Nunc hos, nunc alios, dum nubila ventus agebat, Concipiunt: bine ille avium concentus in agris, Et laetae pecudes et ovantes gutturo corvP11.
Но в подобные заблуждения мы впадаем по собственной воле, и чтобы их избежать, требуется лишь немного добросовестности. Наиболее же распространенные и наиболее опасные заблуждения — те, которых не сознают, потому что желание отстоять определенное мнение затуманивает умственный взор и заставляет человека принимать за истинное все, что служит его цели. Против этого есть только одно средство — полагать своей целью одну лишь истину и разбирать умозаключения с такой тщательностью, чтобы даже заинтересованность в обосновании того или иного мнения не могла ввести нас в обман.
Ложные умозаключения, порождаемые самими предметами
Мы уже отметили, что не следует отделять внутренние причины наших заблуждений от тех, которые связаны с самими предметами и могут быть названы внешними; ведь обманчивый внешний вид предметов не мог бы ввергнуть нас в заблуждение, если бы воля не побуждала ум выносить поспешное суждение, когда он ещо недостаточно просветлен.
Но так как воля не может оказывать влияние на разум в вещах совершенно ясных, то очевидно, что темнота самого предмета имеет здесь немаловажное значение, и даже передки случаи, когда страсть, склоняющая к неверным умозаключениям, почти неощутима. Вот почему полезно отдельно рассмотреть те иллюзии, которые порождаются в основном самими вещами
Мнение, будто истина настолько сходна с ложью, а добродетель — с пороком, что их невозможно различить, ложно и нечестиво. Однако справедливо, что чаще всего нам встречается смесь заблуждения и истины, порока и добродетели, совершенства и несовершенства и что эта смесь — один из главных источников наших ложных суждений.
Ведь именно эта смесь вводит пас в заблуждение, когда, видя достоинства людей, нами уважаемых, мы одобряем и их недостатки или, зная недостатки тех, кого мы не уважаем, осуждаем и то, что есть в ппх хорошего; ибо мы обычно не учитываем, что и самые несовершенные люди несовершенны не во всем и что даже самых добродетельных людей Бог не избавил от несовершенств, которые, будучи проявлениями человеческой слабости, не должны быть ни примером для подражания, ни предметом уважения.
Все дело в том, что мы редко рассматриваем вещи во всех подробностях; мы судим о них по самому сильному своему впечатлению и воспринимаем только то, что пас больше поражает. Так, если в чьем-либо рассуждс-нии мы находим много истин, мы не замечаем примешанных к ним заблуждений и, наоборот, если истины смешаны с многочисленными заблуждениями, мы обращаем внимание только на заблуждения, ибо сильное берет верх над слабым и наиболее яркое впечатление подавляет то» которое более смутно.
Однако очевидно, что судить подобным образом нельзя. Не может быть основательной причины отвергать здравый смысл, и истина не становится в меньшей мере истиной оттого, что она смешапа с ложью: она никогда не принадлежит людям, хотя и высказывается людьми. И следовательно, если люди за свою ложь заслуживают осуждения, то истицы, которые они высказывают, осуждаться по должны.
Поэтому справедливость и разум требуют, чтобы везде, гдо смешаны благо и зло, между ними проводили различие; в таком разумном разделении в особенности проявляется правильность ума. Именно благодаря этому отцы церкви почерпнули из книг язычппков прекрасные мысли относительно нравов и святой Августин не затруднился позаимствовать у еретика-допатпста семь правил для толкования Писания.
Разум обязывает пас отделять благо от зла всегда, когда это можно сделать; по когда у пас пет времени тщательно разбирать, что есть в вещах хорошего и дурного, в таких случаях надо давать им то имя, какого они заслуживают в зависимости от наиболее значительной их части. Так, следует говорить, что некто хороший философ, если он обычно рассуждает правильно, и что книга хорошая, если в ней гораздо больше хорошего, чем дурного.
’Но люди часто ошибаются и в этих общих суждениях; они часто ценят и хулят вещи по тому, что в них менее значительно, ибо по недостатку света [разума] они не улавливают, что является главным, если это не самое ощутимое. Например, если люди, искушенные в живописи, гораздо больше ценят рисунок, нежели сочетание цветов или тонкость кисти, то на людей несведущих большее впечатление производит картина с живыми и яркими красками, нежели более мрачная, по великолепная по рисунку.
Однако надо признать, что в искусствах ложные суждения не так уж часты, потому что те, кто ничего в них не смыслит, охотнее полагаются на мнения знатоков; зато они нередки в тех вопросах, которые доступны всем и в которых каждый считает себя судьей, — таких, как, например, вопросы красноречия.
К примеру, проповедника называют красноречивым, если он строит правильные периоды и не произпоспт неподходящих слов. На этом основании господин де Вож-ла112 говорит в одном месте, что неподходящее слово вредит проповеднику или адвокату больше, чем неправильное умозаключение. Надо думать, он приводит здесь просто истину факта, а не мнение, с которым он согласен. Действительно, находятся люди, именно так и рассуждающие. Однако пет ничего более неразумного, чем такие суждения, ибо чистота языка и количество фигур в красноречии — то же, что цвет в живописи, иными словами, это только низший, самый вещественный элемент. Суть же красноречия состоит в том, чтобы ясно мыслить вещи и выражать их так, чтобы донести до ума слушателей живой и яркий образ, представляющий не только вещи сами по себе, по и чувства, которые испытывают, когда их мыслят. А на это способны и люди, не особенно строгие в языке и допускающие погрешности в ритмическом построении периодов. Более того, это редко удается тем, кто чересчур заботится о словах и прикрасах, потому что, превращаясь в цель, они отвлекают людей от самих предметов и притупляют их мысли; так художники отмечают, что те, кто достиг совершенства в цвете, обычно не отличаются в рисунке, ибо ум не способен на такое двоякое прилежание и одно идет в ущерб другому.
В общем можно сказать, что люди оценивают вещи в основном по наружности, так как мало кто постигает глубину и суть. Обо всем судят по тому, что бросается в глаза, и горе тем, кто не обладает располагающими манерами! Пусть вы сведущи, умны, основательны в суждениях — если вы не бойки на язык и не умеете ответить на комплимент, вы должны зпать, что люди никогда не будут оказывать вам подобающего уважения и что вам предпочтут множество ничтожных умов. Невелика беда — не пользоваться той славой, какой заслуживаешь, но большое зло — следовать подобным ложным суждениям и смотреть на вещи только с внешней стороны; этого надо старательно избегать.
II
К тому, что вводит пас в обман ложным блеском, мешающим нам распознать заблуждение, можно с полным основанием отнести известного рода папыщеппое и выспреннее красноречие, называемое у Цицерона abundanteni sonanlibus verbis uberibusque sententiis 113. Ибо удивительно, как неуловимо вкрадывается ложное умозаключение в период, поглощающий слух, или фигуру, которая поражает нас и отвлекает наше внимание.
Эти прикрасы по только отводят нам глаза от лжи, примешивающейся в речь, по и незаметно подталкивают к пей, потому что она часто необходима для правильности периода или фигуры. Если мы слышим, папример, как кто-то начинает длинную градацию или многочленное противопоставление, мы должны быть настороже, поскольку маловероятно, что он кончит предложение, не исказив истину, чтобы приспособить ее к фигуре. Обычно оратор располагает истиной, как располагают строительным камнем или слитком для статуи: он ее обтесывает, делает длиннее или короче, придает ей новый вид, смотря по тому, что ему нужно, чтобы втиснуть ее в ту никчемную словесную поделку, которую он хочет изготовить.
Сколько ложных мыслей породило желание блеснуть остроумием! Скольких людей заставила лгать рифма! Сколько глупостей паппсали иные итальянские авторы из желания показать, что они пользуются только теми словами, которые употреблял Цицерон, и так называемой чистой латынью! Кто не рассмеялся бы, услышав слова БембоИ4, что папа был избран по милости бессмертных богов, Doorum immortalium beneficiis? Некоторые поэты даже воображают, будто в поэзии надо непременно упоминать языческие божества, а один немецкий поэт — хороший стихотворец, по нерассудительный писатель, — которого Франческо Пико делла Мирапдола115 справедливо упрекал в том, что он ввел в поэму, в коей изображает войны одних христиан с другими, все языческие божества и перемешал Аполлона, Диану, Меркурия с папой, избирателями 116 и императором, — этот поэт утверждает, что иначе он не был бы поэтом, и в доказательство приводит тот странный довод, что стихи Гесиода, Гомера, Вергилия изобилуют именами этих богов и вымыслами о них, из чего он заключает, что ему позволительно делать то же.
Подобные ошибочные умозаключения часто незаметны для тех, кто их строит, и вводят их в обман. они обольщаются звуком своих слов, их ослепляет блеск придуманных пми фигур; выспренность иных слов неприметно для ппх самих склоняет их к мыслям столь неосновательным, что они, без сомнения, отвергла бы их, если бы хоть немного задумались.
К примеру, одному современному автору, вероятно, ласкало слух имя весталки, что и побудило его сказать одной девице, стыдившейся своего знания латыни, что она не должна краснеть, говоря на языке, на котором говорили весталки. Если бы он обдумал свои слова, он бы увидел, что этой девице с таким же основанием можно было бы сказать, что она должна краснеть, говоря на языке, на котором когда-то говорили римские куртизанки, кои были гораздо многочисленнее весталок, или что она должна краснеть, говоря на ином языке, нежели язык своей страны, ибо древние весталки говорили только на своем родном языке. Все эти ничего не стоящие умозаключения ничуть не уступают умозаключению нашего автора; истина же в том, что ссылка на весталок ничего не дает ни для оправдания, ни для осуждения девушек, изучающих латинский язык.
Ложные умозаключения такого рода, столь часто встречающиеся в сочинениях тех авторов, которые больше всех стараются быть красноречивыми, показывают, насколько необходимо большинству тех, кто говорит или пишет, усвоить замечательное правило: Нет ничего прекрасного, помимо того, что истинно] это изгнало бы из их речей множество пустых прикрас и ложных мыслей. Правда, такая строгость делает слог более сухим и не столь пышным, во зато она оживляет его и делает более серьезным, более ясным и более достойным добропорядочного человека. Впечатлеппе от подобного слога гораздо сильнее и сохраняется значительно дольше, между тем как впечатление, производимое этими столь согласованными периодами, так поверхностно, что почти сразу же рассеивается.
Весьма свопствеппая людям ошибка — поверхностно судить о поступках и намерениях других, и совершают ее только в силу неправильного умозаключения, когда, не имея ясного представления обо всех причинах, способных вызвать некоторое действие, это действие относят к какой-то одной причине, хотя оно может быть вызвано и другими причинами, или же предполагают, что причина, которая по стечению обстоятельств вызвала определенное действие в одном случае, должна вызывать его во всех случаях.
Ученый придерживается того же мнения, что и еретик, в вопросе, далеком от религиозных споров, — злобно настроенный противник выведет отсюда заключение, что он тяготеет к еретикам; по его заключение будет безосновательным и внушенным злобой, потому что к такому мнению этого ученого, возможно, склоняют разум и истина.
Писатель резко выступает против какого-то мпепия, которое он считает опасным. На этом основании его обвинят в ненависти и враждебности по отношению к тем, кто его высказал, по это обвинение будет несправедливым и безосновательным: ведь резкость может идти не только от ненависти к личностям, но и от рвения к истине.
Человек находится в приятельских отношениях со злодеем; стало быть, заключают отсюда, он связан с ним общими интересами и является соучастником его преступлений. Такой вывод отсюда вовсе не следует: быть может, он о них не зпал и, возможно, не принимал в ппх никакого участия.
Кто-то не отдает дапь вежливости тем, кому ее подобает отдавать. Про пего говорят, что он гордец и ведет себя вызывающе, но это, быть может, всего лишь невнимательность или просто забывчивость.
Все эти факты не являются достоверными знаками, т. е. они могут означать разные вещи, и когда подобный знак связывают с чем-то определенным, не имея для этого достаточных оснований, тем самым выносят бездоказательное суждение. Молчание иногда служит признаком скромности и понятливости, а иногда — глупости. Медлительность иногда говорит о тугодумии, а иногда свидетельствует об осторожности. Перемена во взглядах иногда признак непостоянства, иногда — искренности. Поэтому приписывать человеку непостоянство только из-за того, что он изменил свое мнение, — значит делать неверное умозаключение, так как у него, возможно, было основание его изменить.
IV
Одним из главных источников ошибочных умозаключений является ложная индукция, посредством которой из какого-то частного опыта выводят общие положения. Людям требуется не более трех-четырех примеров, чтобы извлечь из них максиму или общее место, которыми они в дальнейшем пользуются как началами, чтобы выносить суждения о чем угодно.
Есть множество болезней, скрытых от самых искусных врачей, и лекарства часто но помогают — умы, склонные к крайностям, заключают отсюда, что врачебное искусство совершенно бесполезно и что это ремесло шарлатанов.
Есть легкомысленные и распутные ясепщипы — для ревнивцев этого достаточно, чтобы беспричинно подозревать даже самых добропорядочных из ппх, а бесстыдные писатели пз-за этого порочат всех женщин вообще.
Часто можно встретить людей, скрывающих большие пороки под маской благочестия, — вольнодумцы заключают отсюда, что всякое благочестие не более как притворство.
Есть вещи темные и сокрытые, и люди порой глубоко заблуждаются. Все темно и недостоверно, говорят древние и новые пиррописты, мы не можем достоверно знать истинность чего бы то ни было.
В некоторых поступках людей сказывается непостоянство — этого достаточно, чтобы превратить непостоянство в общее место, распространив его на всех людей без изъятия. Разум, — говорят пиррописты, — настолько скуден и настолько слеп, что для него нет ничего достаточно ясного и простого; что легкое, что трудное — для него все равно, и природа в общем не признает его юрисдикции Г17. Мы думаем о том, чего мы хотим, лишь в тот момент, когда мы этого хотим 118; в наших желаниях никогда нет свободы, нет ничего безусловного, ничего постоянного 119.
Большинство людей способно описать недостатки и достоинства других только в преувеличенном виде и пользуясь одними только общими предложениями. Основываясь на нескольких поступках, заключают о привычке; три-четыре ошибки превращают в обыкновение; то, что происходит раз в месяц или раз в год, происходит, если послушать людей, каждодневно, ежечасно, ежеминутно — так мало они заботятся о том, чтобы в своих словах по погрешить против истины и справедливости.
V
Часто осуждаемая ошибка и несправедливость, которой, однако, мало кому удается избежать, — судить о принятых решениях по происшедшим вслед за тем событиям и возлагать на людей, принявших благоразумное решение сообразно обстоятельствам, им известным, вину за все зло, воспоследовавшее за этим или по чистой случайности, или из-за чьих-то козней, расстроивших их планы, или по каким-либо другим причинам, коих невозможно было предвидеть. Желая быть и мудрыми, и счастливыми, люди не делают различия между счастливым и мудрым, между несчастным и виновным. Это различие кажется им слишком тонким. они изобретательны по части выискивания ошибок, которые, по их мнению, повлекли за собой пагубные последствия, и как астрологи, зная о каком-то происшествии, непременно пайдут положение звезд, послужившее его причиной, точно так же всегда паходят, что те, на кого обрушились невзгоды и несчастья, заслужили их за свое неблагоразумие. «Он но добился успеха, значит, он поправ». Так рассуждают в паши дпи и рассуждали во все времена, ибо в суждениях людей всегда было мало справедливости. Не зная истинных причин вещей, они придумывают их в зависимости от последующих событии, похвальпо отзываясь о тех, кто достиг успеха, и осуждая тех, кто не преуспел.
VI
Но самые частые ложные умозаключения — те, которые делают, когда смело судят об истине вещей, основываясь на авторитете, педостаточпом, чтобы пас убедить, или выносят суждение о сути на основании манеры. Первое мы назовем софизмом авторитета, второе — софизмом манеры.
Чтобы уяснить, насколько они распространенны, надо только принять во внимание, что большинство люден склоняется к тому или иному мнению не в силу основательных и существенных доводов, заставляющих признать истинность этого мнения, а исходя из каких-то внешних, не имеющих отношения к делу признаков, которые сопутствуют или считаются у них сопутствующими скорее истине, нежели лжи.
Дело в том, что внутренняя истина вещей нередко скрыта, а человеческий ум обыкновенно слаб и непро-светлеп, полон тумана и ложного света, тогда как эти внешние признаки ясны и очевидны. Таким образом, поскольку людей привлекает более легкое, они почти всегда принимают сторону тех, в ком они находят подобные внешние признаки, которые легко заметить.
Эти признаки нетрудно свести к двум главным: авторитет того, кто выдвигает какое-либо положение, и манера, в какой опо выдвигается, — два настолько сильных средства убеждения, что лишь редкий ум способен перед ними устоять.
Поэтому Бог, желая, чтобы достоверное познапие таинств веры могло быть достигнуто и самыми простодушными из верующих, по благости своей сообразовался со слабостью человеческого ума: он не поставил это знание в зависимость от подробного разбора всех положений вероучения, по дал нам в качестве падежного критерия истинности авторитет выдвигающей их вселенской церкви, который, представляя собой нечто ясное и очевидное, избавляет умы от всех затруднении, к коим неизбежно приводят частные споры относительно этих таинств.
Таким образом, в том, что касается веры, авторитет вселенской церкви является безусловно решающим, и она никак не может быть субъектом заблуждения; напротив, люди впадают в заблуждение, лишь когда они пренебрегают ее авторитетом и отказываются ему подчиниться.
В вопросах религии убедительные доказательства черпают также из того, в какой форме выдвигаются те или иные положения. Так, например, в разные века истории церкви, и особенно в нынешний век, можно было видеть людей, которые пытались насадить свои мнения огнем и мечом, людей, вооруженных против церкви схизмой, а против светских властей возбуждающих мятежи; можно было видеть, как лица без подлинного призвания, неспособные творить чудеса, без каких-либо признаков благочестия и, скорее, с явными признаками разнузданности, намеревались преобразить веру и церковное благочиние. Столь преступная форма была более чем достаточна для того, чтобы их мнения отверг любой здравомыслящий человек и чтобы даже самые необразованные люди отказались их слушать.
Во когда речь идет о вещах, познание которых не является безусловно необходимым и которые Бог предоставил разуму каждого в отдельности, авторитет и манера не столь важны, и нередко они склоняют людей к суждениям, противным истине.
Мы не собираемся давать здесь какие-либо правила и устанавливать точные границы уважения, какое следует оказывать авторитету в делах человеческих; отметим лишь некоторые грубые ошибки, допускаемые в этом отношении.
Мы часто смотрим только на число свидетельствующих, не задаваясь вопросом, говорит ли их многочисленность о том, что они нашли истину; а ведь это неразумно. Ибо, как справедливо заметил один современный автор, в трудных вопросах, которые каждый должен исследовать сам, истина вероятнее всего будет открыта одним, а не многими 120. Следовательно, нельзя рассуждать таким образом: «Этого мнения придерживалось большинство философов, значит, оно самое верное».
Людей часто убеждают некоторые качества, никак не связанные с истиной вещей, о которых идет речь. Например, есть немало таких, кто слепо верит самым пожилым и опытным людям в том, что не зависит ни от возраста, ни от опыта, по лишь от света ума.
Благочестие, мудрость, умеренность — качества, без сомнения, в высшей степепи цепные, и они должны создавать большой авторитет тем, кто ими обладает, во всем, что зависит от благочестия, чистосердечия и даже от света Божия, который Бог, вероятно, в большей мере дарует тем, кто служит ему более безупречно. Но есть много такого, что зависит только от человеческого света, от человеческого опыта и человеческой проницательности, 9 в этом люди, имеющие превосходство в уме и знаниях, заслуживают большего доверия, чем другие. Одна ко нередко получается наоборот, ибо многие считают, что вернее следовать в этих вещах мнению людей добропорядочных.
Объясняется это отчасти тем, что умственпое превосходство не так явственно, как внешняя порядочность, которую мы видим в благочестивых людях, отчасти же тем, что люди не любят проводить различия: различение их затрудняет, им нужно все или ничего. Если они по какой-то причине испытывают к человеку доверие, они верят ему во всем; если к кому-то у них доверия нет, они ни в чем ему не верят; они любят короткие, решительные и ближайшие пути. Но подобная настроенность, хотя она свойственна очень многим, противна разуму, который подсказывает нам, что одним и тем же людям надо верить не во всем, поскольку не во всем они превосходят других, и что нельзя умозаключать таким образом: «Это человек степенный, значит, он умен и сведущ во всех вопросах».
VII
Правда, если есть извинительные заблуждения, то это такие, в которые впадают, полагаясь больше, чем следует, на мнение тех, кого считают добропорядочными людьми. Но существует иллюзия гораздо более нелепая и, однако, весьма распространенная, а именно: верить, что человек говорит истину, потому что он знатен, богат или облечен саном.
Не то чтобы кто-нибудь сознательно делал такие умозаключения: «У пего сто тысяч ливров годового дохода, следовательно, он прав; он знатного происхождения, следовательно, надо верить, что он говорит истину; это человек небогатый, следовательно, он неправ», но все же в умах большинства людей происходит нечто подобное и эти неявные умозаключения незаметно для них берут власть над их суждениями.
Одни и те же слова, произнесенные знатной особой и человеком незначительным, скорее всего одобрят в устах этой знатной особы, по даже не соизволят выслушать из уст человека низкого происхождения. Об этой настроенности людей можно прочесть в Писании: она прекрасно изображена в Книге Екклесиаста. «Если говорит богатый, — сказано там, — все умолкают, и слова его превозносят до небес; если говорит бедный, спрашивают: „Кто это?“». Dives locutus est, et omnes tacuerunt, et verbum illius usque ad nubes perducent; pauper locutus est, et dicunt: Quis est hie?121
Несомненно, что одобрение слов и поступков знатных людей во многом объясняется угодливостью и лестью и что они часто вызывают одобрение также благодаря известному внешнему изяществу и благородному, непринужденному и естественному поведению, порой почти неподражаемому для людей низкого происхождения. Но несомненно и то, что многие одобряют все, что делают и говорят вельможи, из внутренней приниженности своего ума, склоняющегося перед знатностью и не обладающего достаточно твердым взглядом, чтобы выдержать ее блеск, и что внешнее великолепие, которым они окружены, всегда внушает определенное уважение и производит некоторое впечатление даже на самых устойчивых к соблазнам людей.
Причина такого обмана кроется в испорченности человеческой души: испытывая жгучую страсть к почестям и наслаждениям, люди, естественно, высоко ценят богатство и вообще все, что доставляет эти почести и наслаждения. Из-за любви ко всем этим вещам, имеющим для них большую цену, тех, кто ими обладает, они почитают счастливыми и поэтому ставят их выше себя, взирая на них как на людей выдающихся и благородных. Привычка смотреть на них с почтением незаметно переносится с их состояния на самый их ум. Люди редко делают что-либо наполовину; и вот их уже наделяют душою столь же высокой, как и занимаемое ими положение, и их мнение признают неоспоримым. В этом причина доверия, которое им обычно оказывают в делах.
Но еще сильнее эта иллюзия в самих вельможах. Они не заботятся о том, чтобы исправить впечатление, какое на них производит их состояние. Среди них мало таких, которые не использовали бы в качестве довода свое положение и богатства и не считали бы, что их мнения должны одерживать верх над мнениями нижестоящих. Они не выносят, когда люди, на которых они смотрят с презрением, выказывают не меньше здравого смысла и ума, чем они сами, и потому они так нетерпимы к малейшим возражениям.
Все это проистекает из того же самого источника, а именно из ложных идей касательно своей знатности, благородства и богатства. Вместо того чтобы рассматривать их как нечто постороннее по отношению к своему бытию и не мешающее им быть совершенно равными прочим людям в отношении души и тела и обладать рассудком столь же слабым и столь же подверженным заблуждению, как и у всех остальных, они, так сказать, включают в свою сущность все эти качества — «знатный», «благородный», «богатый», «хозяин», «господин», «государь»; они прибавляют их к своей идее о себе самих и сами не представляют себя иначе, как со всеми своими титулами, во всем своем великолепии и со всей своею свитой.
Они с детства привыкают смотреть на себя как на некую особенную породу людей; их воображение никогда не смешивают их со всей толпой рода человеческого; в собственных глазах они всегда графы и герцоги и никогда — просто люди. Так они кроят себе душу и разум по меркам своего состояния, воображая, будто они настолько же выше других по уму, как и по своему положению и богатству.
Ограниченность человеческого ума такова, что решительно все служит человеку для того, чтобы сделать более величественной ту идею, какую он составил о себе самом. Если у кого-то красивый дом, пышные одежды, густая борода, он уже мнит себя более одаренным; посмотреть на него, так он больше уважает себя сидящим верхом на лошади или усевшимся в карету, нежели пешим. Нетрудно убедить всех, что нет ничего смехотворнее подобных суждений, но очень трудно оберечься от подспудного впечатления, которое все эти внешние атрибуты производят на ум. Мы можем лишь, насколько это в наших силах, приучить себя не придавать никакого веса всем тем качествам, которые не могут способствовать отысканию истины, а тем, которые этому способствуют, придавать вес лишь постольку, поскольку они служат этому на деле. Возраст, знапия, опыт, ум, сообразительность, скромность, пунктуальность, трудолюбие помогают отысканию сокровенных истин, и, таким образом, эти качества заслуживают того, чтобы на них обращали внимание. Однако их следует тщательно взвешивать и затем сопоставлять с доводами против. Ибо из каждого из них в отдельности нельзя заключить ничего определенного, поскольку известны совершенно ложные мнения, с которыми были согласны люди очень умные и обладавшие многими из этих качеств.
VIII
В искаженных представлениях, порождаемых манерой, есть нечто еще более обманчивое. Люди обычно склонны считать, что человек прав, когда он говорит с изяществом, с легкостью, чинно, сдержанно, мягко, и наоборот, они думают, что человек заблуждается, если у него неприятная манера говорить или если он обнаруживает горячность, озлобленность, самомнение в своих словах и поступках.
Однако, если судить о сути вещей только по этим внешним, бросающимся в глаза манерам, не избежать частых ошибок. Ведь есть люди, которые чинно и скромно говорят глупости; иные же, напротив, и вспыльчивы, и охвачены какой-то страстью, которая написана у них на лице или проявляется в их словах, а истина все же на их стороне. Есть люди весьма посредственного и очень поверхностного ума, которые, будучи воспитаны при дворе, где искусство правиться изучают и применяют лучше, чем где бы то ни было, имеют самые приятные манеры, позволяющие им беспрепятственно высказывать много ложных суждений. И наоборот, есть такие, кто, не умея себя держать, обладает, в сущности, большим, глубоким умом. Одни говорят лучше, чем думают, другие думают лучше, чем говорят. Таким образом, разум требует, чтобы те, кто на это способен, не судили об уме по внешним признакам и, несмотря ни на что, признавали истину не только тогда, когда она высказана человеком с неподобающими и неприятными манерами, но даже и тогда, когда к ней примешано много ложного, ибо один и тот же человек может говорить то истину, то ложь, быть прав в одном и неправ в другом.
Итак, эти две стороны надо рассматривать по отдельности, т. е. надо судить о манере по манере, о существе — по существу, а не заключать о существе по манере и о манере — по существу. Человек неправ, поскольку он дает волю гневу, но прав, поскольку он говорит истину, и наоборот, другой человек прав, говоря рассудительно и учтиво, но неправ, поскольку он высказывает ложные мысли.
Но так же как разумно следить за тем, чтобы не заключать, что мысль истинна или ложна, коль скоро она высказана таким-то или таким-то образом, разумно и то, чтобы желающие убедить других в какой-либо истине, которую они признали, учились облекать ее благоприятными манерами, располагающими слушателей к тому, чтобы принять ее, и избегать отталкивающих манер, способных только отвратить от нее людей.
Они должны помнить, что, если надо убедить в чем-либо окружающих, мало быть правым и что большое зло — быть правым и не обладать всем необходимым для того, чтобы заставить других признать свою правоту.
Если они по-настоящему уважают истину, они не должны ее порочить, пятная ложью и обманом, и если они искренне любят ее, они не должны вызывать у людей чувство враждебности и отвращения к ней, высказывая ее в неподобающей манере. Это главнейшее предписание риторики, которое тем более полезно, что оно относится не только к словам, но и к самой душе. Ибо, хотя это р'азные вещи — быть неправым в способе выражения и быть неправым по существу, однако погрешности в манере часто являются более грубыми й более серьезными, чем ошибки, касающиеся существа вопроса.
Действительно, надменность, самоуверенность, язвительность, упрямство, вспыльчивость в манерах всегда связаны с некоей болезнью духа, которая нередко более серьезна, чем недостаток понятливости и света [разума], порицаемый в других. Можно даже сказать, что, когда людей стараются убедить таким образом, это всегда неоправданно. Конечно же, в порядке вещей всецело отдаваться истине, когда мы ее познаём, но несправедливо требовать от других, чтобы они считали истинными все наши мнения и не признавали иных авторитетов, кроме нас самих. Однако именно это и делают, когда высказывают истину в неподобающей манере. Ибо топ речи обычно доходит до ума прежде всяких доводов, потому что ум улавливает его скорее, чем уясняет основательность доказательств, которых часто и вовсе не понимают. Но тон речи, воспринимаемый прежде доказательств, выражает лишь тот авторитет, какой приписывает себе говорящий. Если он говорит язвительно и властно, это не может не отталкивать других, поскольку у них создается впечатление, что он хочет завоевать посредством авторитета и своего рода тирании то, чего следует добиваться только убеждением и разумом.
Еще более неоправданно, если с такими неподобающими манерами оспаривают общепринятые мнения; ибо довод одного человека, разумеется, может быть убедительнее довода многих, когда он верен, но отдельный человек никогда не должен притязать на то, чтобы его авторитет возобладал над авторитетом всех остальных.
Итак, не только скромность и благоразумие, но и сама справедливость обязывает принимать смиренный вид, когда оспаривают устоявшиеся мнения или ниспровергают признанный авторитет. Иначе невозможно избежать неоправданного противопоставления авторитета отдельного человека или авторитету общественного мнения, или большему, или более утвердившемуся авторитету. Никакая сдержанность не будет чрезмерной, когда посягают на общепринятое мнение или давно обретенную веру. Это настолько справедливо, что святой Августин распространял это даже на истины религии. Он преподал всем тем, кто призван наставлять других, следующее прекрасное правило.
Вот каким образом, — говорит он, — мудрые и благочестивые католики излагают то, что они должны изложить другим. Если это истины признанные и получившие одобрение, они высказывают их уверенно, не выражая ни малейшего сомнения и со всем сладкоречием, на какое они только способны. Но если это непривычные истины, то, хотя бы они были в них совершенно уверены, они высказывают их скорее в виде догадок или же вопросов для размышления, нежели в виде догм и готовых решений, дабы примениться к слабости своих слушателей122. Если же какая-либо истина столь возвышенна, что превосходит силы тех, к кому они обращают свою речь, они предпочитают оставить ее до поры при себе, чтобы дать им возможность дорасти до пее и стать способными ее воспринять, нежели открывать им эту истину, невзирая на то что в таком состоянии слабости она была бы для них только в тягость.
ЧЕТВЕРТАЯ ЧАСТЬ ЛОГИКИ
О МЕТОДЕ
Нам остается изложить последнюю часть логики, касающуюся метода, — без сомнения, одну из самых полезных и самых важных. Мы сочли необходимым добавить сюда то, что касается доказательства, поскольку доказательство обычно состоит не из одного аргумента, а из ряда умозаключений, посредством которых неопровержимо доказывают какую-либо истину, и чтобы убедительно доказывать, немного пользы знать правила силлогизмов, нарушаемые людьми лишь в редких случаях, по очень важно правильно располагать мысли, пользуясь теми, которые ясны и очевидны, дабы постичь то, что казалось самым недоступным.
А так как цель доказательства — знание, сначала мы будем вести речь о знании.
Глава 1
О ЗНАНИИ: ЧТО ОНО СУЩЕСТВУЕТ;
ЧТО ПОЗНАВАЕМОЕ УМОМ БОЛЕЕДОСТОВЕРНО, ЧЕМ ПОЗНАВАЕМОЕ ЧУВСТВАМИ;
ЧТО ЕСТЬ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ НЕСПОСОБЕН ПОЗНАТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ УМ.
О ТОМ, КАКУЮ ПОЛЬЗУ МОЖНО ИЗВЛЕЧЬ ИЗ ЭТОГО НЕПРЕОДОЛИМОГО НЕЗНАНИЯ
Если при рассмотрении какой-либо максимы ее истинность познается из нее самой благодаря ее очевидности, которая убеждает нас без всяких доводов, то такой вид познания называется умозрением (intelligence). Так мы познаем первоначала.
Но если максима сама по себе нас не убеждает, тогда, чтобы ее принять, нам нужно какое-то другое основание, и это или авторитет, или довод разума. Если ум принимает то, что ему представлено, под влиянием авторитета, это называется верой. Если ум внимает какому-либо доводу, этот довод может еще не порождать полного убеждения, а оставлять некоторое сомнение, и такое согласие ума, сопровождаемое сомнением, есть мнение.
Когда же довод полностью убеждает нас, он, возможно, только кажется нам ясным вследствие невнимательности и порождаемое им убеждение является заблуждением, если он в действительности ложен, или по крайней мере посцешным суждением, если он сам по себе верен, но у нас не было достаточного основания считать его истинным.
А если это не кажущийся, а веский и истинный довод, что распознается по более пристальному вниманию, по более твердой уверенности, по качеству ясности — более живой и убедительной (penetrante), тогда убеждение, порождаемое этим доводом, называется знанием (science). Относительно знания ставится ряд вопросов.
Первый вопрос: существует ли оно вообще, т. е. есть ли у нас познания, имеющие ясные и достоверные основания, или, в общем, есть ли у нас ясные и достоверные познания? Этот вопрос касается как умозрения, так и знания.
Находились философы, которые это отрицали и даже строили на таком фундаменте всю свою философию. Одни из них довольствовались тем, что отрицали достоверность, допуская вероятность, — это философы Новой Академии, другие же, а именно пирронисты, отрицали даже вероятность, утверждая, что все одинаково темно и недостоверно.
Однако в действительности все эти мнения, наделавшие столько шуму, существовали только в речах, в спорах и в сочинениях, и ни один человек по-настоящему так не думал. То были игры и забавы людей праздных и склонных к выдумкам, а не глубокие убеждения, которыми бы они руководствовались. Поэтому лучший способ изобличить подобных философов заключался в том, чтобы воззвать к их совести и чистосердечию и спросить у них после всех тех рассуждений, коими они силились доказать, будто невозможно отличить сон от бодрствования, безумие от здравомыслия, — не убеждены ли они, вопреки всем своим доводам, в том, что они не спят и пребывают в здравом уме, — и будь в них хоть капля искренности, они оставили бы все свои пустые ухищрения и чистосердечно признались бы, что при всем желании они не могут заставить себя думать иначе.
А если бы нашелся человек, который мог бы усомниться в том, что он не спит, или в том, что он не сошел с ума, или даже мог бы подумать, что существование любого внешнего объекта недостоверно, что сомнительно, существует ли Солнце, Луна, материя, — то, как говорит святой Августин, никто по крайней мере не может сомневаться в том, что он есть, что он мыслит, что он живет1; ибо, спит ли он или бодрствует, пребывает ли он в здравом уме или помешан, заблуждается или нет, — поскольку он мыслит, достоверно по крайней мере то, что он есть и что он живет, так как невозможно отделить бытие и жизнь от мышления и представить себе, что мыслящее не существует и не живет. Исходя из этого ясного, достоверного и не вызывающего сомнений знания, можно положить за правило считать истинными все мысли, которые мы найдем столь же ясными, какой представляется нам данная истина.
Невозможно также сомневаться в своих восприятиях, рассматриваемых в отвлечении от их объекта. Существуют ли Солнце и Земля или нет, я полагаю, что вижу их, и это для меня достоверно. Для меня достоверно: я сомневаюсь, когда я сомневаюсь; я думаю, что вижу, когда я думаю, что вижу; я думаю, что слышу, когда я думаю, что слышу, и т. д. Таким образом, замыкаясь в пределах своего ума и рассматривая то, что в нем происходит, мы найдем здесь множество ясных знаний, в коих невозможно сомневаться.
Это замечание может послужить к решению другого вопроса, поставленного относительно знания: что достовернее — познаваемое одним лишь умом или познаваемое чувствами? Из сказанного выше ясно, что мы больше уверены в тех своих восприятиях и идеях, которые мы приобретаем посредством размышления, нежели во всем воспринимаемом чувствами. Можно даже сказать, что, хотя чувства и не всегда обманывают нас в том, что они нам сообщают, наша уверенность, что они нас не обманывают, исходит все же не от чувств, а от размышления, благодаря которому мы распознаем, когда мы должны и когда не должны верить чувствам.
Поэтому надо признать правоту святого Августина, утверждавшего вслед за Платоном, что суждение об истине и критерий, позволяющий ее распознать, относятся не к чувствам, а к уму: Non est judicium veritatis in sensibus2; что та достоверность, какую нам могут доставить чувства, простирается не далеко и в отношении многих вещей, известных нам, как мы полагаем, из чувств, нельзя утверждать, что мы в них полностью уверены.
Например, из чувств можно узнать, что одно тело больше другого, но нельзя достоверно узнать, какова истинная и естественная величина каждого тела. Чтобы уяснить это, надо только принять во внимание, что если бы все мы смотрели на внешние предметы сквозь увеличительные очки, то мы, безусловно, воображали бы тела и все размеры тел такими, какими они представлялись бы нам сквозь эти очки. Но ведь наши глаза — те же очки, и мы точно не знаем, не искажают ли они, уменьшая или увеличивая, видимые нами предметы и не получается ли так, что искусственные очки, которые, как мы думаем, уменьшают их или увеличивают, наоборот, восстанавливают их истинную величину. Следовательно, мы не знаем с достоверностью безотносительной и естественной величины каждого тела.
Равным образом мы не знаем, видим ли мы тела такими ясе по величине, какими их видят другие люди, ибо хотя два человека, измеряющие их, сходятся в том, что какое-то тело имеет, например, величину пять футов, однако то, что подразумевает под «футом» один, возможно, не совпадает с тем, что разумеет другой. Каждый разумеет то, что ему сообщают его глаза, и, может быть, одному человеку глаза сообщают не то, что видят глаза других людей, поскольку это очки, сделанные по-разному.
Однако это расхождение, по всей вероятности, не велико, потому что в строении глаза не видно различий, которые могли бы вызвать значительную разницу в восприятии. Притом же, хотя наши глаза представляют собой очки, но это очки, сделанные рукою Божией, и, таким образом, у вас есть основание полагать, что они дают неверную картипу действительности только тогда, когда в них есть какой-то изъян, который искажает или скрадывает естественный облик вещей.
Как бы то ни было, если мы не можем с полной достоверностью судить о величине предметов, то в этом вряд ли есть необходимость и отсюда никоим образом нельзя заключать о недостоверности всех других показаний чувств; ибо если, как я сказал, я точно не знаю, какова безотносительная и естественная величина слона, то я все же знаю, что он больше лошади и меньше кита, и для жизни этого достаточно.
Итак, достоверность и недостоверность есть и в уме, и в чувствах, и было бы одинаково ошибочным считать все достоверным или отрицать всякую достоверность.
Напротив того, следуя разуму, мы должны признать, что существует три рода вещей.
Одни можно познать ясно и достоверно, другие мы, по существу, ясно не познали, но можем надеяться когда-нибудь познать, и наконёц, третьи невозможно познать с достоверностью — или потому, что мы не располагаем началами, которые привели бы нас к их познанию, или потому, что они слишком несоразмерны нашему уму.
Первый род включает все, что познается путем доказательства или через умозрение.
Второй служит предметом исследования для философов, по легко может случиться, что они будут заниматься этими вещами впустую, — если они не сумеют отличить второй род от третьего, т. е. не смогут распознать вещи, доступные уму, и те, которые для него недосягаемы.
Наилучший способ сократить себе путь в изучении наук — не заниматься разысканием того, что выше нашего разумения и что мы не можем надеяться когда-либо понять. К этому роду принадлежат все вопросы, касающиеся могущества Божия, которое смешно пытаться объять нашим ограниченным умом, и вообще все, в чем есть бесконечность; ибо наш конечный ум в бесконечности теряется и слепнет, изнемогая под гнетом множества противоречивых мыслей, которые она вызывает.
Это очень простое и короткое решение многих вопросов, которые будут спорными, покуда у людей не пропадет охота спорить, потому что мы никогда не достигнем знания достаточно ясного, чтобы наш ум мог им удовлетвориться. Возможно ли, чтобы сотворенное было сотворено в вечности? Может ли Бог создать тело бесконечной величины, движение с бесконечной скоростью, бесконечное множество? Является ли бесконечное число четным или оно нечетное? Существует ли бесконечность, большая, чем другая? Тот, кто сразу скажет: «Я ничего этого не знаю», в единый миг продвинется настолько же, как и тот, кто будет двадцать лет размышлять о подобных вещах. Единственно различие между ними состоит в том, что всякий, кто пытается найти ответ на эти вопросы, рискует опуститься ниже простого незнания, а именно возомнить, будто он знает то, чего он на самом деле не знает.
Существует также великое множество метафизических вопросов, которые слишком туманны, слишком отвлеченны и далеки от известных нам ясных начал. Их мы никогда не решим, и самое верное — поскорее отделаться от них и, уяснив себе, как легко их придумывают, без колебаний отказаться от их рассмотрения.
Nescire quaedam magna pars sapientiae3.
Таким образом, освобождая себя от изысканий, в которых нам не добиться успеха, мы сможем дальше продвинуться в исследованиях, посильных для нашего ума.
Но надо заметить, что есть вещи, непостижимые в своем способе бытия, по определенно существующие. Невозможно постичь, каким образом они могут существовать, и, однако, несомненно, что они существуют..
Есть ли что-нибудь более непостижимое, чем вечность, и вместе с тем есть ли что-нибудь более несомненное? Недаром те, которые в ужасном ослеплении исторгли из своего ума знание о Боге, вынуждены приписывать вечность самому низкому и презренному бытию — материи.
Разве мы в состоянии осмыслить, что мельчайшая частица материи делима до бесконечности и что мы никогда не могли бы дойти до частицы настолько малой, чтобы jb ней не было заключено много других частиц, а точнее — неисчислимое множество других частиц; что мельчайшее хлебное зернышко заключает в себе столько же частиц, как и целый мир, хотя у них соответственно меньшие размеры; что в нем реально существуют всо мыслимые фигуры и что оно вмещает малый мир со всеми его частями — солнцем, небом, звездами, планетами, землехг в поразительной правильности пропорций; что в этом зернышке нет ни единой частицы, которая не вмещала бы, в свою очередь, соразмерного ей мира! Какова же должна быть частица этого малого мира, соответствующая хлебному зернышку, и какое ужасающее различие должно между ними существовать, чтобы можно было сказать, что эта частица в сравнении с хлебным зернышком то же, что хлебное зернышко — в сравнении о целым миром! Однако и эта частица, малость которой для нас уже непостижима, вмещает, в свою очередь, другой, соразмерный ей мир, и так до бесконечности: невозможно найти частицу, которая не имела бы столько же соразмерных ей частей, сколько их имеет целый мир, какой бы протяженностью она ни обладала4.
Все это непостижимо, и тем не менее это должно быть так, потому что бесконечную делимость материи можно доказать и представляемые геометрией доказательства такой делимости столь же ясны, как и доказательство любой другой из тех истин, которые она нам открывает.
Во-первых, эта наука показывает нам, что есть линии, которые не имеют общей меры и поэтому называются несоизмеримыми, как, например, диагональ и стороны квадрата. Но если бы диагональ и стороны квадрата состояли из определенного числа неделимых частей, то одна из таких частей была бы общей мерой этих двух линий; следовательно, они не могут состоять из определенного числа неделимых частей.
Во-вторых, в геометрии доказывается также следующее: невозможно, чтобы квадрат числа был равен удвоенному квадрату другого числа, однако вполне возможно, чтобы квадрат на плоскости был вдвое больше другого квадрата. Но если бы эти два квадрата на- плоскости состояли из определенного числа конечных частей, то больший квадрат содержал бы двойное количество частей меньшего квадрата и, так как они оба являются квадратами, существовал бы квадрат числа, вдвое больший, чем другой квадрат числа, что невозможно.
Наконец, нет ничего яснее того довода, что два не существующих протяжения не могут составить никакою протяжения и что всякое протяжение имеет части. Возьмем две части, которые предполагаются неделимыми, — я спрашиваю: обладают они протяжением или пет? Если они обладают протяжением, то, следовательно, они делимы и имеют части; если не обладают — значит, это два не существующих протяжения, и, таким образом, они не могли бы составить протяжения.
Надо отрицать в человеческих знаниях всякую достоверность, чтобы сомневаться в истинности приведенных здесь доказательств. Но чтобы помочь уразуметь, насколько это возможно, бесконечную делимость материи, я прибавлю к ним один пример, показывающий одповремеппо деление до бесконечности и движение, бесконечно замедляющееся, но никогда не переходящее в покой.
Бесспорно, что, сомневаясь, является ли протяжение бесконечно делимым, нельзя сомневаться в том, что оно может бесконечно увеличиваться и что к площади в сто тысяч лье можно прибавить еще сто тысяч лье и так до бесконечности. Но бесконечное увеличение протяжения доказывает бесконечную делимость. Чтобы понять это, надо представить себе спокойное море, бесконечно простирающееся в длину, и корабль у берега этого моря, удаляющийся из порта по прямой линии. Если рассматривать из порта дно корабля сквозь стекло или какое-нибудь другое прозрачное тело, то луч, который будет оканчиваться на дне корабля, пройдет через определенную точку стекла, а горизонтальный луч пройдет через другую точку стекла, находящуюся выше первой. По мере удаления корабля точка луча, оканчивающегося на дне корабля, будет перемещаться все выше, и таким образом она будет бесконечно делить пространство между этими двумя точками. Чем больше будет удаляться корабль, тем медленнее она будет перемещаться вверх, но она никогда не перестанет перемещаться и не достигнет точки горизонтального луча, потому что эти две линии, пересекающиеся в глазу, никогда не станут параллельными и никогда не сольются в одну линию. Итак, этот пример показывает одповремеппо деление протяжения до бесконечности и бесконечное замедление движения.
Исходя из бесконечного уменьшения протяжения, обусловленного делимостью, можно решить те задачи, которые, казалось бы, заключают в себе противоречие. Найти бесконечную площадь, равную некоторой конечной площади или составляющую половину, треть и т. д. некоторой конечной площади. Их можно решить разными способами; я приведу довольно примитивный, но зато очень легкий. Если взять половину четырехугольника, и половину этой половины, и так до бесконечности и соединить все эти четырехугольники, расположив их большие стороны на одной линии, то из них составится неправильная фигура, площадь которой, с одного конца постоянно уменьшающаяся до бесконечности, будет равна площади целого четырехугольника; ибо половина, и половина половины, плюс половина этой второй половины, и так до бесконечности составляют целое; треть, и треть трети, и треть новой трети, и так до бесконечности составляют половину. Четверти, взятые таким же образом, составляют трети, а пятые части — четверти. Последовательно соединяя эти трети или четверти, мы составим из них фигуру, которая будет содержать половину или треть площади целого и которая с одной стороны будет бесконечной в длину, непрерывно уменьшаясь в ширину.
Польза, извлекаемая из подобных умозрений, состоит не просто в том, что мы приобретаем познания, — эти познания сами по себе бесплодны. Важнее то, что мы замечаем ограниченность нашего ума и заставляем его волей-неволей признать, что есть вещи, которые существуют, песмотря на то что он неспособен их понять. Поэтому имеет смысл утруждать ум подобными тонкостями, дабы умерить его самодовольство и навсегда отучить его противопоставлять свой слабый свет истинам, возвещаемым ему церковью, под тем предлогом что он не может их понять. Ведь если человеческий ум отступает перед малейшим атомом материи и признает, что ясно видит его бесконечную, делимость, но не в состоянии попять, как она возможна, то не следует ли отсюда, что отказываться верить в чудесные проявления непостижимого всемогущества Божия на том основании, что наш ум не может их понять, — значит явно грешить против разума?
Но если полезно время от времени давать уму почувствовать его слабость, рассматривая недоступные ему предметы, которые подавляют и уничижают его, то для обычных его занятий надо, конечно же, стараться выбирать такие предметы и вопросы, которые ему более соразмерны и в которых он способен найти и понять истину, или доказывая действия через причины, что называется доказательством a priori, или, наоборот, доказывая причины через действия, что называется доказательством a posteriori. Чтобы свести всевозможные доказательства к этим двум видам, эти термины надо понимать несколько шире, но мы попутно раскрыли их значение, затем чтобы читатели их понимали и не были застигнуты врасплох, встретив их в философских трудах или рассуждениях.
Доказательства обычно состоят из нескольких частей, и чтобы оци были ясными и заключающими, их части надо располагать в определенном порядке, следуя определенному методу. Об этом методе в основном и будет идти речь в оставшейся части нашей книги.
Глава II
О ДВУХ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДАХ — АНАЛИЗЕ И СИНТЕЗЕ.
ПРИМЕР АНАЛИЗА
Методом можно в общем назвать искусство располагать мысли в правильной последовательности, или с целью открыть истину, когда она нам неизвестна, или с целью доказать ее другим, когда мы ее уже знаем.
Таким образом, есть два различных метода. Один предназначен для того, чтобы открывать истину, — он называется анализом или методом разложения и может быть .назван также методом нахождения (d’invention), другой служит для того, чтобы излагать ее другим, когда мы ее уже нашли, — он называется синтезом или методом сложения и может быть назван также методом доктрины.
Анализ обычно не применяют для изложения целого корпуса какой-либо науки; им пользуются только для того, чтобы решить какой-то вопрос .
Все вопросы касаются либо слов, либо вещей.
Вопросами о словах я называю здесь не те, когда подыскивают слова, а те, когда по словам отыскивают вещи, как, например, когда требуется отгадать загадку или объяснить, что подразумевал автор под темными и двусмысленными словами.
Вопросы о вещах можно разделить на четыре главных вида.
Первый вид — когда по действиям отыскивают причины. Например, зная действия магнита, ищут их причину; зная различные действия, какие обыкновенно приписывают боязни пустоты, исследовали, является ли она их истинной причиной, и пришли к выводу, что нет; зная о морских приливах и отливах, спрашивают, какова причина столь мощного и столь регулярного движения.
Большая часть того, что говорится здесь о вопросах, заимствована из рукописи покойного господина Декарта, милостиво предоставленной нам господином Клерселье5.
Второй вид — когда по причинам отыскивают действия. Например, во все времена было известно, что ветер и вода обладают большой двигательной силой, но древние не изучили, каковы могут быть действия этих причин, и не умели применять их для многих вещей, потребных человеческому обществу и намного облегчающих труд людей (как это стали делать впоследствии, с изобретением мельниц), к чему их непременно привела бы истинная физика. Можно сказать, что первый вид вопросов — когда по действиям отыскивают причины — составляет всю умозрительную часть физики, а второй — когда по причинам отыскивают действия — составляет всю ее практическую часть.
Третий вид вопросов — когда по частям отыскивают целое, например, когда, имея несколько чисел, ищут их сумму, прибавляя одно к другому, или когда, имея два числа, ищут их произведение, умножая одно на другое.
Четвертый — когда, имея целое и какую-то часть, отыскивают другую часть, например, когда, имея число и то, что из него надо вычесть, отыскивают разность, или когда, имея число, отыскивают, какова будет такая-то часть от него.
Но надо заметить следующее: для того чтобы два последних вида вопросов были более обширными и охватывали все, что не может быть отнесено к двум первым, надо понимать слово «часть» более широко, обозначая им все, что содержится в вещи, — ее модусы, ее очертания, ее случайные признаки, отличительные свойства и вообще все атрибуты. К примеру, отыскивать площадь треугольника по высоте и основанию — значит отыскивать целое по его частям, и наоборот, отыскивать сторону прямоугольника, зная его площадь и одну из сторон, — значит отыскивать часть по целому и другой части.
К какому бы виду ни принадлежал вопрос, который предлагается решить, первое, что надо сделать, — это составить себе ясное и отчетливое представление о том, что же в точности спрашивается, т. е. каков точный смысл вопроса.
Ибо следует избегать того, что случается со многими людьми, которые по торопливости ума приступают к решению вопроса прежде, чем продумают, по каким признакам и приметам они смогут распознать искомое, когда они его встретят. Это подобно тому, как если бы слуга, которого хозяин послал за одним из своих друзей, поспешил отправиться на поиски прежде, чем узнал у хозяина, кого он должен найти.
Так вот, хотя во всяком вопросе есть что-то неизвестное — иначе нечего было бы искать, — однако необходимо, чтобы само неизвестное было выделено и обозначено через определенные условия, которые направляли бы нас на попеки одного, а не другого и позволяли бы нам, отыскав требуемое, заключить, что это и есть то, что мы искали.
Именно эти условия мы и должны рассматривать в первую очередь, следя за тем, чтобы не прибавить условий, не заключенных в предложенном вопросе, и не упустить тех, которые в нем заключены, ибо это две ошибки, какие мы можем совершить.
Мы совершили бы первую ошибку, если бы, к примеру, услышав вопрос, какое животное утром ходит на четырех ногах, днем — на двух, а вечером — на трех, мы решили бы, что должны понимать слова «нога», «утро», «день», «вечер» в их собственном, обычном значении. Ведь тот, кто загадывает эту загадку, вовсе не ставит условием, чтобы их понимали пменно так, — достаточно, чтобы их можно было метафорически отнести к чему-то другому; и, таким образом, мы дали бы правильный ответ, если бы сказали, что это животное — человек.
Предположим также, что нас спрашивают, какая хитрость была заключена в устройстве фигуры Тантала, который, покоясь на колонне посреди чаши с водой в позе человека, наклонившегося напиться, никогда не мог этого сделать, потому что вода в чаше поднималась до его рта, но вся до капли утекала, как только достигала его губ. Мы прибавили бы условия, ненужные для решения этого вопроса, если бы стали искать в самой фигуре Тантала какой-то удивительный секрет, который объяснял бы, почему вода утекала, лишь только она касалась его губ. Ведь это вовсе ле заключено в поставленном вопросе, и если вдуматься, он сводится к следующему: как сделать чашу, которая удерживала бы воду, будучи наполненной лишь до определенного уровня, и выпускала бы ее, если она превысит этот уровень? Л устроить это совсем не трудно: нужно только спрятать в колонне сифон, имеющий внизу небольшое отверстие, сквозь которое в пего будет поступать вода, причем более длинное колено сифона должно иметь отверстие под основанием чаши. До тех пор пока наливаемая в чашу вода не достигнет высоты сифона, чаша будет удерживать ее, но когда она достигнет этой высоты, она вся вытечет по более длинному колену сифона, имеющему отверстие под основанием чаши.
Спрашивается также, в чем был секрет того человека, которого можно было увидеть в Париже лет двадцать назад: как получалось, что он пил воду и затем, выливая ее изо рта, сразу наполнял пять-шесть стаканов водой разных цветов? Если мы вообразим, что эти жидкости разных цветов находились у него в желудке и он разделял их, выливая в разные стаканы, мы будем искать секрет, которого никогда не найдем, поскольку это невозможно. В действительности надо искать ответ на вопрос, почему вода, вылитая из одного рта, оказывалась в каждом стакане разного цвета, и причиной этого, по всей вероятности, была какая-то краска, посыпанная на дно стаканов.
Такой прием применяют и те, кто задает вопросы, не желая получить на них быстрый ответ: они обставляют искомое ненужными и нимало не облегчающими поиски условиями, чтобы нам нелегко было уяснить истинный смысл вопроса и чтобы мы теряли время и понапрасну утомляли свой ум, задерживая внимание на вещах, которые ничего не дают для его решения.
Другую ошибку при пзучении условий того, что отыскивается, совершают тогда, когда упускают условия, существенные для поставленного вопроса. Например, предлагается изыскать вечное движение, причем найти его надо с помощью искусства, ибо, как известно, вечное движение есть и в самой природе — таково течение родников и рек, движение звезд. Некоторые, полагая, что Земля вращается вокруг своего центра и представляет собой не что ипое, как большой магнит, всеми свойствами которого обладает и магнит меньших размеров, сочли, что можно было бы расположить магнит таким образом, чтобы он постоянно вращался. Но если бы это было так, они не решили бы тем самым предложенной задачи найти с помощью искусства вечное движение, ибо это движение было бы столь же естественным, как вращение колеса под напором воды.
Тщательно изучив условия, которые обозначают и выделяют то, что в предложенном вопросе неизвестно, далее надо изучить, что в нем известно, поскольку именно через это мы должны прийти к познанию неизвестного. Ибо не надо думать, будто мы должны найти какой-то другой род сущего: света нашего разума достает лишь на то, чтобы признать, что искомое таким-то и таким-то образом причастно природе вещей, которые нам известны. Если, например, человек слеп от рождения, мы напрасно будем искать аргументы и доказательства, чтобы внушить ему истинные идеи цветов — такие, какие мы получаем из чувств. Й точно так же, если бы магнит, равно как и другие тела, природу которых мы исследуем, был неким новым родом сущего и наш ум не мог помыслить ничего подобного, мы не должны были бы надеяться когда-либо познать его путем умозаключений; для этого нам потребовался бы иной ум, отличный от нашего. Поэтому следует считать, что мы нашли все, что способен найти человеческий ум, если мы можем ясно помыслить такое соединение известных нам сущностей и природ, чтобы они произвели все действия, какие мы наблюдаем в магните.
Анализ и состоит прежде всего во внимательном изучении того, что известно в вопросе, который мы хотим решить. Все искусство здесь заключается в том, чтобы извлечь из этого изучения много истин, которые могли бы привести нас к познанию искомого.
Например, если нам зададут вопрос, является ли человеческая душа бессмертной, и мы, чтобы определить это, станем рассматривать природу нашей души, мы прежде всего заметим, что собственный признак души — мышление и что она могла бы сомневаться в чем угодно, но только не в том, что она мыслит, ибо само сомнение есть мысль. Затем мы исследуем, что значит мыслить, и увидим, что в идее мышления не заключено ничего из того, что заключено в идее протяженной субстанции, называемой телом, и что можно даже отрицать относительно мышления все свойства тела — обладать длиной, шириной и глубиной, иметь различные части, быть такой-то и такой-то формы, быть делимым и т. д., не уничтожая тем самым пашей идеи мышления. Отсюда мы заключим, что мышление не есть модус нро1яженной субстанции, ибо модус по самой его природе нельзя помыслить, отрицая вещь, модусом которой он является. Из этого мы также выведем, что, поскольку мышление не есть модус протяженной материи, оно должно быть атрибутом другой субстанции и, таким образом, мыслящая и протяженная субстанция должны быть двумя реально различными субстанциями. Отсюда следует, что уничтожение одной из них отнюдь не влечет за собой уничтожения другой, ибо даже протяженная субстанция не уничтожается в собственном смысле этого слова: то, что называют уничтожением, есть только преобразование или разложение каких-то частей материи, которая пребывает в природе неизменной. Так, мы совершенно справедливо считаем, что, когда ломаются колеса часов, не происходит никакого уничтожения субстанции, хотя мы и говорим, что часы сломались. Это показывает, что душа, не будучи делимой и состоящей из каких-либо частей, не может погибнуть, и, следовательно, она бессмертна6.
Вот что называют анализом или разложением, В отношении этого метода надо заметить следующее. 1. Так же как и метод сложения, он предполагает переход от более известного к менее известному. Ибо ни один истинный метод не может обойтись без этого правила.
2. Но анализ отличается от метода сложения тем, что эти известные истины черпают из подробного рассмотрения той вещи, которую хотят познать, а не из более общих истин, как это делают, когда пользуются методом доктрины. Так, в приведенном примере мы не начинаем с установления общих максим: «Никакая субстанция не уничтожается в собственном смысле этого слова», «То, что называют уничтожением, есть лишь разложение частей», «Таким образом, то, что не имеет частей, не может уничтожиться» и т. д., но постепенно восходим к этим общим познаниям.
3. Следуя методу анализа, ясные и очевидные максимы выдвигают только по мере необходимости, тогда как, пользуясь другим методом, их устанавливают в первую очередь, о чем мы скажем ниже.
4. Наконец, эти два метода отличаются друг от друга так, как путь, который проделывают, поднимаясь из долины в гору, отличается от пути, который проделывают, спускаясь с горы в долину, или как отличаются друг от друга два способа, какими можно воспользоваться, чтобы доказать, что некто происходит от св. Людовика: первый способ состоит в том, чтобы показать, что у этого человека такой-то отец, который был сыном того-то, а тот — сыном того-то и так до св. Людовика; второй способ заключается в том, чтобы, начав со св. Людовика, показать, что у него были такие-то детп, а у этих детей — другие и так, нисходя, дойти до человека, о котором идет речь. Этот пример в данном случае тем более уместен, что, выясняя неизвестную родословную, надо, без сомнения, восходить от сына к отцу, а если нужно изложить уже установленную, самый естественный образ действий — начинать с прародителя и перечислять его потомков. То же обычно делают и в науках: анализом пользуются, чтобы отыскать какую-то истину, а другим методом — для того, чтобы изложить уже найденное.
Из сказанного можно понять, что такое анализ у геометров. Он состоит в следующем. Когда им предлагается вопрос такого рода, что им неизвестна его истинность или ложность, если это теорема, выполнимость или невыполнимость, если это задача, — они предполагают, что это истинно и выполнимо, н рассматривают, что отсюда вытекает. Если в итоге они приходят к какой-либо ясной истине, из которой с необходимостью следует то, что им предложено, они заключают, что предложенное им истинно, а затем, начиная с того, чем они кончили, доказывают это другим методом, называемым методом сложения. Но если необходимое следствие из того, что им предложено, приводит их к какой-то нелепости или к чему-либо невозможному, они заключают, что предложенное им ложно и невыполнимо.
Вот что можно в общем сказать об анализе. Он состоит скорее в рассудительности и в изощренности ума, нежели в каких-то особых правилах. Однако следующие четыре правила, которые г-н Декарт предлагает в своем «Методе»7, могут помочь нам уберечься от заблуждения, когда мы ищем истину в человеческих науках, хотя, если сказать правду, эти правила относятся не только к анализу: они общи для всех методов.
1. Никогда не принимать за истинное ничего, что не было бы для нас очевидным, т. е. старательно избегать торопливости и предубеждения и включать в свои суждения только то, что представляется уму столь ясно, что не дает ни малейшего повода для сомнений.
2. Делить всякое затруднение на столько частей, сколько их может быть и сколько требуется для его разрешения.
3. Располагать свои мысли в определенном порядке, начиная с предметов наиболее простых и наиболее легких для познания и мало-помалу, как бы по ступеням, восходя к познанию самых сложных; устанавливать порядок даже между теми предметами, которые по природе своей не предшествуют одни другим.
4. Всюду делать перечни настолько полные и обзоры настолько всеохватывающие, чтобы мы могли быть уверены, что ничего не упустили.
Правда, соблюдать эти правила нелегко, по всегда полезно держать их в уме и, насколько это возможно, следовать им, если мы хотим средствами разума найти истину — в той мере, в какой наш ум способен ее познать.
Глава III
О МЕТОДЕ СЛОЖЕНИЯ,
И В ЧАСТНОСТИ О ТОМ,
КОТОРЫЙ ПРИМЕНЯЮТ ГЕОМЕТРЫ
Из сказанного в предыдущей главе мы уже получили некоторое представление о методе сложения, являющемся наиболее важным, потому что имедно им пользуются для изложения любой пауки.
Суть этого метода в том, чтобы, начиная с самого общего и самого простого, переходить к менее общему и более сложному. Таким образом избегают частых повторений; ведь если бы виды рассматривали прежде рода, то надо было бы по многу раз излагать сущность рода — при рассмотрения каждого вида, поскольку невозможно познать вид, не познав его рода.
Есть еще много других требований, которые надо соблюдать, чтобы сделать этот метод совершенным и полностью соответствующим своему назначению — доставлять нам ясное и отчетливое знание истины. Но так как общие предписания труднее понять, когда они отвлечены от всякого конкретного содержания, мы- рассмотрим метод, которому следуют геометры, ибо он во все времена считался наиболее пригодным для того, чтобы внушить цетину и полностью убедить в ней ум. Мы покажем, во-первых, что в нем есть правильного, и, во вторых, какие в кем обнаруживаются недостатки.
Поставив перед собой цель выдвигать только убедительные положения, геометры решили, что они могут добиться этого, соблюдая в общем три условия.
1. Не оставлять никакой двусмысленности в терминах. Этого они достигают определениями слов, — о них мы говорили в первой части.
2. Основывать свои умозаключения только на ясных и очевидных началах, которых не может оспаривать ни один разумный человек. Поэтому они прежде всего устанавливают аксиомы, требуя, чтобы их принимали без доказательства, ибо эти аксиомы настолько ясны, что их лишь затемнили бы, если бы пожелали обосновать.
3. Доказывать демонстративным путем все выводимые ими заключения, пользуясь только принятыми определениями, началами, которые признаны совершенно очевидными, или положениями, которые они уже вывели из этих начал и определений путем умозаключения и которые затем сами становятся у них началами.
Итак, все, что геометры соблюдают, чтобы сделать истину убедительной для ума, можно свести к этим трем главным пунктам, изложив их в виде следующих пяти важнейших правил8.
Необходимые правила
Для определений
1. Не оставлять без определения ни одного сколько-нибудь неясного или неоднозначного термина,
2. Использовать в определениях только хорошо известные или уже разъясненные термины.
Для аксиом
3. Принимать за аксиомы только совершенно очевидные положения.
Для доказательств
4. Доказывать все сколько-нибудь неясные положения, используя для их доказательства только предшествующие определения, или принятые аксиомы, или уже доказанные положения, или прибегая к построению той самой вещи, о которой идет речь, когда [для того, чтобы дать понятие о ней,] надо произвести какое-то действие.
5. Никогда не обманываться неоднозначностью терминов и не забывать мысленно подставлять на их место определения, которые их ограничивают и разъясняют.
Вот что геометры считают необходимым для того, чтобы сделать доказательства убедительными и неопровержимыми. И надо признать, что соблюдения данных правил достаточно, чтобы, занимаясь науками, не допускать ложных умозаключений, а это, без сомнения, является главным, тогда как все остальное, можно сказать, скорее полезно, чем необходимо.
Глава IV
БОЛЕЕ ПОДРОБНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ЭТИХ ПРАВИЛ,
И ПРЕЖДЕ ВСЕГО ТЕХ,
КОТОРЫЕ КАСАЮТСЯ ОПРЕДЕЛЕНИЙ
Хотя мы уже говорили в первой части о пользе определений слов, этот вопрос настолько важен, что нелишне будет рассмотреть его снова. Ведь посредством определений разрешается множество споров, часто имеющих своим источником лишь двусмысленность терминов, которые один понимает в одном смысле, а другой — в другом. Иные оживленные словопрения прекратились бы в один миг, если бы каждый из спорящих позаботился коротко и ясно определить термины, подающие повод для спора.
Цицерон заметил, что споры между древними философами, особенно между стоиками и академиками, были основаны большей частью лишь на двусмысленности слов, потому что стоики, желая возвысить себя, употребляли термины из этики не в том смысле, в каком их было принято употреблять.9 Это внушало мысль, что их этика является гораздо более суровой и более совершенной, хотя на самом деле все ее совершенство заключалось только в словах. Ибо мудрец стоиков наслаждался всеми житейскими благами не меньше, чем философы других школ, которые, казалось бы, придерживались ме-пее строгих правил, и точно так же избегал всякого зла и всякого беспокойства, с тою лишь разницей, что если другие философы пользовались обычными словами «благо» и «зло», то стоики, предаваясь удовольствиям, называли их не благами, а предпочтительными вещами, jipornneva, и, избегая зла, не называли его злом, а говорили только о нежелательных вещах, anonpori,peva10.
Итак, это весьма полезный совет — прекращать всякие споры, основанные лишь на неоднозначности слов, определяя двусмысленные термины через другие слова, настолько ясные, чтобы их невозможно было неправильно попять.
Этой цели служит первое из приведенных выше правил: Не оставлять без определения ни одного сколько-нибудь неясного или неоднозначного термина.
Но чтобы извлечь из определений наибольшую пользу, надо прибавить еще второе правило: Употреблять в определениях только хорошо известные или уже разъясненные термины, т. е. только термины, сколь возможно ясно обозначающие идею, которую мы хотим выразить определяемым словом.
Ибо, если идея, с которой мы хотим связать какое-то слово, не обозначена достаточно ясно и отчетливо, в дальнейшем мы почти неизбежно, сами того не замечая, переходим к другой, отличной от нее идее, т. е. вместо того чтобы, пользуясь этим словом, всякий раз мысленно подставлять ту самую идею, которую мы им обозначили, подставляем другую, данную нам самой природой. Это легко обнаружить, подставив определение вместо того, что было определено. Если мы последовательно придерживались одной и той же идеи, такая подстановка не должна что-либо измеппть в выдвинутом положении; если же мы перешли к другой идее, подстановка внесет в это положение новый смысл.
Поясним это несколькими примерами. Евклид определяет плоский прямолинейный угол таким образом: Схождение двух наклоненных друг к другу прямых на одной плоскости11. Если рассматривать данное определение как простое определение слова, предполагая, что слово угол лишили всякого значения, с тем чтобы опо обозначало только схождение двух линий, тогда на это нечего возразить. Евклиду позволительно было назвать словом угол схождение двух линий. Но он обязан был помнить об этом и употреблять слово угол только в таком смысле. Л чтобы судить о том, выполняет ли он это требование, надо только всякий раз, когда он говорит об угле, подставлять вместо слова угол данное им определение, и если при такой подстановке в сказанном обнаружится какая-нибудь нелепость, отсюда будет следовать, что он не придерживался той самой идеи, которую он определил, и незаметно перешел к другой, а именно к нашей естественной идее угла. Например, он показывает, как разделить угол пополам. Подставим определение: разве не очевидно, что отнюдь не схождение двух линий делится пополам, имеет стороны и основание, или стягивающую, и что все это относится к пространству, заключенному между линиями, а не к схождению линий?
Ясно, что ввело Евклида в заблуждение и помешало ему определить угол как «пространство, заключенное между сходящимися линиями»: он видел, что это пространство может быть большим или меньшим в зависимости от длины линий, образующих угол, по угол не становится от этого больше или меньше. Однако отсюда он должен был сделать не тот вывод, что прямолинейный угол не есть пространство, а только тот, что это пространство, заключенное между двумя сходящимися прямыми линиями и неопределенное в том из двух своих измерений, которое соответствует длине этих линий, в другом же измерении определенное через соответственную часть окружности, имеющей центром точку, в которой сходятся эти линии.
Это определение столь ясно обозначает общую для всех людей идею угла, что опо является одновременно и определением слова, и определением вещи, если не считать, что слово «угол» в обыденной речи означает также и телесный угол, тогда как посредством этого определения его сужают таким образом, что опо обозначает плоский прямолинейный угол. И если мы дали углу такое определение, все, что можно будет затем сказать о плоском прямолинейном угле, каков он во всех прямолинейных фигурах, без сомнения, будет истинным применительно к этому углу, определенному таким образом, и у нас никогда не возникнет необходимости изменить идею и никогда не получится никакой нелепости, если мы подставим определение вместо того, что мы определили. Ведь именно это пространство можно разделить на две, на три, на четыре части. Именно это пространство имеет две сторопы, между которыми оно заключено. Именно- его можно ограничить с той стороны, с которой оно само по себе неограниченно, линией, называемой основанием или стягивающей. Именно это пространство не рассматривается как большее или меньшее оттого, что оно заключено между двумя линиями большей или меньшей длины: раз оно в этом измерении неопределенно, не от этого зависит его величина или малость. Такое определение позволяет судить, равен ли один угол другому или же является большим или меньшим. Так как величина этого пространства определяется только соответственной частью окружности, имеющей центром точку, в которой сходятся линии, заключающие угол, то если два угла измеряются одинаковыми частями своих окружностей, например десятой частью, они равны; если один измеряется десятой частью, а другой — двенадцатой, тот, который измеряется десятой, больше того, который измеряется двенадцатой. Если же исходить из определения Евклида, невозможно понять, в чем состоит равенство двух углов, и это, как заметил Рамус, вносит в «Начала» ужасную путаницу. Правда, самому Рамусу по удалось найти лучшего определения.
Приведем еще два определения Евклида, в которых он допускает ту же ошибку, что и в определении угла. Отношение, — говорит он, — есть зависимость двух однородных величин, сравниваемых по количеству. Пропорция есть подобие отношений13.
В соответствии с этими определениями, имя отношение должно обозначать и такую зависимость между двумя величинами, когда рассматривают, насколько одна из них превосходит другую. Ибо нельзя отрицать, что речь идет о зависимости между двумя величинами, сравниваемыми по количеству. И следовательно, четыре величины имеют пропорцию между собой, когда разность между первой и второй равна разности между третьей и четвертой. Против этих определений Евклида было бы трудно что-либо возразить, если бы он последовательно придерживался тех идей, которые он обозначил словами отношение и. пропорция. Но он их не придерживается, так как в его книге числа 3, 5, 8, 10 не рассматриваются как находящиеся в пропорции, хотя данное им определение слова пропорция к ним подходит, поскольку между первым и вторым числом, сравниваемыми по количеству, есть зависимость, подобная той, какая есть между третьим и четвертым.
Чтобы избежать этой несообразности, надо было отметить, что две величины можно сравнивать двояким образом: рассматривая, во-первых, насколько одна превосходит другую, и, во-вторых, каким образом одна содержится в другой. И так как эти две зависимости различны, им надо было дать разные имена, назвав первую разностью, а для второй оставив имя отношение. Надо было, далее, определить пропорцию как равенство зависимостей того или другого вида, т. е. равенство разности или отношения, и, поскольку это составляет две разновидности, также различать их посредством двух разных имен, называя равенство разностей арифметической пропорцией, а равенство отношений — геометрической пропорцией. А так как последняя имеет гораздо большее применение, чем первая, можно было также предупредить, что, когда говорят просто пропорция или «пропорциональные величины», подразумевают геометрическую пропорцию, арифметическая же подразумевается только тогда, когда это оговорено. Это устранило бы всю неясность и двусмысленность.
Из всего сказанного явствует, что тем общим принципом, согласно которому определения слов произвольны, нельзя злоупотреблять. Надо стараться определять идею, с которой мы хотим связать определяемое слово, настолько четко и ясно, чтобы в продолжение всего рассуждения мы не могли незаметно для себя подменить эту идею, т. е. употребить слово не в том значении, которое мы придали ему посредством определения, в каковом случае, подставив определение вместо того, что было определено, мы неизбежно пришли бы к какой-нибудь нелепости.
Глава V
О ТОМ, ЧТО ГЕОМЕТРЫ, ПО-ВИДИМОМУ,
НЕ ВСЕГДА ХОРОШО ПОНИМАЮТ РАЗЛИЧИЕ
МЕЖДУ ОПРЕДЕЛЕНИЕМ СЛОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ВЕЩЕЙ
Несмотря на то что нет таких авторов, которые пользовались бы определениями слов лучше, чем геометры, я считаю своей обязанностью отметить, что они не всегда обращают внимание на различие, существующее между определениями веТцей и определениями слов. Это различие состоит в том, что первые можно оспаривать, а вторые неоспоримы. Между тем я вижу, что иные геометры спорят об определениях слов с такой горячностью, как будто речь идет о самих вещах.
Так, в толкованиях Клавия на Евклида можно видеть долгий и очень жаркий спор между ним и Пеллетье 14 относительно пространства, заключенного между касательной и окружностью. Пеллетье утверждал, что опо не является утлом, Клавпй же считал, что это угол. Разве не ясно, что всему этому спору можно было положить конец одним словом, спроспв у того и другого, что они подразумевают под «углом».
Мы видим также, что Симон Стевии, знаменитый математик принца Оранского15, определив число следующим образом: Число есть то, посредством чего выражается количество всякой вещи, гневно обрушивается на тех, кто не признает единицу числом, и доходит даже до риторических восклицаний, как если бы это был чрезвычайно серьезный спор. Правда, он затрагивает в своем рассуждении довольно важный вопрос: относится ли единица к числу так, как точка к липин? Но этот вопрос надо было рассматривать отдельно, чтобы не смешивать две совершенно разные вещи. И, разбирая по отдельности два вопроса: является ли единица числом и относится ли единица к числу так, как точка к липли, — в отношении первого надо было сказать, что это всего только спор о слове и что единица является или не является числом в зависимости от того, из какого определения числа мы исходим. Если определить его, как у Евклида: Число есть множество, составленное из единиц 16, — то очевидно, что единица не число; но поскольку это определение Евклида произвольно и никому не возбраняется определять имя «число» иначе, ему можно дать и такое определение, какое приводит Стевин. Согласно этому определению единица есть число. Таков исчерпывающий ответ на первый вопрос, и помимо сказанного мы ничего не могли бы возразить тем, кто не желает называть единицу числом, без явного предвосхищения основания, В этом можно убедиться, разбирая мнимые доказательства Стевина. Вот первое из них:
Часть имеет ту же природу, что и целое.
Единица есть часть множества единиц.
Следовательно, единица имеет ту же природу, что и множество единиц, и, таким образом, она является числом.
Это доказательство не имеет никакой силы. Даже если бы часть всегда была той же природы, что и целое, отсюда не следовало бы, что она всегда должна носить то же имя, что и целое; наоборот, очень часто бывает, что она носит другое имя. Солдат есть часть армии, но он не есть армия. Комната есть часть дома, по не дом. Половина круга не есть круг. Часть квадрата не есть квадрат. Следовательно, Стевин доказывает, самое большее, что единица, составляя часть множества единиц, имеет нечто общее со всем множеством единиц и поэтому можно сказать, что они одной природы; но он не доказывает, что мы должны называть именем «число» и единицу, и множество единиц, — ведь можно при желании сохранить это имя лишь за множеством единиц, а единице дать только ее собственное имя единицы, или части числа.
Не имеет силы и второй довод Стевина:
Если из данного числа не вычитают никакого другого числа, то данное число остается неизменным.
Следовательно, если бы единица не была числом, то, вычитая из трех один, мы оставляли бы данное число неизменным, что явно нелепо.
Но большая посылка здесь смешна: она предполагает то, что требуется доказать. Ибо Евклид отрицал бы, что данное число остается неизменным, если из него не вычитают никакого другого числа, поскольку для того, чтобы число не осталось прежним, достаточно вычесть из пего или число, или часть числа, такую, как единица. И если бы это доказательство было правильным, мы точно так же доказали бы, что, отнимая от данного круга полукруг, мы оставляем данный круг без изменения, потому что мы не отнимаем никакого круга.
Таким образом, все доводы Стевина доказывают, самое большее, следующее: «число» можно определить так, что это слово будет относиться и к единице поскольку между единицей и множеством единиц существует достаточное соответствие, чтобы их можно было обозначить одним именем; но они вовсе не доказывают, что нельзя определить имя «число», сузив его значение до множества единиц, дабы не исключать единицу всякий раз, когда говорят о свойствах, присущих всем числам, кроме единицы.
Но второй вопрос — относится ли единица к другим числам так, как точка к линии, иного рода, нежели первый: это спор не о слове, а о вещи. Ибо неверно, что единица относится к числу, как точка к линии: ведь единица, прибавляемая к числу, делает его большим, тогда как точка, прибавляемая к линии, отнюдь не делает ее большей. Единица является частью числа, точка же не является частью линии. Если от числа отнять единицу, данное число не останется неизменным; если от линии отнять точку, данная линия останется без изменения.
Стевин очень часто ведет подобные споры об определениях слов. Так, например, он с жаром доказывает, что число не является раздельным (discrete) количеством; что пропорция чисел всегда арифметическая, а не геометрическая; что любой корень из какого угодно числа есть число, Это показывает, что он, в сущности, не уяснил, что такое определение слова, и принимал определения слов, каковые не могут оспариваться, за определения вещей, каковые нередко можно справедливо оспаривать.
Глава VI
ПРАВИЛА ОТНОСИТЕЛЬНО АКСИОМ,
Т. Е. ПОЛОЖЕНИЙ,
КОТОРЫЕ ЯСНЫ И ОЧЕВИДНЫ САМИ ПО СЕБЕ
Все согласны с тем, что есть положения настолько ясные и очевидные сами по себе, что их нет необходимости доказывать, и что те положения, которые не доказываются, могут послужить началами истинного доказательства лишь в том случае, если они именно таковы. Ибо очевидно, что если они хоть сколько-нибудь недостоверны, они не могут стать основанием для совершенно достоверного заключения.
Но многие не вполне понимают, в чем состоит ясность и очевидность того или иного положения. Во-первых, не надо думать, будто положение является ясным и достоверным только тогда, когда никто его не оспаривает, и будто оно должно считаться сомнительным, или по крайней мере нуждается в доказательстве, если находится кто-нибудь, кто его отрицает. Если бы это было так, не существовало бы ничего достоверного и ясного, поскольку находились философы, которые заявляли, что они сомневаются во всем, а иные даже утверждали, что ни одно положение не является более правдоподобным, чем ему противоположное. Следовательно, о достоверности и ясности должно судить Отнюдь не по словопрениям людей, ибо нет ничего такого, чего нельзя было бы оспаривать, особенно на словах. Ясным надо считать все, что представляется таковым всем тем, которые берут на себя труд внимательно исследовать вещи и правдиво говорят, что они думают о них. У Аристотеля есть слова, имеющие глубокий смысл: доказательство, говорит он, относится, собственно, лишь к внутренней речи, а не к внешней, поскольку нет ничего, что было бы доказано так убедительно, чтобы этого не мог отрицать какой-нибудь упрямец, который стал бы на словах оспаривать и то, в чем ои внутренне убежден 17. Подобная настроенность весьма предосудительна и совершенно недостойна ясного ума. Однако же ее часто перенимают в философских школах, где принято спорить обо всем на свете и считается делом чести никогда не уступать. Более умным там признается тот, кто быстрее находит способ вывернуться, меж тем как честный человек должен складывать оружие перед истиной, лишь только он ее увидит, и любить ее даже в устах своего противника.
Во-вторых, те философы, которые полагают, что все наши идеи происходят из чувств, утверждают также, что вся достоверность и вся очевидность какого бы то ни было положения происходит или непосредственно, или же опосредствованно из чувств. Ибо — говорят они, — даже ту аксиому, которая считается самой ясной и самой очевидной, какой только можно пожелать: «Целое больше своей части», — наш ум признает истинной только потому, что мы с детства наблюдали, что весь человек больше своей головы, весь дом больше комнаты, весь лес больше дерева и все небо больше звезды 18.
Это представление столь же ложно, как и то, которое мы опровергли в первой части, — будто все наши идеи пройсходят из чувств. Ибо если бы в той истине, что целое больше своей части, пас убеждали только различные наблюдения, какие мы делали с детства, несомненной для нас была бы лишь ее вероятность. Ведь индукция является верным средством познания вещей только тогда, когда у пас пет сомнений в ее полноте, ибо мы очень часто обнаруживаем ложность того, что мы считали истинным на основании индукции, казалось бы, настолько всеохватывающей, что нельзя представить себе никакого исключения.
Так, еще недавно не подвергалось сомнению, что вода, содержащаяся в изогнутом сосуде, одна сторона которого намного длиннее другой, всегда удерживается на одном уровне в большей и в меньшей части сосуда. В этом убеждали многочисленные наблюдения, и тем не менее совсем недавно было обнаружено, что, когда одна часть сосуда очень узкая, это неверно: в таком случае уровень воды в ней выше, чем в другой части.
Отсюда явствует, что одна индукция не могла бы дать нам полную уверенность в какой-либо истине, если бы мы не были уверены, что эта индукция является всеохватывающей, а это невозможно. И следовательно, истинность. аксиомы Целое больше своей части была бы для нас лишь вероятной, если бы мы были уверены в этом только потому, что видели: человек больше своей головы, лес больше дерева, дом больше комнаты, небо больше звезды. Ведь у нас всегда было бы основание сомневаться, не укрылось ли от нас какое-нибудь другое целое, которое не больше своей части.
Итак, достоверность рассматриваемой аксиомы зависит отнюдь не от тех наблюдений, какие мы делали с детства; напротив, ничто так не поддерживает в нас заблуждений, как предубеждения, усвоенные в детстве. Достоверность этой аксиомы определяется единственно тем, что в имеющихся у нас ясных и отчетливых идеях целого и части явно заключено и что целое больше части, и что часть меньше целого. Различные наблюдения, показывающие, что человек больше своей головы, дом больше комнаты, служат для нас только поводом к тому, чтобы мы обратили внимание на идеи целого и части. Но в корне неверно, что они являются причиной нашей полной и непоколебимой уверенности в истинности данной аксиомы, — думаю, я это показал.
Сказанное об этой аксиоме относится и ко всем другим, и, таким образом, я полагаю, что достоверность и очевидность человеческого знания обо всем, что находится в пределах естественного, определяется следующим принципом:
Все, что содержится в ясной и отчетливой идее какой-либо вещи, можно с достоверностью утверждать от носительно этой вещи.
Так, поскольку в идее человека заключен атрибут быть животным, я могу утверждать о человеке, что он есть животное; поскольку в идее круга заключено равен ство всех его диаметров, я могу утверждать о всяком круге, что все его диаметры равны между собой; поскольку в идее треугольника заключено равенство всех углов двум прямым, я могу утверждать это о всяком треугольнике.
Этот принцип нельзя оспаривать, по лишая человеческое знание всякой очевидности и не впадая в нелепый пирронизм. Ибо мы можем судить о вещах только через посредство имеющихся у пас идей этих вещей, потому что мы способны помыслить вещи лишь постольку, поскольку они представлены в нашем уме, а представлены они в нем идеями. И если бы суждения, которые мы составляем, рассматривая свои идеи, относились не к вещам самим по себе, а только к нашим мыслям, т. е. если бы, ясно усматривая в идее треугольника равенство трех углов двум прямым, я был не вправе заключить отсюда, что и в действительности во всяком треугольнике три угла равны двум прямым, но мог заключить лишь, что это я так думаю, то отсюда явствовало бы, что все наше знание есть только знание наших собственных мыслей, а не самих вещей. Следовательно, мы ничего не знали бы о вещах, которые мы, по нашему убеждению, знаем с наибольшей достоверностью, — мы знали бы только, что мы считаем их такими-то и такими-то, а это, безусловно, обращало бы в ничто всякую науку.
И можно не бояться, что найдутся люди, которые в самом деле будут согласны с тем выводом, что мы ни о чем ие можем сказать, истинно это или ложно само по себе. Ибо есть истины настолько простые и настолько очевидные, как, например: Я мыслю, следовательно, я существую; Целое больше своей части, что невозможно по-пастоящему сомневаться, действительно ли это так. Ведь мы не могли бы усомниться в этих вещах, если бы не думали о них, а думая о них, мы не можем не признавать их истинными, и, следовательно, в них невозможно сомневаться.
Но одного этого принципа недостаточно, чтобы судить о том, что должно быть принято за аксиому. Есть такие атрибуты, которые действительно заключены в идее вещи, но тем не менее могут и должны быть доказаны, как, например, равенство всех углов треугольника двум прямым или равенство всех углов шестиугольника восьми прямым. Надо учитывать, можем ли мы, рассмотрев идею вещи без особого напряжения внимания, ясно увидеть, что в пен заключен такой-то атрибут, или же, чтобы заметить эту связь, к ней необходимо присоединить какую-то другую идею. Когда нужно просто рассмотреть идею, положение может быть принято за аксиому, в особенности если это рассмотрение требует не более чем среднего напряжения внимания, на которое способен любой заурядный ум. Но если есть необходимость в какой-то другой идее, помимо идеи самой вещи, то это положение, которое надо доказать. Таким образом, можно установить следующие два правила для аксиом.
Правило первое
Когда для того чтобы ясно увидеть, что субъекту присущ некоторый атрибут, например, для того чтобы увидеть, что целому присущ атрибут быть больше своей части, нужно только без особого напряжения внимания рассмотреть две идеи — субъекта и атрибута, так чтобы при этом невозможно было не заметить, что идея атрибута действительно заключена в идее субъекта, тогда мы вправе принять данное положение за аксиому, не нуждающуюся в доказательстве, так как оно само по себе обладает всей очевидностью, какую ему могло бы придать доказательство. Ведь с помощью доказательства мы только выявили бы, что субъекту присущ некоторый атрибут, воспользовавшись третьей идеей, чтобы показать существующую между ними связь, а это видно и без третьей идеи.
Но не надо смешивать простое разъяснение, даже если оно внешне похоже на обоснование, с настоящим доказательством. Есть аксиомы, которые нужно разъяснять, чтобы они были более понятны, хотя они не нуждаются в доказательстве. Разъяснить — значит не что иное, как изложить другими словами, более пространно, то, что содержится в аксиоме; доказательство же требует какого-то нового среднего термина, который не содержится в аксиоме явным образом.
Правило второе
Когда простого рассмотрения идей субъекта и атрибута недостаточно для того, чтобы ясно увидеть, что субъекту присущ некоторый атрибут, положение, в котором это утверждается, не должно приниматься за аксиому. Его следует доказать, пользуясь какими-то другими идеями, чтобы показать эту связь, как пользуются, например, идеей параллельных линий, чтобы показать, что три угла треугольника равны двум прямым.
Эти два правила являются более важными, чем полагают. Ибо люди мало задумываются над тем, что они утверждают или отрицают, — это одна из наиболее свойственных им ошибок. они довольствуются тем, что они слышали или когда-то подумали, и но знают, что они сами подумали бы, если бы более внимательно рассмотрели, что происходит в их уме; для них больше значит звук слова, нежели его истинная идея; они утверждают как ясное и очевидное то, чего они не в состоянии помыслить, и отрицают как ложное то, что они не могли бы не признать истинным, если бы потрудились основательно подумать.
Например, те, кто утверждает, что в куске дерева, кроме частиц, их расположения, фигур, движения или покоя и промежутков между частицами есть еще отличная от всего этого субстанциальная форма, думают, что они говорят истину, однако они говорят то, чего ни они сами, ни кто-либо другой никогда не понимал и не поймет.
И наоборот, если им объясняют действия природы через чувственно не воспринимаемые частицы, из которых состоят тела, — через их различное положение, величину, фигуру, движение или покой и промежутки между ними, открывающие или закрывающие проход другим веществам, они думают, что все это одни химеры, хотя им не говорят ничего такого, чего нельзя было бы легко себе представить. У них в голове происходит странная путаница: сама легкость, с какой они представляют себе эти вещи, внушает им мысль, что они не являются истинными причинами наблюдаемых в природе действий, что причины эти более таинственны и сокровенны. Поэтому они больше расположены верить тем, кто все объясняет через начала, которых они не представляют, нежели тем, кто пользуется только такими началами, которые им понятны.
Забавно еще и то, что, когда пм говорят о чувственно не воспринимаемых частицах, они считают, что у них достаточно оснований отвергнуть их, так как их нельзя ни видеть, ни осязать, и, одпако, они удовлетворяются субстанциальными формами, тяжестью, притягивающей способностью и т. п,, чего они не только не могут видеть и осязать, но даже не в состоянии себе представить.
Глава VII
НЕКОТОРЫЕ ВАЖНЫЕ АКСИОМЫ,
КОИ МОГУТ СЛУЖИТЬ ОТПРАВНЫМИ ПОЛОЖЕНИЯМИ
ДЛЯ ВЫВЕДЕНИЯ ВЕЛИКИХ ИСТИН
Все согласны с тем, что важно держать в уме определенное число аксиом и принципов, которые, будучи ясными и несомненными, могли бы служить нам основой для познания самых сокровенных вещей. Однако те, какие обычно выдвигают, малоприменимы, и знание их ничего не дает. То, что называют первым принципом познания, — Невозможно, чтобы одна и та же вещь существовала и не существовала — весьма ясно и весьма достоверно, по я не знаю случая, когда этот принцип помог бы нам приобрести какое-нибудь познание. Думаю, что нижеследующие принципы могут быть более полезными. Начну с того, который был изложен выше.
Аксиома первая
Все, что заключено в ясной и отчетливой идее какой-либо вещи, можно с достоверностью утверждать относительно этой вещи.
Аксиома вторая
В идее всего того, что мыслится нами ясно и отчетливо, заключено существование, по крайней мере возможное.
Если мы ясно помыслили вещь, мы ужо не можем не рассматривать ее как могущую существовать, потому что только противоречие, которое обнаруживается между нашими идеями, заставляет нас думать, что та или иная вещь не может существовать. Но когда идея ясна и отчетлива, в ней не может быть противоречия.
Аксиома третья
«Ничто» не может быть причиной какой-либо вещи. Из этой аксиомы вытекают другие, которые можно назвать ее корол л ариями.
Аксиома четвертая, или 1-й королларий третьей
Никакая вещь и никакое совершенство вещи, существующей в действительности, не могут иметь «ничто», или несуществующее, причиной своего существования.
Аксиома пятая, или 2-й королларий третьей
Вся реальность или совершенство вещи формально или эминентно содержится в ее первой и полной причине 19.
Аксиома шестая, или 3-й королларий третьей
Ни одно тело не может само прийти в движение, т. е. сообщить себе движение, будучи неподвижным.
Очевидность этого принципа породила мнение о существовании субстанциальных форм и о том, что тяжесть и легкость представляют собой некие качества, присущие самим вещам. Ибо философы, с одной стороны, видя невозможность того, чтобы тело, которое должно быть приведено в движение, стало двигаться само собой, и, с другой сторопы, исходя из ложного убеждения, что в воздушной среде нет ничего, что толкало бы камень вниз, когда он падает, вообразили, будто в камне следует различать материю, которая вослриемлет движение, и субстанциальную форму, которая при посредстве акциденции тяжести сообщает его. Они не приняли во внимание, что, если сама эта форма материальна, т. е. является настоящей материей, тогда опять-таки возникает то затруднение, которого они хотели избежать. Если же она не является материей, то это должна быть субстанция, реально отличная от нее, а такую субстанцию невозможно ясно помыслить, если только не мыслить ее как дух, т. е. как мыслящую субстанцию, какова в действительности форма человека, по не других тел.
Аксиома седьмая, или 4-й королларий третьей
Ни одно тело не может привести в движение другое, если оно само не находится в движении. Ибо, если тело, пребывая в покое, не может сообщить движение самому себе, оно тем более не может сообщить его другому телу.
Аксиома восьмая
Не следует отрицать ясное и очевидное, если мы не поняли того, что темно.
Аксиома девятая
Конечный ум по природе своей не способен понять бесконечное.
Аксиома десятая
Свидетельство личности бесконечно могущественной, бесконечно мудрой, бесконечно благой и бесконечно реальной должно значить для нашего ума больше, чем самые убедительные доводы.
Ибо мы должны быть в большей степени уверены в том, что обладающий бесконечным умом не заблуждается и что тот, кто бесконечно благ, не вводит нас в заблуждение, нежели в том, что мы не заблуждаемся в самых ясных вещах.
Три последние аксиомы составляют основание веры, — о ней мы будем говорить ниже.
Аксиома одиннадцатая
Если события, о которых легко могут судить чувства, удостоверены очень многими людьми, жившими в разное время, принадлежавшими к разным народам и имевшими разные интересы, так что их нельзя заподозрить в том, что они сговорились поддерживать обман, и если все эти люди говорят о них как очевидцы, то эти события должны считаться столь же достоверными и несомненными, как если бы они совершались на наших глазах.
Это является основой большей части наших знаний, потому что истин, известных нам от других, несравненно больше, чем тех, в которых мы смогли удостовериться сами.
Глава VIII
ПРАВИЛА ОТНОСИТЕЛЬНО ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
Для того чтобы доказательство было истинным, требуется, во-первых, чтобы в материи доказательства но было ничего, кроме достоверного и несомненного, и, во-вторых, чтобы не было никаких погрешностей в форме доказательства. Мы, без сомнения, выполним оба условия, если будем соблюдать два установленных выше правила 20.
В материи доказательства не будет ничего, кроме истинного и достоверного, если все положения, выдвинутые для доказательства, будут
или. определениями разъясняемых слов, каковые, будучи произвольными, не могут оспариваться;
или принятыми аксиомами, истинность которых мы не должны были бы предполагать, если бы они не были ясными и очевидными сами по себе (по 3-му правилу)21;
или уже доказанными положениями, которые стали ясными и очевидными благодаря доказательству;
или построением той самой вещи, о которой идет речь, когда [для того, чтобы дать понятие о ней,] надо произвести какое-то действие; это построение, так же как и все остальное, не должно вызывать сомнений, ибо, если у нас есть хоть малейшее сомнение в его возможности, она должна быть доказана заранее.
Итак, ясно, что, соблюдая первое правило, мы никогда не выдвинем в качестве доказательства никакого положения, которое не было бы достоверным и очевидным.
Равным образом легко показать, что мы никогда не погрешим против формы доказательства, если будем соблюдать второе правило, требующее, чтобы мы не обманывались неоднозначностью терминов и не забывали мысленно подставлять вместо них определения, которые их ограничивают и разъясняют.
Ибо правила силлогизмов нарушают тогда, когда, не замечая неоднозначности какого-либо термина, его употребляют в одном предложении в одном смысле, а в другом — в другом смысле. Чаще всего это бывает со средним термином силлогизма: неоднозначное употребление среднего термина в двух первых предложениях — самый обычный порок ложных доказательств. Ясно, что мы избегнем этой ошибки, если будем соблюдать второе правило.
Это не значит, что в доказательствах не бывает иных пороков, помимо того, который связан с неоднозначпосгьто слов; по маловероятно, чтобы человек среднего ума, мало-мальски рассудительный, допустил другие ошибки, особенно в умозрительных материях. И таким образом, было бы бесполезно предупреждать, чтобы подобных ошибок остерегались, и давать соответствующие правила. Это было бы даже вредно, потому что сосредоточение на излишних правилах могло бы отвлечь ум от тех правил, которые необходимы. Мы видим, что геометры никогда не заботятся о форме доказательств и не думают о согласовании своих доказательств с правилами логики, хотя они их не нарушают: это делается само собой, и этому не нужно учиться.
По поводу положений, нуждающихся в доказательстве, надо сделать еще одно замечание. Не следует относить к их числу те, которые можно доказать, применяя правило очевидности ко всякому очевидному положению. Ибо в таком случае, пожалуй, не было бы аксиомы, которая не нуждалась бы в доказательстве, поскольку почти все они могут быть доказаны посредством той, которую, как мы сказали, можно принять за основание всякой очевидности: Все, что, как мы ясно видим, содержится в ясной и отчетливой идее, можно с достоверностью утверждать относительно этой идеи22. Например, можно сказать:
Все, что, как мы ясно видим, содержится в ясной и отчетливой идее, можно с достоверностью утверждать относительно этой идеи.
Мы ясно видим, что имеющаяся у нас ясная и отчетливая идея целого заключает в себе атрибут быть больше своей части.
Следовательно, можно с достоверностью утверждать, что целое больше своей части.
Но хотя это доказательство совершенно правильно, в нем нет никакой необходимости, потому что наш ум восполняет большую посылку, не сосредоточивая на пой внимания, и, таким образом, со всей ясностью и очевидностью усматривает, что целое больше своей части, не нуждаясь в размышлении о том, откуда исходит эта очевидность. Ибо это вовсе не одно и то же — знать что-либо с очевидностью и знать источник этой очевидности.
Глава IX
О НЕКОТОРЫХ НЕДОСТАТКАХ,
СВОЙСТВЕННЫХ МЕТОДУ ГЕОМЕТРОВ
Мы видели, что есть хорошего в методе геометров. Все это мы свели к пяти правилам, значение которых невозможно переоценить. И надо признать в высшей степени удивительным, что геометры открыли такое множество сокровенных истин и доказали их при помощи столь убедительных и неопровержимых доводов, так мало пользуясь правилами. Из всех философов им одним удалось изгнать из своих школ и из своих сочинений пререкания и споры.
Но если судить о вещах беспристрастно, то, не лишая геометров той заслуги, что в поисках истины они следовали гораздо более верным путем, чем все остальные, все же нельзя отрицать, что в их методе есть кое-какие недостатки, из-за которых они хотя и не уклонялись от своей цели, но приходили к истине не самым прямым и не самым легким путем. Я постараюсь показать это, взяв примеры таких недостатков у самого Евклида.
Первый недостаток
Больше заботиться о достоверности, чем об очевидности, и о том, чтобы убедить ум, нежели о том, чтобы просветить его похвально, что геометры выдвигают только убедительные положения, но опи, кажется, упускают из виду, что для совершенного знания какой-либо истины недостаточно убеждения в том, что данное положение истинно, если мы не усматриваем в природе самой вещи, почему оно истинно. Пока это не выяснено, ум не испытывает полного удовлетворения и стремится к большему знанию, что служит признаком того, что он еще не обладает истинным знанием. Этот недостаток, можно сказать, является источником почти всех других недостатков, которые мы отметим ниже. II таким образом, сейчас нет необходимости говорить о нем подробнее, поскольку мы сделаем это в дальнейшем.
Второй недостаток
Доказывать истины, не нуждающиеся в доказательствах
Геометры признают, что не надо стремиться доказывать положения, ясные сами по себе. Однако они нередко делают это, ибо, стараясь, как мы уже сказали, скорее убеждать ум, нежели просвещать его, они думают, что его легче будет убедить, если они найдут какое-то доказательство даже для самых очевидных положений, чем если они просто выдвинут их, с тем чтобы ум признал их очевидность.
Именно поэтому Евклид доказывает ту истину, что две стороны треугольника, вместе взятые, больше одной стороны23, хотя это очевидно уже из самого понятия прямой линии: она является кратчайшим расстоянием между двумя точками и естественной мерой удаленности одной точки от другой, что было бы невозможно, если бы она не была кратчайшей из всех линий, которые можно провести между двумя точками.
По этой же причине он превращает вопрос, как про-вести прямую, равную данной прямой, в задачу, которую надо решить24, хотя сделать это даже легче, чем описать окружность заданного радиуса.
Этот недостаток нетрудно объяснить. Евклид не принял в соображение, что вся достоверность и очевидность наших знании в естественных науках восходят к такому принципу: О вещи можно утверждать все, что содержится в ее ясной и отчетливой идее и, следовательно, если для того чтобы установить, что в идее заключен некоторый атрибут, достаточно просто рассмотреть ее, не прибегая к другим идеям, то это, как мы уже сказали выше, должно считаться ясным и очевидным.
Мне, разумеется, известно, что определенные атрибуты усматриваются в идеях легче, нежели другие. Но я полагаю, что если в идее можно без особого напряжения внимания ясно усмотреть некоторый атрибут и в этом не мог бы по-настоящему сомневаться ни один здравомыслящий человек, то этого достаточно, чтобы принять положение, к которому мы приходим путем простого рассмотрения данной идеи, за принцип, нс нуждающийся в доказательствах и требующий, самое большее, разъяснения и некоторых дополнительных замечаний. Так, я утверждаю, что, если сколько-нибудь внимательно рассмотреть идею прямой линии, нельзя не уяснить, что ее положение зависит только от двух точек (Евклид сделал это одним из своих постулатов25), и нетрудно понять, что если одна прямая пересекает другую и на пересекающей прямой есть две точки, каждая из которых равно удалена от двух точек пересеченной прямой, то на пересекающей прямой не будет такой точки, которая не была бы равно удалена от этих двух точек пересеченной прямой. Исходя из этого, легко судить, когда одна прямая перпендикулярна другой, не прибегая к понятиям угла и треугольника, которые надо вводить лишь после того, как будет установлено много такого, что можно доказать только при помощи перпендикуляров 26.
Следует также отметить, что выдающиеся геометры используют в качестве начал положения менее ясные, чем эти. Архимед, например, основывал самые стройные доказательства на такой аксиоме: Если две линии на одной плоскости имеют общие концы и являются выпуклыми в одну сторону, то объемлемая будет меньше объемлющей.
Я признаю, что этот недостаток — доказывать положения, не нуждающиеся в доказательстве, представляется незначительным и что сам по себе он действительно невелик; но он имеет важные следствия, поскольку именно он обычно приводит к нарушению естественного порядка, о чем будет сказано ниже. Стремление доказывать то, что надо было бы предположить как ясное и очевидное само по себе, часто заставляло геометров рассматривать для доказательства того, чего они не должны были бы доказывать, такие вещи, которые в соответствии с естественным порядком следовало бы рассматривать позднее.
Третий недостаток
Доказательство через невозможное
Доказательства этого рода, показывающие, что вещь является такой-то, не через ее начала, а через какую-либо нелепость, которая воспоследовала бы, если бы эта вещь была иной, встречаются у Евклида довольно часто. Однако, очевидно, что ойи могут убедить ум, по отнюдь не просвещают его, а между тем именно в последнем состоит главное предназначение науки. Ибо наш ум не испытывает удовлетворения, если он знает только, что вещь существует, по не знает, почему она существует, а этого нельзя уяснить из доказательства, сводящего к невозможному.
Мы не утверждаем, что подобные доказательства надо отвергнуть; ими иногда можно воспользоваться для обоснования отрицательных положений, являющихся, собственно, лишь короллариями других положений, которые или ясны сами по себе, или доказаны прежде иным путем. В этих случаях доказательство, сводящее к невозможному, представляет собой скорее разъяснение, чем новое доказательство.
Можно сказать, что подобные доказательства прием лемы только тогда, когда нельзя дать других, и ими не следует пользоваться для обоснования того, что может быть обосновано положительным образом. Но у Евклида есть много положений, которые он доказывает только таким путем и которые без особых затруднений могут быть доказаны иначе.
Четвертый недостаток Доказательства, полученные обходными путями
Этот недостаток у геометров очень распространен. Их не беспокоит, откуда взяты приводимые ими доказательства, лишь бы только они были убедительными. Однако доказывать вещи окольными путями, никак не обусловленными их природой, — значит доказывать их весьма несовершенным образом.
Рассмотрим это на примерах. Евклид (кн. I, предложение 5) доказывает, что у равнобедренного треугольника два угла при основании равны между собой, следующим образом: он продолжает на одинаковую длину стороны треугольника, строит новые треугольники и сравнивает их друг с другом. Но мыслимо ли, чтобы для обоснования равенства этих углов, доказательство которого не составляет никакого труда, нужно было применять подобный прием? Разве не смешно думать, что их равенство зависит от этих внешних треугольников? Если же следовать истинному порядку, можно найти несколько очень легких, коротких и естественных путей доказать это равенство.
47-е предложение I книги, в котором доказывается, что квадрат основания, стягивающего прямой угол, равен двум квадратам сторон, — одно из наиболее ценных положений Евклида. И однако же, ясно, что способ, каким оно здесь доказывается, не является естественным, потому что равенство этих квадратов следует не из равенства треугольников, используемых Евклидом как средство доказательства, а от пропорциональности отрезков, которую легко показать, не пользуясь никакой другой линией, кроме перпендикуляра, опущенного с вершины прямого угла на основание.
У Евклида всюду встречаются такие доказательства окольными путями.
Пятый недостаток
Не думать о естественном порядке
Это самый большой недостаток геометров. Они решили, что им не надо соблюдать никакого другого порядка, кроме того, чтобы первые положения служили для доказательства последующих. И таким образом, не заботясь о правилах истинного метода, состоящего в том, чтобы всегда начинать с самого простого и самого общего и затем переходить к более сложному и более частному, они вперемежку говорят о линиях и площадях, треугольниках и квадратах, доказывают через посредство фигур свойства простых линий и допускают множество других нарушений [естественного порядка], искажающих эту прекрасную науку.
В «Началах» Евклида этот недостаток встречается повсюду. В первых четырех книгах речь идет о протяжении, в пятой говорится о пропорциях всякого рода величин. В шестой книге Евклид вновь рассматривает протяжение, в седьмой, восьмой и девятой говорит о числах, а в десятой снова возвращается к протяжению. Это то, что касается общего беспорядка, но у него очень много беспорядка и в частностях. Он начинает первую книгу с построения равностороннего треугольника, а 22 положениями ниже излагает общий способ построения любого треугольника по трем данным линиям при условии, что две из них [при всяком их выборе] больше одной, по отношению к чему построение равностороннего треугольника на одной данной липин является частным случаем.
Относительно перпендикулярных и параллельных прямых Евклид ничего не доказывает иначе, как через посредство треугольников. Он примешивает к измерению линий измереппе площадей.
Оп доказывает (книга I, предложение 16), что, если продолжить сторону треугольника, внешний угол будет больше любого из внутренних, ему противолежащих, а 16 положениями ниже у него доказывается, что внешний угол равен двум противолежащим.
Чтобы привести здесь все примеры подобного беспорядка, какие можно пайти в «Началах», пришлось бы переписать всего Евклида.
Шестой недостаток
Не прибегать к делению (divisions) и к членению (partitions)
Еще один недостаток метода геометров заключается в том, что они не прибегают к делению и к членению. Нельзя сказать, что геометры не указывают всех видов тех родов, о которых они ведут речь; но они делают это, просто определяя термины и располагая все определения одно за другим, не отмечая, что такой-то род имеет столько-то видов и что он не может иметь их больше, так как общая идея данного рода допускает всего столько-то различий, — а ведь это проливает свет на сущность рассматриваемого рода и его видов.
Например, в I книге «Начал» мы найдем определения всех видов треугольников. Но не может быть никаких сомнении, что намного яснее было бы сказать так:
Треугольники можно подразделять в зависимости от сторон или в зависимости от углов.
Стороны бывают все равны, и тогда треугольник называется равносторонним, только две равны, и тогда он называется равнобедренным, все три неравны, и тогда он называется разносторонним.
Углы бывают все три острые, и тогда треугольник называется остро-угольным1 только два острые, и тогда третий является прямым, и треугольник называется прямоугольным или тупым, и треугольник называется тупоугольным.
И лучше даже давать это деление треугольников только после описания и доказательства всех свойств треугольника вообще, из чего можно будет узнать, что по крайней мере два угла должны быть острыми, потому что все три угла в совокупности не могут быть больше двух прямых.
Этот недостаток связан с пренебрежением к истинному порядку, требующему, чтобы виды рассматривались и определялись лишь после того, как будет познан род, в особенности когда о роде можно многое сказать и он может быть описан без обращения к видам.
Глава X
ОТВЕТ НА ТО, ЧТО ГОВОРЯТ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ ГЕОМЕТРЫ
Некоторые геометры считают, что у них есть оправдание этим недостаткам: они говорят, что это их нимало не беспокоит, что, поскольку они не утверждают ничего такого, чего не могли бы убедительно доказать, они уверены, что нашли истину, а это их единственная цель.
Мы, со своей стороны, признаем, что недостатки эти не столь значительны, чтобы можно было отрицать, что среди наук, основывающихся только на человеческих познавательных способностях, нет таких, которые были бы разработаны лучше тех, кои охватываются общим именем математики. Мы утверждаем лишь, что в эти науки можно внести кое-какие добавления и тем самым сделать их более совершенными и что, хотя главное условие, которое должны соблюдать геометры, состоит в том, чтобы выдвигать одни только истинные положения, было бы желательно, чтобы они обращали больше внимания на то, каков наиболее естественный способ изложения истины.
Пусть они сколько угодно говорят, что они не заботятся об истинном порядке и не думают о том, доказывают ли они какую-либо истину естественным или жо окольным путем, что-для них важно только выполнять свою задачу, а именно убеждать, — они не могут изменить природу нашего ума и сделать так, чтобы наше знание тех вещей, которые мы познали через их истинные причины и начала, не было гораздо более ясным, полным и совершенным, нежели знание того, что было доказано нам косвенными и сторонними путями.
И точно так же излагаемое в истинном порядке, без сомнения, воспринимается с несравненно большей легкостью и запоминается гораздо лучше, потому что идеи, между которыми существует естественная связь, правильно располагаются в пашей памяти и значительно легче пробуждают одни другие.
Можно даже сказать, что знания, которые мы приобрели, постигнув истинные основания вещи, удерживаются не памятью, а рассудком и познанное усваивается нами так, что мы не можем его забыть, тогда как то, что мы знаем через доказательства, не строящиеся на естественных основаниях, легко ускользает от пас и с трудом отыскивается вновь, если это выпало у пас из памяти, — ведь у нашего ума нет средства, чтобы его восстановить.
Таким образом, надо признать, что гораздо лучше соблюдать истинный порядок, нежели пренебрегать им. Единственное, что могли бы тут возразить беспристрастные люди, — это то, что надо пренебречь небольшим злом, когда его нельзя избегнуть без значительного ущерба; что, хотя и плохо не соблюдать истинного порядка, лучше, однако, отступить от пего, чем не дать неопровержимого доказательства выдвинутым положениям и подвергнуть себя риску впасть в заблуждение или допустить какой-нибудь паралогизм, стараясь найти доказательства, возможно, более естественные, но не столь убедительные.
Это весьма разумное возражение. И я признаю, что надо всему предпочитать уверепность в том, что мы не ошибаемся, и что должно пренебречь истинным порядком, если мы не можем следовать ему, не теряя в силе доказательств и не рискуя впасть в заблуждение. Но я отрицаю, что невозможно соблюсти и то и другое. Я думаю, можно установить такие начала геометрии, в которых все рассматривалось бы в естественном порядке и все положения доказывались бы очень простым и естественным путем, по, однако, все было бы доказало с полной ясностью. (впоследствии это и было осуществлено в «Новых началах геометрии», особенно в только что вышедшем новом издании28.)
Глава XI
МЕТОД НАУК, СВЕДЕННЫЙ К ВОСЬМИ ОСНОВНЫМ ПРАВИЛАМ
Из всего, что мы сейчас сказали, можно заключить, что для того, чтобы обладать методом еще более, совершенным, чем метод геометров, надо добавить два-три правила к пяти изложенным в III главе29. Таким образом, всех правил будет восемь.
Из них первые два касаются идей и могут быть отнесены к первой части этой «Логики».
3-е и 4-е касаются аксиом и могут быть отнесены ко второй части.
5-е и 6-е касаются умозаключений, и их можно отнести к третьей части.
Наконец, два последних касаются порядка и относятся к четвертой части.
Два правила касательно определений
1. Не оставлять без определения ни одного сколько-нибудь неясного или неоднозначного термина.
2. Использовать в определениях только хорошо известные или уже разъясненные термины.
Два правила для аксиом
3. Принимать за аксиомы только совершенно очевидные положения.
4. Принимать за очевидное то, что признается истинным без особого напряжения внимания.
Два правила для доказательств
5. Доказывать все сколько-нибудь неясные положения, используя для их доказательства только предшествующие определения, или принятые аксиомы, или положения, которые уже были доказаны.
6. Никогда по обманываться неоднозначностью терминов и не забывать мысленно подставлять определения, которые их ограничивают и разъясняют.
Два правила для метода30
7. Рассматривать вещи по возможности в их естественном порядке, начиная с самого общего и самого простою и излагая, прежде чем переходить к отдельным видам, все то, что относится к сущности рода.
8. По возможности делить всякий род на все его виды, всякое целое — на все его части и всякую задачу — на все мыслимые в ней случаи.
Я прибавил в двух последних правилах по возможности, так как их часто невозможно строго соблюсти, будь то из-за ограниченности человеческого ума или же из-за неизбежной ограниченности всякой пауки.
Вследствие этого в науках нередко трактуют о виде, не имея возможности рассмотреть все, что относится к роду. Например, в обычной геометрии, трактуя об окружности, ничего не говорят о кривой линии, являющейся ее родом; ей только дают определение.
Равным образом у пас нет возможности излагать все, что мы могли бы сказать о роде, поскольку такое изложение часто было бы слишком длинным; достаточно, если мы скажем о роде все, что хотели бы сказать, прежде чем перейдем к видам.
Но я считаю, что паука может быть доведена до совершенства только тогда, когда на два последних правила обращают такое же внимание, как и на все другие, и отступают от них только по необходимости или если из этого предполагают извлечь большую пользу.
Глава XII
О ТОМ, ЧТО МЫ ПОЗНАЕМ ЧЕРЕЗ ВЕРУ,
ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ ИЛИ БОЖЕСТВЕННУЮ
Все сказанное памп до сих пор относится к паукам, полагающимся только на человеческие познавательные способности, и к знаниям, оспованным на очевидности разума. Но прежде чем закончить эти книгу, надо сказать и о знании другого рода, которое часто по-своему не мепее достоверно и не менее очевидно, а именно о знании, имеющем своим источником авторитет,
К убеждению в том, что нечто истинно, мы приходим в общем двумя путями. Первый путь — это знание, которое мы приобретаем сами, познавая и открывая истину, будь то чувствами или разумом. В общем это можно назвать разумом, так как и самые чувства зависимы от суждения разума, или знанием, употребляя это имя в более общем смысле, чем в школах, — для обозначения всякого знания о предмете, которое мы черпаем из самого предмета.
Другой путь — это признание авторитета личностей, заслуживающих доверия, кои удостоверяют то, что для нас самих не очевидно. Это называют верой или доверием, основываясь на следующем высказывании святого Августина: Quod scimus, debemus rationi; quod credimus, autoritati31.
I Io так как авторитет может быть двоякого рода — божественный или человеческий, вера также бывает божественной или человеческой.
Божественная вера не может ввести в заблуждение, потому что Бог не может ни обманывать, ни обманываться.
Человеческая же вера способна вводить в заблуждение, ибо всякий человек, как сказано в Писании, есть лжец32 и, кроме того, те, кто уверяет нас, что нечто истинно, возможно, сами пребывают в заблуждении. Но, однако, как мы уже отметили выше, есть вещи, которые мы знаем только благодаря человеческой вере и которые следует считать столь же достоверными и несомненными, как если бы мы располагали их математическими доказательствами. К ним относится, в частности, то, что известно нам из сообщений стольких людей, что морально невозможно, чтобы они сговорились утверждать одно и то же, если это не соответствует действительности. Например, людям обычно трудно представить себе существование антиподов; однако, хотя мы там не были и знаем о них только благодаря человеческой вере, не верить в них может лишь безумец. II точно так же надо совсем потерять рассудок, чтобы сомневаться в том, что Цезарь, Помпей, Цицерон, Вергилий — это люди, действительно существовавшие, а не вымышленные лица вроде Амадиса33
Правда, часто довольно трудно в точности определить, достигла ли человеческая вера такой степени достоверности или еще нет. Это служит причиной двух противоположных заблуждений: есть люди, которые верят любым слухам, иные же доходят до такой нелепости, что не желают верить даже самым достоверным фактам, если они затрагивают их предубеждения. Но все же можно обозначить те пределы, которые надо перейти, чтобы достичь такой степени доступной людям достоверности, а также те, за которыми ею уже несомненно обладают. Между первыми и вторыми есть середина, которая ближе либо к достоверности, либо к недостоверности, в зависимости от того, ближе ли она к тем или к другим пределам.
И если мы сравним два пути, какими мы приходим к убеждению в том, что нечто истинно, — разум и веру, мы увидим, что вера, без сомнения, всегда предполагает некоторое разумное основание. Ибо, как говорит св. Августин в СХХП послании и во многих других местах, мы не могли бы заставить себя верить в то, что выше нашего разума, если бы сам разум не убеждал нас, что есть истины, в которые нам подобает верить, даже если мы еще не в состоянии их понять. Это справедливо главным образом в отношении божественной веры, так как истинный разум учит нас, что Бог, который есть сама истина, не может обманывать пас в том, что он открывает нам из своей природы и из своих тайн. Отсюда явствует, что, хотя мы должны, как говорит святой Павел, пленять свой рассудок в послушание Иисусу Христу34, мы делаем это не слепо и бездумно — что является источником всех ложных религий, — а со знанием причины и потому, что это разумно — склоняться перед божественным авторитетом, если Бог дает нам, в виде чудес и других необычайных событий, достаточно доказательств, убеждающих пас в том, что это он сам открыл людям истины, в которые мы должны верить.
Далее, не подлежит сомнению, что божественная вера должна иметь над нашим духом большую власть, нежели наш собственный разум. Сам разум внушает пам, что надо всегда предпочитать более достоверное менее достоверному и что изрекаемое Богом более достоверно, нежели то, в чем пас убеждает наш разум. Ведь Бог неспособен пас обманывать, а наш разум способен обманываться.
Однако при ближайшем рассмотрении становится ясно: то, что очевидно для нас благодаря умозрению или благодаря верному свидетельству чувств, никогда не бывает противоположным тому, что открывает нам божественная вера. Мы думаем, будто между тем и другим может быть противоречие, так как не улавливаем, где кончается очевидность нашего разума и чувств. Например, когда совершается таинство евхаристии, чувства яспо показывают пам круглость и белизну, по они не сообщают пам, служит ли именно субстанция хлеба причиной того, что наши глаза видят круглость и белизну, и, следовательно, вероучение отнюдь не противоречит очевидности наших чувств, утверждая, что это вовсе не субстанция хлеба, коей больше нет, ибо таинством пресуществления она превратилась в тело- Иисуса Христа, и что мы воспринимаем теперь только образ и видимость хлеба, которые сохраняются, хотя самой субстанции уже нет.
Точно так же разум внушает нам, что одно тело по может находиться одновременно в разных местах, а два дела — в одном месте, но это относится лишь к естественному состоянию тел; ведь было бы неразумием думатЬ будто наш конечный ум в состоянии понять, сколь далеко простирается могущество Божие, которому нет границ. И когда еретики отвергают такие таинства веры, как Троица, воплощение и евхаристия, ссылаясь на их мнимую невозможность с точки зрения разума, они явно отступают от разума, ибо притязают на то, чтобы постичь свопм умом всю беспредельность божественного могущества. Поэтому на подобные возражения можно ответить словами святого Лвгустипа, сказанными по поводу такого проникновения тел: sod nova sunt, sed insolita sunt, sed contra naturae cursum notissimum sunt, quia magna, quia mira, quia divina, et eo magis vera, certa, firma35.
Глава XIII
НЕКОТОРЫЕ ПРАВИЛА,
ПОМОГАЮЩИЕ РАЗУМУ ОПРЕДЕЛЯТЬ,
СЛЕДУЕТ ЛИ ВЕРИТЬ В ТЕ ИЛИ ИНЫЕ СОБЫТИЯ,
ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ПРЕДМЕТОМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ВЕРЫ
Главное назначение здравого смысла и той способности нашей души, благодаря которой мы отличаем истинное от ложного, — отнюдь не занятия умозрительными науками, коим посвящают себя лишь немногие. Эта способность редко когда получает большее применение и бывает более необходимой, нежели тогда, когда выносят суждения о том, что каждодневно происходит в жпзпп людей.
Я говорю не о суждениях относительно того, является ли какой-либо поступок хорошим или дурным, достойным похвалы или порицания, потому что оценивать справедливость таких суждений подобает этике, — я говорю о суждениях касательно подлинности событий, происходящих в человеческом обществе. Только это может иметь отношение к логике, рассматривают ли эти события как прошлые — например, когда речь идет лишь о том, должно ли в них верить или пет, или их рассматривают как будущие — папрпмер, когда боятся, как бы онп не произошли, или надеются, что они произойдут, — что обусловливает наши опасения и ожидания.
По этому поводу, без сомнения, можно сделать кос-какие полезные замечания, которые по крайней мере могут помочь избежать ошибок, допускаемых многими людьми оттого ,что онп не вполне сообразуются с правилами, предписываемыми разумом.
Прежде всего заметим, что надо строжайшим образом различать два рода истин. Одни относятся только к природе вещей и их сущности, неизменной и независимой от их существования, другие — к сущему, и в особенности к происходящим в человеческом обществе случайным событиям, которые могут произойти или не произойти, если речь идет о будущем, и которые могли не произойти, если речь идет о прошлом. Мы говорим о случайных событиях с точки зрения их ближайших причин, отвлекаясь от их непреложного порядка, определенного божественным провидением, потому что, с одной стороны, этот порядок отнюдь не исключает случайности и, с другой стороны, поскольку он нам неизвестен, от пего не зависит, верим ли мы в те или иные события.
Так как истины первого рода являются необходимыми, среди них пет ни одного положения, которое не было бы истинным во всех случаях, и, следовательно, положение надо считать ложным, если оно ложно хотя бы в одном случае.
Но если мы станем применять те же правила к вере в события, происходящие в человеческом обществе, паши суждения о них никогда не будут истинными, разве только случайно, и нам не избежать огромного количества ложных умозаключений.
Ибо такие события по природе своей случайны, и было бы смешно искать в них необходимую истину. Поэтому совершенно неразумным был бы тот человек, который соглашался бы поверить в какое-либо событие только при условии, если бы ему показали, что было абсолютно необходимо, чтобы все произошло именно таким образом.
И столь же неразумным был бы тот, кто хотел бы, чтобы я поверил в какое-то событие, например в обращение китайского императора в христианскую веру, на том лишь основании, что это не является невозможным. Поскольку другой человек, воспользовавшись тем же доводом, мог бы убеждать меня в обратном, ясно, что одного этого было бы недостаточно, чтобы я поверил Скорее в одно, чем в другое.
Поэтому надо принять за верпую и несомненную максиму следующее: одна возможность какого-либо события не является достаточным основанием, чтобы я в него поверил, и, с другой стороны, у меня может быть основание верить в него, хотя бы я не считал невозможным, чтобы произошло обратное, так что у меня может быть основание верить в одно событие и не верить в другое, хотя бы я считал оба возможными»
Но чем же будет определяться мое решение верить в одно, а не в другое, если я сочту оба события возможными? Я буду руководствоваться следующим принципом»
Чтобы вынести суждение о подлинности некоторого события и решить, стоит ли в него верить, надо рассматривать его не отвлеченно, само по себе, как рассматривают положения геометрии, а принимая в соображение все сопутствующие ему обстоятельства, и внутренние, и внешние. Внутренними обстоятельствами я называю те, которые относятся к самому факту, а внешними — те, которые имеют отношение к людям, чье свидетельство побуждает нас верить в этот факт. Если все сопутствующие событию обстоятельства таковы, что никогда или по крайней мере почти никогда не бывает, чтобы подобные обстоятельства оказались сопряжены с ложью, наш ум, естественно, склонен думать, что сообщение об этом событии истиппо, и он имеет на то основания, особенно в повседневной жизни, в которой требуется только моральная достоверность и часто даже приходится довольствоваться наибольшей вероятностью.
Если же эти обстоятельства, напротив, таковы, что они нередко бывают сопряжены с ложью, то разум требует или воздерживаться от суждения, или считать сообщение ложным, когда мы не усматриваем в нем никаких признаков истины, хотя бы мы не находили то, о чем сообщается, невозможным.
Спрашивается, например, истинна или ложна история крещения Константина св. Сильвестром. Бароний считает ее истинной; кардинал дю Перрон, епископ Спонд, о[тец] Пето, о. Морен и самые просвещенные духовные лица полагают, что она ложна36. Если бы мы принимали во внимание одну лишь возможность, мы были бы не вправе считать это сообщение ложным. Ведь оно не содержит ничего абсолютно невозможного; говоря отвлеченно, возможно даже, что Евсевпй37, засвидетельствовавший другое, решил солгать в пользу ариап и что следовавшие ему святые отцы были введены в заблуждение его свидетельством. Но если мы применим только что установленное нами правило, а именно сравним обстоятельства крещения Константина согласно той и другой версии и рассмотрим, где же больше признаков истины, мы увидим, что более правдоподобны обстоятельства, описанные Евсевием. Ибо, с одной стороны, у нас нет оснований полагаться на свидетельство столь сомнительного писателя, как автор «Деянии святого Сильвестра», который был единственным из древних, кто говорил о крещении Константина в Риме, и, с другой стороны, невероятно, чтобы такой высокообразованный человек, как Евсевий, отважился солгать, сообщая о столь известном событии, как крещение первого императора, давшего церкви свободу: ведь он, конечно же, был известен всему миру, когда Евсевий писал о его крещении, потому что это было всего четыре или пять лет спустя после смерти Константина.
Однако у данного правила есть исключение: бывает, что нам приходится довольствоваться возможностью и правдоподобием. Это тот случай, когда факт, в других отношениях достаточно удостоверенный, опровергается какими-либо несообразностями и явными противоречиями с другими сообщениями. В этом случае достаточно, чтобы предлагаемые решения этих противоречий были возможными и правдоподобными, и требовать для них положительных доказательств — значит поступать противоразумно, ибо, когда событие само по себе вполне доказано, нельзя требовать, чтобы точно так же были доказаны и все его обстоятельства. Иначе нам пришлось бы сомневаться в очень многих весьма достоверных сообщениях, которые мы можем согласовать с другими, не менее достоверными, только посредством допущений, коих мы не могли бы доказать положительным образом.
Например, мы можем согласовать то, что сообщается в Книгах Царств и в Книгах Паралипоменон о годах правления различных царей Иудеи и Израиля, только предположив, что у некоторых из этих царей было два начала царствования: одно — при жизни, другое — после смерти их отцов. Если нас спросят, какие у пас есть доказательства тому, что такой-то царь царствовал некоторое время вместе со своим отцом, надо будет признать, что этому нет никаких положительных доказательств; но поскольку это возможно и поскольку так нередко бывало в других случаях, мы вправе предположить это как обстоятельство, необходимое для того, чтобы согласовать сообщения, в остальном весьма достоверные.
Поэтому нет ничего более нелепого, чем старания некоторых еретиков нынешнего века доказать, что святой Петр никогда не был в Риме. они не могут отрицать, что эта истина удостоверена всеми церковными авторами, включая и самых древних, таких, как Папин, св. Дионисий Коринфский, Гай, св. Ириней, Тертуллиан38, ибо среди них не нашлось пикого, кто бы это отрицал. Однако эти еретики считают, что могут опровергнуть ее домыслами — например, указав на то, что святой Павел не упоминает о святом Петре в посланиях, написанных в Риме. Л когда им отвечают, что святой Петр мог быть тогда не в Риме, поскольку никто ведь не утверждает, что он никогда не покидал его, чтобы проповедовать Евангелие в других местах, они заявляют, что это говорится бездоказательно. Но такое заявление — дерзость с их стороны; ведь оспариваемый ими факт является одной из самых достоверных истин в истории церкви, и если опровергающие его должны показать, что он противоречит Писанию, то тем, кто его утверждает, достаточно разрешить это мнимое противоречие, как делают с мнимыми противоречиями в самом Писании, а для этого, как мы показали, достаточно одной возможности.
Глава XIV
ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕДЫДУЩЕГО ПРАВИЛА
К ВЕРЕ В ЧУДЕСА
Изложенное выше правило, без сомнения, является очень важным. Оно помогает разуму определять, следует ли верить в те или иные события, и когда его не соблюдают, рискуют впасть в опасные крайности легковерия и неверия.
Есть, например, люди, которые не позволяют себе усомниться в каком бы то ни было чуде: они думают, что если они ставят п.од сомнение хоть какие-нибудь чудеса, им следует сомневаться во всех чудесах вообще, они убеждены, что если для Бога все возможно, то надо верить во все, что говорят о проявлениях его всемогущества.
Иные же, напротив, делают нелепый вывод, что сомнение в любых чудесах свидетельствует о силе ума, на том лишь основании, что чудеса, о которых им приходилось слышать, часто оказывались мнимыми и что пет причин верить скорее в одни, чем в другие.
Умонастроение первых предпочтительнее, но и те и другие рассуждают одинаково неверно.
И те и другие прибегают к общим местам. Первые делают упор на могущество и благость Бога, на неоспоримые чудеса, которые они приводят в подтверждение тех, коп вызывают сомнения, и на ослепление воль-иодумцев, соглашающихся верить только в то, что доступно их разуму. Все это само по себе совершенно верно, однако этого недостаточно, чтобы мы поверили в то или иное чудо. Во-первых, Бог совершает не все, что он может совершить, и истинность сообщения о каком-то чуде не доказывается тем, что подобные чудеса происходили и в других случаях. Во-вторых, сколь бы мы ни были расположены верить в то, что превыше разума, мы не обязаны верить во все, что нам будут преподносить как превосходящее разум.
Последние применяют общие места другого рода. Истина и ложь, — говорит один из них, — сходны обличием, осанкой, вкусом и повадками: мы смотрим на них одними и теми же глазами. За свою жизнь я неоднократно видел, как рождались чудеса. Даже в том случае, если они, едва успев родиться, снова превращаются в ничто, мы имеем возможность предугадывать, что получилось бы, если бы они выжили. Ибо нужно лишь ухватиться за свободный конец нити, и тогда размотаешь, сколько понадобится. Между ничем и ничтожнейшей из существующих в мире вещей расстояние большее, чем между этой ничтожнейшей и величайшей. Так вот, те, кто первыми прослышали о некоем удивительном явлении и начинают повсюду трезвонить о нем, отлично чувствуют, встречая недоверие, где в их утверждениях слабое место, и всячески стараются заделать прореху, приводя ложные свидетельства Спервоначалу чье-то личное заблуждение становится общим, а затем уж общее заблуждение становится личным. Вот и растет эта постройка, к которой каждый прикладывает руку так, что самый дальний свидетель события оказывается осведомленным лучше, чем непосредственный, а последний человек, узнавший о нем, — гораздо более убежденным, чем первый39.
Остроумные слова. Из них можно извлечь урок: они убеждают нас в том, что не всяким слухам следует верить. Но было бы нелепо заключать отсюда, что надо с подозрением относиться ко всему, что говорят о чудесах. Это, без сомнения, относится только к тому, что мы знаем из слухов, источник которых нам неизвестен; и надо признать, что у нас нет оснований полагаться на то, что мы знаем только таким образом.
Но разве не очевидно, что можно воспользоваться и противоположным общим местом, и оно будет не мепее обоснованным? Ибо если есть чудеса, которые оказались бы недостоверными, если бы мы добрались до сути, то есть и такие, которые изглаживаются из памяти людей, и такие, в которые люди не верят, потому что не желают о них знать. Человеческий ум подвержен не единственному виду болезни: он страдает различными, в том числе и прямо противоположными недугами. Есть глупая простота, когда человек верит в самые невероятные вещи. Но есть и глупое самомнение, когда человек осуждает как ложное все, что не вмещается в узких пределах его ума. Люди часто проявляют любопытство к пустякам и равнодушны к важным вещам. Ложные истории распространяются во все концы, а совершенно истинные остаются для многих неизвестными.
Мало кто знает о чуде, происшедшем в паше время в Фармутье с одной слепой монахиней, у которой едва сохранились глаза. Эта монахиня в один миг обрела зрение, лишь только она прикоснулась к мощам святой Фары, — я знаю это от человека, видевшего ее н слепой, и прозревшей.
Святой Августпп говорит, что в его время было много совершенно достоверных чудес, известных лишь немногим людям. Молва об этих замечательных и удивительных чудесах не достигала даже другого конца города40, Поэтому он велел записывать и читать перед пародом о тех чудесах, которые получали подтверждение. В XXII книге «Града Божия»41 он отмечает, что в одном только городе Гиппоне их произошло около семидесяти за два года, прошедших с тех пор, как там построили часовню в честь святого Стефана, — и это не считая многих других, которые не были записаны, но о которых ему, по его свидетельству, было доподлинно известно.
Итак, ясно, что нет ничего более неразумного, чем руководствоваться в этих случаях общими местами и либо принимать, либо отвергать все чудеса вообще. Чтобы определить подлинность какого-либо чуда, надо рассмотреть его частные обстоятельства и оценить правдивость и благоразумие очевидцев.
Благочестие не требует от здравомыслящего человека верить во все чудеса, о которых рассказывается в «Золотой легенде» или у Метафраста42: у этих авторов так много вымыслов, что мы не можем быть уверенными в чем-либо только на основании их свидетельств, как это признал в отношении последнего кардинал Беллар-мин43.
Но я утверждаю, что любой здравомыслящий человек, даже если он лишен благочестия, должен признать истинными все те чудеса, в отношении которых св. Августин свидетельствует в своей «Исповеди» и в «Граде Божием», что они совершились у него на глазах или что он во всех подробностях узнал о них от тех самых людей, с коими они произошли. Так, например, мы можем прочесть у него об одном слепом, исцелившемся в Милане на виду у всего народа через прикосновение к мощам св. Гервасия и св. Протасия, о чем сообщается в «Исповеди»44, а также говорится в XXII книге «Града Божия», гл. VIII: Miraculum quod Mediolani factum est cum illic essemus, quando illuminatus est caecus, ad multorum notitiam potuit pervenire; quia et grandis est civitas, et ibi erat tunc Imperator, et immenso populo teste res gesta est, concurrente ad corpora Martyrum Gervasii et Protasii45.
Об одной женщине, исцеленной в Африке цветами, которые касались мощей святого Стефана, о чем св. Августин свидетельствует в том же месте.
Об одной знатной даме, которая исцелилась от рака, признанного неизлечимым, после того как она, согласно ниспосланному ей откровению, попросила одну женщину из новокрещенных осенить ей больное место крестным знамением.
Об одном ребенке, умершем до крещения, чья мать вымолила воскрешение молитвами, которые она возносила к святому Стефану, обращаясь к нему со словами, исполненными веры: О святой мученик, верни мне сына. Ты ведь знаешь, что я прошу возвратить ему жизнь только затем, чтобы он не был навеки отлучен от Бога. Святой Августин приводит это как несомненный факт в проповеди, прочитанной пароду по случаю другого великого чуда, происшедшего в церкви, где он проповедовал, каковое чудо он подробно описывает в указанном месте «Града Божия».
Он рассказывает, что семеро братьев и три сестры, принадлежавшие к одному почтенному семейству из Кессарийской Каппадокии, были прокляты матерью за нанесенное ей оскорбление. Бог наказал их ужасными содроганиями всего тела, не прекращавшимися даже во сне. Это было столь безобразное зрелище, что, будучи не в силах выносить встречи со своими знакомыми, они покинули родные места, чтобы разойтись в разные стороны. Двое из них, брат по имени Павел и сестра по имени Палладия, пришли в Гиппон; здесь их сразу же приметили и расспросили о причине их несчастья. В день Пасхи брат, молившийся Богу у решетки священного места, где находилась рака св. Стефана, внезапно впал в забытье, во время которого он больше не содрогался; пробудился он совершенно здоровым. Церковь наполнилась криками людей, восхвалявших Бога за это чудо. Народ побежал к св. Августину, который собирался служить обедню, и рассказал ему о том, что произошло.
После того как умолкли радостные крики и было прочитано Священное Писание, говорит он, я совсем коротко сказал о празднике и о великой причине ликования; ибо я хотел, чтобы не меня слушали, а внимали красноречию Божию, выразившемуся в этом божественном деянии. Затем я привел отобедать со мною исцелившегося брата и велел ему рассказать всю его историю, а после записать ее. На следующий день я обещал народу прочесть этот рассказ. И вот на третий день после Пасхи, поставив брата и сестру на ступени амвона, дабы весь народ, поглядев на сестру, у которой все еще продолжались эти ужасные содрогания, увидел, от какой беды избавился по милости Божией брат, я велел прочесть перед народом их историю. Потом я отпустил их и начал проповедовать по этому случаю (323-я проповедь), Вдруг, когда я еще не кончил говорить, от раки мученика послышался громкий крик ликования, и ко мне привели сестру, которая, спустившись со ступеней, отправилась туда и была полностью исцелена точно так же, как и брат. Это вызвало в пароде такое ликование, что поднявшийся шум был почти невыносим,
Я решил привести все подробности этого чуда, с тем чтобы и самые недоверчивые могли убедиться, что было бы неразумно подвергать его сомнению, равно как и множество других чудес, о которых этот святой рассказывает в том же месте. Ибо если предположить, что все происходило так, как он описывает, то любой разумный человек должен признать в этом перст Божий. На долю неверия оставалось бы только сомневаться в самом свидетельстве святого Августина и думать, что он исказил истину, дабы придать христианской религии авторитет в умах язычников. Но для подобного подозрения нет никаких причин.
Во-первых, невероятно, чтобы умный человек решился солгать, когда он мог быть уличен во лжи множеством свидетелей, что послужило бы лишь ко стыду для христианской религии. Во-вторых, не было человека, более непримиримого ко лжи, чем этот святой, особенно в вопросах веры. Ведь он написал целые книги, в которых доказывает, что лгать нельзя ни при каких обстоятельствах и что делать это под предлогом скорейшего приобщения людей к вере — ужасное преступление.
Удивительно, что нынешние еретики, считающие св. Августина человеком весьма просвещенным и очень искренним, не задумываются над тем, что, говоря о призыванье святых и поклонении мощам как о суеверном культе, походящем на идолопоклонничество, они становятся на путь ниспровержения всякой религии. Ибо очевидно, что, если лишить подлинные чудеса той значимости, какую они должны иметь для подтверждения истины, религия потеряет одно из самых прочных своих оснований. И ясно, что, утверждая, будто Бог творит чудеса с целью вознаградить за суеверный и идолопоклоннический культ, их лишают всякой значимости. Но именно это и делают еретики: они, с одной стороны, считают принятый у католиков культ святых и их мощей преступным суеверием, а с другой — не могут отрицать, что величайшие друзья Божии, такие, как святой Августин, удостоверили нас в том, что Бог исцелял неизлечимые недуги, возвращал зрение слепым и воскрешал мертвых, дабы вознаградить благочестие тех людей, которые призывали святых и поклонялись их мощам.
Для всякого здравомыслящего человека одного этого соображения достаточно, чтобы признать ложность так называемой реформированной религии.
Я довольно подробно рассмотрел этот известный пример того, как следует судить о подлинности событий, затем чтобы в сходных случаях он мог служить образцом, так как во всех подобных случаях люди совершают одну и ту же ошибку. Каждый думает, что для установления подлинности события достаточно применить общее место. Но общие места часто состоят из положений, которые не только не являются истинными во всех случаях, но даже не являются вероятными, когда к ним прибавляют частные обстоятельства рассматриваемых событий. Надо именно прибавлять обстоятельства, а не отделять их; ведь нередко бывает, что событие, маловероятное ввиду какого-то одного обстоятельства, которое обычно служит признаком лжи, должно рассматриваться как несомненное ввиду других обстоятельств и наоборот, событие, кажущееся нам истинным ввиду некоторого обстоятельства, обычно сопряженного с истиной, должно быть признано ложным из-за Других обстоятельств, которые лишают значимости первое, как это будет разъяснено в следующей главе.
Глава XV
ДРУГОЕ ЗАМЕЧАНИЕ ПО ПОВОДУ ВЕРЫ В СОБЫТИЯ
Относительно веры в события надо сделать еще одно, очень важное, замечание. Среди обстоятельств, которые необходимо рассмотреть, чтобы решить, следует ли верить в какое-либо событие, есть такие, которые можно назвать общими обстоятельствами, потому что они сопутствуют многим событиям и несравненно чаще оказываются сопряженными с истиной, нежели с ложью. И если им нельзя противопоставить другие, частные, обстоятельства, ослабляющие или вовсе уничтожающие основания для веры, которые наш ум находил в общих обстоятельствах, тогда мы можем считать эти события если не достоверными, то по крайней мере весьма вероятными. Этого вполне достаточно, когда нам нужно вынести суждение о них; ибо там, где недостижима метафизическая достоверность, мы вынуждены довольствоваться моральной достоверностью, а когда мы не способны достичь полной моральной достоверности, но должны высказать свое мнение, лучшее, что мы можем сделать, — это выбрать наиболее вероятное, поскольку было бы противоразумным выбирать то, что наименее вероятно.
Если же общие обстоятельства, побудившие пас верить во что-либо, оказываются соединенными с другими, частными, обстоятельствами, уничтожающими основания для веры, которые наш ум находил в общих обстоятельствах, или, более того, такими, что очень редко подобные обстоятельства не сопряжены с ложью, тогда у нас пет причин верить в это событие. Ум наш или воздерживается от суждения, если частные обстоятельства делают общие менее значимыми, или склоняется к мысли, что факт ложен, если подобные частные обстоятельства обычно указывают на ложь. Вот пример, который прояснит это замечание.
Обстоятельством, общим для многих документов, является то, что они подписываются двумя нотариусами, т. е. двумя должностными лицами, обычно весьма заинтересованными в том, чтобы не допустить подлога, ибо дело касается не только их совести и чести, но и их благополучия и самой жизни. Если я не знаю других обстоятельств договора, одного этого соображения для меня достаточно, чтобы верить, что он не был подписан задним числом, — не потому, что не бывает поддельных договоров, а потому, что из тысячи договоров 999 — подлинные, так что гораздо вероятнее, что договор, который находится у меня перед глазами, является одним из 999, а не тем единственным из тысячи, который может оказаться поддельным. Если же мне хорошо известна честность подписавших его нотариусов, я буду считать весьма достоверным, что они не допустили подлога.
Но если к тому общему обстоятельству, что договор подписан двумя нотариусами, каковое обстоятельство в случае, если ему нельзя противопоставить каких-либо других, дает мне основание считать дату заключения договора подлинной, прибавляются другие, частные, обстоятельства, как, например, что эти нотариусы слывут людьми без чести и совести и что они, возможно, были заинтересованы в подлоге, то это, правда, еще не заставит меня сделать вывод, что договор подписан задним числом, но подпись двух нотариусов уже не так легко убедит меня в подлинности его даты. А если я вдобавок найду другие, положительные, доказательства подлога — или в лице свидетелей, или в виде весьма убедительных доводов, как, например, невозможность того, чтобы человек ссудил двадцать тысяч экю в то время, когда у него, как можно доказать, не было в наличности и ста экю, то я сочту договор поддельным; и было бы крайне неразумно, если бы кто-нибудь убеждал меня не считать этот договор подписанным задним числом или признать, что я был неправ, предполагая подлинными другие договоры, в которых я не усматривал подобных признаков подделки, поскольку они тоже могли оказаться поддельными.
Все это можно применить к вопросам, которые часто вызывают споры между учеными, например: действительно ли такая-то книга принадлежит перу того автора, чье имя она всегда носила? являются ли подлинными документы такого-то церковного собора?
Мы, безусловно, склонны судить в пользу автора, которому данное произведение приписывается издавна, и отстаивать подлинность документов собора, которые мы читаем каждый день, и чтобы заставить пас, вопреки этой склонности, изменить свое мнение, требуются веские причины.
Вот почему, когда один весьма сведущий человек, наш современник, задался целью показать, что послание святого Киприана папе Стефану по поводу Марциана, епископа Арлезианского, не принадлежит сему святому мученику, он не смог убедить в этом ученых46. Его предположения не были, на их взгляд, достаточно основательными, чтобы лишить святого Киприана сочинения, всегда носившего его имя и но стилю совершеппо сходного с его трудами.
Напрасно также Блондел и Сомэз, не находя, что ответить на содержащийся в посланиях св. Игнатия довод в пользу главенства епископа над пресвитерами со времен основания церкви, стали утверждать, что все его послания — подлоясные, хотя эти послания были напечатаны Исааком Восспем и Уссерием с древней греческой рукописи из Флорентийской библиотеки47. Их опровергли ученые, принадлежащие к их же партии, потому что если признать — а они это признают, — что мы располагаем теми самыми посланиями, на которые ссылались Евсевий, св. Иероним, Феодорит и даже Ориген, то совершенно невероятно, чтобы послания св. Игнатия, собранные святым Поликарпом, эти подлинные послания, исчезли, а вместо них подложили другие за то время, что разделяет св. Поликарпа и Оригена или же Оригена и Евсевия48. Кроме того, в посланиях св. Игнатия, которыми мы сейчас располагаем, видны святость и простота, отличающие те апостольские времена, так что они сами защищают себя от беспочвенных подозрений в подлоге и подделке.
Наконец, все возражения, выдвинутые г-ном кардиналом дю Перроном против послания Африканского собора папе св. Целестину касательно обращений к святому престолу49, не помешали и впредь, как и прежде, считать, что оно действительно было написано на этом соборе.
Но есть, однако, и такие случаи, когда частные соображения берут верх над общим соображением долго приписываемого авторства.
Так, хотя послание святого Климента святому Иакову, епископу Иерусалимскому, было переведено Руфином около тысячи трехсот лет назад и более тысячи двухсот лет назад упоминалось на Французском соборе под именем святого Климента, трудно не признать его подложным: ведь этот святой епископ Иерусалимский был казнен до святого Петра и, следовательно, святой Климент не мог писать ему после смерти святого Петра, как предполагает это послание 50.
Точно так же, несмотря на то что выдержки из толкований на святого Павла, приписываемых святому Амвросию, приводились под его именем очень многими авторами, а незаконченные толкования на святого Матфея — под именем святого Хрисостома, в наше время все, однако, признают, что они принадлежат не этим святым, а другим древним авторам, допустившим много ошибок51.
Наконец, известных нам документов Синуэсского собора при Марцеллине, двух-трех Римских соборов при святом Сильвестре и еще одного Римского собора — при Сиксте III было бы достаточно, чтобы убедить нас в том, что соборы эти действительно созывались, если бы все в них было разумно и сообразно времени, к которому относят эти соборы52. Но в них столько нелепого и не соответствующего тому времени, что они, по всей вероятности, являются подложными.
Вот кое-какие замечания, которые могут быть полезными, когда мы выносим суждения подобного рода. Однако не надо думать, будто тот, кто к ним прислушается, впредь уже не будет ошибаться. Они могут, самое большее, предотвратить наиболее грубые ошибки и убедить ум не увлекаться общими местами, которые хотя и заключают в себе определенную долю истины, оказываются ложными во многих частных случаях, что является одним из главных источников человеческих заблуждений.
Глава XVI
О ТОМ, КАК МЫ ДОЛЖНЫ СУДИТЬ О БУДУЩИХ СОБЫТИЯХ
Правила, помогающие нам выносить верные суждения о прошлых событиях, применимы и к будущим событиям. Мы должны считать некоторое прошлое событие вероятным, если нам достоверно известны его обстоятельства и мы знаем, что такие обстоятельства обычно сопряжены с подобными событиями; равным образом следует считать вероятным, что некоторое событие произойдет, если сходные обстоятельства обычно имеют такие последствия. Именно так врачи судят об исходе болезни, полководцы — о будущих боевых действиях, да и вообще все люди — о большинстве таких дел, в которых все зависит от случая.
Но относительно тех событий, в которых люди принимают непосредственное участие и которым они своими стараниями могут в какой-то степени способствовать или препятствовать, либо подвергая себя риску, либо избегая его, многие составляют себе ложное представление, тем более обманчивое, чем более разумным оно им кажется, А именно: они принимают в соображение лишь то, сколь велика и что повлечет за собой выгода, к которой они стремятся, или ущерб, которого они опасаются, и совсем не учитывают вероятность того, что они извлекут такую выгоду или понесут такой ущерб.
Поэтому, когда они боятся какого-нибудь большого зла, например потери жизни или всего своего состояния, они считают благоразумным не пренебрегать никакой предосторожностью, чтобы уберечь себя от этого зла. А если дело касается какого-нибудь большого блага, например выигрыша ста тысяч экю, они думают, что будет разумным постараться получить его, если риск невелик, сколь бы малой ни была вероятность успеха.
Так рассуждала, к примеру, та принцесса, которая, прослышав о людях, раздавленных обвалившимся потолком, с тех пор никогда не входила в дом, не послав прежде осмотреть его. Она была убеждена, что действует правильно, и считала неблагоразумными всех, кто поступал иначе.
Оттого что подобные действия кажутся правильными, некоторые люди принимают ненужные и обременительные предосторожности, дабы сохранить свое здоровье. Иные же становятся до крайности недоверчивыми даже в мелочах: им кажется, что, раз их когда-то обманули, они будут обмануты и во всех других делах. По этой же причине многих людей привлекают лотереи. Разве не выгодно, говорят они, выиграть двадцать тысяч всего за один экю? Каждый надеется стать тем счастливцем, кому выпадет крупный выигрыш, и никто не думает о том, что если выигрыш составляет, положим, двадцать тысяч экю, то, возможно, для каждого участника лотереи будет в тридцать тысяч раз более вероятным, что этот выигрыш ему не достанется, нежели что он его получит.
Подобные рассуждения неверны потому, что если мы хотим получить какое-либо благо или избежать какого-либо зла, то, чтобы решить, что нужно для этого сделать, надо принять в соображение не только это благо или зло само по себе, но и вероятность того, что оно выпадет или не выпадет на нашу долю, и с геометрической точностью рассмотреть пропорцию между всеми этими вещами. Это можно пояснить следующим примером.
Есть игры, в которых десять человек ставят по одному экю и кто-то из них выигрывает всё, а остальные проигрывают; таким образом, каждый рискует проиграть только один экю, а выиграть может девять. Если учитывать только выигрыш и проигрыш сами по себе, может показаться, что игра выгодна для всех; но надо еще принять в соображение, что если каждый может выиграть девять экю, рискуя проиграть только один экю, то при этом в отношении каждого в девять раз более вероятно, что он проиграет один экю, а не выиграет девять. Итак, каждый надеется получить девять экю и может проиграть один экю и для каждого вероятность проиграть один экю относится к вероятности выиграть девять экю как девять к одному. Таким образом, одно уравновешивается другим.
Все игры подобного рода являются честными, насколько могут быть честными игры; те же, в которых такая пропорция нарушается, — явно нечестные. Исходя из этого, можно показать, что в играх, называемых лотереями, есть очевидный обман. Поскольку устроитель лотереи обычно берет себе десятую часть в качестве вознаграждения, все играющие, вместе взятые, одурачиваются точно так же, как если бы один человек ставил в равной игре, т. е. в такой игре, в которой выигрыш и проигрыш одинаково вероятны, десять пистолей против девяти. Но если это невыгодно для всех играющих, вместе взятых, то это невыгодно и для каждого из них в отдельности, ибо отсюда следует, что вероятность проигрыша превосходит вероятность выигрыша в большей мере, чем ожидаемая выгода превосходит риск потерять то, что ставят.
Иногда вероятность получить какую-либо вещь так мала, что, сколь бы она ни была заманчива и как бы незначительна ни была та вещь, которой рискуют, чтобы ее получить, лучше вовсе не рисковать. Например, было бы глупо ставить двадцать су против десяти миллионов ливров или даже против целого царства, зная, что мы могли бы выиграть их только в том случае, если бы ребенок, расставляющий как придется типографские литеры, сразу же составил двадпать первых стихов «Энеиды» Вергилия. И хоть мы об этом не думаем, мы в любую минуту рискуем жизнью больше, чем государь рискует своим царством, ставя его на карту на таких условиях.
Эти соображения кажутся малозначительными, и они действительно таковы, если мы на этом остановимся. Но их можно распространить и на более важные вещи. они должны послужить, прежде всего, к тому, чтобы сделать более обоснованными наши надежды и опасения. К примеру, многих людей повергают в ужас удары грома. Если гром наводит их на размышления о Боге и о смерти — в добрый час; чем больше мы об этом думаем, тем лучше. Но если такой непомерный страх вызывает у них одна лишь опасность погибнуть от молнии, то легко показать им, что он необоснован. Ведь из двух миллионов человек подобной смертью погибает от силы одип, и даже можно сказать, что это, пожалуй, самый необычный вид внезапной смерти. Следовательно, поскольку страх перед злом должен быть соразмерен не только самому злу, но и вероятности события и поскольку едва ли есть более редкая смерть, чем гибель от молнии, такой смерти надо бояться меньше любой другой, тем более что страх не поможет нам избежать ее.
Таким образом мы можем вывести из заблуждения людей, впадающих в крайность и прибегающих к тягостным для них предосторожностям, чтобы сохранить свою жизнь и здоровье: им надо показать, что эти предосторожности являются большим злом, нежели та отдаленная опасность, которой они боятся. Так же можно вывести из заблуждения многих других людей, которые, принимаясь за что-нибудь, почти всегда рассуждают следующим образом: в этом деле кроется опасность, стало быть, это дело дурное; из этого дела можно извлечь выгоду, значит, это дело хорошее. Ведь судить надо не по опасности и не по выгоде, а по тому, в какой пропорции они находятся.
Конечные вещи обладают той особенностью, что, сколь бы велики они ни были, они могут быть превзойдены самыми малыми, если эти малые вещи многократно умножаются или если они в большей степени превосходят большие в вероятности, чем те превосходят их по величине. К примеру, самый малый выигрыш может превзойти самый большой, какой только можно себе представить, если малый часто повторяется или если получить это большое благо настолько трудно, что оно в меньшей степени превосходит малое по величине, нежели малое превосходит его в вероятности. И то же со злом, которого опасаются: самое малое зло может быть более значительным, нежели самое большое (при условии, что последнее не беспредельно), если первое превосходит второе в такой пропорции.
Только то, что бесконечно, — вечность и спасение — не уравновехпивается никакой временной выгодой и никогда не должно ставиться в один ряд ни с чем мирским. Поэтому малейшая возможность для спасения дороже всех мирских благ, вместе взятых, и малейшая опасность погибели важнее любого преходящего зла, рассматриваемого как зло физическое.
Для всякого разумного человека этого достаточно, чтобы сделать для себя вывод, которым мы и закончим нашу «Логику»: величайшее неразумие — тратить свое время и самую жизнь на что-либо иное, помимо того, что может послужить к обретению жизни, которой не будет конца, ибо все' благо и зло нашей жизни — ничто в сравнении с благом и злом жизни иной, и опасность будущего зла очень велика, равно как и трудность обретения будущего блага.
Те, которые приходят к такому выводу и сообразуют с ним свои поступки, — люди благоразумные и мудрые, даже если их рассуждения в вопросах науки часто бывают неверными; те же, которые не делают для себя такого вывода, будь они даже правы во всем остальном, названы в Писании безумными и несмысленпыми, ибо они находят дурное употребление логике, разуму и самой жизни.
Конец
ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ (...)
_________________
Распознавание текста — sheba.spb.ru
|