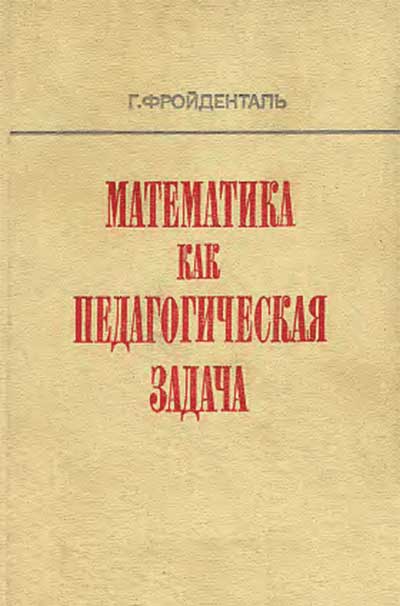СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие автора 5
ЧАСТЬ 1
1. Математическая традиция 9
2. Математика сегодня 23
3. Традиции воспитания 50
4. Цель и смысл обучения математике 55
5. Сократовский метод 75
6. Переоткрытие 82
7. Математическое упорядочение 86
8. Строгость 89
9. Процесс обучения 94
Ю. Учитель математики 96
11. Понятие числа — объективный подход 100
12. Развитие понятия числа — от наглядных методов к алгоритмизации и рационализации 150
13. Развитие понятия числа — алгебраический метод 170
14. Развитие понятия числа — от алгебраического принципа к упорядочению алгебры в целом 182
15. Множества и функции 187
ЧАСТЬ 2
15. Множества и функции (продолжение) 5
16. Падение геометрии 35
17. Анализ 91
18. Теория вероятностей и статистика 127
19. Логика 158
Послесловие 182
Фрагмент:
ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА
Предисловия, как и увертюры, пишутся, когда работа уже закончена. То, что их. помещают в начале книг, является слабым отблеском того, что я назвал дидактической инверсией: при написании математических монографий и учебников в публикуемых работах путь к получению результата является обратным тому, который проделал автор в действительности; ключевые определения, формулиров ки которых являются последним штрихом подготовки публикации, ставятся в начало. Дидактической инверсии я уже много лет противопоставляю мысленный эксперимент.
Во всяком случае следует излагать другому математические результаты не так, как они были придуманы, а так, как их мог бы придумать тот, кто знал бы известное теперь, и как их мог бы придумать школьник под руководством учителя. Это и есть метод, который применил Сократ, обучая раба Менона. В мысленном эксперименте можно попытаться представить себе, как учащийся «пере-откроет» то, что от него потребуют.
Я назвал предисловие слабым отблеском дидактической инЕер-сии. Хотя его можно было и не писать вообще, оно будет полезно прежде всего для рецензентов, которым теперь нет необходимости читать всю работу; полезно и для автора, который, как композитор в увертюре, может торжественно продемонстрировать основной мотив произведения.
Эта книга, как и ее вторая часть (том II), не является дидактикой математики в том смысле, что не содержит систематических сведений об изложении того или иного учебного материала; эти книги не являются и систематическим анализом учебного материала. Я почти нигде не ссылаюсь на тщательно проведенные эксперименты в классах,чкоторые можно оценить статистически. Столь же мало я основываюсь на результатах экспериментов психологов. Вероятно, читатель заметит, что в этой книге почти нет цитат. Все это я хотел бы объяснить.
Вначале о литературе по психологии: я не вижу необходимости цитировать ее как высший дидактический авторитет, особенно ту литературу, которая стоит вне воспитательного контекста. Если некоторые это и делают, то они вынуждены высказать и свою точку зрения. Принятое сейчас в математической дидактике злоупотребление именем Пиаже вынудило меня остановиться в отдельных главах на том, что означают его исследования для математического воспитания.
От педагогической психологии в обучении математике можно ожидать всего, чего угодно: в техническом отношении эти ожидания, пожалуй, что и сбываются. Я узнал от специалистов по педагогической психологии много интересного и остроумного, но очень мало из того, что мне требовалось. Если в прекрасной современной книге1 я ищу ответ на вопрос о том, что понимается под обучением и как оно подразделяется, то этот ответ весьма далек от того, что я понимаю сам и слышу от коллег об обучении математике; чувство непонимания охватывает меня: неужели математика есть нечто совершенно иное? Хотелось бы, чтобы кто-либо, глубже знающий и математику, и психологию, навел мосты между ними.
Помимо нескольких общих идей, мои рассуждения не связаны с психологией. Непосредственными источниками моей работы являются школьные учебники, дидактические планы, пробные уроки, наблюдения над отдельными детьми и косвенным образом — беседы и дискуссии с учителями. Что касается этих бесед и дискуссий, то в конце настоящего предисловия будет приведен отчет о некоторых влияниях. В то же время у меня были причины избегать, где в этом нет особой необходимости, упоминаний об учебниках, дидактических планах и пробных уроках. Для этого есть веские основания: этот материал подвергался критике, которая в большинстве случаев была негативна. Критические доводы почти однозначно распадаются на немногие серьезные соображения и большое количество придирок. Оба вида критики волей-неволей смешиваются; мне хотелось бы избежать этого. Иначе было бы много чести цитировать наряду с серьезной критикой и множество мелочных придирок. Лишь в немногих специфических случаях я прибегал к цитированию.
То, что я почти не упоминаю математико-дидактических исследований, имеет другую причину, главным образом ту, что, если не считать некоторых банальностей, я не использовал их результаты, так как не смог ими воспользоваться. Это я должен объяснить.
Вначале я думаю об исследованиях, которые должны показать, что некоторый определенный учебный материал может быть предметом преподавания. Материал предлагают кому-то; указывают, где и когда он проверялся; успешность обосновывается даже численной мерой. Однако при этом отсутствует указание метода преподавания, и тем самым весь отчет, как таковой, обесценивается, так как и без того ясно, что детям можно соответствующими методами вдолбить все что угодно. Недавно я видел прекрасный сдм по себе курс для индивидуализированного обучения (по определенной программе каждый школьник работает с доступной ему скоростью), по которому дети, руководимые ложными рецептами, годами послушно доказывают одну и ту же нелепость, и никто их не останавливает — это показывает, что и такой материал может быть предметом преподавания. К подобным исследованиям я питаю более серьезное недоверие. В лучшем случае они показывают возможность изучения материала, но не возможность обучения ему. Неверно, что это одно и то же. Если некоторый материал может быть преподаваем, это еще не значит, что достаточно большое количество учителей могут обучать этому. Если материал математически неверен, ,или дидактически неудачен, или не имеет познавательной ценности, некоторые учителя отказываются обучать такому, а многие хотя и обучают, но делают это с отвращением, так что обучать этому материалу становится уже невозможным. Далее, некоторый материал может оказаться столь своеобразным, что ему можно обучать только, если ясно указано, как следует обучать, но эти сведения тоже большей частью отсутствуют (я имею в виду не дидактические тонкости, а форму обучения, которая подходит к данному предмету). Такими вопросами я пренебрегаю в настоящей книге: при разработке материалов и методов обучения мы должны думать не только о том, что можно изучить и что стоит изучать, но и о том, каким приемам обучения научится на этом материале учитель, или лучше, чему мы сможем научить учителя, при обучении школьников. Когда я рассматриваю мою собственную деятельность, а также настоящую книгу с этой точки зрения, я оцениваю свои собственные способности в этой области не столь уж высоко.
Но продолжим обсуждение видов исследования, которые я не смог использовать. Второй вид — это те исследования, в которых сравниваются два различных метода обучения одному и тому же материалу, или две различные последовательности прохождения отдельных разделов. Затем с надежностью, скажем 98%, делается вывод, что оба варианта не столь уж плохи. Пожалуй, еще лет тридцать назад я наблюдал впервые подобное исследование, но в обучении не математике, а географии. Исследование было проведено безупречно; единственное, удивившее меня, было то, что это оказалась та самая география, которая смертельно надоела нам в школе. С тех пор я видел множество подобных исследований, в которых описывались методы обучения; иногда я едва верю глазам своим, что такое возможно и в наши дни.
Все это, вероятно, исключительные случаи, но и в тех исследованиях, относительно которых эта критика неуместна, остается apriori нерешенной проблема математического воспитания: чему, зачем и как следует обучать. Моя критика направлена против самого духа подобных исследований. Когда окончательные результаты приукрашивают статистикой, можно думать, что математическая строгость перенесена и вг педагогические исследования. Однако единственное, что напоминает — плохое! — естествознание, — это гордость верностью седьмого знака после запятой, тогда как цифры перед запятой совершенно бессмысленны. Куда большему, чем из подобных исследований, я научился из собственного и опубли-
кованного опыта, из учебников и методов, нравятся они мне или не нравятся, и из беспристрастного анализа учебного материала и приемов обучения опытных педагогов.
Педагогическая деятельность — это поиск верного пути воспитания в соответствии с искренними убеждениями. Педагогическая наука должна быть в первую очередь сознанием ответственности этих искренних убеждений. По-моему, это называется философией. Говорят также, что пренебречь этой философией нельзя. Самые детальные исследования не могут заменить философию; напротив, они могут строиться лишь на правильной философской основе.
Несмотря на все частные рассуждения, эта книга от начала до конца является философией математического воспитания. Я не первый, кто пишет такую книгу, и во всяком случае должен был бы научиться у своих предшественников критическому восприятию. Научность такой книги, как эта, определяется не числом ссылок, а основательностью, с которой проводится обсуждение.
Я не раз говорил и писал об обучении математике. Эти два тома не содержат существенно нового по сравнению с моими прежними публикациями; отдельные куски дословно списаны из них. Однако те же мысли расположены теперь по-иному. Мне, как математику, это далось нелегко. Диалектический стиль взамен дедуктивного представил для меня известные трудности; это же относится и к упорядочению мелких вопросов. Однако в целом это больное место. Форма курса или книги по математике, где говорится «вследствие теоремы... (см. с ...)», «мы видим, что определения на с. ... и с. ... эквивалентны» — в книге, подобной настоящей, совершенно неприемлемы, однако ничего другого я придумать не мог. Поэтому настоящие две книги, как сказал бы математик, совершенно неупо-рядочены. Многочисленные повторения оказались неизбежными.
Если я не мог пользоваться цитатами в деталях, то я преисполнен сознанием идей, которые я воспринял от других авторов. Первый толчок к занятиям теоретическим и математическим воспитанием я получил от моей жены в период совместного изучения проблем воспитания. С педагогикб-психологической стороны я главным образом испытывал влияние исследований О. Декроли. Моя педагогическая интерпретация математики ясно указывает на влияние брауэровского восприятия математики (но не воспитания). С 1945 до 1963 года я изучал многие общие и частные вопросы в математическом семинаре (голландского) «Общества по обновлению воспитания и обучения»; из числа его членов, которым я весьма благодарен, назову лишь П. М. ван Хиле и его усопшую супругу Дике Гельдоф. К более позднему времени относятся дружеские встречи, которые пробудили во мне интерес к математическому воспитанию в международном плане; прежде всего я благодарен Эмме Кастельну-ово, Зофии Крыговской и В. Сервэ за то, что узнал от них на международных встречах; добавлю еще имя А. Ревю. Всем, кого волнует дело математического образования, посвящается эта книга.
Утрехт, 27 декабря 1970 г.
1. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ
Некто метко и остроумно заметил, что математика вначале подкрадывается постепенно и незаметно, но вскоре голова ее подымается к небу, а сама она идет по земле.
Илья. IV, 442 — 3.
... потому что она начинается с точки и линии, но ее исследования простираются на небо, землю и вселенную.
Герои. «Определения».
Не плачь об этом — посмотри на моих родителей, введенных в заблуждение громкой славой лживых математиков.
Надпись на могильном камне четырехлетнего Телефусау Аппиевой дороги1.
1 Аппиева дорога построена между Римом и Капуей в конце IV века до н. э. Математиками называли в древности также астрологов (прим, перев.).
Если армия противника выступила б дней назад и проходит ежедневно 3,5 мили, а наша армия выступает сегодня, то сколько миль в день она должна проходить, чтобы догнать противника через 7 дней?
Из учебника арифметики 1799 года
Я не знаю, научились люди вначале писать или считав. Алфавит на 2 тыс. лет старше, чем нынешняя индийско-арабская цифровая система. Однако это ничего не доказывает. Математика куда старше, чем эти цифры. Вместе с первым письмом человечество начало вести и письменные вычисления, а какие и на сколько раньше были вычисления устные или на счетных дощечках, мы попросту не можем установить. Однако знаменательно, что, например, в индоевропейских языках названия числительных для чисел до 10 и для 100 возникли в незапамятные времена и, следовательно, придуманы задолго до письма.
Как известно, в конце третьего тысячелетия до наЩей эры в Вавилоне существовали хорошо развитые элементарные арифметика и алгебра, большей частью формулировавшиеся геометрическим языком, т. е. длина и ширина (прямоугольника) представляли то, что мы ныне обозначаем хну. Считают, что этой математикой пользовались жрецы, но это заблуждение: жрецы — это были попросту интеллектуалы того времени: писцы, учителя, библиотекари, звездочеты, астрологи, гадатели по внутренностям животных* мудрецы, строители храмов и дворцов, колдуны. У колыбели вавилонской математики стояли вычислитель и землемер, купец и меняла, банкир и бухгалтер, нотариус и сборщик налогов, строители городов, дорог и мостов. Однако их потребности были быстро удовлетворены. Задачи, предлагавшиеся учащимся школ при храмах в течение двух тысяч лет, были не только практического характера. В них шутливо обсуждалось асфальтирование дороги длиной 100 км и шириной 1 мм и предлагалось вычислить потребное число поденных рабочих; рассматривался раздел наследства, состоявшего из 65 золотых, между пятью братьями так, чтобы каждый следующий по возрасту получил на 3 золотых меньше предыдущего; задавались вопросы, которые в ходу и по сей день: о камне, который весит один фунт плюс половину веса этого камня, или о копье, которое подымается на один локоть выше стены, возле которой оно воткнуто, и основание которого отстоит на три локтя от стены, а если его наклонить, то оно окажется вровень со стецой. Конечно, это приучало к полезным умножениям и делениям с помощью таблиц или счетных дощечек, но для чего? Чтобы школьники могли решить бесполезное линейное или квадратное уравнение? Если кто-то был неудовлетворен этим, то что отвечал на это отец или учитель? Что математику изучают издавна, потому что математика изощряет ум; что* другие предметы еще более бесполезны: шумерский язык, который еще изучают, хотя он уже более двух тысячелетий мертв, аккадский язык и клинопись, хотя на вавилонских улицах давно уже говорят по-арамейски, а алфавит изобретен тысячу лет назад. Или учитель отвечал: подожди немного, в будущем году с помощью этой математики ты сможешь изучать календарь, вычислять праздники, движение Солнца, Луны и звезд? Астрономия — вторая наука человечества; вычислительная астрономия на 2 тыс. лет моложе математики, однако это действительно практическая наука, ибо нельзя сотворить из воздуха звезды и планеты, как выдумывают математические задачи. Зачем нужна астрономия: календарь, праздники, предсказание затмений, войн, эпидемий, ураганов, ливней, наводнений, судеб народов и отдельных личностей? Это, конечно, полезная наука, полезное приложение математики, которую оно использовало в течение двух с половиной тысяч лет. Правда, для этих приложений едва ли требуются даже квадратные уравнения. Если хотели применить их, всегда ставили такие задачи, как: «Я перемножил длину и ширину, получил площадь; излишек длины над шириной, сложенный с площадью, равен 183; сумма длины и ширины равна 27; найти длину, ширину и площадь». Тысячи подобных задач обнаружены на глиняных табличках, но, к сожалению, почти нет теоретической литературы, «учебных текстов», правил, по которым следует решать эти задачи.
Еще меньше — не на глиняных табличках, а на папирусе — сохранилось нам от египетской математики. Однако и здесь та же общая картина — математика, которая быстро выходит за рамки практических приложений. Разве не совершенно естественно, что вычислителей и землемеров захватывает интерес к числам и фигурам, с которыми они ежедневно имеют дело, что они как бы играют с числами и фигурами, что они хотят постичь тайны чисел и фигур и тщательно хранят постигнутое от посторонних? Это следует подчеркнуть: как часто утверждают, что догреческая математика — это лишь чисто прикладная математика!
Разумеется, греческая математика была иной и, судя по тому немногому, что нам известно, она с самого начала должна была быть иной. Где-то в VI веке до н. э. греки должны были изучить вавилонскую математику и астрономию; из того, что нам известно о Фалесе, вытекает влияние вавилонской астрономии, а вавилонская математика говорит о многом, что мы традиционно связываем с Пифагором и его учениками. Кто не знает так называемой теоремы Пифагора? Но она была известна в Вавилоне еще на две тысячи лет раньше1. Но, может быть, Пифагор первым доказал ее? Нет, и это не так, ибо теорему, которая отнюдь не очевидна, можно открыть только путем доказательства; ее нельзя открыть, попросту измеряя стороны треугольника. И все же мы то и дело читаем, что впервые открыли ее греки.
1 В противоположность общепринятому нет оснований утверждать, что египтянам эта теорема была уже известна (прим, автора).
Что, пожалуй, греки сделали — это привели доказательства в систему. Греческая математика характеризуется тем, что мы ныне .называем «дедуктивной системой». Вероятно, это и в самом деле началось с Фалеса. Традиция утверждает, что Фалес доказал некоторое количество геометрических теорем; при тщательном рассмотрении оказывается, что они не того рода, к которому относится, скажем, теорема Пифагора, а примерно следующего: «В равнобедренном треугольнике углы при основании равны»; иначе говоря, это теоремы, справедливость которых можно усмотреть с первого взгляда. То, что такие теоремы все же доказывают, свидетельствует, что открыта некая новая игра, доказательство ради самого доказательства. То, что такие теоремы можно доказывать, свидетельствует, что построена система, в которой эти доказательства являются осмысленной деятельностью. Если такое и существовало у вавилонян, то во всяком случае бесследно исчезало.
Разъяснение существа дедуктивной системы мы находим у Аристотеля столь ясно, как нигде до последнего времени. Каждая истинная наука, считает Аристотель, исходит из традиций, принципов, лежащих в ее основе, из которых она развивается. У Евклида это определения, постулаты, аксиомы, приведенные в систему; у других это сформулировано иначе; однако обычай начинать построение геометрии с подобных принципов по меньшей мере на целый век старше, чем «Начала» Евклида. Так поступал, вероятно, уже Гиппократ Хиосский, автор первого систематического сочинения по геометрии. Откуда этот обычай — из самой геометрии, из философии или из публичных диспутов — неизвестно. Можно предположить, что первоначально с помощью таких принципов защищались от придирок и кляуз.
Евклид перечисляет отнюдь не полностью все аксиомы, которыми он пользуется; но если Евклида и упрекают в этом, то лишь с чересчур современных позиций. Наука основывается на принципах. Но кто скажет, что их можно перечислить исчерпывающим образом? Насколько далеко следует при этом заходить, является у Аристотеля вопросом целесообразности.
У Евклида имеются места, построенные аксиоматически в современном смысле, например учение о пропорциональности и подобии в 5-й и 6-й книгах, приписываемое Евдоксу; оно соответствует тому, что ныне мы назвали бы теорией действительных чисел; но есть и другие места, в которых дедуктивная структура очень слаба, — мы не должны забывать, что Евклид был главным образом компилятором. И все же дедуктивная структура «Начал» в течение двух тысяч лет вызывала восхищение и многочисленные.подражания. Восхищение было вполне справедливым; подражание удавалось немногим. Разумеется, и Архимед, и Христиан Гюйгенс были не менее великими аксиоматиками, чем Евдокс, но аксиоматические потуги Спинозы изложить философию по образцу геометрии, пример Лейбница аксиоматического построения юриспруденции и по-литикологии, аксиоматическая космология Уистона и другие подобные построения были куда менее убедительны. Что такое аксиоматика и как следует формулировать аксиомы, показано впервые в конце XIX века Пашем; у него этому учились итальянские геометры и учился Гильберт.
Дедуктивность и аксиоматический подход являются для нас наиболее поразительной, наиболее характерной чертой греческой математики. Великой заслугой греческих математиков было также открытие иррациональности, несоизмеримости диагонали квадрата с его стороной. Ничто не очевидно более, как принять, что каждое отношение двух величин можно выразить отношением целых чисел. Открытие иррациональных чисел вызвало кризис основных понятий, но это опять чересчур современное рассуждение. Философия пифагорейцев, считавших число началом всех начал, во всяком случае плохо соответствовала этому открытию; однако бывшие среди пифагорейцев математики умели справиться с этим. Требовалось по-новому определить понятие отношения, и притом не с помощью целых чисел; первоначально это было сделано с помощью итерационных процессов, однако затем их исключили. Окончательное решение древних, нечто вроде.дедекиндовых сечений, содержится, как было сказано выше, в 5-й и 6-й книгах «Начал»; в 12-й книге развито античное учение об «эпсилонтике»1.
1 Автор имеет в виду утонченные логические формы доказательства методом «исчерпывания» Евдокса и их родство с современным методом «е — b» (прим, перев.).
Но греки пошли дальше: исключили не только предельные процессы, но и всю вавилонскую алгебру. Так как чисел оказалось недостаточно, их вообще изгнали из геометрии: действительные числа были неизвестны, рациональные запрещены. Впрочем, я полагаю, это касалось только науки, ибо купцы и ремесленники пользовались, конечно, дробями. Но математики, по примеру Пифагора, считали числа священными; Платон раздраженно реагирует на людей, которые хотят дробить целую единицу.
Значит, от алгебры отказались вообще? Нет, просто нашли замену, геометризированную алгебру, систему геометрического описания алгебраических операций, линейных и квадратных уравнений, приемов решения задач. Эти вопросы изложены во 2-й книге Евклида и находят приложение в книге Ю-й при классификации иррациональностей, образцового примера неудобочитаемой математики.
Эта геометризированная алгебра, оторванная от жизни, бесполезное достижение фанатиков метода и точности, стала одной-из причин вырождения греческой математики. Разумеется, до тех пор, пока наряду с официальной евклидово-архимедовой “математикой преподавались также эвристические методы алгебры и бесконечно малых, молодые люди могли осваиваться со смирительной рубашкой официальной науки. Но как только эти традиции были сломлены, все погибло. До III века вавилонские традиции были живы, и в Диофанте мы видим истинного алгебраиста. Затем все кончилось. Алгебра развилась заново уже в арабской культуре, с опаской оглядываясь на образцы греческой строгости; Индия и христианское средневековье шли своим путем — далее я к этому еще вернусь. С традициями греков впервые порвал лишь Декарт, не признававший никаких традиций вообще. Он делает поворот на 180°: вместо того чтобы геометризировать алгебру, алгебраизирует геометрию и в результате получает то, что в средней и высшей школе до последнего времени называлось аналитической геометрией. В это время снова вошли в моду предельные процессы и методы бесконечно малых, которые привели к исчислению флюксий (у Ньютона) и к дифференциальному и интегральному исчислению (у Лейбница). Никого не мучили угрызения совести, которые привели греков к отказу от алгебры; никто не вдавался в логические тонкости эпсилонтики Евдокса или не обращал на них внимания. Пожалуй, евклидовоархимедовой строгости еще удивлялись, но вряд ли кто-нибудь понимал ее, и после Христиана Гюйгенса не было никого, кто бы ей следовал. Лишь после того, как в XIX веке вновь была обретена строгость, стали понимать греков. Однако исторически все это было необходимо: смирительная рубашка Евдокса, в которой задыхалась греческая математика, тысячелетнее междуцарствие, освобождение, при котором вместе с водой выплеснули и младенца, второе мучительное построение строгой дедуктивной системы (которое продолжалось дольше, чем в древности) и, наконец, вторичное открытие греков, которые, оказалось, уже тогда так много знали.
Но довольно пока в традициях математической строгости. Еще раз: не следует преувеличивать представления о строгости греков. Как раз в области элементарной геометрии у Евклида есть пробелы и, хуже того, кажущиеся доказательства. Тем более странной кажется тщательность, проявленная при рассмотрении теории параллельных. Постулат о параллельных, который мы находим у Евклида, был для древних окончательным решением проблемы, которая должна была весьма интересовать греков. На другие решения есть лишь косвенные указания, но они позволяют предположить, что греки знали об этом больше, чем содержится у Евклида, что они во всяком случае были близки к исторически столь далекой неевклидовой геометрии. Но опять-таки как в смысле математической строгости со времен Евдокса, так и в отношении оснований геометрии со времен Евклида на два тысячелетия твердо установилось традиционное содержание. Точно так же обстоит дело с геометрическим методом — всем, пожалуй, известен метод конгруэнтных треугольников, на которые фигуру разбивают вспомогательными линиями, чтобы, переходя от одного треугольника к другому, построить цепочку доказательств конгруэнтности двух величин, равенство которых нужно доказать, — последовательный метод, доходящий иногда до абсурда. Вспомните, например, классическую задачу из школьного курса геометрии: доказать, что плоскость ВС К, проходящая через три вершины куба, смежные с данной вершиной Л, перпендикулярна диагонали куба, проведенной из вершины А. Скольких «признаков конгруэнтности» можно избежать, если заметить невооруженным глазом, что поворот на 120° вокруг диагонали АЕ преобразует рассматриваемую плоскость ВСК в себя, из чего и вытекает все, что требуется доказать! Еще десять или двадцать лет назад1 подобные доказательства были категорически запрещены в школе.
1 Настоящая книга написана автором в начале 70-х годов (прим, перев.)
Теперь, наконец, такие отображения, как зеркальное отражение, сдвиг, вращение, выражают последний крик моды в школьном преподавании. В творческой геометрии эти методы появились еще в XIX веке, они составляют основу новой геометрии. Но евклидовы традиции конгруэнтных треугольников еще и в нашем столетии были настолько сильны, что даже Феликсу Клейну не удалось ввести отображения в школьное преподавание в Германии.
По-видимому, еще в последних доевклидовых учебниках геометрии отображения были допустимым методом доказательства; следы этого метода содержатся даже в самих евклидовых «Началах». Евклид искоренил геометрические отображения, и тем самым была решена их судьба вплоть до XIX века. Почему отображения были запрещены? Их кинематический оттенок противоречил возвышенному характеру геометрии; оторванность геометрии от жизни не выносила изменений, а всякое движение есть изменение — такие философские догмы были, очевидно, задней мыслью; иногда они проскальзывали и. позднее, вплоть до наших дней. Даже насквозь пропитанное кинематикой современное понятие функции долго не могло повлиять на точку зрения геометров — столь сильны были греческие традиции1.
1 Аристотель признавал дедукцию, но не индукцию; он считал возможным определять более простое как частный случай сложного, но не наоборот. Со времен Евдокса, например, точка рассматривалась как «граница линии». Ныне, наоборот, линия рассматривается как траектория движения точки; в математику органически вошло движение. Эти вопросы подробно рассмотрены Энгельсом в его «Диалектике природы» (прим. ред.).
Пифагор, по преданию, возвел геометрию из сферы повседневной жизни в ранг свободного искусства, т. е. сделал ее предметом занятий свободных людей, не оскверняющих себя работой. К четырем. видам свободных искусств средневекового квадривиума2 принадлежали еще арифметика, музыка и астрономия; их также приписывали Пифагору, и они были, конечно, областью деятельности первых из его учеников.
2 Квадривиум (дословный перевод с латыни — «четырехпутие») — повышенный курс образования в средние века, состоящий из четырех названных наук и изучавшийся после «тривиума» (грамматика, риторика, диалектика). Вплоть до XVII века в монастырских школах и иезуитских «коллегиумах» тривиум и квадр ивиум составляли наряду с богословием основу среднего образования (прим, перев.).
Даже само название «математика» происходит оттуда: из учеников Пифагора вскоре выделилась группа, называвшая себя математиками, так как они занимались четырьмя «математа»: геометрией, арифметикой, теорией музыки и астрономией. Не только принадлежность к «свободным искусствам», но также и то,, что предметы изучения этих наук были не от мира сего, постоянно подчеркивалось Платоном и efo учениками и стало традицией. Однако из этого не следует, как иногда бывает, делать вывод, что античные математики совсем неблагосклонно относились к приложениям математики. Многие занимались практической механикой, и не кто иной, как Архимед был величайшим среди них. Пожалуй, верно, что как вавилонская математика, так и греческая далеко опередили возможности ее применения: конические сечения были впервые использованы через два тысячелетия после их открытия как эллиптические орбиты планет у Кеплера, в одном из фокусов которых находится Солнце. Пожалуй, вообще математика как наука всегда была намного впереди возможностей ее применения. Это соответствует особенное ги математики: искать формы мышления, из которых приложения выбирают то, что им подходит.
Математика является высшим среди научных достижений греков; в теоретических науках они достигли большего, чем в экспериментальных. Это верно; но это и вполне естественно, и уже у вавилонян было подобное этому. Если однажды удается постичь силу мышления, ее стараются развить. Ведь чувства обманчивы — это постоянно подчеркивают. Отдаленные предметы кажутся уменьшенными, квадратные башни — круглыми, весло в воде кажется переломленным. Приходится призадумываться, чтобы раскрыть все уловки природы.
Конечно, рационализм играл у греков большую роль. И все же, как это часто бывает, преувеличивают безмерно, утверждая, что греки не вели наблюдений. В качестве гротескного примера называют Зенона, который дошел до доказательства, что быстроногий Ахиллес не догонит черепаху, что явно противоречит опыту; конечно, Зенон и сам понимал это, но его знаменитый парадокс имел целью не опровергнуть действительность, а привести теорию о действительности к абсурду. Цитируют также Аристотеля как рационалиста, который ставил дедукцию выше опыта. Но и это тоже неверно. Что нам кажется странным у Аристотеля — и это важнее, — что он, объясняя природу, мыслит не механико-математически, а психолого-биологически, что иногда придает его аргументации магический оттенок. Мы обязаны современной механикой не тому, что Галилей, Гюйгенс, Ньютон были лучшими наблюдателями, чем греки, а тому, что они строже и логичнее анализировали. Если, например, Аристотель пытается доказывать конечность вселенной, то это неверно не потому, что такое нельзя доказывать, а потому, что его доказательства полны логических ошибок. Напротив, Галилей обосновывает одинаковую скорость падения тел в пустоте не наблюдением, а поразительно глубоким анализом. Греки вообще понимали эмпиризм и знали ему цену — это показывает греческая астрономия. Тут они старались «спасти явление», т. е. параметры модели планетной системы, вводя многочисленные дифференты и эпициклы, соответствующие наблюдениям. Разумеется, важную роль здесь играла точность наблюдений и возможность проконтролировать достигнутую точность. Однако, помимо астрономии, наряду с чистой математикой развивалась и прикладная математика, примеры которой нам известны из компендия Героца. Таково же положение и сейчас, однако с почти непрерывными переходами между двумя крайностями — теоретической и прикладной математикой. Оценивая прошлое, не следует забывать весьма невысокие требования, которые предъявлялись приложениями к математике. Это должно было привести к застою науки; но, с другой стороны, нельзя не согласиться, что греческая математика содержала элементы застоя внутри себя; было трудно перебросить нить через образовавшуюся в традициях лакуну. Это нарушало стиль «Начал», классического образца законченной науки, который хорошие учителя могли использовать как учебник, — к этому мы еще вернемся.
Когда индийцы, арабы, средневековые монахи обновили математику, то это была уже математика другого рода, математика, в которой не чувствовалось влияния Пифагора, стремившегося возвысить ее в ранг свободных искусств. Новшества имели обычно практический характер. У индийцев арабы заимствовали новое написание чисел, чтобы передать его европейцам, нашу десятичную позиционную систему, значительно более удобную, чем буквенная запись чисел у греков, или так называемые римские цифры. Да, значительно более удобную, но и здесь не следует преувеличивать. Спрашивается, как вычисляли греки, как вычисляли римляне с их непрактичными числовыми системами? Это должно было быть мучением. Как можно было поступать столь непрактично? Возможно, в астрономии греки восприняли вавилонскую шестидесятеричную систему счисления. Если им это было известно, то почему они вообще не записывали своих чисел в позиционной системе (и притом в десятичной)?
Теперь вопрос о том, как греки и римляне вычисляли своими приемами, решается просто. Ответ гласит: вообще никак. Вычисляли не так, как это делаем мы на бумаге, а камешками на счетных досках — а там все само собой упорядочивалось в зависимости от места. Так считали издавна вплоть до нового времени, а в Китае и Японии считают так еще и сейчас. Несмотря на многие неудобства, эти вычисления ведутся по меньшей мере столь же быстро, как на бумаге. Распространение индийско-арабского способа вычислений, т. е. письменного, с помощью записи цифр, шло параллельно с изобретением покрытых пылью табличек, на которых писали по пыли или мелкому песку; другие новшества в вычислениях связаны с появлением дешевой бумаги.
Но, конечно, индийско-арабская система была шагом вперед. При этом удивительно, что переход к этой системе тянулся вплоть до XVI века, когда Стевин в дополнение к десятичной форме записи целых чисел изобрел десятичные дроби, хотя уже вавилоняне владели шестидесятеричными дробями.
Обыкновенные дроби являются, собственно, еще более примечательной главой в истории математики. Вначале они очень медленно "получали признание; с ними трудно было примириться. Сколько будет, если 2 разделить на 7? Ответ «две седьмых» звучит как неудачная тавтология. Истинный вычислитель вычисляет до тех пор, пока есть что вычислять. 2/7 — можно записать как 1/4 + 1/28 и это выглядит гораздо приятнее. Так и делали египтяне, они преобразовывали дроби в сумму «основных» дробей, т. е. дробей с числителем единица. Им следовали греки, иногда даже математики и астрономы, если они вообще не отказывались от дробей из философских соображений. Лишь индийцы признали обыкновенные дроби и записывали их с помощью числителя и знаменателя почти так же, как и мы, только без дробной черты.
Введение обыкновенных дробей (а позднее и отрицательных чисел) является типично алгебраической идеей, возникшей из необходимости выполнения арифметических действий. Требование неограниченной выполнимости арифметических операций осуществляется путем введения новых объектов; это указывает на уже утонченное формальное мышление. И другие понятия мы относим к алгебре: символику, применение обозначений для переменных, которые не входят в обиходный язык. «Задумай число...» — так начиналось в старой словесной алгебре условие задачи. У Диофанта мы наблюдаем, как слово «число» отшлифовывается до символа, над которым выполняются вычисления. У индийцев и арабов этот процесс идет дальше; коссисты1 позднего христианского средневековья имели целую систему символов для неизвестного и его степеней, причем они отнюдь не ограничивались третьей степенью, как это обычно делали геометры.
1 «Коссистами» называли себя немецкие алгебраисты XV — XVI веков (coss от итальянского cosa — неизвестное) (прим, перев.).
Важным шагом в развитии символической алгебры было появление в середине XV столетия формально записанных дробей, содержащих многочлены от неизвестных в числителе и знаменателе. Привычная для нас алгебра начинается с того времени, когда Виета (в конце XVI столетия) обозначает буквенными символами не только неизвестные (или переменные), но и неопределенные величины (или параметры).
Следующий по важности шаг в развитии алгебры — алгебраиза-ция геометрии Декартом, который преодолел при этом и древнее обременительное ограничение, заключавшееся в том, что все члены алгебраической суммы должны были иметь одну и ту же размерность. Тем самым были преодолены греческие традиции в алгебре.
В то же время Декарт создал и новую традицию — традицию алгебры. Часто не замечают, сколь стойкой она была. Разумеется, уже Гюйгенс вел с ней борьбу в физике, Лейбниц — в философии и математике. Разумеется, крупнейшие математики посвятили себя исчислению бесконечно малых и развивали его (Ньютон, Лейбниц, семья Бернулли, Эйлер, Лагранж, Лаплас). Разумеется, были еще и другие, которые развивали новые методы или, по меньшей мере, постигли их, но сколько их тогда уже было? Бесчисленные популярные переработки Евклида и учебники алгебры на разных языках служат многочисленными указаниями на то, как распространялось изучение геометрии и алгебры вплоть до университетов. Но где же можно было в этот период изучать новое исчисление бесконечно малых, которое столь далеко превзошло алгебру Декарта? Я полагаю, что в течение всего XVIII столетия не было ни одного места, где бы оно преподавалось. Это было одним из поразительных фактов, не имеющих прецедента в истории математики. Как же это стало возможным? Неужели было так трудно убедить университеты, которым стоило больших усилий усвоить картезианство и которые в-это время как раз признали солнечную систему Коперника, изменить образ мыслей по отношению к исчислению бесконечно малых? Разумеется, нельзя отрицать косность университетов XVIII столетия. Кроме того, едва ли хоть один из ведущих математиков работал в университетах. Развитие науки было в то время делом академий и ученых корпораций, которые не имели отношения к университетам. Но и это еще не все. Со времени изобретения книгопечатания научные традиции направились по другому пути. Если устное преподавание и не стало ненужным, то во всяком случае стало не столь необходимым, как ранее. Возникни исчисление бесконечно малых на пару столетий раньше, открой его кто-нибудь в ту пору — без школ, где бы его преподавали, оно запросто могло бы бесследно исчезнуть. Теперь другое дело. Были книги, по которым можно было изучать исчисление бесконечно малых, и так как после Ньютона оно было необходимо, особенно в астрономии, то были и люди, которые затрачивали усилия, стремясь прочесть эти книги. Но таких людей не могло быть много. Чтобы понять то, что публиковалось в области исчисления бесконечно малых, читатель должен был быть конгениальным автору. Так получилось, что исчисление бесконечно малых изучало гораздо меньше людей, чем алгебру, — положение, которое в общем сохранилось и поныне. Со времени изобретения книгопечатания ведущие ученые были освобождены от необходимости создавать свои школы. Для некоторых ученых это было облегчением, но для развития традиций науки оказалось тормозящим явлением, которое было исправлено лишь в XIX столетии. К этому нам еще придется вернуться.
Возвращение науки в университеты знаменуется созданием Политехнической школы во Франции и реформой Гумбольдта в Пруссии. Не везде и не во всех науках это совершилось одинаково быстро. В Кенигсберге и Берлине тон задавал на своих семинарах Якоби; в Геттингене во времена Гаусса преподавалась лишь элементарнейшая математика. Складывались новые традиции: во Франции сложился традиционный курс анализа, традиционные курсы теоретической механики, начертательной геометрии; в Германии — эллиптических функций. Все это продолжалось целое столетие. Здание курса анализа было впоследствии методически поделено на теорию множеств, топологию и алгебру, этот курс был принесен в жертву начатому Кантором и продолженному Фреше, Хаусдорфом и Эмми Нётер «структурированию» математики. Вместе с упразднением особого положения механики как приложения математики исчезает потребность изолировать ее. Совершенно непонятна нам ныне; столетняя тирания начертательной геометрии; непонятно, почему она изучалась и превозносилась как образец приложения математики, тогда как ранее она была образцом полностью изолированного раздела математики, не связанного ни с другими разделами, ни с приложениями математики, дисциплиной, нигде и никогда не применявшейся, ибо она была слишком неподвижной, чтобы иметь применения. Можно еще понять, что эллиптическим функциям придавали большое значение, поскольку они были первым расширением издавна известного понятия элементарных функций. Исторически они и приобрели большое значение, но, как выяснилось, лишь в качестве переходной стадии на пути, который вел к различным новым областям математики. То, что эти функции на много десятилетий пережили свое значение, также можно объяснить лишь косностью традиции.
Другим модным вопросом XIX столетия была алгебраическая теория инвариантов — кто однажды познакомился с так называемым символическим методом, может оценить всю его прелесть. Весьма удивительно, что эту дисциплину постиг бесславный конец. Гильберт был тем, кто завершил эту теорию, причем он (неумышленно) показал, сколь мелки многие ее проблемы, если рассматривать их с высшей точки зрения. Открытия Гильберта привели к преобразованию теории алгебраических инвариантов в алгебру колец многочленов. Подобное произошло и с широкими областями геометрии XIX столетия, растворившимися в той части алгебры, которая ныне весьма неудачно называется алгебраической геометрией. Так возник и угас в XX столетии один из видов теории функций одной комплексной переменной, глубоко и подробно разрабатывавшейся главным образом в Германии. Аналитическая теория чисел, основы которой заложил еще Эйлер, пережила расцвет в первой трети нашего века и обрела затем относительный покой, хотя ее кардинальные проблемы еще ждут своего решения. Одна из областей дифференциальной геометрии, достигшая расцвета в 20 — 30-х годах нашего столетия, быстро застыла затем в чисто формальном состоянии.
Каждая история состоит из чередования традиций и обновления. Сопротивление старого новому продолжается ныне в течение не более чем одного поколения. Математике особенно свойственна сила убеждения, в ней можно более объективно оценить успехи, чем где-либо еще. В математике было меньше непризнанных гениев, чем где либо еще. Душещипательные истории, которые рассказывают об Абеле, просто выдумка. Значение Абеля было тотчас признано современниками, даже теми, которые читали его работы не сразу после их появления. Абель умер не от голода, а от туберкулеза; ему были предоставлены достаточные стипендии, позволявшие даже путешествовать; то, что Коши затерял одну из его работ, — клеветническая выдумка. Во всяком случае верно, что Абель умер слишком рано и не успел завоевать большей славы. Это же относится и к Галуа: если бы он прожил дольше, то его теория завоевала бы признание быстрее. И о Римане рассказывают, будто бы он умер голодной смертью; но и он погиб от туберкулеза, хотя и не столь молодым, как Абель, и притом в расцвете своей славы. Кантор серьезно сожалел о равнодушии современников. Но его болезнь приписывают не этому обстоятельству; вообще неверно, что идеи Кантора были отклонены или не замечены. Наоборот, его точечные множества быстро получили признание, хотя с абстрактной теорией множеств это произошло несколько позднее. Что в самом деле шло медленно — это проникновение теории множеств в другие области математики, но прежде всего потому, что эти другие области еще не созрели для того, чтобы нуждаться в теории множеств; и действительно, по мере созревания они как бы падали к ногам этой теории. В следующей главе мы проследим это.
Если Буля считают непризнанным гением, то это, конечно, преувеличение. Не следует считать слишком большой заслугой разработку изолированных формализмов, которые лишь впоследствии оказались полезными; коль скоро они не были наполнены содержанием, современники были вправе пренебречь ими. Логистики часто считают Фреге непризнанным гением, но это тоже преувеличение; Фреге жил в закоулке математики. Своим незнанием или непониманием того, что происходило в его время в математике, он сам отказал себе в свидетельстве своей гениальности1.
1 Автор не упоминает в своем перечне одного из наиболее ярких математических гениев — Н. И. Лобачевского, создателя неевклидовой геометрии, получившей признание лишь после смерти автора и впоследствии сыгравшей важную роль в теории относительности (прим, перев.)
В начале этой главы много говорилось о полезной математике. Чем дальше мы прослеживаем традиции, тем меньше возвращаемся к этому. К повседневным вычислениям, к математике торговцев, ремесленников и землемеров еще в Вавилоне присоединилась математика астрономов, которая в Греции была поднята на большую высоту и которая применялась как в навигации, так и в астрологии. Вообще говоря, греческо-римская техника требовала больше математики, чем вавилонская или древнеегипетская, но в целом это все еще была «жалкая» прикладная математика. И эта «бесполезность» тоже препятствовала развитию математики. Не только потому, что отсутствовали общественные потребности, но и потому, что ненужная обществу наука не могла рекрутировать себе адептов. Знаменательно, что римляне, говоря о математиках, подразумевали астрологов, а иногда халдеев, ибо астрология пришла оттуда, с востока. Да и на какие средства мог существовать математик? Правоведение, риторика, филология, даже искусство стихосложения давали для этого больше возможностей. В христианском средневековье были хотя бы монастыри, стремившиеся развивать науку, однако среди наук математика опять-таки играла весьма скромную роль.
Что послужило причиной неожиданного, казалось бы, взлета математики и естественных наук в XVI веке, который в следующем столетии подарил нам Галилея, Декарта, Кеплера, Гюйгенса, Ньютона, Лейбница? История рассказывает больше о гуманитарных науках, которые рассматривали взлет математики и естествознания в рамках Ренессанса искусства и гуманизма. Однако для нового развития так называемое возрождение античности оказалось менее важным, чем принято считать. Историки подчас недооценивают двигательную силу техники, лежащей вне интересов исследователей гуманитарных наук. Упускают, что развитие техники началось на три столетия раньше. С 1200 до 1500 года было сделано больше изобретений, чем за всю предыдущую историю человечества; последним из этих изобретений было книгопечатание. Это и было тем развитием техники, которое подготовило расцвет математики и естествознания не непосредственно тем, что эта новая техника сразу же потребовала обширных и глубоких научных сведений, а тем, что разгадка хитростей природы в процессе изобретений и открытий оказалась родственной разгадке тайн чисел и фигур.
Но несомненно также, что математика стала все более и более употребительной. Множество учебников, появлявшихся начиная с XVII века, часто даже с практическими указаниями, были, разумеется, написаны для людей, имевших некоторые предварительные сведения по математике. Ньютон сделал важный шаг от небесной кинематики к небесной механике; для этого он придумал свои флюксии. Уже братья Бернулли пробовали свои силы в проблемах механики, которые могли иметь технические применения. Но большое влияние приложений на постановку задач математики началось лишь с XIX столетия. Я считаю, что подоплека расцвета прикладной математики с начала XIX столетия до наших дней еще недостаточно оценена. Имена Фурье, Пуассона, Коши показывают, что главную роль играла здесь Франция. Исследования в области приложений математики стали сразу делом чести. Политехническая школа таким путем смогла достойно подтвердить, что новая революционная высшая школа имеет право свысока смотреть на окостеневшие университеты. Вообще говоря, и здесь было преувеличение, которое привело во Франции к завышенной оценке приложений и недооценке чистой математики, что в целом повредило французской математике. Но это между прочим, ибо возврат к приложениям оказался определяющим и в высшей степени благодатным фактором для развития математики в XIX столетии.
- Если я говорю здесь о дриложениях, то имею в виду не столько вычислительную астрономию, которая после тысячелетней истории обрела кульминацию в трудах Лапласа, и не другие столь же традиционные приложения. Я не имею в виду и применения математики в области теории вероятностей, которые пока что больше идут вширь, чем‘вглубь. Я имею в виду обширную область, из которой математика получает сильные импульсы, область, которую ныне называют математической физикой. Она впервые была развита в трудах Фурье, Пуассона, Коши, хотя им и предшествовали работы Эйлера, Лагранжа, Лапласа.
Учебники могут создать впечатление, будто механика, завершенная в принципе Ньютоном, нуждается лишь в разработке отдельных деталей. Это впечатление совершенно ложно. Даже механика систем потребовала совершенно новых принципов, не говоря уже о механике деформируемых тел. Теплопроводность, упругость, колебания и волны в твердых телах, жидкостях и газах — вот проблемы, к решению которых приступили в XIX веке. Методы, развитые при этом на основе физических идей, включали, например, исследование уравнений с частными производными, интегральные уравнения и функциональный анализ. Запросы, выдвинутые различными физическими проблемами, до сих пор не исчерпаны полностью. Поразительно, что эта математическая физика развита чисто теоретически людьми, понимавшими важность своих исследований, но далекими от эксперимента, опиравшимися на скудные эмпирические данные. В действительности математические методы, разработанные для теории упругости, были впервые применены и проверены в электромагнетизме и оптике, но это также великолепная область приложений. Еще раз в нашем столетии чистая математика получила от приложений весьма стимулирующую инъекцию: исходя из требований квантовой механики были проложены новые пути в функциональном анализе. То, что математическая статистика обязана постановкой своих задач статистической практике, известно, пожалуй, всем. Чего еще может ожидать математика от численного анализа и вычислительных машин, покажет будущее.
Можно еще коснуться теории чисел, алгебраической геометрии и теории категорий и рассмотреть, насколько беднее была бы математика без притока проблем, которые ставят приложения. Математика возникла как полезная деятельность, и сегодня она полезнее, чем была когда-либо. Можно сказать, что она стала бы ничем, если бы не была полезной.
Почему я подчеркиваю это? Потому что ничто так быстро не забывается, как прописные истины. Потому что как раз те, кто отвечает за обучение и воспитание, часто забывают об этом. Нет, они не могут обманывать и не хотели бы обманывать. Однако обучение и воспитание — это повседневная жизнь, практика — и то, что признается на словах, часто не сразу осуществляется на практике.
2. МАТЕМАТИКА СЕГОДНЯ
Что означает «сегодня»? Всегда затруднительно определить, с чего начинается «сегодня». Историки начинают обычно «новейшую историю» с момента собственного совершеннолетия — этот момент служит для них переломным. Если бы провести анкету среди математиков, то подавляющим,большинством голосов было бы признано, что перелом начался с Бурбаки. Сами члены группы Бурбаки вряд ли с этим согласились бы. Другая точка зрения заключается в том, что переломным моментом был 1870 год, когда в работах Кантора и Дедекинда была создана современная теория действительных чисел, а К. Жордан кодифицировал основы теории групп. Однако выбор 1870 года имеет тот недостаток, что тем самым игнорируется длительное развитие теории групп, начавшееся примерно с 1820 года; еще печальнее, что приходится считать, будто Риман, который сегодня столь современен, умер уже «вчера».
Однажды некий юный математик заявил в своем докладе на математическом коллоквиуме примерно следующее: «... откуда и вытекает, согласно известной теореме каменного века, что...». Если не ошибаюсь, эта теорема была открыта ровно 20 лет назад. Один из немногих более пожилых слушателей перебил его репликой: «Из неолита, не так ли?» В разных местах земного шара каменный век кончался в разное время; даже сегодня в удаленных точках планеты еще встречаются люди, стоящие на первобытной стадии развития. Точно так же и в математике позавчерашнее нередко соседствует с нынешним и даже с послезавтрашним; одни считают «нынешним» более раннее, другие — более позднее; для молодых «новое» кажется ближе, чем для пожилых.
Многие повторяют утверждение, что такие области, как абстрактная алгебра, топология, теория меры, функциональный анализ и теория гильбертовых пространств, нигде не преподавались; однако это преувеличение: тот, кто впервые заявил об этом, имел в виду лишь те университеты, о которых ему было известно, но те, кто повторял это, обобщали необоснованно1. Я защищал диссертацию2 в 1930 году и, если не считать абстрактной алгебры, слушал лекции известных математиков по всем этим дисциплинам.
1 Например, уже с 1921 года П С Урысон и П С Александров читали в Московском университете курс топологии (прим, перев.).
2 Имеется в виду защита так называемой докторской диссертации, которая соответствует нынешней кандидатской в СССР (прим, перев.).
Абстрактную алгебру я изучал позднее в другом месте; однако там отсутствовало преподавание функционального анализа. По топологии и теории меры в те годы уже читались лекции и были выпущены учебники.
Когда же появился тот тип изложения математических курсов, который содержится ныне в большинстве учебников? Я бы сказал: в среднем с 1935 года. Трудно решить, как быстро эти новые идеи в обучении распространились по миру. Я полагаю, что с 1950 или с 1955 года этот «новый» стиль распространился в университетах.
Изменение стиля. Нужно иметь в виду, что основные сведения, которые, студент-математик (или физик) приобретает в первые годы обучения в университете, существенно не обновились. Новым является лишь стиль обучения. Чтобы убедиться в том, что стиль обучения математике за последние десятилетия существенно изменился, достаточно прочесть книгу или журнальную статью по математике, относящуюся к началу нашего века, и подумать о каждой строке — как ее написали бы сегодня. Разумеется, существуют и книги начала века, написанные так же, как их написали бы и сегодня, например «Основы теории множеств» Хаусдорфа, написанная в 1914 году1. Но именно такие книги оказались провозвестником нового стиля в обучении математике.
1 См. русский перевод: Хаусдорф Ф. Теория множеств. ОНТИ, 1937 (прим перев.).
Этому изменению стиля преподавания математики, так называемому процессу формализации математики, еще не видно конца; скорее мы наблюдаем лишь начало этого процесса. Следует считаться с возможностью, что математическая литература конца нашего века будет отличаться от литературы начала века точно так же, как современный литературный русский язык отличается от языка «Слова о полку Игореве»2.
2 В оригинале: «Современный литературный немецкий язык от старонемецкого» (прим, перев.).
Мало кто из занимавшихся в эти десятилетия математикой осознал изменение ее стиля; однако если бы они сравнили прежние записи или публикации с нынешними, то легко обнаружили бы это изменение. Я вспоминаю замечание одного студента периода моей учебы во время лекции по теории чисел: он хотел бы интерпретировать некоторое свойство на языке теории групп и доказательство провести, исходя из этой теории. Лектор отрицательно покачал головой и сказал: «Это не имеет отношения к теории чисел». Ныне никто не стал бы доказывать это самое свойство иначе как на основе теории групп. Будучи студентом первого курса, я удивлялся, что такие понятия, как, например, линейная зависимость, в трех различных учебниках преподносились, на трех различных языках, в трех различных терминологиях; я боялся поверить, что это одни и те же понятия.
KOHEЦ ФPAГMEHTA КНИГИ
|