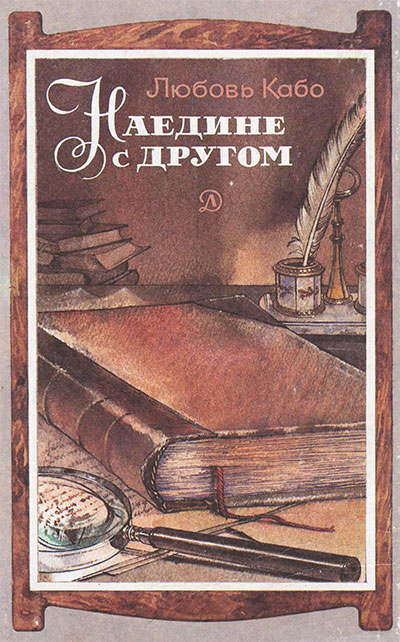СОВЕТ В ФИЛЯХ
Вместо вступления
Любила я в юности одного человека. Любила — как тяжелую работу делала. То он отвечал мне взаимностью, тогда я словно на крыльях летала; то вдруг откидывал о?Гсебя на тысячу верст, и молодому отчаянью моему не было тогда предела. Видно, не очень это хорошо, не всегда хорошо, когда сверстники, ровня. Потому что женщина, сколько бы ей ни было лет, даже очень юная женщина, найдет избранника — и все, и ничего ей уже больше для личной жизни не надо: дом, семья. А мужчина думает: как это так — все? Я же еще ничего не видел!.. Конечно, какой мужчина, какая женщина, но тут очень уж, видно, был типический случай.
Но я не о том сейчас. Я о том, как он меня вдруг откинул однажды; меньше всего именно в ту минуту, в той ситуации я этого ждала. Что было делать? Вот так, элементарно, — в этот день, в следующий, — что было делать, куда идти? Дома — любящие родители. Переполошатся: голубчик, что с тобой? Расстроятся тоже или, того хуже, обо всем догадаются. Однокурсники станут любопытствовать: что с тобой? Такая вроде веселая всегда... И уехала я к подружке в Фили, в барак. Тогда на том месте, где сейчас возвышается панорама Бородинской битвы, были рабочие бараки. Подружка ушла в институт, а я заперлась до ее возвращения в ее комнате: тут уж мне никто не помешает.
Ревела. Часа два ревела взахлеб. Вы извините мне такое просторечие, не говорить же о себе высокопарно: рыдала, билась... Дело, между прочим, было нешуточное. В девятнадцатом веке героини от меньшего заболевали нервной горячкой, их увозили за границу лечиться.
А из меня героиня романа не получалась. Потому что — сколько можно вот так предаваться отчаянью? Жить дальше не хочется, это верно. Незачем дальше жить. Но ведь и с собою кончать — не хочется. Сижу вздыхаю. Еще сидеть и сидеть, пока подружка вернется. И не все ли равно — что
делать, где сидеть, если завершилась, кончилась моя жизнь, ничего хорошего в ней уже никогда не будет.
И тут я увидела на подоконнике единственную в этой неказистой комнате книжку. Лирика Пушкина. Ну, это-то я знаю, другое бы что-нибудь! Вздыхая и скучая, открыла. С самого начала открыла, с лицейских стихов. «Медлительно влекутся дни мои, и каждый миг в сердце множит все горести несчастливой любви...» Даже усмехнулась: что ты по-
нимаешь в этих горестях, семнадцатилет*ний мальчик! Ты до наших взрослых лет, до девятнадцати доживи... «Играйте, пойте, о друзья! Утратьте вечер скоротечный...» Мальчик... «Сквозь слезы улыбнуся я...» Да, и так бывает. Вот и я сейчас — то же самое: улыбнулась — сквозь слезы... «А я, повеса вечно праздный, потомок негров безобразный, взращенный в дикой простоте, любви не ведая страданий, я нравлюсь юной красоте бесстыдным бешенством желаний...» Такое плавящееся, обжигающее — «бесстыдным — бешенством» — это Пушкин? «Звезда печальная, вечерняя звезда...» Нежное, задумчивое — он же?..
Словно никогда не читала, все вновь! От первой строки до последней, через всю его жизнь. «Простишь ли мне ревнивые мечты, моей души безумное волненье?..» «Я вас люблю, хоть я бешусь, хоть это труд и стыд напрасный...» «Я вас любил, любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем...» Сколько любви — и разной! До этого последнего: «Исполнились мои желания. Творец тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадона...» Словно прохладную руку — на горящий лоб!.. «Ты предаешься мне нежна без упоенья, стыдливо-холодна, восторгу моему едва ответствуешь...»
А сколько жизни вокруг него, ведь не только любовь, сколько вместилось и дружеских встреч, и разлук, и разочарований: и «с вами снова я», и «снова тучи надо мною собра-лися в тишине...», и «слово, звук пустой», и величавый «Памятник»: нет, не пустой звук слово! И «я не льстец, когда царю хвалу свободную слагаю», и то последнее 19 октября в его жизни, когда хотел — и не смог написать о царе, не написалось... Все живое. Все громадное, то, что называется Пушкин, — сложная его судьба, летящие, как почерк
его, мысли, все те люди, которые имели счастье — и всегда ли ценили его? — счастье прикосновения душою к такой душе... «Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе грядущего волнуемое море...» Стоп! Вот так раздумчиво, твердо, как что-то само собой разумеющееся: «Мой путь — уныл»... А дальше? «Но не хочу, о други, умирать...» Вот и я не хочу. Что делать, Пушкин?.. «Я жить хочу...» Да, да, хочу жить! Очень! «...Чтоб мыслить и страдать».
Он всему открыт, все понимает. Рядом с ним ничего не страшно. Такой удивительный человек рядом с нами: уязвимый, беззащитный, как и все мы; бесстрашный, как очень немногие из нас. Жить, чтоб страдать? Конечно. Чтоб мыслить? Ну, это уж как получится. «А слезы лью; мне слезы утешенье...» Может быть, между прочим, никаких утешений уже не будет, что из того? Если уже ничего не страшно.
«На свете счастья нет, но есть покой и воля...» А я-то, я о счастье, глупаяГЕсть, конечно, счастье, мне ли не знать? Потому и ревела только что. Но счастье это — разное. Вот и к этому я, наверное, когда-нибудь еще приду: покой, воля. Освобождение от всех этих изнурительных, исполосовавших* страстей. Наверное, приду и к этому, потому что Пушкину — верю.
Ах, какая жизнь — от безмятежного мельтешения отрочества до умудренного, завещательного: «Здравствуй, племя младое, незнакомое!..» До этого вот «игралища таинственной игры», над которым стоит многое переживший человек в безответном раздумье.
Вот так, помнится, меня, распухшую от слез девчонку, взял Пушкин за руку и утешил, ободрил. Он не говорил: «Горя не будет больше». Он говорил: «Будет горе. Может, еще и большее горе будет, только ты не бойся, ты выдержишь...» Он что-то одному ему известное измерил в своем собеседнике и поверил ему. Я Пушкину поверила, а он, между прочим, поверил мне. И уже здоровую, уже ничего не боящуюся, уже готовую ко всему вывел за руку обратно к людям. Вот так мы с Пушкиным посидели в Филях. Посовещались.
Я ведь все это к чему рассказываю? К тому, что удивительные есть у нас собеседники: умнейшие люди России. И большой современный поэт Борис Пастернак, стихи которого я в эпиграфе цитировала, именно о них сказал, видимо, в другом своем стихотворении: о том, что путь в завтрашний день расчищают «откровенья, бури и щедроты души воспламененной чьей-нибудь». Есть у нас эти собеседники — с «воспламененной душою», собеседники, готовые щедро делиться всем, что ими передумано и пережито.
А раз уж они есть, захотелось мне поговорить с ними, с русскими писателями, о вещах, которые нас с вами интересуют. Поговорить свободно, вот как с Пушкиным в Филях толковала. Ни на какую строгую научность не претендуя, потому что какая уж в моей беседе с Пушкиным была научность! Утверждая вещи заведомо спорные, даже, может быть, ошибаясь в чем-то, — без этого, как мы понимаем, свободного разговора нет.
К этому и вас приглашаю: подумаем вместе, поговорим. О любви? И о любви, конечно. Русская литература не зря, очевидно, испытывала своих героев любовью. Уменье любить или неуменье любить — не с этого ли прежде всего начинается человеческий характер? Уменье быть счастливым — в любых обстоятельствах, какие бы ни предложила жизнь, — и неуменье быть счастливым даже в обстоятельствах благоприятных; встречается, к сожалению, и такое.
А как зависишь в юности от окружающих, как томит подчас их непонимание, иногда действительное, иногда только кажущееся, каким одиноким чувствуешь себя! Только ведь и решаешь единственную эту проблему: я и человечество, человечество и, между прочим, я! Нет писателя, который не говорил бы об этом иногда впрямую, иногда — всей своей судьбой. И разве не хочется спросить опытного и, казалось бы, невозмутимого человека: как удалось ему со всем этим совладать и закалить свою душу? Иным удалось, иным так и не удалось, они сами вам об этом расскажут.
Каждого из них мучило свое, так же, как и всех нас мучает свое: одному надо, чтоб все окружающие его любили, необходима гармония с миром, ему без этого жизни нет; дру-
гому важно, чтоб любил единственный, третьему вообще ничьей и никакой любви не надо, важно, чтоб ему подчинялись, его слушались. Трудно все. И не всегда ясно, откуда же она протянется, дружеская рука. Мне, как я только что говорила, в памятный, очень трудный день, помог Пушкин, — неожиданно, вдруг! А кто поможет вам, и тоже неожиданно: Достоевский, Толстой? Может быть, Тургенев? Чехов, быть может? Или очень сегодняшний и очень умный писатель Герцен? Современный молодой человек, он ведь многому открыт, он, мне кажется, умней, чем мы в его годы были...
«Цель художника, — писал Толстой Боборыкину, — не в том, чтобы неоспоримо разрешить вопрос, а в том, чтобы заставить любить жизнь в бесчисленных, никогда не истощимых всех ее проявлениях».
Вот и это еще — самое важное, быть может! — любить жизнь!..
КРУТОЙ ПОРОГ
...Как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома?..
И. С. Тургенев
Жителей столицы мудрено было напугать тяжело нависшими тучами, и в этот послеполуденный час на улицах города было по-воскресному оживленно.
По набережной Екатерининского канала1 шла группа офицеров: день вне казармы, вечер, и, главное, ночь были у них впереди. Шли редкие прохожие.
1 Сейчас канал Грибоедова.
Медленно брел вдоль решетки, словно ожидая кого-то, молодой человек с белым свертком под мышкой. Бежал по мостовой, подергивая за собой санки и корзину на санках, посланный с поручением мальчик.
Вот в эту минуту и показалась окруженная конными казаками карета, за нею — сани, за ними — еще сани. Скромно, почти бесшумно, странно отчужденно, словно собственный крошечный мирок в огромном мире. Надо было быть коренным петербуржцем, чтоб сразу понять — царь. Вытянулись, отдавая честь, офицеры. Дорожный рабочий прислонил лом к решетке канала, стянул с головы шапку. Остановился мальчик, не зная, на что и смотреть: на знакомый всей России профиль в глубине кареты или на то, что интересовало его неизмеримо больше, на казачьи погоны и на конскую стать.
И в ту же секунду раздался взрыв.
Упал, смертельно раненный, мальчик, оказавшийся слишком близко к карете. Болезненно заржала лошадь, идущая впритык к карете, метнулась в сторону; медленно свалился наземь конвойный казак. Царская карета, припав на заднее колесо, покосилась и встала.
Откуда сразу набежало столько народа? Этого никогда нельзя понять. Кажется, прохожих только что можно было пересчитать по пальцам. Но к тому времени, как царь вышел из кареты, помедлив на подножке и оглядываясь по сторонам, к этому времени уже целая толпа одичало рвала молодого человека, притиснутого к парапету; белого свертка в руках у него уже не было.
Царь постоянно чего-то ждал и уставал ждать. В него стрелял Каракозов, было это без малого пятнадцать лет назад. Стрелял Соловьев, и Александр вынужден был бежать от него, петляя по Дворцовой площади. Дважды взрывалось полотно железной дороги, когда царь с семьей возвращался из Крыма в Петербург. Не так давно злоумышленники проникли в самый Зимний дворец; чудовищный взрыв, сотрясший дивное творение Растрелли, застал царя и его гостей на пороге столовой.
И каждый раз царь вынужден был читать одно и то же в тех листовках, которые ему неукоснительно передавались: «смерть Александра II — дело решенное, это только вопрос времени», «если бы царь отдал свою власть Учредительному собранию, мы бы оставили его в покое», «объявляем еще раз Александру II, что эту борьбу мы будем вести до тех пор, пока он не откажется от своей власти в пользу народа»... Авантюристы, безумцы!.. Царю, человеку, ответственному перед самим богом за покой и благоденствие вверенной ему державы, предлагать собственной рукой ввергнуть страну в анархию и хаос!
Что побудило его приблизиться к этому юноше — желание заглянуть в обезумевшие его глаза с той восторженной жутью, с какой люди заглядывают в дремучий омут? Понять хоть что-то в том нечеловеческом единоборстве, в которое его неведомо за что вовлекали? Может быть, милосердие? В конце концов, от него вечно чего-то ждали, и уж к этому-то царь должен быть готов всегда — к милосердному жесту...
Так или иначе, царь из кареты вышел и в сопровождении полковника Дворжицкого направился к задержанному. Того крепко держали, и смотрел он прямо в лицо царю исподлобья — испуганно и злобно.
— Кто ты таков? — спросил Александр.
— Мещанин Глазов.
Не был задержанный мещанином Глазовым. Был это Николай Рысаков, лет ему от роду было девятнадцать, все это станет известным позднее.
— Что с государем? — совсем рядом с царем спросил в толпе чей-то взволнованный голос.
Царь оглянулся. Они плотно стояли вокруг него, его подданные, непривычно близко. Слишком близко. Царь чувствовал себя сейчас опечаленным отцом среди встревоженных, льнущих к нему детей.
— Я-то слава богу, — ответил он бедным своим детям. — Я уцелел, но вот... — И скорбно кивнул головой в сторону пронзительно кричащего мальчика.
И тут вдруг злоумышленник сказал, глядя все так же исподлобья в самое лицо царю и с трудом владея бледными, дрожащими губами:
— Еще слава ли богу...
О чем можно говорить с такими!.. Царь повернулся, невольно пожав плечами, сделал несколько шагов...
Когда рассеялся дым, взметенный вторым, еще более страшным взрывом, царь сидел у решетки канала, прислонившись к ней спиной и упершись руками в панель. Шинель с него сорвало, большое, тучное тело мокло в крови, обе ноги были оторваны. В нескольких шагах от него лежал, отброшенный взрывом и тоже в крови, какой-то человек; это он подошел вплотную к царю и спокойно бросил между ним и собой завернутый в белую салфетку сверток. Позднее, когда в госпитале, с трудом приведя его в чувство, попробуют установить, кто он, он ответит «не знаю» и, умирая, ничего уже не скажет больше. И это тоже станет известно позднее, кто он: двадцатипятилетний Игнатий Гриневицкий. Подпольная кличка — «Константин», «Котик».
«...Мне не придется участвовать в последней борьбе. Судьба обрекла меня на раннюю гибель, и я не увижу победы, не буду жить ни одного дня, ни часа в светлое время торжества... Но своею смертью я сделаю все, что должен был сделать, и большего от меня никто, никто на свете требовать не может». Такое письмо напишет, оказывается, в канун рокового дня Гриневицкий. Он погибнет, да; и самые требовательные его друзья, самые взыскательные его единомышленники, «никто, никто на свете» не потребует от него большего! Как хочется этому юноше жить, и как силен тот нравственный императив, что тем не менее толкает его на гибель!..
Кто прочтет эти чистые и страстные строки? Никто. Горстка товарищей, которым они адресованы. Газеты же, которые разошлись по всей России и были доступны каждому, рассказывали о другом: о царе-мученике, о царе-страсто-терпце. «Несите меня во дворец... там... умереть...» — такова была его последняя воля. Человек, дрожавший в предсмертном ознобе, наспех прикрытый первой попавшейся шинелью. Человек, спрашивающий у поддерживающего его в санях откровенно плачущего казака: «Ты ранен, Кулебякин?» — «Что говорить обо мне! Вас, государь, жаль...» «Возлюбленный монарх», «венценосный страдалец» — бесконечно повторяемые, эти слова гипнотизировали. Тысячи российских граждан, еще вчера не задумывавшихся о существовании царя, теперь содрогнулись от ужаса. По России служились молебны. Был заложен там же, на набережной Екатерининского канала, и достроен много позже, в царствование Николая II, храм «На крови», стилизованный под московский храм Василия Блаженного, но, в отличие от московского, аляповатый и грузный.
А перед судом соответственно предстали изверги, исчадия ада, люди, проклятые еще в материнском чреве.
Сидела перед судом Софья Перовская — строгий воротничок, невинный, открытый лоб, детское выражение лица. Это она, как выяснилось на следствии, была непосредственным организатором происшедшего: расставила метальщиков, движением платка дала им сигнал и, глядя издали, дождалась развязки, а дождавшись, бросилась на конспиративную квартиру с радостной вестью: наконец-то свершилось!
О чем думала Софья Перовская сейчас? Может, о том, о чем только накануне, перед судом, писала нежно любимой матери: «Об участи своей не горюю, спокойно встречаю ее, всегда жила так, как подсказывали мне мои убеждения...»
Сидела перед судом хозяйка конспиративной квартиры Геся Гельфман, не могла не думать, конечно, с тревогой и болью о живом существе, нежные, доверчивые движения которого только-только начала в себе ощущать. Сидел изобретатель реактивных летательных аппаратов Николай Кибальчич, обдумывал на суде, а потом торопливо набрасывал в камере проект летательного аппарата — то единственное, что ему хотелось после себя оставить. Сидел рабочий Тимофей Михайлов; все держались, держался и он. Сидел Николай Рысаков — на той же скамье, что и другие, но словно невидимой стеной отгороженный от товарищей: это именно он все рассказал, всех выдал.
И сидел на скамье подсудимых Андрей Желябов.
Желябов был арестован 27 февраля и в событиях 1 марта непосредственного участия не принимал. Но он потребовал, чтобы его приобщили к делу первомартовцев: «Было бы вопиющей несправедливостью сохранить жизнь мне, многократно покушавшемуся на жизнь Александра II...» Он единственный откажется от защиты и будет вести ее сам — не себя защищать, но, пользуясь трибуной, разъяснять цели и задачи руководимой им организации. И председатель суда будет то и дело обрывать его: «Суд не место для теоретических обсуждений...» И будет издеваться прокурор: «...Угодно величать пышным наименованием «партии».
Прокурор будет патетичен: «Призванный быть на суде обвинителем величайшего из злодеяний, когда-либо совершенных на русской земле...» Будет глумлив: «Если Исполнительный комитет этот так правильно организован... неужели у него не нашлось более сильной руки, более сильного ума, более опытного революционера...» Это — в адрес Софьи Перовской. Не потому ли, что играл с нею в детстве?.. Он сам себя поздравит, наверное, с ораторским экспромтом: «Когда люди плачут, Желябовы смеются...» И сам себя выдаст этим экспромтом: нервы его не выдержат, видно, от стоического спокойствия тех, кого он с таким пафосом обвиняет.
И будут краткие, исполненные достоинства слова подсудимых. «Кто знает нашу жизнь, не бросит нам обвинения ни в безнравственности, ни в жестокости», — это скажет Перовская. Кибальчич будет говорить все о том же — о том изобретении своем, которое захочет оставить России. Желябов вновь попытается осветить программу «Народной воли», и вновь ему этого не позволят.
И будет яркое апрельское утро, когда солнце играет в ручьях и бесчисленных лужах, и невозможно оторвать от радостного этого сверкания невольно щурящихся после каземата глаз. И гром барабанов у самого помоста, и нежность к товарищам, бессильное желание хоть как-то их защитить, все взять на себя. Если бы можно было все взять на себя!.. И будет молчаливо ждущая казни, ничем не разбуженная толпа. Не понимают. Не приемлют. Не слышат ничего, только этот мертвящий гром барабанов. Может, позже когда-нибудь?.. Через несколько поколений?..
Одиночество. Вот так надо уходить из жизни — оболганными перед народом, оклеветанными перед ним. Тишина и одиночество — до звона в ушах...
Не этот ли звон безответной, напряженной тишины слышал и Радищев когда-то давно, около ста лет назад, когда печатал свое «Путешествие из Петербурга в Москву»
и сжигал напечатанное, потому что одиноко и страшно, и печатал снова, понимая, что все равно обречен на печатание этой книги, что все равно не может не быть собой. И что чувствовали те, на Сенатской, не то же ли самое, когда солдаты кричали о присяге жене Константина, какой-то там Конституции, и, так ничего и не поняв, валились, валились под пулями, под осколками снарядов, под гвардейскими палашами — на снегу Сенатской площади, на невском льду, на прямой как стрела окровавленной Галерной? И вот так же глумливо лгали газеты и молчала не ведающая ни о чем Россия. Сражение насмерть, когда один из противников лжив и безнаказан, а у другого связаны руки и кляп во рту. Правды — как глотка воздуха, во что бы то ни стало — правды!.. Не это ли и почувствовал Пушкин, когда писал в Сибирь: «Не пропадет ничего. Ни скорбный труд ваш. Ни высокое стремление ваших дум». Высокое стремление дум, только так. Мужайтесь, ваша честь ничем не запятнана, ваши братья не сомневаются в вас...
Если бы и сейчас, на Семеновском плацу, хоть одно слово надежды! Ни единого слова в этой огромной, безликой, запрудившей всю площадь толпе. Молчание. О чем будут думать или тихо переговариваться все эти люди, разохотившиеся посмотреть на казнь? Может, содрогнутся невольно: «Какой молоденький!» Удивятся: «Обнимаются, смотри! Тоже, гляди-ко, люди!..» Будут говорить, расходясь: «Что им не жилось? Что им, спросить, надо было?..»
И ведь был еще мальчик у колес, кричавший от боли и в конце концов умерший, ни в чем не повинный мальчик! Словно остро отточенный нож, словно бритва, — пройди-тесь-ка по лезвию ее! По одну сторону — самоотверженный подвиг, беззаветнейший героизм, по другую — неверное движение, чуть-чуть качнет в другую сторону, — жестокость, уголовщина, бессмысленное убийство. Мирный день, изодранный в клочки, страдание, кровь, крики боли и ужаса. Какова же должна быть убежденность в правоте своего дела и готовность идти до конца, чтоб не испугаться не виселицы, нет, не тюрьмы и каторги, не за себя испугаться, но чтоб не дрогнуть перед этой добровольно принятой на себя миссией и судьи и палача, чтоб самому, по доброй воле, взорвать инерцию мирно катящихся дней! Каков должен быть душевный строй, не в один день сформировавшийся, чтобы на суде упрямо смотреть мимо судей, поверх всего этого враждебного зала, словно вовсе не слыша клеветы и глумлен-ия. «Знаешь ли ты, что тебя ожидает?» — «Знаю». — «Холод, голод, ненависть, насмешка, презрение, обида, тюрьма, болезнь и самая смерть?» — «Знаю». — «Отчуждение полное, одиночество?» — «Знаю. Я готова. Я перенесу все страдания, все удары...» Это — из тургеневского стихотворения в прозе «Порог», поводом к написанию которого послужил процесс над Верой Засулич в 1878 году.
Вера Засулич стреляла в петербургского градоначальника Трепова и судом присяжных под председательством А. Ф. Кони была оправдана.
«Готова ли ты на преступление?» Девушка потупила голову: «И на преступление готова». Голос не тотчас возобновил свои вопросы. «Знаешь ли ты, — заговорил он наконец, — что ты можешь разувериться в том, чему веришь теперь, можешь понять, что обманулась и даром погубила свою молодую жизнь?» — «Знаю и это...»
А еще раньше, до стихотворения «Порог» и года за четыре до описываемых событий, появилось еще одно произведение Тургенева о том же — роман «Новь». Из этого романа «общество узнало, что они — преступные перед законом, невежественные и самонадеянные перед историей и ее путями, — не бесчестные, не корыстные, не низкие и развратные люди, какими их пытались представить с официальной стороны...» — так писал о романе Тургенева А. Ф. Кони. Он писал: «Новь» устанавливала спокойный и примирительный взгляд на эту молодежь...»
Так писал о романе «Новь» человек, благодаря которому Вера Засулич будет оправдана. Но он не был прав. «Спокойный и примирительный взгляд», как выяснилось довольно скоро, не устраивал никого, и прежде всего тех, о ком шла речь в романе. Это предвидел и автор. «Нет никакого сомнения, — писал он еще в процессе работы над романом, — что, если за «Отцов и детей» меня били палками, за «Новь» будут лупить бревнами...»
Удивительная все-таки писательская судьба. Отвлечемся ненадолго, задумаемся над этим: били за один роман, будут бить за другой, а писатель тем не менее пишет!.. Какая сила ведет пером такого писателя? Какой неодолимый, крутой порог — и зачем? — воздвигает перед собой Тургенев!..
Еще Добролюбов говорил о Тургеневе, что тот «быстро угадывал новые потребности, новые идеи, вносимые в общественное сознание», обращает и всегда обращал внимание прежде всего «на вопрос, стоявший на очереди и уже смутно начинавший волновать общество...». Именно этой «самой жизненной стороной таланта Тургенева» объяснит критик то, что «с такой симпатией, почти с энтузиазмом встречалось до сих пор каждое его произведение».
Что будет Добролюбову известно о Тургеневе к 1860 году, когда он все это писал? Будут известны «Записки охотника». Неизбежность отмены крепостного права будет доказана автором «Записок» за несколько лет до того, как об этом заговорят сразу все. Будут известны романы Тургенева «Рудин» и «Дворянское гнездо». Но важнее других произведений Тургенева покажется Добролюбову роман «Накануне», роман, в котором заявлена «деятельная, энергичная сила, так необходимая сейчас в России». Вот от этой общественной потребности в людях действия, — горячо подхватит Добролюбов, — и вправе они ожидать появления таких героев, как борющийся за освобождение своей родины болгарин Инсаров. «Когда придет их черед приняться за дело, — так будет писать критик обычным для него «эзоповым языком», кое-как сопротивляясь царской цензуре, — они уж внесут в него ту энергию, последовательность и гармонию сердца и мысли, о которой мы едва могли приобрести теоретическое понятие...»
Все, что будет дальше, известно. Тургенев не без основания вычитает в статье Добролюбова надежду на революционное преобразование России и не захочет ее разделить. И скажет Некрасову свое ультимативное «или я, или Добролюбов», а когда статья Добролюбова все же будет напечатана, разорвет свои отношения с «Современником», чтоб на страницах совсем другого журнала сказать все, что он думает о «русских Инсаровых».
Так встретимся мы с нашим другом Базаровым. Или с недругом — к нему ведь нельзя отнестись безразлично, он сам не позволит. Мы увидим человека воистину незаурядного, человека, которому надо или доставить торжество своей идее, или умереть, человека, погруженного в свои научные проблемы и в свете их глубоко равнодушного к тому, как его судят и что о нем говорят. Увидим его прямодушие и страстность в любви. Как беззащитен он в ту минуту, когда «страсть, похожая на злобу и, быть может, сродни ей» бьется в нем, и насколько же человечнее он «чистой и холодной» барыни, затеявшей с ним кокетливую игру! Увидим, как он неправ и в то же время человечески понятен, когда, сломленный этой страстью, оскорбленный, раздраженный до предела, недобро надвигается на ни в чем не повинного Аркадия: «Сделай одолжение, поссоримся раз хорошенько — до положения риз, до истребления...» Увидим его на дуэли, навязанной ему Павлом Петровичем: «Прямо в нос целит, разбойник... Стану смотреть на цепочку его часов...» Мы перед лицом самой смерти увидим его: «Сила-то, сила, вся еще тут, а надо умирать!..» Ни на одну секунду не оставит он ни отцу, ни прежде всего самому себе надежды на свое выздоровление; ее нет, этой надежды, и незачем себя ею тешить. «Евгений, сын мой, дорогой мой милый сын», — услышит он отца и с трудом разлепит смеженные забытьем веки. «Что, мой отец?» — ответит он в тон, потому что даже сейчас, обреченный и погибающий, чувствителен к малейшему пафосу, и даже сейчас ирония его наготове, та ирония, что присуща только очень сильным людям и направлена прежде всего против своей слабости. «Мне мечталась фигура сумрачная, наполовину выросшая из почвы. Тут было не до нежностей» — так скажет Тургенев о своем герое. «Он честен, правдив и демократ до конца ногтей...» И конечно, правы были критики, говорившие о том, что Тургенев попал под обаяние своего героя. Они говорили грубей: польстил этим «свистунам», мальчишкам!..
Но почему же тогда так ополчился на Тургенева любивший его когда-то журнал «Современник»? Добролюбова уже не было в живых, от имени журнала выступал критик Антонович. «Это не человек, — писал Антонович о Базарове, — а какое-то ужасное существо, просто дьявол или, выражаясь более поэтически, асмодей». Статья так и называлась: «Асмодей нашего времени». «Личное нерасположение автора к своему герою проявляется на каждом шагу», «видно желание автора во что бы то ни стало унизить героя», «господин Тургенев обнаружил себя ясно и вполне тем раскрыл нам истинный смысл своих прежних произведений»... Вот так разъярился журнал: «раскрыл нам истинный смысл своих прежних произведений». Уже нет для «Современника» ни «Записок охотника», ни «Рудина», ни даже романа «Накануне»!.. «Клевета», «панегирик отцам», «беспощадная и разрушительная критика молодого поколения»...
И может быть, при всех полемических издержках статьи Антоновича, при всей недопустимости общего ее тона можно понять и раздражение людей, группировавшихся вокруг последовательно революционного журнала?..
Базаров не белоручка, Тургенев настоятельно подчеркивает это. Базаров занят делом, но КАКИМ делом? Этого мы не знаем. Что волнует его, когда наступают святые для него минуты и он, ученый, остается с научной проблемой наедине? С КАКОЙ проблемой? Какие победы одерживает он там, наедине, какие трудности одолевает? Что занимает его сильный ум, когда он небрежно бросает свои знаменитые реплики, не слишком вдумываясь в то, что говорит, и вовсе не дорожа пониманием чужих ему собеседников?
И, кстати, почему мы ни разу не видим Базарова с его единомышленниками, с которыми можно и должно говорить на равных? Почему, зная предысторию братьев Кирсановых, Одинцовой и даже Фенечки, мы ничего не знаем о том, как, в каких обстоятельствах формировался характер главного героя? Не потому ли, что Тургенев этого сам не знает и, осуждая себя и подобных себе за барство, не делает и шагу в сторону конкретных обстоятельств жизни Базарова и владеющих им проблем? «Режет лягушек» — это, прямо скажем, не такое уж ценное наблюдение.
Просто Тургенев верен себе. Он написал в очередной раз о том, что «только что начинает волновать общество». Первый из художников почувствовал только-только народившийся в общественной жизни России тип и принялся описывать то, что видит, и так, как видит, не давая явлению окончательно определиться и созреть. Новый тип этот возник перед Тургеневым, как проступает в проявителе снимок: с теми деталями, что означены сильнее и ярче, — пока там этот снимок пропечатается весь!.. Тургенев уже увидел, уже ухватил самые определяющие черты, уже сделал их достоянием общественной мысли, заставил говорить о них и спорить. А в конце, описав осиротевших стариков, приникших к безвременной сыновней могиле, сказал «о вечном примирении и о жизни бесконечной». Всех взбаламутив, стольких оскорбив своей вынужденной приблизительностью, отправив на тот свет героя, которому только бы жить и жить, говорить с демократическим читателем «о вечном примирении и о жизнет бесконечной»! «Все это мишура и фразы, даже нестерпимые после того, как изображена смерть героя», — напишет по этому поводу Антонович.
И вот перед нами Тургенев — взволнованный тем, какую бурю невзначай развязал, пытающийся хоть что-то объяснить и хоть как-то оправдаться и только хуже запутывающийся. Он пишет статью «По поводу «Отцов и детей», статью, которая никого уже не может устроить. «Если читатель не полюбит Базарова, я виноват и не достиг своей цели», — пишет он в письме. Оправдывается перед Салтыковым-Щедриным: «Признаю справедливым и отчуждение от меня молодежи, и всяческие нарекания». А некоему Феоктистову говорит: «Только русская жизнь способна была произвести подобную мерзость». А другу своему Фету отвечает на его упрек в тенденциозности: «Я все эти лица рисовал, как бы я рисовал грибы, листья, деревья...» А немецкого критика Пича просит: «Укажите на то, что я задумал молодца даже чересчур героически идеализированным...»
Противоречия? Еще бы! Живой человек, над которым властна каждая следующая минута. Живой человек, написавший живую, противоречивую книгу. И в книге этой тоже живет минута. Тем она и привлекательна, эта книга, что в ней живет минута со всей противоречивостью и неповторимостью своей.
И если Тургенев именно этой «минутой» занят, если он не дает явлению созреть и отстояться, в этом и недостаток его, и в этом же громадное достоинство. Он, как уже было сказано, заставляет думать над тем или иным явлением уже сейчас, пока оно не отстоялось и не созрело, участвует таким образом в общественной жизни России, как никто иной, врывается в современность, не переводя дыхания.
А современность — что ж современность! В ней все заинтересованы и все пристрастны. Современность разодрана непримиримой борьбой и яростно отбрасывает всякие попытки разобраться в ней по возможности объективно. Кому в драке нужна объективность! Или наноси удары вместе с нами, или прочь с дороги, пока самому не перепало. Или безоговорочно признавай, или безоговорочно отрицай. Можно только пожалеть писателя, присягнувшего современности и ничего не имеющего за душой, кроме желания разобраться в ней доброжелательно и честно. Кому нужны его доброжелательность и его честность! Кого тронет, что он и себя не пощадит при этом и сам же отметит свою, в общем-то, беспомощность перед сегодняшним днем! Неуправляемый талант, талант, изначально обреченный на непонимание и одиночество, на страшнейшую душевную бескомфортность.
И не отсюда ли вся судьба Тургенева, все его поездки из России в Европу и обратно, поездки, которые восстановить и упорядочить в памяти может только специалист, жизнь положивший на изучение Тургенева?..
Неспециалистам позволителен ли грубый домысел?..
Вот появилась в «Современнике» статья Антоновича. Ведь как захочется не слышать ничего!.. Ведь каждое слово ранит: «Господин Тургенев обнаружил себя ясно и вполне и тем раскрыл нам истинный смысл своих прежних произведений...» А во Франции живет лучший друг его жизни, прекрасная женщина, Полина Виардо... Может быть, она одна понимает Тургенева и, что важнее всего, всегда в наилучшем смысле. Там израненная душа Тургенева наконец-то обретет покой, и лучшие писатели Франции — впрочем, это будет несколько позднее — будут с уважением прислушиваться к тонким суждениям своего русского друга.
Он уезжает из России. И тут начинается наваждение: нагретая солнцем пыль российских проселков, и всхрапывание коней у ночного костра, и тяжелый взлет птицы, потревоженной в росистых ветвях, и предрассветные туманы Орловщины...
Вернется домой, заранее растроганный предстоящей встречей с родиной, и первый же знакомый, с которым он столкнется на Невском, раздраженно скажет ему: «Посмотрите, что ваши нигилисты делают! — жгут Петербург!..» «Ваши нигилисты»! Вот и это еще словечко «нигилист», невзначай произнесенное Тургеневым. Если б он мог предположить заранее, что оно так прочно войдет в российский быт!.. Считал, что не имеет права вкладывать в уста реакции это слово. «Писатель во мне должен был принести эту жертву гражданину». Как же это мучило Тургенева, если он вспомнит о словечке «нигилист» незадолго до смерти, в 1879 году!..
И вот после всех его обязательств «повесить перо на гвоздик», после всех его клятв никогда больше, ни за что не хватать рукою горячего, после этого всего появится в 1877 году роман «Новь»! И какова авторская храбрость при этом! Молодая критика набросится — что ж! Ей это вроде моциона, зато будут знать всю правду... «Если за «Отцов и детей» меня били палками, за «Новь» будут лупить бревнами...»
И появится в романс такой герой, как народник Марке-лов — человек, фанатически преданный делу революционного преобразования России. На проповедь его мужики отвечают тем, что скручивают его и передают властям, и единственное, что мучает при этом Маркелова, — то, что сделал это, между прочим, мужик, на которого Маркелов надеялся особенно, в котором видел «олицетворение русского народа».
Маркелов «не оправдывался, ни в чем не раскаивался, никого не обвинял и никого не назвал...» Но душа этого мужественного человека источена сомнениями: «Это я виноват, я... не так я принялся...»
Главным же действующим лицом в романе является вовсе не Маркелов, а Дмитрий Нежданов. Решил «взять молодых людей, большей частью хороших и честных, и показать, что... самое дело их так ложно и нежизненно, что не может не привести их к полному фиаско...» Именно это утверждает Тургенев. Это и показывает на судьбе Дмитрия Нежданова, заехавшего по приказу некоего неведомого Комитета в одну из российских губерний.
Что он должен совершить там — не ясно; Тургенев опять приблизителен, он не знает ни народнической программы, ни организационных принципов, ни методов борьбы.
Но это его не останавливает, он опять не интересуется конкретными подробностями, но — истинный художник! — тем не менее сердцем своим постигает главное. Что призван совершить Нежданов? Да что-то вроде того, что несколько поздней осуществят его единомышленники на набережной Екатерининского канала: должен прервать инерцию мирно катящихся дней...
Повторим то, что уже сказали: словно остро отточенный нож, словно бритва, — пройдитесь-ка по лезвию ее!.. По одиу сторону — беззаветнейший героизм, по другую — одно неверное движение, чуть-чуть качнет в другую сторону — что там?..
И Тургенев пишет о мягкости, впечатлительности своего героя, говорит о недостатке побудительных мотивов, о том самом «чуть-чуть», что отделяет беззаветный героизм от бессмысленного кровопролития. В Нежданове нет не только убежденности в правоте своего дела, но и того гнева, той ожесточенности и страсти, что делают любую насильственную акцию не оправданной, нет, но, по крайней мере, хоть как-то объяснимой.
И Нежданов — стреляется. Стреляется во дворе того самого дома, где живет с любимой женщиной, с Марианной. Пишет ей на прощание: «Вспоминай обо мне, как о человеке... которому было как-то приличнее умереть, нежели жить». «Господин Тургенев очень посодействовал тому, чтоб исказить образ мученика идеи нашей», — писал от имени молодой России известный революционер Герман Лопатин. «...Если он и не натравливает общество на носителей новых идей, то все-таки способствует искажению представлений о новом историческом моменте и его деятелях...»
«Безымянная Русь!» — так называет Тургенев множество скромных и мужественных, идущих до конца героев 70-х годов. «Безымянная Русь» эта еще не видит того, что любящим сердцем своим предвосхищает писатель. Если бы он сказал им, этой героической «безымянной Руси»: «Дорогие мои, я восхищаюсь вами, — и я плачу о вас. Для святого вашего дела вы жертвуете свободой, самою жизнью...» — с какой благодарностью отозвались бы на это молодые его современники: да, жертвуем всем — ради святого дела!.. Но Тургенев посягнул на их дело, усомнился именно в нем!.. Он думал: «Дорогие мои, вы — лучшее, что есть сейчас в России, — лучшее! Пощадите себя, — вам грозит глубокое разочарование, душевная опустошенность; ваша жизнь по немыслимым, нечеловеческим законам, — она канет бесследно, она никого и ничему не научит...»
За восемнадцать лет, что прошли между романами «Новь» и «Отцы и дети», в корне изменилась Россия. Изменились те, кого Добролюбов называл «русскими Инсаровыми».
Не изменился только Тургенев, он по-прежнему обращен к молодежи и страдает за нее.
И опять вещие слова его звучат в самый разгар борьбы, когда не до него, не до него, не до чьих бы то ни было пророчеств, когда отстреливается типография на Саперном, когда провалилась очередная явка, когда схвачен очередной товарищ, человек безукоризненной чистоты и отваги... Чего ждать от писателя, за плечами которого «долгое и мирное обладание большой собственностью», что он в состоянии понять! «Разыгрывает левого с левыми, правого с правыми» — вот что Тургенев походя получает. «Лубочное изображение наших революционеров, хотя бы и писанное патокой»...
...А Халтурин — считанные месяцы проходят, — Халтурин носит в Зимний дворец динамит и присматривается исподволь к дворцовому церемониалу... А на днях царь проследует из Крыма в столицу, не пропустить бы момент!.. Царь каждое воскресенье ездит в манеж по одному и тому же маршруту...
Уже не хватает Тургеневу старческих сил мотаться между Францией и Россией. «Я окружен заботой, не беспокойтесь обо мне, мне хорошо», — уже больной, будет он писать из Буживаля на родину. Будет писать в эти последние месяцы своей жизни: «Ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя — как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома?..»
Дома будет тот самый взрыв на Екатерининском канале и это ликование: наконец-то! И ни единого дня междуцарствия, которым можно было бы воспользоваться, ни единого! И виселица на Семеновском плацу, и чужая, молчащая в ожидании площадь. Будет то, о чем и написано в романе «Новь»: душевное перенапряжение в пустоте, жизнь по немыслимым, нечеловеческим законам, которая никого ничему не учит.
Дома, то есть в России, А. Н. Толстой будет писать взошедшему на трон солдафону, взывать к нему, как к человеку и христианину, ожидая от него «силы духа, которая не имеет примеров» и прося помилования для первомартовцев. И Исполнительный комитет «Народной воли» будет обращаться к нему же, к новому царю, «как гражданину и человеку», выражая надежду на то, что чувство личного озлобления не заглушит в нем «сознания своих обязанностейг и желания знать истину». «Озлобление может быть и у нас, — будут писать народовольцы. — Вы потеряли отца. Мы потеряли не только отцов, но еще братьев, жен, детей, лучших друзей. Но мы готовы заглушить личное чувство, если того требует благо России. Ждем того же и от вас».
А в ответ будут новые расправы. И каждое очередное «Обозрение «Народной воли» будет открываться очередными списками казненных, погибших от чахотки, повесившихся в казематах, принявших яд, сжегших себя в знак протеста. И поднимутся новые когорты отчаявшихся и беззаветных мстителей. Что неисчерпаемей в юных душах, чем жажда справедливости и благородства?
...Скорее, товарищи!
Сомкнутым строем Стремительно кинемся в бой!
Мы грудью опасное место закроем,
Мы брешь загородим собой...
И будет грустный старик в Буживале, которому нечего уже больше прибавить к тому, что он в свое время написал, — хорошо ли, плохо ли написал, кстати, некстати... У него одно ощущение: все — некстати, все — в пустоте. «Честные души гадливо отворачиваются от него; честные лица загораются негодованием при его имени. «Удались! Ступай вон! — кричат ему честные молодые голоса. — Ни ты нам не нужен, ни твой труд...» Что делать этому человеку?..» Это из последней его книги «Стихотворения в прозе».
Мы говорим: удивительная писательская судьба!.. «Если за «Отцов и детей» меня били палками, за «Новь» будут лупить бревнами...» Зачем же он пишет? Что водит пером такого писателя? Только одно — любовь.
Что такое литература? Не намертво и бессмысленно затверживаемые нами формулы: «энциклопедия русской жизни», «Катерина — луч света», «больше всего любил мысль народную...». Нелегкие писательские судьбы, душевная взыскательность, глубокое неравнодушие — вот что такое литература. Непрерывно движущаяся мысль — вот что это такое. Это те, кто предшествовал нам, но это и мы сами. Потому что, если мы сколько-нибудь расположены думать, это и наша мысль тоже. Не выжженная земля за нами — плодоносящее поле. Прислушайтесь! Прислушайтесь к этим тихим, ненавязчиво звучащим со страниц голосам: «неужели любовь, святая, преданная любовь не всесильна?..»
Только смерть примирит Тургенева с теми, о ком он думал с такой взыскательностью и с такой любовью. «...Мы можем громко сказать, — так писали народники в прокламации, специально выпущенной в связи с кончиной писателя, — кем был Тургенев для нас и для нашего дела. Барин по рождению, аристократ по воспитанию и характеру...» Тургенев «своим чутким и любящим сердцем сочувствовал и даже служил русской революции»... «Тургенев был честным провозвестником идеалов целого ряда молодых поколений, певцом их беспримерного, чисто русского идеализма, изобразителем их внутренних мук и душевной борьбы...»
Вот, значит, как: Тургенев был провозвестником, даже «честным провозвестником идеалов целого ряда молодых поколений», изобразителем, певцом... Что, собственно, произошло? Смерть ли помогла все понять и принять, смерть, которая вообще помогает думать о жизни с той глубиной и с тем пониманием, с каким сама жизнь этого сделать не в силах? Может, быстро пробежавшие годы, которые неумолимой логикой своей заставили многое переоценить даже самых яростных и непримиримых?.. «Борцов за освобождение родного народа еще не было на Руси, когда Тургенев написал своего Инсарова; по базаровскому типу воспиталось целое поколение так называемых нигилистов, бывших в свое время необходимой стадией в развитии русской революции. Без преувеличения можно сказать, что многие герои Тургенева имеют историческое значение». И дальше — о том, что даже ирония, «проникающая «Новь», не уменьшает нашей любви к Тургеневу, мы ведь знаем, что это ирония... сердца любившего и болевшего за молодежь. Не с подобной ли иронией относимся теперь мы сами к движению семидесятых годов...».
А дальше — в той же листовке — стихотворение Тургенева «Порог»: «Ты готова на жертву?» — «Да». — «На безымянную жертву? Ты погибнешь — и никто, никто не будет даже знать, чью память почтить?..» — «Мне не нужно ни благодарности, ни сожаления. Мне не нужно имени...»
Словом, все хорошо, полное и безоговорочное признание: «служил русской революции сердечным смыслом своих произведений». Плохо одно: Тургенев уже не видел этой листовки...
И, между прочим, повторяется все. Каждое поколение идет своими путями, и тем не менее все повторяется: молодая жажда подвига и самоотречения, и стремление как можно больше взять на себя — с именем ли, без имени, — и ошибки молодых, и бессильная мудрость, и зряшный человеческий опыт, который никогда никого другого ничему не учит.
НАЧАЛО ВСЕХ НАЧАЛ
Мне главное — чувствовать, что я не виноват...
Л. Н. Толстой
Тургенев и Толстой познакомились в 1855 году. Им очень хотелось любить друг друга. Толстой, приехав в Петербург, бросился сразу же искать Тургенева — и разминулся с ним. Тургенев, узнав по возвращении, что Толстой его искал, в свою очередь кинулся искать Толстого. Столкнувшись в подъезде, они, по выражению Толстого, «сильно обнялись». Тургенев предложил Толстому жить у него, и Толстой это предложение с готовностью принял.
Ничего не получилось из этой дружбы; слишком они были различны. Бывает несходство, которое, особенно на расстоянии, людей не трогает, но этих двоих друг в друге раздражало все. «Очень нравственный и очень неприятный господин», — будет чуть позже отзываться о Толстом Тургенев. «Все менее мне симпатичен, как личность», — будет тогда же отзываться о Тургеневе Толстой. В 1861 году в имении Фета вспыхнет внезапная грубая, неостановимая ссора. Тургенев рассказывал в гостиной, что гувернантка приучает его дочь чинить одежонку бедных, а Толстой с обычной его прямотой и резкостью отозвался, что девушка, которая держит на коленях нищенское рубище, играет ненатуральную и фальшивую роль. Слово за слово — дело шло к дуэли. Дуэль старались предотвратить, да и обеим сторонам было впоследствии очень неловко. Еще бы! Мы знаем, что Дантес убил Пушкина, а Мартынов — Лермонтова. Но то — Дантес и Мартынов. Не хватало, чтобы Толстой убил Тургенева или, наоборот, Тургенев Толстого. Толстой спохватился первый: «Готов дать ему любое удовлетворение, но стреляться не буду».
На этом, казалось бы, и исчерпываются их отношения — какая уж после всего этого любовь и дружба! Но в 1878 году, то есть лет семнадцать спустя, ничем иным не подвигнутый, кроме неустанной своей душевной работы, Толстой будет писать Тургеневу: «Иван Сергеевич! В последнее время, вспоминая о моих с вами отношениях, я, к удивлению своему и радости, почувствовал, что я к вам никакой вражды не имею... Зная, как вы добры, я почти уверен, что ваше враждебное чувство ко мне прошло еще прежде моего... Предлагаю вам всю ту дружбу, на которую я способен. В наши годы есть одно только благо — любовные отношения с людьми...»
П. В. Анненков свидетельствует, что Тургенев плакал, читая это письмо. Умели эти люди ссориться, да, но умели и мириться. И может, чем старше, а точнее, чем старее становится человек, тем отчетливее проявляется в нем то, что всегда было главным: в плохом человеке — плохое, в хорошем — хорошее.
А дальше будет уже вовсе нешуточное: последняя болезнь Тургенева и его все более усиливающаяся слабость. «Старый, милый и очень дорогой мне человек и друг!» Толстой будет торопиться писать это и, как всегда, будет предельно искренен: «Очень дорогой». И Тургенев будет торопиться писать — такие рубежи! — писать о том, что счастлив быть современником Толстого. Будет заклинать Толстого «вернуться в литературу» — слова эти в 1882 году были как нельзя более актуальны: Толстой в это время осуждал, как известно, весь свой предыдущий опыт, в том числе и опыт литературный. У Тургенева, счастливого быть современником Толстого, это не могло не вызвать основательнейшей тревоги.
Но вернемся к тому времени, когда Толстой был молод, пылок, когда даже маленькие слабости в людях его отвращали. Боевой офицер, многообещающе заявивший о себе в литературе, столько вызвал толков и так был загадочен, пока сидел на севастопольских бастионах, так интересен здесь, сейчас, в Петербурге, при непосредственном с ним общении! Казалось, кому, как не ему, упиваться теперь своей популярностью и всеми соблазнами столичной жизни! А Толстой словно бы вовсе безразличен к этому. Съездив ненадолго за границу, не задержавшись и там, затворяется в наследственном своем имении, в Ясной Поляне.
«Это было... в то время, — будет писать Толстой чуть позднее, — ...когда появились журналы под самыми разнообразными знаменами, — журналы, развивающие европейские начала на европейской почве, но с русским миросозерцанием, и журналы, исключительно на русской почве, развивающие русские начала, однако с европейским миросозерцанием; когда появилось вдруг столько журналов, что, казалось, все названия были исчерпаны: и «Вестник», и «Слово», и «Беседа», и «Наблюдатель», и «Звезда», и «Орел», и много других, и, несмотря на то, все являлись еще новые и новые названия; ...когда со всех сторон появились вопросы (как называли в пятьдесят шестом году все те стечения обстоятельств, в которых никто не мог добиться толка)... все пытались разрешать их; писали, читали, говорили проекты, всё хотели исправить, уничтожить, переменить, и все россияне, как один человек, находились в неописанном восторге... Великое, незабвенное время возрождения русского народа! Как тот француз, который говорил, что тот не жил вовсе, кто не жил в Великую французскую революцию, так и я смею сказать, что кто не жил в пятьдесят шестом году в России, тот не знает, что такое жизнь».
Ирония Толстого несомненна. Он и себя не пощадит при этом. «Пишущий эти строки не только жил в это время, но был одним из деятелей того времени. Мало того, что он сам несколько недель сидел в одном из блиндажей Севастополя, он написал о Крымской войне сочинение, приобретшее ему великую славу, в котором он ясно и подробно изобразил, как стреляли солдаты с бастионов из ружей, как перевязывали на перевязочном пункте перевязками и хоронили на кладбище в землю... Сильные мира сего искали его знакомства, жали ему руки, предлагали ему обеды, настоятельно приглашали его к себе и, для того чтоб узнать от него подробности войны, рассказывали ему свои чувствования».
На войне Толстой вел себя в высшей степени достойно, а не просто «сидел в одном из блиндажей», и «сочинение» написал неизмеримо более значительное, чем пытается это представить, но с Толстым не поспоришь! Видно, однако, главное: что в эту пору Толстому одинаково чужды и славословия либеральной печати в адрес правительства, и заверения демократической печати, что «настало время работы общественной», что «везде понята несостоятельность старого порядка вещей...». Вся Россия двинулась куда-то, а Толстой почему-то держится особняком.
Удивительны его высказывания этой поры. «Нельзя говорить о свободе в стране, где все только свободой и бредят, — сетует он на первые многообещающие реляции Александра II. — Правительство только того, видимо, и хочет, чтоб нас перерезали наши же крестьяне...». «Нас», «наши же крестьяне», это от чьего лица он говорит? От лица помещиков? Толстому, как мы знаем, предстоит еще пройти громадный путь и в корне пересмотреть свои отношения к земле и крестьянам, но сейчас, в конце 50 — начале 60-х годов, в годы общественного оживления, отмеченного всеми политическими сейсмографами, на ближних подступах к роману, величайшему в русской литературе, Толстой на первый взгляд всего лишь рачительный помещик, превыше всех политических событий ставящий то, что происходит на «пятачке» его Ясной Поляны.
Впрочем, на этом «пятачке» происходят вещи довольно характерные. Толстой, не дожидаясь реформы, хочет уже сейчас освободить крестьян: ему это душевно ловчее как-то, чем владеть крепостными, но крестьяне об освобождении и слышать не хотят. Живя, как и вся Россия, слухами о предстоящей реформе, яснополянские крестьяне не желают ничего принимать из барских рук — ни земли, ни воли. Им ведь наплевать, что хозяин их — сам Толстой! Помещик, он, известно, хитрит, так они рассуждают, он выгадать хочет, то ли дело царь-батюшка! Царь мужика в обиду не даст: и землицы отрежет вдоволь, и от окаянной «крепи» освободит. Такое исконно русское: все зло от помещиков, а от батюшки царя — царская милость!
Вот это и занимает Толстого прежде всего: крестьянское недоверие и крестьянский антагонизм. Он главное чувствует: что для этого всего в крестьянстве накопилось достаточно оснований. «Последнее время я своими делами доволен, — пишет он Фету уже после реформы, в 1865 году, — но общий ход дел... с каждым днем мучает меня больше и больше... У нас за столом редиска розовая, желтое масло, подрумяненный мягкий хлеб на чистой скатерти, в саду зелень, молодые наши дамы в кисейных платьях рады, что жарко и тень, а там этот злой черт голод делает уже свое дело, покрывает поля лебедой, разводит трещины на высохнувшей земле и обдирает мозольные пятки мужиков и баб и... всех их проберет и расшевелит, пожалуй, так, что и нам под тенистыми липами в кисейных платьях и с желтым сливочным маслом на расписном блюде — достанется».
Так что политические вопросы для Толстого словно вовсе не существуют, да, но зато нравственные существуют, и как! Стыдно — вот что он чувствует. Стыдно есть розовую редиску и желтое масло, когда рядом — голод. Все, что его современники видели предметом ожесточенной политической борьбы и политических споров, для Толстого — только дело согласия с собственной совестью. «Политическая жизнь вдруг неожиданно обхватила собою всех... — сетует он в письме к Боткину тогда же, в конце 50-х годов. — А людей, которые бы просто силой добра притягивали бы к себе и примиряли людей в добре, таких нету». И еще одно высказывание этих лет и тоже такое, на всю последующую жизнь: «Никогда не буду служить нигде никакому правительству». Подчеркнуто: «никакому».
И не потому ли заинтересовали его декабристы, не политическая их программа, а прежде всего то, что объединяло их при различии политических взглядов: стремление к нравственному переустройству общества. Что привело их всех, аристократов, обеспеченных землевладельцев, людей, перед которыми была открыта блестящая карьера в любой области, какую бы они ни избрали, — что привело их на Сенатскую площадь. Стремление жить в согласии с собственной совестью. Мысль об ответственности русского дворянина за все, что происходит в России, — то, что прозвучало задолго до восстания в простодушных и важных речах фонви-зинского Стародума: «Дворянин, не достойный быть дворянином, — подлее его ничего на свете не знаю!..» Как это близко Толстому с его позицией: «Мне главное — чувствовать, что я не виноват»!
В 1856 году обе столицы склонили почтительно головы перед теми из декабристов, кто остался жив и вернулся, «перед прекрасными старцами», по выражению А. Ф. Кони. И ирония, с которой Толстой пишет в первых же строках романа «Декабристы» об общественном оживлении конца 50-х годов, ирония эта не случайна: Толстой словно смотрит на все происходящее глазами этих вот «прекрасных старцев», то есть глазами людей, переживших годы каторги и ссылки и не поступившихся ничем, мерящих жизнь такими высокими нравственными мерками, до которых нынешним деятелям не дотянуться. Вот и начинает Толстой свой роман сопоставлением несопоставимого: мира истинных нравственных ценностей и мира той предопределенной безнравственности, на которую обрекает людей политическая суета.
Посмотрите, как держится с людьми только что прибывший из ссылки Петр Лабазов, «имевший слабость в каждом человеке видеть ближнего»: он прост и доверителен со всеми, начиная с лакея в гостинице и с ямщиков, которые его привезли, и кончая светскими конъюнктурщиками, спешащими выразить ему свою радость по поводу его возвращения, — еще года два назад они возмутились бы малейшему намеку, что хотя бы отдаленно знакомы с ним. Но Петр Иванович с его душевной чистотой словно вовсе не задумывается над этим: он спешит поделиться с каждым теми наблюдениями и мыслями, которые особенно сейчас, после долгого путешествия из Сибири, его переполняют. И дочь его радостно и любовно смеется над ним: «Ты моложе нас, папа». Имеет в виду она себя и брата: «моложе нас». И жена его вторит дочери: «Тебе все еще шестнадцать лет, Пьер...» «Декабрист мой должен быть энтузиаст, — пишет Толстой Герцену о замысле своего романа, — ...возвращающийся в 56-м году в Россию... и примеряющий свой строгий и несколько идеальный взгляд к новой России».
К жене Лабаэова, Наталии Николаевне, Толстой приглядывается с особенной симпатией. «Она поехала за мужем в Сибирь, — пишет Толстой, — только потому, что она его любила; она не думала о том, что она может сделать для него, и невольно делала все: стелила ему постель, укладывала его вещи, готовила обед и чай, а главное, была всегда там, где он был, и больше счастия ни одна женщина не могла бы дать своему мужу».
И еще он пишет об этой женщине, не испугавшейся ни труда, ни изгнания: «Нельзя было себе представить ее иначе, как окруженную почтением и всеми удобствами жизни. Чтоб она когда-нибудь была голодна и ела бы жадно, или чтобы на ней было грязное белье, или чтобы она спотыкнулась, или забыла бы высморкаться — этого не могло с нею случиться. Это было физически невозможно... Всякое ее движение было величавость, грация, милость для всех тех, которые могли пользоваться ее видом...»
Она была нетороплива,
Не холодна, не говорлива,
Без взора наглого для всех,
Без притязаний на успех,
Без этих маленьких ужимок,
Без подражательных затей...
Почему вдруг вспомнилась пушкинская Татьяна сейчас, когда речь идет о вернувшейся с мужем декабристке? Может, не так это и случайно; мы еще вернемся к этому.
Все тихо, просто было в ней,
Она-казалась верный снимок Du comme il faut...
Итак, Толстой начинает роман о семье вернувшегося из Сибири декабриста Лабазова. Потом этот замысел вдруг трансформируется, Толстой все глубже погружается в исторические источники, возвращается в 1825 год («время заблуждений моего героя»), потом — в 1812, когда взгляды героя особенно активно формировались, потом, как сам он об этом скажет, остановится вновь «по чувству, которое, может быть, покажется странным... Мне совестно было писать о нашем торжестве в борьбе с бонапартовской Францией, не описав наших неудач и нашего срама». И опять он двинется вспять, к 1805 году, — история романа «Война и мир» (вот и заголовок изменился) любому школьнику известна. А потом вдруг, гораздо позже, у Толстого вырвется признание: «Больше всего любил мысль народную».
Так вот, что же все-таки произошло? Откуда она вдруг взялась, почему — эта самая «мысль народная»? Не потому ли она вызревала и крепла в романе, что во все протяжение работы над ним Толстой прежде всего полон был «мыслью народной» и, о чем бы ни писал, хотя бы о происходивших более чем за полвека до того войнах с Наполеоном, прежде всего ощущал современную ему, сегодняшнюю, и такую раскаленную, землю под своими ногами. Вот ту самую раскаленную землю, что «обдирает мозольные пятки мужиков и баб и... всех их проберет и расшевелит, пожалуй, так, что и нам под тенистыми липами в кисейных платьях и с желтым сливочным маслом на расписном блюде — достанется».
Может быть, поэтому и появится на страницах романа Тихон Щербатый со своей скользящей походкой и шутовской ухмылкой, кабальный крестьянин, который начал уничтожать «миродеров» раньше, чем получил на это чье бы то ни было распоряжение. И когда Денисов, приехав со своим отрядом в его деревню, приступит к нему с расспросами, Щербатый будет прятать глаза и все отрицать, потому что всем своим жизненным опытом знает одно: ничего путного ждать от господ нельзя. И наверное, удивится несказанно, получив в конце концов одобрение, и тут же присоединится к отряду.
Это прирожденный партизан, умелый и расторопный, «самый полезный человек» в отряде и при этом — добровольный шут, то есть человек, привычно и с какой-то готовностью унижающийся. «Вот всыплю тебе горячих, так будешь дурака-то корчить» — так разговаривает Денисов с «самым полезным» в отряде человеком после того, как Тихон, посланный достать необходимого отряду «языка», так в конце концов его и не доведет до своих. И Тихон с привычной дурашливостью будет оправдываться: «Да неаккуратный он был, ваше благородие, будто я не знаю, каких вам нужно. Я вместо него троих приволоку...»
Но мы знаем, и Денисов знает, и все вокруг Тихона знают, что дурашливость Тихона обманчива, что он потому и не может довести «языка», что ненавидит «миродеров» смертельно, и вкус к убийствам уже приобрел, и приглянувшиеся ему сапоги француза — тоже дело не последнее. Он холодно жесток, бесстрашен и «топором владел, как волк... зубами... с равной сноровкой валя столетние дубы или, взявшись за обушок, выстругивая кленовые ложки». И кто знает, что думает Тихон, когда вот так покорствует и дурашливо ухмыляется, слушая дворянскую брань!..
Владеет топором, как волк зубами... Знаменитый топор, символ народного бунта! «К топору зовите Русь!» — в эти же годы писал Герцену Чернышевский. Топор будет нарисован на тех прокламациях, что распространяет в романе «Бесы» Петр Степанович Верховенский. И в руки Родиона Раскольникова, поднявшегося на убийство, Достоевский тоже вложит не нож, не булыжник, а именно топор — не в прямой ли полемике с шестидесятниками? Подобная мысль мелькала, помнится, в нашей печати. «А наши топоры лежали до поры», — вспоминает в некрасовской поэме старик Савелий. О чем вспоминает? О том, как вместе с товарищами закопал живьем в землю управляющего Фогеля, — топоры здесь были ни при чем вроде бы. «Наддай», — я слово вымолвил. Под слово люди русские работают дружней...» А что, если и Тихону Щербатому кто-нибудь убедительно и негромко скажет: «А ну, Тихон, наддай!..» Фигура из 1812 года вдруг приближается в 60-й, разрастается в символ, нависает вполне реальной угрозой: «И нам... в кисейных платьях под тенистыми липами... достанется».
И здесь же, рядом, Платон Каратаев, «воплощение всего русского, доброго и круглого». Платон, богобоязненный, добрый, равно участливый и к товарищам по плену, и к приблудной собачонке, и к французу, которому тоже, поди, несладко вдали от дома, и к барину, который вместе с Платоном, совсем как простой, терпит нечистоту, и голод, и холод. Пьер отчетливо чувствует, что стоит ему отойти — и Платон тотчас забудет о нем, и ласка Платона тут же, «как отделяется запах от цветка», распространится на кого-то другого. И странно, эта мысль не возмущает его, а, наоборот, только больше привлекает к Платону. И все в нем его привлекает: и гибкая приспособляемость, и полное отсутствие эгоцентризма, и бездумные его поговорки, отделяющиеся от него так же непроизвольно, как и его ни на кого особенно не направленная ласковость. Или любимые рассказы Платона — они все об одном: как хорошо, когда все по-божьи, по совести. Вот служить он пошел за брата, а пришел на побывку — ему за это в семье уважение. Вот на каторге у лютого разбойника пробудил господь совесть — поздновато пришлось, а все-таки славно...
У Тургенева есть стихотворение в прозе «Сфинкс». Самая неразгаданная вещь на свете — так утверждает Тургенев — «Карп, Сидор, Семен, ярославский, рязанский мужичок, соотчич мой, русская косточка!..». Что он хочет сказать таинственным своим молчанием, этот сфинкс, о чем думает, к чему стремится?..
Перед неразгаданным этим сфинксом остановился и Толстой. Вот Тихон Щербатый, вот Платон Каратаев — такие разные! А за ними — «дубина народной войны», поднявшаяся в 1812 году «со всею своею грозною и величественною силой», «не спрашивая ничьих вкусов и правил, с глупою простотой, но с целесообразностью», дубина, которая, «не разбирая ничего, поднималась, опускалась и гвоздила французов до тех пор, пока не погибло все нашествие».
И вот Толстой всей душой в войне 1812 года.
«Я напишу такое Бородинское сражение, которого еще не было», — сообщает он жене с прославленных бородинских холмов. Что видел Толстой на этом поле, когда предчувствовал, КАКОЕ ИМЕННО Бородино он напишет? Видел то, что воскресила здесь, на месте, его фантазия, — громадную, непрерывно движущуюся, непрерывно меняющуюся панораму грандиозной битвы, подернутую пороховым дымом, расцвеченную взблесками выстрелов и огненными сполохами разрывов, и лавину конной атаки в одном конце ее, и жаркое дыхание рукопашного боя — в другом, и сдержанное оживление простреливаемых насквозь командных
пунктов... Или совсем другое видел, то, чему сам был прямым свидетелем, — совсем в другом месте и в другой войне: вздыбленные камни Севастополя; и огоньки свечей в головах убитых, вздрагивающие при близких разрывах; и струящуюся по стенкам окопов, потревоженную этими разрывами сухую землю; и, главное, простых русских людей, военных, штатских, связанных воинской присягой или не связанных ею, споро и дружно, словно обычную мирскую работу делающих, творящих ту эпопею Севастополя, «героем которой», как писал Толстой, «был народ русский».
И все давно уже понимают, что, не будь в биографии Толстого Севастополя, он и не смог бы написать Бородино, «которого еще не было». Потому что война была им когда-то увидена не с развевающимися знаменами, не в победных звуках фанфар, а вот так. — в крови, в страданиях, в изнурительной солдатской работе, увидена с той позиции, которую открывал рядовому защитнику Севастополя поросший жухлой крымской травой край неверного его убежища, отрытого собственными руками.
Только лично наблюденное могло помочь Толстому описать, как внезапно обрываются на устах молоденького офицера слова команды и как постепенно костенеет потом его свернутое волчком тело, и как выглядит вблизи штыковой удар, и как мечется среди убитых лошадь, волоча за собой обломки оглобель, и как два обезумевших человека на поле боя исступленно держат друг друга за шиворот, силясь понять, кто кого взял сейчас в плен — француз или русский. И как вообще мучительно приспосабливается, а точнее, так и не может приспособиться восприятие человека, привыкшее к впечатлениям естественным и реальным, к тому нереальному и неестественному, и фантасмагорическому, что обрушивает на человека война. Он главное понял когда-то, боевой офицер, что война есть противное человеческому разуму и человеческой природе событие и что только смертельная опасность, нависшая над родиной, только общее негодование и общая оскорбленность может всех уравнять в противоестественной готовности умереть или в еще более противоестественной — убивать себе подобных; уравнять всех — от Кутузова, взвалившего на себя, когда пришел его час, всю полноту ответственности за Россию, до последнего солдата, надевшего в канун Бородина чистую, смертную, рубаху.
Но народ не был бы тем неразгаданным «сфинксом», перед которым так часто останавливалась в раздумье русская литература, и Толстой не был бы тем Толстым, которого мы почитаем и любим, если бы здесь же, в романе «Вой-на и мир», не было того, что в искусстве называется контрапунктом.
Так попадаем мы в имение князя Андрея Богучарово.
Когда-то Андрей Болконский, как и некоторые другие просвещенные люди начала века, думал о своих крестьянах всерьез. И как ни был он потрясен смертью маленькой княгини, как ни была выжжена всем предыдущим опытом его душа, чувство достоинства говорило в нем громче всех других чувств, и оно, это чувство достоинства, не позволяло ему владеть рабами. И князь Андрей, совсем как более молодой, то есть живший несколько позже, его современник, «ярем барщины старинной» заменил «оброком легким».
И все-таки, несмотря на все эти послабления, а может и вследствие их, несмотря на больницы и школы, построенные князем Андреем, в богучаровских крестьянах «были заметнее и сильнее, чем в других, те таинственные струи народной русской жизни, причины и значение которых бывают необъяснимы для современников». «Между ними всегда ходили какие-нибудь неясные толки: то о перечислении их всех в казаки, то о новой вере, в которую их обратят», то о том, что с воцарением какого-то Петра Федоровича, не далее как через семь лет, «так будет просто, что ничего не будет». И сейчас, когда в других местах при известии о приближении Наполеона крестьяне поднимались и уходили от него, богучаровские упорно твердили свое, что французы им худого не сделают. И когда княжна Марья уговаривала их уезжать, обещая расселить на новых местах и прокормить, они повторяли одно: «Вишь, научила ловко, за ней в крепость поди! Дома разори, да в кабалу и ступай. Как же! Я хлеб, мол, отдам...»
Это для них главное: полученная ими когда-то «воля». И хоть никто на нее не посягает, боятся они потерять прежде всего ее. Как знал Толстой по себе, по своим добрым намерениям, эту косность, это тугое недоверие!..
Что же делают «дикие» богучаровские крестьяне ради этой своей «воли»? Ничего. Упорствуют, пока им говорит что-то, на их взгляд, несообразное княжна Марья. Сами никуда не едут и ее не выпускают. А потом появится лихой
гусарский ротмистр, двинет в скулу одного, собьет шапку с другого, завопит: «Бунт!.. Изменники!..» Прикажет вязать старосту, и староста Дрон сам снимет с себя кушак, чтоб вязать его было ловчее. И мужики заговорят наперебой: «Мы только, значит, по глупости. Такой вздор наделали...» А часа через два уже будут укладывать на подводы барское добро, любовно перекладывать сенцом шкатулку — «она денег стоит!» — и с удовольствием подмигивать на книжные шкафы и на толстые лексиконы: «Здоровые книги!.. Писали, не гуляли...»
Воля? А на что, собственно, крестьянам воля? Понимают они, что это такое? Умеют ею распорядиться? Они, как неразумные дети: ишь как расторопно задвигались в уверенных по-хозяйски руках! Освободить «для себя» — это Толстой понимает, да. Но у хорошего, совестливого помещика крестьянину и без всякой воли хорошо, а плохой, бессовестный — и с волей изловчится крестьянина обидеть и ограбить.
Вспомним, как в барском доме Ростовых дворня с умилением смотрит из дверей, как отплясывает перед гостями их граф: «Батюшка-то наш! Орел!..» И нисколько не удивимся, конечно, когда на охоте доезжачий Данила с бранью набросится на того же графа, проморгавшего волка, — с какой бранью! «И... не удостаивая сконфуженного, испуганного графа дальнейшим разговором, он со всею злобой, приготовленною на графа, ударил по ввалившимся мокрым бокам бурого мерина...» С каким удовольствием описывает это Толстой: человеческие же отношения!.. Или вспомним, как хозяйничает сын графа, молодой помещик Николай Ростов: «При посевах и уборке сена и хлебов он совершенно одинаково следил за своими и мужицкими полями... И, должно быть, потому, что Николай не позволял себе мысли о том, что он делает что-нибудь для других, для добродетели, — все, что он делал, было плодотворно: состояние его быстро увеличивалось; соседние мужики приходили просить его, чтобы он купил их, и долго после его смерти в народе хранилась набожная память об его управлении. «Хозяин был... Наперед мужицкое, а потом свое...» Обратите внимание: «приходили просить, чтобы он купил и х...»
Так в исторической своей эпопее Толстой отвечает на современнейший так называемый «крестьянский» вопрос, совсем по-толстовски переводя его из области политической в область нравственную: хорошие люди, плохие люди, и бог с ней, с политикой!
Толстой всем своим существом в эпохе, которою живет. Женская эмансипация? Все эти проблемы «были тогда точно такие же, как теперь», но та же Наташа не только не интересовалась ими, «она решительно не поняла бы их»... Стремление той или иной политической группировки оказать решительное влияние на исторический процесс и возглавить его? А кто вообще может его возглавить, если ход истории стихиен и непредсказуем и не в воле отдельного человека или даже группы людей что-либо в ходе истории изменить? История, по Толстому, если позволено будет такое вольное сравнение, она как морской прибой: если не хочешь быть сбитым волной, ложись на нее, согласовывай свои движения с нею, вот тогда она сама поднимет, сама поднесет...
Вернемся к предыдущему: плохой помещик, хороший — все зависит от этого. Вот он, хороший и совестливый помещик, лежит на копне, а на него и мимо него, словно туча, движется толпа наработавшихся за день мужиков и баб, со свистом, с пением, с хохотом... Это будет написано уже поздней, уже в «Анне Карениной», в 70-е годы. И помещик этот, Константин Левин, будет завидовать этим людям, их здоровому труду, их простой, лишенной всякой рефлексии жизни. Он будет любоваться сыном крестьянина Париена и его молодой женой, их недавно пробудившейся молодой и сильной любовью. Он будет подумывать — недолго, но будет, — не уйти ли и ему крестьянствовать, не жениться ли ему на крестьянке. Он косить выйдет вместе с мужиками, и это будет один из немногих вполне счастливых дней в его жизни по тому чувству здоровой усталости и удовлетворенности собой, какое он испытает.
И все это будет писать уже другой Толстой, Толстой, который не может не знать о себе, что он меняется, — постепенно, медленно, но неотвратимо. Очень скоро этот новый Толстой напишет: «Со мной случилось то, что жизнь нашего круга — богатых, ученых — не только опротивела мне, но потеряла всякий смысл... Действия же трудящегося народа, творящего жизнь, представились мне единым настоящим делом. И я понял, что смысл, придаваемый этой жизни, есть истина, и я принял его».
Это слова из толстовской «Исповеди». Никакой самый хороший помещик, типа того же Николая Ростова, уже не устраивает этого меняющегося Толстого: он ополчается против всяких помещиков, и плохих, и хороших, против всего своего класса, праздного и паразитического. Со свойственной ему честностью он ополчается при этом прежде всего против самого себя. «Я всю свою жизнь провожу так: ем, говорю и слушаю... И другого ничего не могу и не умею делать. И для того, чтобы я мог это делать, нужно, чтоб с утра до вечера работали дворник, мужик, кухарка, повар, лакей, кучер, прачка...» Это уже не из «Исповеди», из другой статьи.
В одной статье за другой, в одном очерке за другим Толстой в это время пишет о том, что постепенно стало для него неопровержимой истиной. Он пишет о том, как тяжело ему эта истина доставалась, как вынес он из своей комнаты шнурок и перестал ходить с ружьем на охоту, чтоб не соблазниться слишком легким способом избавления себя от жизни. «Я сам не знал, чего я хочу, — пишет Толстой, — я боялся жизни, стремился прочь от нее и между тем, чего-то еще надеялся от нее.
И это сделалось со мной в то время, когда со всех сторон было то у меня, что считается совершенным счастьем... У меня была добрая, любящая и любимая жена, хорошие дети, большое имение, которое без труда с моей стороны росло и увеличивалось...»
А ведь это все мы уже читали где-то — и про шнурок, и про заряженное ружье. Это все тот же Константин Левин, которому так щедро передал Толстой собственные поступки и мысли, и было это с Левиным, между прочим, тогда, когда он женился наконец на давно и мучительно любимой им Кити, когда ждал рождения первенца и жизнь, казалось бы, ему улыбалась... Но если это так, что же тогда человеческое счастье?..
И еще один вопрос, может быть, главнейший: а нам с вами какое, собственно, до всего этого дело — до Толстого раннего, до Толстого позднего, до этого вот его учения, которое он в «Исповеди», в 1880 году, только-только начал формулировать? До Толстого, каждое слово которого — словно шар-молот: один удар этого с силой пущенного чугунного шара, и сползает наземь, в пыль и прах превращается крепкая доселе стена.
Ну, во-первых, вот это: «Мне главное — чувствовать,
что я не виноват», «а между тем, чего-то еще надеялся от нее». Не очень ведь это по-русски сказано: «мне главное», «чего-то надеялся»... Как Толстой допускает это, Толстой, безукоризненно языком владеющий?
Допускает. Допускает тогда, когда ему важнее всех грамматических изысков неотступно владеющая им, тревожащая его мысль, и по-настоящему важно ему единственное: донести ее до других возможно более правдиво и точно. И не может нас, его наследников, — ведь он через голову своих современников к нам обращается, — не может нас не трогать и не заражать это стремление большого, не нам чета, человека к предельной правде. Нам самый этот человек важен, никогда и ни в чем не дававший себе поблажки, прежде всего против себя обращавший взыскательную свою совесть.
И еще одно, может быть, более важное.
Мы рано привыкаем думать с высоты своих самоуверенно невежественных позиций, что Толстой учит ерунде какой-то: раздать имущество (ни имущества, ни тем более земельной собственности у нас, кстати, нет), отказаться от привилегий (никаких привилегий мы не имеем тоже), опроститься, «сесть» на землю, кормиться трудами рук своих... Учит не платить злом за зло (юродство какое-то!). Короче: до этого всего нам, казалось бы, нет ни малейшего дела.
Но мы говорили только что о письме народовольцев Александру III, о надежде их на то, что чувство личного озлобления не заглушит в нем «сознания своих обязанностей и желания знать истину»... Иными словами: не платите злом за зло, и мы не будем платить — именно так они напишут. И развязанная тем не менее цепная реакция зла: новые расправы, новые репрессии, десятки и сотни замученных царским правительством людей — и новые мстители, поднимающиеся на место казненных. Цепная реакция зла, которой нет конца. При жизни Толстого конца ей, во всяком случае, не было.
И мы вдруг видим: так же как и в писательской своей молодости, в 50 — 60-е годы, Толстой по-прежнему глубоко современен. Он по-прежнему чувствует раскаленную почву у себя под ногами. И вместе с людьми, погруженными в глухое «безвременье», прикрывшее страну в 80-е годы, Толстой упорно ищет выход: что же все-таки делать, если что-то делать необходимо, если человек живет единственную свою
жизнь, не желая считаться с «безвременьем», а стремясь прожить на свете с наибольшим смыслом.
«Есть люди, к которым мы принадлежим, — пишет Толстой известной просветительнице А. М. Калмыковой, — которые знают, что наше правительство очень дурно, и борются с ним. Со времен Радищева и декабристов способов борьбы употреблялось два: один способ — Стеньки Разина, Пугачева, декабристов, революционеров 60-х годов, деятелей 1 марта и других; другой тот, который проповедуется и применяется вами... — состоящий в том, чтобы бороться на законной почве, без насилия, отвоевывая понемногу себе права. Оба способа, не переставая, употребляются вот уже более полустолетия на моей памяти, и положение становится все хуже и хуже...»
Мы, конечно, представляем себе, что Толстой должен обязательно выступить против «способа» революционного. Но каждый ли из нас предвидит то, что Толстой, ненавидящий насилие, с еще большей яростью обрушится на так называемых «постепеновцев» и либералов, считая, что их «средства» недействительны и неразумны? «Только участие в делах правительства просвещенных и честных людей дает правительству тот нравственный престиж, который оно имеет», — пишет Толстой. Он пишет: «Самые просвещенные, честные люди, допуская компромиссы, приучаются понемногу к мысли о том, что для доброй цели можно немножко отступать от правды в словах и делах... Делая же эти компромиссы, пределов которых никак нельзя предвидеть, просвещенные и честные люди, которые одни могли бы составить какую-нибудь преграду правительству в его посягательстве на свободу людей, незаметно отступая все дальше и дальше от требований своей совести, не успеют оглянуться, как уже попадают в положение полной зависимости от правительства... становятся покорными слугами и поддерживателями того самого строя, против которого они выступили».
Таково в общих чертах знаменитое письмо Толстого А. М. Калмыковой от 31 августа 1896 года. С ним можно соглашаться или не соглашаться, возвращаться к нему или нет, но нельзя же не видеть, что никаким непротивленчеством в нем и не пахнет. Наоборот. Есть ненависть Толстого к тому правительству, деятельность которого он с отвращением наблюдает, есть последовательное развитие того самого тезиса из парижского его письма, результат заграничных его наблюдений: «никогда никакому правительству служить не буду», но непротивленчества-то нет! И нельзя же не видеть, как упорно бьется, как ищет выхода толстовская мысль, и не только для себя ищет выхода, но и для своих измученных «безвременьем» современников.
Какова основная — и нелегкая — работа молодости? Найти единственный путь своей единственной жизни. Толстой искал его долго, дольше, чем кто-нибудь другой на свете, кажется, так. Он и в восемьдесят два года готов был все начинать сначала. И в том знаменитом письме А. М. Калмыковой он говорит и об этом: что делать человеку с бессмертной своей душой при любом постороннем на нее нажиме. Кому из нас, молодых и вовсе не молодых, кому не кажется порой, что все вокруг только тем и озабочены, чтобы поработить, подмять под себя бессмертную нашу душу! И великий старец Толстой таким вдруг оказывается молодым: он так это все понимает! Он тоже за то, чтобы человеческая душа прокладывала единственные свои пути независимо от чьих бы то ни было воздействий: «Только человек, живущий сообразно своей совести, может иметь благое влияние на людей». Может, это действительно и есть «начало всех начал»: самостоятельная и бесстрашная работа души человеческой?
При чем же здесь Тихон Щербатый, и Платой Каратаев, и мутное от порохового дыма грозное небо Бородина? Почему нам так интересна толстовская «мысль народная»? Не потому ли, что не посторонние мы люди в том мире, в котором живем, не холодные соглядатаи, а плоть от плоти, кровь от крови тех вот безвестных воинов 1812 года?.. И других воинов, другой войны, Великой Отечественной, память о которой жива в каждом доме. К той самой самостоятельной работе души человеческой все это имеет самое прямое отношение. «Все мы народ», — это сказал совсем другой писатель, А. П. Чехов, внук крепостного, интеллигент до мозга костей. «Все мы народ, и все лучшее, что мы делаем, есть дело народное».
«Я МУЖЧИНА И ВСЕ ЭТО ЗНАЮ...»
...Досада? суетность? иль вновь
Забота юности — любовь?
А. С. Пушкин
В 1856 году Лев Николаевич Толстой увлекся соседкой по имению Валерией Арсеньевой. «Влюбился в одну деревенскую барышню», — пишет он А. Г. Дружинину. «Очень влюбился», — сообщает он своему приятелю Корфу. Ему все нравилось в ней: и то, как она «держится пряменько» на балах и «пренаивно подпрыгивает», и как говорит иногда «жалобным голосом, покряхтывая и постанывая», и то, как стоит на берегу пруда в толстых вязаных башмаках и «сердито закидывает в воду удочку». Он очень пространно пишет Арсеньевой, как именно ее любит, — для нее, а не для себя. С честностью, которой никто от него не требует, сообщает ей, что именно сегодня любит ее поменьше, а иногда и вовсе не любит. Очень просит ее, чтобы она не уставала делать добро, тогда он будет любить ее больше.
Подробно и предусмотрительно расписывает он Арсеньевой, как будут жить «супруги Храповицкие» (именно так Толстой называет в переписке Валерию и себя)озимой в городе, чтоб не опровннцналнться, не отстать от культуры, летом, естественно, в Ясной Поляне. Даже расходы семейные высчитывает: не слишком маленькие, но и не безрассудно большие. Даже круг будущих знакомых очерчивает: дом супругов Храповицких должен быть открыт для истинных, проверенных временем друзей. Предостерегает Арсеньеву, поехавшую поразвлечься в Москву, против тамошних ее поклонников. «Не обольщайтесь, — примерно так пишет ей Толстой. — Почтительность их при самом мимолетном поощрении переходит в дерзость. Я мужчина и все это знаю...»
Толстой в высшей степени мужчина и в высшей степени все про мужчин знает, как, впрочем, и про женщин. С Арсеньевой, в частности, ему предстоит узнать, что такое в любви «не берет». Арсеньеву предостерегает, заклинает, воспитывает, а женится, между прочим, на дочери московского врача Софье Андреевне Берс. Не учит ее жить, не предполагает и наставляет, а вот так, волнуясь, со всем
возможным трепетом, с запомнившимся навсегда испугом, пишет мелком на карточном столе длинное, невнятное признание, пишет одними начальными буквами, то есть так, что ни один человек этого признания расшифровать заведомо не сможет, и молоденькая Софья Андреевна, такая же взволнованная, как и он, склонившись рядом с ним над карточным столом, это признание разобрать никак не может. И за полчаса до того, как надо ехать к венцу, Толстой убеждается, что у него нет накрахмаленной сорочки, и вот за сорочкой послано, а время идет, и Толстой готов пустить себе пулю в лоб, потому что нет человека его несчастнее. Все это мы поздней узнаем из романа «Анна Каренина», где Толстой все это досконально опишет. Но где толстовская предусмотрительность, где рассудительность его? Живая страсть? И не это ли все вспомнит он много поздней, когда на одно из произведений Тургенева отзовется: «Личное, субъективное хорошо только тогда, когда оно полно жизни и страсти...»
Только вот обычная для Толстого напряженная честность, не изменявшая ему в течение всей его жизни, не изменила ему даже тогда, и он зачем-то даст своей юной невесте дневник, чтобы она приняла его таким, как он есть, и Софья Андреевна дневник этот возвратит заплаканная, потрясенная грубостью и раскованностью всей его предшествующей мужской жизни, то ли с благодарностью возвратит за эту его открытость и беззащитность перед нею, беззащитной тоже, то ли — и это вероятнее — с тем невольным упреком, что навсегда застынет потом на лице маленькой княгини (помните «Войну и мир»?): «За что вы это со мной сделали?..»
И так, в предельном напряжении человеческих чувств, в потрясениях и взлетах, но без поучений, без длинных рассуждений, осуществится наконец толстовская мечта о супружеской жизни, о том, чтобы в любимой им Ясной Поляне все встало «на круги своя», так, как все это было в раннем его детстве: «...вы берете роль бабушки,... я — роль папа..., моя жена — мама, наши дети — наши роли...» Это — из давнего письма Толстого Татьяне Александровне Ергольской.
И юная жена, совсем так, как он втайне мечтал, откажется от традиционного свадебного путешествия за границу, хоть и не была там ни разу, а поторопится в Ясную Поляну и с ужасом убедится, что ее муж, граф и многообещающий литератор, спит по-крестьянски, без наволочек и простынь, и прикажет приметывать к одеялам простыни из своего приданого, и приучит обслугу подавать к столу серебро и хрусталь, и муж всему этому с умилением подчинится. «...Слышу наверху голос жены, которая говорит с братом и которую я люблю больше всего на свете. Я дожил до 34 лет и не знал, что можно так любить и быть так счастливым... — вот что пишет он в эту пору своему другу А. А. Толстой. — Вот она идет, я ее слышу, и так хорошо...» Или из письма к А. Фету: «...Все-таки, вы знаете, — жена. Ходит. Кто такой? Жена».
И как же поймет Толстой в эти предшествующие годы напряженной приглядки и неторопливого выбора, как хорошо поймет он, что такое в любви «берет» и что такое «не берет», что такое захватывает сразу или после многих сомнений навсегда отступает. Закон жизни, с которым сталкиваются без исключения все, а в юности особенно, пока там оформятся неясные предчувствия и все, что принималось за любовь, естественный интерес и минутное увлечение сменятся всегда неожиданной и тем не менее неопровержимой любовью.
Поймет и в романе «Анна Каренина» опишет историю Сергея Кознышева и милой Вареньки и их совместную прогулку в лес за грибами, прогулку, на которой все между ними должно решиться. И знает, что все должно решиться, душевно подтянувшийся Кознышев, и знает взволнованная Варенька, и знают Левин и Кити, провожающие их с крыльца ободряющими взглядами. А потом будут крики детей в лесу, и сбор грибов, и остановится над очередным боровиком Варенька, и подойдет к ней Кознышев, и словно башенные куранты пробьют в их душах: вот сейчас, сейчас... И они невольно станут уходить от увлеченных детей все дальше, и невольно остановятся наконец, и начнется разговор — не о том, к чему они так готовились, а о грибах, о том, как различаются грибы между собою. «Березовый гриб, — скажет Кознышев, — корень его напоминает двухдневную небритую бороду брюнета...» И когда он спокойно это скажет, ослабнет напряжение и ясно станет, что разговор о будущей совместной жизни так и не состоится. Не будет любви. И по одному тому, как они вернутся, по самому выражению их лиц и Левин, и Кити поймут: ничего не вышло.
«Как жаль все-таки, — скажет позднее Левин. — Такие достойные люди оба! И прямо созданы друг для друга...» «Не берет! — ответил мудрый Толстой устами вовсе не самой умной своей героини. — И Кити чуть приложится губами к крупной руке мужа. — А надо, — потянется она к нему лицом, — чтобы вот так...» — «Мужики едут». — «Нет, они не видали...»
И весь вечер потому Левину и Кити будет как-то особенно любовно и немножко совестно, что ли, перед теми, у кого так, в конце концов, ничего и не вышло.
А этот разговор помните? Это уже не Толстой, это Чехов. «Вы куда же теперь, Варвара Михайловна?» — «Я? К Рагулиным... в экономки...» — «...Верст семьдесят будет... А я в Харьков уезжаю... А тут во дворе оставлю Епихо-дова... Я его нанял». — «Что ж!» И в этот момент прозвучит голос за сценой: «Ермолай Алексеевич!» И Ермолай Алексеевич Лопахии с готовностью откликнется: «Сию минуту!» И уйдет...
Уйдет, а должен был сделать предложение, этого от него ждали. Да и сам он именно этого от себя ожидал. Но вот уйдет — с готовностью! — и девушка, ждавшая его предложения, опустится на узлы, приготовленные к отъезду, и зарыдает.
Это было одним из принципов чеховской драматургии: о главном не говорят или почти не говорят, говорят о второстепенном, как в жизни. Главное совершается в глубинах человеческих душ, не вырываясь или очень редко вырываясь наружу. «Ну, скажи же, скажи то, что я жду все эти годы! — беззвучно заклинает девушка, отделываясь ничего не значащими репликами и делая вид, что что-то ищет в вещах. — Я буду верной, преданной женой, ты никогда не пожалеешь об этом...» «Не могу! — оправдывается перед нею мужчина. — Не могу, ты же видишь. Я не виноват, ты прости меня, не получается почему-то...»
Это все не капризные страсти Печорина: «Есть необъятное наслаждение в обладании молодой, едва распустившейся душой! Она как цветок, которого лучший аромат испаряется навстречу первому лучу солнца; его надо сорвать в эту минуту и, подышав им досыта, бросить на дороге: авось кто-нибудь поднимет. Я чувствую в себе эту ненасытную жадность, поглощающую все, что встречается на пути...» Всего этого здесь нет и в помине: нет «ненасытной жадности»,
нет жажды «необъятного наслаждения»... Здесь все буднич-ней, проще. Ни Сергей Кознышев, ни Ермолай Лопахин ничем не напоминают рокового скитальца, с лицом, «которое особенно нравится женщинам». Нет у них и того любовного опыта, что стоит за плечами Онегина. «В красавиц он уж не влюблялся, а волочился как-нибудь; откажут — мигом утешался, изменят — рад был отдохнуть...» Ничего этого, повторяем, тут нет и в помине. Простое, житейское, на каждом шагу встречающееся: не получается любовь. То, что Толстой назвал «не берет».
Онегина-то как раз «взяло» сразу. Его отношения с Татьяной — это как раз обратный случай: не скажешь «житейского и простого», не скажешь «обычного» — никогда и ни для кого это «обычным и простым» не бывает — но такого единственного в жизни каждого, такого неповторимого и ликующего: вот она, любовь, — руку протянуть...
Не тогда, не на светском рауте Онегин полюбил Татьяну, как об этом принято думать. Он с первого же взгляда ее полюбил, с первой встречи, то есть именно так, как чаще всего и бывает: и отметил душевно, и выбрал, и полюбил, просто сам этого еще не понял.
Прислушайтесь к разговору приятелей, возвращающихся от Лариных по залитой лунным светом дороге. Это Пушкин нам предлагает: «Послушаем, читатель...»
Разговор, в общем-то, вялый: о брусничной воде, которой их угощали, о старушке Лариной. И вдруг — вопрос Онегина: «Скажи, которая Татьяна?..»
Вот так он себя выдал. Нечаянно. В гостиной у Лариных сидела хозяйка дома и две ее юные дочери, всем троим Онегин был, конечно, представлен. Как ни равнодушен Онегин к людям, как ни сосредоточен на себе, что он, не понял, которая из двух сестер Татьяна? И почему он спрашивает о Татьяне — ведь он же ехал познакомиться с Ольгой?..
На этот странный вопрос «Которая Татьяна?» уже обращали внимание литературоведы — мудрено не обратить! В своей книге «Прочитаем «Онегина» вместе» Н. Г. Долинина писала об этом чуть ли не теми же словами.
В самом деле, здесь, в этой сцене, все нелогично. Но предположим на миг, что Онегин вовсе не с Ольгой ехал познакомиться — зачем Онегину Ольга? — а с ее сестрой, о которой Ленский, как и обо всем, что касается Ольги, ему, конечно, рассказывал. Познакомиться от безделья, от сельской скуки. Может быть, пококетничать — ведь Онегин кокетлив, завести, чем черт не шутит, ни к чему не обязывающую интрижку, на которые он такой мастер. А встретил вместо этого человека глубокого, значительного — в людях Онегин, в отличие от своего друга, несмотря на все видимое равнодушие к ним, разбирается прекрасно. Встретил девушку, которая, как выяснится впоследствии, произвела на него впечатление огромное. Откуда этот нелепый вопрос: «Скажи, которая Татьяна?» Ниоткуда. Просто — очень захотелось о ней поговорить.
Да, он небрежен в этом разговоре, он вовсе не считается с чувствами лучшего своего друга, как не посчитается с ними и позже, в роковой Татьянин день. Онегин эгоистичен. «В чертах у Ольги жизни нет». «Кругла, красна лицом она...» Что за дело до Ленского, до его любви! Онегин разворчался не на шутку: и брусничная вода нехороша, и луна «глупая», и даже небосвод над головой — «глупый»... И только вот это одно: которая — Татьяна?..
Удивительные шутки шутит с людьми эгоизм! Ведь себя же, себя единственного любит эгоистический человек, бережет себя одного, занят только собой, а свое же счастье в силу эгоизма своего упускает!..
Именно это и произойдет с Онегиным. Занятый собой, своей обычной небрежной манерой, которой не собирается изменять, своей «постылой свободой», о которой так потом пожалеет, он будет упускать, упускать бессмысленно это великолепное, это невосстановимое в жизни человека: вот она, любовь!.. Сейчас, после первой встречи, потушит ее в брюзжании и в принужденной зевоте. Потом получит доверчивое и пылкое письмо неопытной девочки и, хоть «в сладостный, безгрешный сон» погрузится при этом его душа, превозможет эту свою «мечтам невольную преданность». Он все поймет в Татьяне, воздадим Онегину должное, в нем и тени нет самодовольной посредственности. Поймет то, что не каждый мужчина понял бы на его месте: и «чистую, пламенную душу», и то, что письмо написано «с такою простотой, с таким умом...». И все это отдаст, упустит. Потому что главное для него — «постылая свобода»: ее так легко сейчас потерять, легче, чем когда-нибудь!.. И именно потому, что потерять свободу легче, чем когда-нибудь, Онегин будет отбиваться изо всех сил, заверять Татьяну, что «не создан для блаженства», не достоин ее «совершенств», будет предостерегать: «Не всякий вас, как я, поймет...» Сама предусмотрительность, сама корректность!..
Ничего демонического, ничего рокового в поведении Онегина нет. Все из жизни, которая вокруг нас, рядом с нами. Пришла любовь — так пойми же ее, сбереги, как величайшую ценность! Не понимают. Не понимают потому, что слышат, как правило, только себя, да и себя-то кое-как, по инерции, вполуха. И драгоценнейшее в жизни «берет» — в суету, в распыл...
Вот и Андрей Болконский полюбил Наташу с первого взгляда. Бежала со смехом навстречу его экипажу тоненькая девочка в желтом ситцевом платье, на Болконского и не взглянула, умчалась прочь. А Болконскому грустно вдруг стало оттого, что девочка эта о нем не думает, его не знает. Ему-то, собственно, что до этого? Едешь — и езжай; по делам едешь. Только недавно Болконский думал, глядя на старый, узловатый дуб, никак и ничем не откликающийся на весеннее пробуждение природы, что и он, как этот дуб, «должен доживать свою жизнь, не делая зла, не тревожась и ничего не желая». Невесело думал все это. Обреченно. Устало. А тут вдруг, в Отрадном, радостно засмеялся, услышав ночью над головой взволнованный голос: «Ну, как можно спать!.. Да проснись же, Соня... Ведь эдакой прелестной ночи никогда, никогда не бывало...» Все та же девочка, что бежала со смехом, ничего о нем не зная и не желая знать, — сама жизнь!..
А потом будет встреча с этой девочкой на балу, и Андрей Болконский, «муж с честью и умом», многое переживший человек, офицер, прошедший войну и смотревший в глаза смерти, Андрей вдруг подумает, глядя на Наташу: «Ежели она подойдет прежде к своей кузине, а потом к другой даме, то она будет моей женой...» Странная мысль! Ну, а если бы Наташа не подошла прежде к своей кузине, тогда как? Нелогично. Как и у Онегина: «Скажи, которая Татьяна?» Как и все в любви.
А дальше Болконский будет ездить к молоденькой графине Ростовой каждый день, а иногда и по два раза на дню, и всем будет понятно все, и Наташа будет встречать его с недоверием к собственному счастью, потому что — кто он и кто она, простенькая девчонка, с недоверием к тому, что этот умный, удивительный человек может за что-то ее любить!..
Все читали роман, и все знают, что получилось из этой любви. Но многие ли задумывались о том, что катастрофа произошла не во время заграничной поездки Андрея Болконского, а несколько раньше, что катастрофу эту можно было предвидеть заранее, потому что причиной ее будет все то же: мужской эгоизм, делающий даже умного и, казалось бы, тонкого человека не очень тонким и не очень умным.
Что знает Болконский твердо? Он любит Наташу. Он — любит. У него, как говорили в старину, серьезные намерения: он хочет на ней жениться. Хорошо воспитанный человек, почтительный сын, он едет в Лысые Горы испросить у отца согласие на этот брак.
Дорога по тем временам порядочная: столько-то дней один конец, столько-то дней — другой. Надо, конечно, и в Лысых Горах побыть: там не только отец, там сестра, там подрастает сын Николенька. Во всех побуждениях своих и поступках князь Андрей безупречен. Он единственное не почел нужным сделать — так, пустячок — предупредить Наташу, что он уезжает.
И вот князя Андрея нет у Ростовых. Его нет сегодня, нет завтра, нет неделю, другую. Бедная Наташа ждет. Она то и дело подходит к окнам, прислушивается к шагам в вестибюле, к шуму проезжающих экипажей. Она напряженна и несчастна. Она все знала, все давно уже предчувствовала: конечно же, он спохватился, он понял наконец, что она недостойна его, и думать о ней забыл, и ей надо бы в свою очередь забыть об Андрее Болконском. Какой громадный, мучительный путь проделала ее душа за те три недели (Три недели!), что он отсутствовал! Ей почти удалось уже себя убедить, что иначе и быть не могло, она уже почти успокоилась, уже в одно прекрасное утро надела самое любимое свое, самое удобное домашнее платье (Домашнее! Никого она не ждет!), прошлась по залу, переступая с каблука на носок, подошла к зеркалу, явственно слыша голос какого-то неведомого ей, но в высшей степени достойного мужчины: «Что за прелесть эта Наташа!.. Хороша, голос, молода, и никому она не мешает, оставьте только ее в покое...»
А потом голос этот сменится другим, реальным, таким знакомым и таким любимым: «Дома ли?» — «Дома». И Наташа кинется со всех ног к матери: «Мама, да что ж это! Я не хочу. Я не могу больше мучиться!..»
Мирно старится и потихоньку сходит на нет поколение мужчин, уходивших на долгие военные годы. Старится и потихоньку сходит на нет поколение женщин, ждавших своих мужчин всю эту бесконечную войну, ждавших стоически, верно. Не одна, не две женщины — целое поколение! И так как Великая Отечественная война на памяти народа, кое-кто удивится, возможно: подождать князя Андрея один только год — экое дело!..
Все дети Толстого после смерти отца, раньше или позже, лучше или хуже, но почти все оставили о нем свои воспоминания. И все они так или иначе свидетельствуют: от него ничего нельзя было скрыть, он знал о них все. Чехов пишет в одном из своих писем: «У Толстого Анна чувствовала, как у нее в темноте блестят глаза. Я его боюсь, ей-богу!..»
Очень многое знает Толстой о жизни. Вы прислушайтесь к беспомощному лепету Наташи: она только что узнала, что князь Андрей, повинуясь условию, поставленному отцом, уезжает на год за границу. «Да отчего ж год? Отчего ж год?..» — и, уже рыдая: — «Я умру, дожидаясь года: это нельзя, это ужасно...» Она подчинится, Наташа, да, не сможет не подчиниться. Но что ей делать с этим своим недоумением: «Отчего ж год?..» С недоумением, так напоминающим обиду?..
Да, в той войне, которую старшие наши современники пережили, любящие расставались надолго, часто — навсегда. Но ведь на то и война, топтавшая живые души!..
А сейчас, здесь, между Наташей и князем Андреем — разлука на долгий год, когда сердце полно живой нежностью, живым ликованием любви, зачем отодвигать это все без надобности, зачем гасить? Ведь Андрей потому и полюбил Наташу, что помертвевшей душой своей вдруг почувствовал: где она, там жизнь. И, не замечая того, бьет по тому самому, что ему в Наташе особенно дорого и необходимо: по этому богатству душевных сил и нерастраченности их, по этой бездумной молодой радости, жадно устремленной ему навстречу.
Он опять все знает, Андрей. Знает про самого себя. Знает, что он-то эту разлуку выдержит; многое пережил — что делать? — переживет и это. Андрей все знает о себе, но он опять — в который раз — не умеет подумать за другого: то ли воображения не хватает, то ли привычки, что ли, подумать о том, что будет чувствовать близкий ему человек.
Все то же самое! Ничего из ряда вон выходящего, исключительного, только это. Такое на каждом шагу встречающееся, такое обычное!..
И Наташа будет с визгом и азартным хохотом скакать вместе с другими за волком по звенящим от первого морозца оголенным полям. И будет плясать в гостях у дядюшки, передавая в этой пляске «все то, что было и в Анисье, и в отце Анисьи, и в тетке, и в матери, и во всяком русском человеке». Она все делает хорошо, Наташа, потому что она талантлива, и главный ее талант — жадная любовь к жизни и ко всем ее проявлениям. Но — что делать! — эта же любовь к жизни заставит Наташу смотреть в склонившееся к ней красивое лицо Анатоля и с ужасом чувствовать, что между ним и ею нет преграды.
Толстой все знал, все угадывал про своих детей — хорошее, дурное, но от этого не любил их меньше. Он писал Наташу с двух очень любимых им женщин: «взял Соню, перетолок ее с Таней». Известно, что Татьяна Берс, свояченица Толстого, полюбила брата Льва Николаевича, женатого человека, связанного обязательствами. Семья Толстого с трудом оправится от всех этих потрясений. «У нас большое несчастье» — так будет писать об этом Толстой своему другу Фету. «Большое несчастье...» Но он не станет любить Татьяну Андреевну меньше, примет ее и такой — запутавшейся и смятенной. Он будет разговаривать со своим старшим сыном об отношениях того с женщинами, разговаривать через ширму, чтоб его не смущать, и сам же будет плакать за этой ширмой от волнения и любви. Ничего он не боимся, Толстой, как врач не боится и не брезгует обрабатывать рану. И недаром любимейший герой его Пьер, удивлявшийся той непростительной глупости, с которой Наташа разрушила свое и чужое счастье, при свидании с нею кончит тем, что скажет знаменитые свои слова: «Ежели бы я был не я, а красивейший, умнейший и лучший человек в мире и был бы свободен, я бы сию минуту на коленях просил руки и любви вашей». И счастлив будет тем, как все это у него сказалось, потому что нечасто доводится человеку так точно выразить владеющие им чувства.
Не знаю, что писала Арсеньева Толстому в то время, как он предусмотрительно и дотошно расписывал ей будущую жизнь супругов Храповицких. Но в письмах Толстого к ней есть такая фраза: «Не говорите, что пропадает золотое
время. Напротив, мы живем оба и живем таким хорошим чувством, каким дай бог жить когда-нибудь после». Ему надо было полюбить будущую свою жену, все силы души сосредоточить на том, чтобы на ней жениться («Как я люблю это запрокинутое лицо с выражением детским и страстным»), чтобы написать — уже не женщине написать, а в том отзыве на одно из сочинений Тургенева, который мы приводили уже: «Личное, субъективное хорошо только тогда, когда оно полно жизни и страсти». Или в одном из писем: «Для счастья и для нравственности жизни нужны плоть и кровь».
Не знаю, что писала Антону Павловичу Чехову его приятельница Лика Мизинова, любившая Чехова и, видимо, не без оснований строившая на его интересе к себе какие-то свои Надежды. Но в его письмах к ней есть сварливые слова, он явно отбивается от ее упреков: «Вы выудили из словаря иностранных слов слово «эгоизм» и угощаете им меня в каждом письме. Назовите этим словом Вашу собачку».
Вот и еще один непростой мужчина — Чехов.
«О, КАК УБИЙСТВЕННО МЫ ЛЮБИМ...»
Не самозванка — я пришла домой,
И не служанка — мне не надо хлеба.
Я — страсть твоя, воскресный отдых твой,
Твой день седьмой, твое седьмое небо...
М. Цветаева
Все мы так или иначе знаем семью Раевских: одна из лучших русских семей. Глава семьи, Николай Николаевич Раевский — генерал, герой 1812 года. Когда-то, в битве при Дашковке, он взял за руки двух своих сыновей-подростков и повел их под огонь неприятеля, чтобы воодушевить солдат. Об этом его поступке писал Жуковский: «Хвала! Перед рядами он первый грудь против мечей с отважными сынами...» Сам Раевский легенду эту опровергал, жаловался Батюшкову: «Сделали из меня какого-то римлянина...» Мальчики подросли, один стал, как и отец, генералом, другой преуспел на государственном поприще, дочь Екатерина была переводчицей. Короче говоря, культурная, интеллигентная семья. Не Скотинины, не Простаковы.
Так вот, в этой просвещенной, интеллигентной семье отец войдет однажды в комнату младшей дочери Марии и скажет: «Там, внизу, князь Волконский Сергей Григорьевич. Он просит твоей руки. Я согласился...» — «Но как же, батюшка, — попробует возразить растерявшаяся девушка. — Я почти не знаю его...» — «Ты будешь счастлива», — ответит генерал и, не вдаваясь в какие-либо дальнейшие обсуждения, выйдет из комнаты.
И Мария не возразит. Можно ли возражать отцу! И станет Марией Волконской, почти не зная мужа и еще не любя. Но мы помним, что настанет день, когда эта женщина скажет своему отцу: «Я, батюшка, не выходила из вашей воли, вы знаете. Но теперь не ваша воля надо мной, теперь я принадлежу мужу...» И, несмотря иа протесты родни, несмотря на то, что ее со всех сторон будут уговаривать и запугивать, несмотря даже на то, что в Петербурге останется ее первенец-сын, будет одною из тех, из первых, кто двинется вслед за мужем в далекую, неведомую Сибирь.
Мы видим, что у женщины этой бездна решимости, есть унаследованный у отца характер, есть воля. Но даже она,
волевая, решительная Мария Раевская, не посмеет осуществить свободный выбор в любви, ей это и в голову не придет. Ей скажут «ты будешь счастлива», и она покорится.
А вот другая девочка, возросшая в провинциальной глуши, «в тиши задумчивых селений», сверстница Марии и современница ее, она этот выбор осуществляет.
За что ж виновнее Татьяна?
За то ль, что в милой простоте Она не ведает обмана И верит избранной мечте?
За то ль, что любит без искусства,
Послушная влеченью чувства,
Что так доверчива она,
Что от небес одарена
Воображением мятежным,
Умом и волею живой,
И своенравной головой,
И сердцем пламенным и нежным?..
Почему Пушкин так упорно, так настойчиво оправдывает Татьяну? Почему готов извиняться за нее и за себя, кстати: «Простите мне, я так люблю Татьяну милую мою...»
Мы только что говорили об Онегине: как распорядился он вошедшей в его жизнь любовью. А что было с Татьяной? И она вроде бы полюбила Онегина с первой встречи, с первого взгляда.
А это не совсем так. Она, между прочим, многое знает про него раньше, чем встречает его в собственном доме. Знает от Ленского: пылкий, увлекающийся Ленский не мог не рассказывать Лариным о том, как умен, как незауряден его таинственный друг! Между Онегиным и Ленским «все рождало споры и к размышлению влекло». Не мог же Ленский не принести хоть какой-то отзвук этих размышлений и споров в дом, в котором бывал почти ежедневно! А соседи! Уж эти-то располагали информацией чрезвычайной: «Он фармазон; он пьет одно стаканом красное вино; он дамам к ручке не подходит...» Он учинил соседям «страшный вред» — не могли же они молчать об этом! — введя для крепостных какие-то послабления. «Раб судьбу благословил» — только этого в их краях не хватало!.. Он оскорбил всех соседей, помилуйте, ему жеребца подавали к заднему крыльцу, едва только они раскатывались к Онегину для неторопливого добрососедского визита. Бедная уездная барышня, она и сама, если б могла себе это позволить, за-
просила бы к заднему крыльцу какую-нибудь коляску, что ли!.. «Вообрази, я здесь одна, никто меня не понимает!..» — именно так она будет писать Онегину. Наконец-то она почувствовала родную душу! «Ты в сновиденьях мне являлся, незримый, ты мне был уж мил...» Именно так: был мил — незримый. Конечно, все решила первая встреча, она всегда и все решает, но как много этой первой встрече предшествовало!..
Вот Татьяна и сделала то, что в то время ни одна девушка не посмела бы сделать: написала письмо. А на что она еще могла надеяться, если не на полную откровенность? У нее и в мыслях не было, что Онегин может осчастливить их дом визитом еще раз: «Но, говорят, вы нелюдим; в глуши, в деревне все вам скучно...» Письмо это для Татьяны не дело нечаянной приятности или преходящей неприятности, для нее это дело всей ее жизни. U той минуты, как няня пошлет своего внука с письмом в усадьбу Онегина, похолодевшая от ужаса Татьяна ждет нешуточного: или она будет счастлива так, как никто никогда не был и не мог быть счастлив, или вся ее дальнейшая жизнь превратится в медленное умирание. Ей с этим письмом — жить. Вот что она наделала, что навлекла на себя — собственною рукою! Жизнь или смерть — только так. Не досужее кокетство, не любовная игра — счастье или несчастье всей ее последующей жизни.
И как бы бережно Онегин после этого ни говорил с Татьяной, как бы ни воздавал ее «совершенствам», ей все эти слова не важны, она их словно вовсе не слышит. Она единственное слышит: гул погребального колокола в своих ушах. Жизнь кончилась, всё. С этого дня, с этого часа. Через несколько лет она прервет спокойнуюГсдержанную речь невольным возгласом страданья: «Боже, стынет кровь, как только вспомню взгляд холодный и эту проповедь...» Это — «законодательница зал» вспоминает, такая царственная, такая невозмутимая. На самом дне души схоронит Татьяна от постороннего взгляда пожизненную свою беду.
Но почему же тогда, если все так глубоко, так серьезно, почему Пушкин долгом своим считает оправдывать Татьяну, обращать внимание читателей на ее неопытность, доверчивость, на то, что она «от небес одарена воображением мятежным, умом и волею живой»? Почему считает необходимым вывести Татьяну из-под людского суда...
А вот Толстой не считает нужным защищать и оправдывать свою героиню, мы только что говорили об этом. Пишет о том же времени, даже о чуть более раннем, и беспощадно, просто рассказывает о том, как заболевает милая и чуткая его Наташа, буквально заболевает безответственным светским хлыщом, которого даже его отец называет «дураком беспокойным». Пишет, как бессильна она перед его напором. Как собирается с ним бежать. Каким злым, а потому особенно неприятным становится ее лицо, некрасивым, распухшим от слез, когда ей воспрепятствуют в этом. Толстой и сейчас не отведет от нее взгляда и нам не даст отвести.
Он даст и нам послушать этот отвратительный, ненавидящий крик... Как он жалеет людей, изнемогающих под бременем страстей, как он их жалеет!..
Те, кого он ненавидит, а это с ним, мы знаем, бывает, так и понесут на своем челе печать толстовского презрения и ненависти: все эти Курагины, Друбецкие, Берг... Но те, кого он любит, будут и сильны, и слабы, и очень привлекательны, и непривлекательны вовсе, и Толстому даже в голову не придет оправдывать их в том, что они — люди.
Так в чем же дело? Может быть, в том, что Толстой — это истовый или, точнее, неистовый Толстой, а Пушкин — это гармонический, взвешенный Пушкин? Почему один стремится защитить свою героиню от людского суда, а другой безжалостно ее на этот суд выставляет? В чем дело? Не в том ли, что, повествуя об одном и том же приблизительно времени, к читателям они обращаются разным!.. Пушкин пишет письмо Татьяны в середине 20-х годов, а Толстой свою Наташу — в середине 60-х. За это время — около сорока лет! — русская литература на пути к человеческой душе многому уже научила своих читателей.
И все-таки — все-таки! — есть и у Толстого одна героиня, которую он тоже пожелает во что бы то ни стало вывести из-под людского суда. «Не судите ее, — скажет он. — Вы слабы и грешны, вы хуже ее...». «Мне отмщенье, и аз воздам» — такой эпиграф предпошлет он роману «Анна Каренина».
Но, выводя свою героиню из-под суда людского, Толстой казнит ее так жестоко, как ни один людской суд не был бы властен.
За что же наказана его героиня и как?
Жена крупного чиновника Каренина, Анна, казалось бы, совершенно удовлетворена своей жизнью. Но за естественностью и оживленностью ее, за ее изяществом и обаянием внимательный взгляд не может не видеть, какой громадный душевный потенциал Анны не поглощен ни навязанным ей когда-то замужеством, ни безукоризненным материнством. Она, как и большинство женщин, создана для любви и жаждет любви, она просто не задумывается над этим. «Все в ней гармония, все диво, все выше мира и страстей...» До поры до времени.
А потом в жизнь Анны впервые войдет любовь. Все это на наших глазах совершится. И вот победная сила взгляда иной, обновленной Анны. И та особая, летящая легкость движений и в то же время точность их, грация, дающаяся только счастьем, и щедрая сердечность по отношению к миру. Очевидный каждому расцвет женщины, полнота ее бытия. «Я, как голодный, которому дали есть», — скажет про себя Анна.
И она же, Анна, вялая, принужденная, безразлично и рассеянно лгущая: «Не понимаю, что тебе от меня надо?.. Ничего не понимаю. Ах, боже мой, и как мне на беду спать хочется!..» Как ничтожен сейчас в ее глазах человек, через которого так вот просто не переступить, человек, камнем лежащий на ее победном пути, — муж! Как ненавидит Анна это бесстрастие его, эту эмоциональную глухоту — все, что она безмятежно терпела, пока не знала иного, пока свет истинной любви не ударил в ее лицо! Как раздражает Анну внешняя, формальная, никому не нужная его правота, правота прекрасно отлаженной счетной машины. Что все усилия этой машины перед человеческой страстью, что машина может в этом понять?..
А потом Каренин что-то ненадолго поймет — какой ценой, в какую минуту! — и будет, тоже ненадолго, раскаянье Анны, жалость, уважение к мужу, благодарность к нему и — нет, невозможно! — новый взрыв отвращения, потому что не благодарностью, не жалостью и не уважением руководствуются оставшиеся наедине супруги. Но неужели в этом и состоит требование грядущего суда — «мне отмщенье!» — чтобы формально и лживо поддерживать скрепленный в церкви союз?.. Не маловато ли, прежде всего для Толстого, судить человека за нарушение супружеской верности, человека, не знавшего любви и наконец-то ее узнавшего?..
Нет, конечно, не за разрушение супружеского союза наказана Анна, но, между прочим, и за это тоже. Не суд окружающих станет причиной ее гибели, не безоговорочное их осуждение. Но и суд окружающих, и безоговорочное их осуждение, и Бетси Тверская, отказавшая ей от дома, и злющая Картасова, что устроила скандал, едва Анна появилась в соседней с ней театральной ложе. Не те жертвы, которые Анна принесла ради любви, но и эти жертвы. Не Вронский виновник ее гибели. Но и Вронский тоже. Причиной гибели Анны явилось прежде всего то, что было источником ее счастья, — ее любовь. Причиной явилось то, что стечением всех этих обстоятельств Анна оказалась загнанной в свою любовь, подчеркиваем, загнанной в любовь, замурованной в ней.
О, как убийственно мы любим,
Как в буйной слепоте страстей
Мы то всего вернее губим,
Что сердцу нашему милей!..
Эти стихи Ф. И. Тютчева вспоминаются невольно. И в первую минуту кажется, что в стихах этих, если уж прилагать их к роману Толстого, в стихах этих упрек Вронскому. «Судьбы ужасным приговором твоя любовь для ней была, и незаслуженным позором на жизнь ее она легла!..» Еще бы не Вронскому упрек!.. «Куда ланит девались розы, улыбка уст и блеск очей? Все опалили, выжгли слезы горючей влагою своей...» Еще бы не Вронскому!.. И вновь повторит Тютчев: любим — убийственно, губим верней всего то, что дороже нашему сердцу...
Но ведь это не Вронский губит любовь! Как ни чудовищно на первый взгляд, как ни невероятно, но губит любовь Анна.
Благополучная Анна, а именно такова она к концу романа, Анна, окруженная всем возможным комфортом, любящая и любимая, она, повторяем, загнана в свою любовь, замурована в ней. Именно так. Ее любви нечем дышать. Анна не виновата в этом, но у ее любви, если можно так выразиться, нет выходных. Нет ни дел, ни отвлечений, ни других привязанностей, ни свободного человеческого общения, есть только любовь, ее приливы и отливы, мелочи и нюансы, которые решительно ничего не значат в обычной жизни, но значат так много, если думать о них непрерывно. А о чем же думать, если ничего больше нет? Есть только любовь, и это — противоестественно, невозможно.
У любви свои законы. Отливы ее обязательны, любовь не живет в постоянном перенапряжении чувства. В нормальной жизни их и не заметишь, эти отливы, а заметив, легко перетерпишь. Здесь, в этом случае, не переждешь и не перетерпишь, потому что страшно! Потому что нет ничего, кроме этой любви. Потому что столько жертв ей уже принесено! Потому что страшно, страшно: вдруг это не временное, то, что сейчас, не преходящее, вдруг это уже конец, катастрофа? Ничего не значащие мелочи? Какие могут быть мелочи, если все поставлено на карту любви! Не пришел тогда, когда собирался прийти, где-то задержался? Ну, конечно же, он больше не любит. Приедет от матери по первой же посланной вслед записке — все в порядке, любит по-прежнему. Не приедет, попросит, чтобы до вечера не ждала, — все ясно, не любит вовсе, давно уже не любит, не знает, как отделаться, развязаться. Жизнь — смерть, любит — не любит, только так. Только этим живет загнанное в любовь сердце. Сердце совершает стремительные взлеты и смертельные падения на невидимых качелях, и все круче, круче. Анна хочет удержать упреки, а они против воли рвутся наружу. Хочет скрыть ревность, а ревность все равно прорывается недостойными сценами. Малейшая оплошность Вронского тут же оборачивается трагедией, взвинчивающейся необратимо. «...Как в буйной слепоте страстей мы то всего вернее губим, что сердцу нашему милей...» С какой точностью прослеживает Толстой этот непредсказуемый и неостановимый, не от любящих людей зависящий разлад!
Вот это-то и страшно: речь идет о любящих друг друга людях! Потому что не только Анна любит Вронского, но и Вронский любит Анну, и любит ничуть не меньше, чем раньше. Но живет он при этом нормальной человеческой жизнью, как и полагается жить. Никто не препятствует ему появляться в свете (ему вовсе не нужен свет, но никто не препятствует ему там появляться), он может разыгрывать из себя культурного землевладельца или озабоченного земского деятеля (ни то, ни другое не важнее для него, нежели любовь Анны, но ничто не препятствует ему, и он, кроме любви Анны, занят еще и этим). Любовь Анны душная, от любви этой дыхание перевести невозможно. Вронский живет в миру, всей полнотой человеческой жизни и инстинктивно сопротивляется тому, чтобы и его загоняли в духоту и мрак. Сознает он это или не сознает, но сопротивляется он, в конечном счете, во имя все той же любви, потому что ни огонь не горит, ни любовь не живет в замкнутом, безвоздушном пространстве. И взаимное раздражение двух любящих людей, из которых один чувствует себя ни в чем не повинной жертвой, а другой — ни в чем не виновным палачом, взаимное раздражение их все чаще напоминает ненависть, то есть превращается в чувство, исключающее юбовь, составляющее ее противоположность. Что бросит Анну на рельсы? Прежде всего ненавистническое желание отомстить. Желание наказать измучившего ее человека.
Вот какой закон оказался нарушенным. Человек любовью цветет, любовью счастлив. Но нельзя человека загонять в любовь, ограничивать любовью, травить его, как офлаженного волка: любовь воспротивится. Человеческая личность разрушается, гибнет: нельзя — во имя любви! — жить только любовью.
Не внешние обстоятельства погубили Анну, — повторим это. Но и внешние обстоятельства тоже. Не Каренин ее погубил, но и он приложил руку. Не Вронский, но и Вронский тоже — при несомненной его любви. Не Анна по доброй воле выбрала эту мрачную свою судьбу — всё вокруг словно сговорилось, чтобы ее в этот мрак загнать. И жизнерадостный, сердечный человек, живший с такой редкостной полнотой, с такой увлеченностью, так щедро отдававшийся чувству, превратился в вечно раздраженное, вечно несчастное существо, рядом с которым ни жить, ни дышать невозможно. Воистину: «Мне отмщенье, и аз воздам...» Нельзя так с любовью. Это главный закон любви нарушен, это она, любовь, мстит за себя. Ей воздух нужен, иначе она не существует. Свобода нужна от себя же, иначе ей нечем жить!..
Что помогло той девочке в Филях, о которой я рискнула рассказать в первой главке? Что помогло изжить невзгоду, нарастить бесстрашие, а значит, и снова любить, что помогло? Соприкосновение с бессмертной пушкинской душой. Считайте — с миром!..
Как просто, даже заурядно началась любовь Анны и Вронского: офицер, танцующий с незнакомой ему ранее замужней дамой. «Анна улыбалась, и улыбка эта передавалась ему. Она задумывалась, и он становился серьезен...» «Они чувствовали себя наедине в этой полной зале...» Как страшно все это кончилось! В станционном помещении, на столе, искромсанное колесами, то, что было сияющей, победительной Анной. Бледный, безразличный ко всему человек, опустошенный, изживший все то, что было сияющим, победительным Вронским. «И что ж теперь? И где все это? И долговечен ли был сон?..»
Почему все время вспоминаются стихи Ф. И. Тютчева? Ведь не об Анне Карениной он писал, не по поводу романа, который и вышел-то гораздо позже, уже после его смерти!..
Тютчеву хватило на его стихи собственной его жизни.
Он был уже очень немолод, когда на балу в Смольном институте, где учились его дочери, встретил племянницу инспектрисы этого института Елену Александровну Денисьеву.
Ты помнишь ли, при вашей встрече,
При первой встрече роковой,
Ее волшебный взор, и речи,
И смех младенчески живой?..
Всю жизнь будет Тютчев вспоминать день и час этой встречи. Вот и Вронский точно мог бы означить день и час явления Анны! И будет любовь. Любви этой не будет мешать громадная разница в возрасте, молоденькая Де-нисьева, во всяком случае, этой разницы ощущать не будет. Помешает другое: привязанность Тютчева к своей семье, нежелание его нанести незаслуженный удар ни в чем не повинному и очень достойному, очень благородному, как выяснится поздней, человеку, своей жене; невозможность, таким образом, официального брака с Денисьевой. А уж отсюда все то, что описано и в романе Толстого, — людской суд и безоговорочное осуждение, и «незаконнорожденные» дети, и жутчайшая пошлость, стеной окружившая свою жертву... «Ах, если бы живые крылья души, парящей над толпой, ее спасали от насилья бессмертной пошлости людской!..»
Неизвестно, терзал ли Тютчев свою избранницу тем холодным и отчужденным взглядом, от которого испуганно сжималась Анна («Все это нравилось ему, но уже столько раз нравилось...»), но ощущает же себя Тютчев порою «безжизненным кумиром» перед лицом молодой и искренней любви Денисьевой1 Мучила ли Денисьева его, в свою очередь, сценами и попреками, как это делала по отношению к
Вронскому теряющая самообладание Анна? Сходно главное: та загнанность в свое чувство, от которого изнемогает человек, приговоренный к пожизненному заключению в нем.
И Тютчев будет писать вот это свое знаменитое: «О, как убийственно мы любим...» Будет писать о своей «ревнивой досаде». Будет признаваться: «Стою, молчу, благоговею и поклоняюся тебе...» Заклинать будет: «Продлись, очарованье!..» Будет благодарно вспоминать, «как душу всю свою она вдохнула, как всю себя перелила в меня». И как умудрен-но, как грустно зазвучит на всю Россию его поэзия:
О, как на склоне наших лет
Нежней мы любим и суеверней...
Сияй, сияй, прощальный свет
Любви последней,
зари вечерней!..
Он поэт, Тютчев, он не офицер, как Вронский, ему дано выразить в слове то, что Вронский только ощущает: «союз души с душой родной», передать то, что Вронский только бессильно предчувствует:
...И чем одно из них нежнее В борьбе неравной двух сердец,
Тем неизбежней и вернее,
Любя, страдая, грустно млея,
Оно изноет, наконец.
Все, как в той любви, о которой мы только что говорили: страдания женщины, безвременная ее гибель. И не Вронский ли это думает, глядя на то, что было когда=-т.о Анной:
...Любила ты, и так, как ты, любить, —
Нет, никому еще не удавалось.
О господи!.. И это пережить...
И сердце на клочки не разорвалось...
И разве то, о чем думает Тютчев в годовщину «рокового дня», когда идет одинокий «вдоль большой дороги», не передает предельную душевную опустошенность и другого, зачем-то оставшегося жить человека: «Ангел мой, где б души ни витали, ангел мой, ты видишь ли меня?..»
И такая жалоба вдруг, она прорвется, как в «Реквиеме», протестом, стоном исстрадавшейся души, потрясшим все тело рыданием:
О господи, дай жгучего страданья И мертвенность души моей рассей:
Ты взял ее, ио муку вспоминанья,
Живую муку мие оставь по ней, —
По ией, по ней, свой подвиг совершившей,
Весь до конца в отчаянной борьбе,
Так пламенно, так горячо любившей Наперекор и людям, и судьбе.
По ней, по ней, судьбы не одолевшей...
«Во мне все убито: пустота, страшная пустота, — будет писать Тютчев брату Денисьевой после похорон Елены Александровны. — И даже в смерти не предвижу облегчения. Ах, она мне на земле нужна, а не там где-то...»
Какая перекличка человеческих судеб! Как многое становится понятно, когда «в борьбе неравной двух сердец» одно, более нежное, более чувствительное, изнемогает, наконец, и гибнет! Как многое понимаем мы запоздало! Когда ничего уже ни вернуть, ни исправить нельзя, как горит в нас каждое слово нашей недоброты или несправедливого раздражения, как на смену непониманию приходит позднее и бесплодное понимание! «Она требовала одного, — это тоже из писем Тютчева, — чтоб известны были стихи, посвященные ей. Она была равнодушна к моим стихам, но те, что посвящены ей, защищала ревностно. Она утверждала нашу любовь, и как ясна мне теперь горькая ее правота...» В самом деле, а что ей еще оставалось, бедняге? Дорожить посвященными ей стихами.
«Горькая ее правота...» Тютчев тонкий человек, поэт, он, быть может, главное понял: в отношениях любящих людей нет правых, нет виноватых. Прав — всегда! — тот, кто страдает больше.
МАЛЕНЬКИЙ ЭРКЕЛЬ
...Иные, лучшие мне дороги права;
Иная, лучшая потребна мне свобода.
А. С. Пушкин
Высокая ночь стояла над Калужской дорогой, когда пленный Пьер Безухов, сидевший, прислонившись к колесу повозки, «вдруг захохотал своим толстым, добродушным смехом так громко, что с разных сторон с удивлением оглянулись люди на этот странный, очевидно одинокий смех.
— ...Поймали меня, заперли меня. В плену держат меня... Меня?.. Меня — мою бессмертную душу!..
...В светлом небе стоял полный месяц. Леса и поля, невидные прежде вне расположения лагеря, открывались теперь вдали. И еще дальше этих лесов и полей виднелась светлая, колеблющаяся, зовущая в себя бесконечная даль. Пьер взглянул в небо, в глубь уходящих, играющих звезд. «И все это мое, и все это во мне, и все это я! — думал Пьер. — И все это они поймали и посадили в балаган, загороженный досками!..»
Что такое пленник? Человек, двигающийся не по своей воле в том направлении, которое угодно неприятелю, человек, которого морят голодом и заставляют, ни на шаг не отклоняясь от общего движения, чудом изыскивать себе пропитание, человек поэтому вдвойне униженный. И убить его могут каждую секунду — за то, что заболел, приотстал. За то, что часовому не понравился взгляд, который он невзначай кинул в сторону. Такой военнопленный и расхохотался вдруг в ту ночь на Калужской дороге: «В плену держат меня... Меня?.. Меня — мою бессмертную душу?..»
У поэта Давида Самойлова есть стихи «Болдинская осень» — о том времени в жизни Пушкина, когда тот был застигнут в наследственном своем имении холерным карантином, обложен дождями, разлучен с невестой; о времени, когда Пушкин явил свой гений с колоссальной, неправдоподобной силой:
...И за полночь пиши, и спи за полдень,
И будь счастлив, и бормочи во сне.
Благодаренье богу, ты свободен В России, в Болдине, в карантине...
Это все — о той же свободе, не зависящей от обстоятельств, — о свободе человеческого духа, об умении остаться собой в любых условиях. И чем меньше обстоятельства благоприятствуют выявлению этой свободы, чем более препятствий внешних, тем острее и неопровержимее чувствует человек свою душевную независимость. Если она, конечно, есть у него. Если он до нее дорос.
«Кого бояться человеку?», «Человек за все платит сам, и потому он свободен»... — вспомним эти реплики. Их произносит в знакомой всем нам пьесе «На дне» бывший телеграфист, а ныне незадачливый шулер Сатин, возбужденный вином, вниманием товарищей, напором собственных мыслей, Сатин, который, пользуясь известными словами Чехова, «проснувшись в одно прекрасное утро, почувствует, что в его жилах течет уже не рабья кровь, а настоящая, человеческая...».
Сколько раз цитировалось это по любому поводу: «Ложь — религия рабов и хозяев, правда — бог свободного человека...» А часто ли думалось: к чему это здесь, в костылевской ночлежке, о какой, собственно, свободе идет речь? Кто здесь свободен? Все нищи и несчастны, все голодны, все зависят от окрика городового, от чудом доставшегося пятака. О какой свободе говорят обездоленные люди, сброшенные на самое «дно» жизни? О свободе внешней? Вовсе нет. О том, что неизбежно предшествует ей, о свободе внутренней. «Человек за все платит сам, и потому он свободен». Без осознания этой внутренней свободы нет и не может быть ни социальной борьбы, ни социального освобождения.
В чем конечный смысл пьесы, которую, в преддверии первой русской революции называли пьесой-«буревестни-ком»? В том, что человек должен раз и навсегда освободиться от каких бы то ни было упований на помощь извне. Никто не даст ему освобождения, так говорилось в песне, которую пели в те годы особенно тихо и особенно гордо, «ни бог, ни царь и ни герой»; человек должен освободиться от этого ожидания помощи извне, от сковывающих его предрассудков, осознать свое человеческое достоинство, понять, что в нем, в самом человеке, «все начала и концы».
Но вернемся к роману «Война и мир», к этому, казалось бы, беспричинному смеху пленного русского графа у ночного костра.
Мы говорили о том, как менялся замысел романа «Война
и мир», как от эпохи общественного оживления 1856 года, увиденной глазами вернувшегося из ссылки декабриста, Толстой пошел вспять, «к эпохе заблуждений и несчастий своего героя», потом — опять вспять, к 1805 году, и вот двинулся от главы к главе огромный роман, обозначились и развернулись многие и многие судьбы, судьбы эти сплелись в Отечественной войне, и грандиозной картиной войны 1812 года роман этот вроде бы завершился. Где-то в эпилоге намечено вскользь участие одного из героев, все того же Пьера Безухова, в заговоре и возможное участие в нем другого героя, совсем еще мальчика, влюбленного в Пьера Николеньки Болконского; и странный, пророческий сон Николеньки, в котором друзья и родственники, Пьер Безухое и Николай Ростов, от отвлеченных рассуждений за чайным столом переходят к великому противостоянию 14 декабря.
Ну, а что потом? Ведь интересовало Толстого когда-то только то, что было потом: нравственный подвиг декабристов. Не время становления характера героя и не время его «заблуждений», а то, как сумели они, герой и его товарищи, пронести живую душу через пытку одиночным заключением в крепости и иезуитским следствием, сбивающим с толку, через «каторжные норы» Читы, Зерентуя, Акатуя, Петров-ска-Забайкальского, через испытание безнадежцой, пожизненной ссылкой. Толстой все больше увлекался «мыслью народной», да, все больше любил ее, но неужели он так и отрекся от своего первоначального замысла, так его и не осуществил?
Так вот — и не отрекся, и осуществил. Именно это и показал: как в предельных испытаниях наращивается та сила духа, которая так изумит позднее самого Толстого и его современников, людей 50 — 60-х годов, «склонивших головы перед прекрасными старцами», возвращающимися после изгнания. Этот свой замысел Толстой осуществил, но сделал это в тех хронологических рамках, в которые заключен роман: он показал нам судьбу Пьера Безухова.
Самоубийственна и благородна та задача, которую Пьер поставил перед собой: убить «зверя», то есть Наполеона, сделать это единолично, всю ответственность взяв на себя, может быть, погибнуть даже, и именно так — погибнуть! — но спасти Россию. Он беспомощен и наивен, Пьер, но не колеблется ни минуты. Чем не «высокое стремленье» декабристских дум, чем не их бескорыстный, самоотверженный заговор? И кончится замысел Пьера тем же, чем кончится и восстание декабоистов: Пьер окажется в руках врагов.
Вот он присутствует при расстреле, Пьер. На его глазах беззащитные люди по двое становятся у роковых столбов, видимо не понимая и не веря тому, что будет... «Они одни знали, что такое была для них жизнь, и потому не понимали и не верили, чтобы можно было отнять ее». Как это все, забывая о собственной участи и о собственной почти неизбежной гибели, вбирает в себя потрясенный Пьер! И восемнадцатилетний фабричный, когда его ведут к столбу, цепляется за Пьера дрожащими руками, а через две минуты уже скинут в яму с другими, и хоть плечо его судорожно поднимается и опускается, над ним, еще живым, так же безучастно и споро работают лопаты. Пьер подавлен, разбит, он сам погибал вместе с теми, кто погиб, и только добрый голос Платона Каратаева вновь вернет его к жизни.
А дальше будут все тяготы плена: и голод, и каждодневное грубое насилие над чувствами пленного и над его волей, и вечно распухшие, кровоточащие ноги, на которые, как кажется с вечера, уже невозможно ступить, а утром тем не менее и ступаешь на них, и под злобным окриком идешь снова. И будет этот хохот на привале: «Пленили — меня? Мою бессмертную душу?..» — радостное чувство впервые осознанной, «полной, неотъемлемой, присущей человеку свободы».
Как он закалится в плену! Граф, владелец одного из самых крупных в России состояний, он узнает великую ценность хлеба — еще недавно Пьер добывал его с опасностью для жизни. Оценит свежую, отглаженную сорочку — еще недавно единственную, завшивленную и пропотевшую, сносил до дыр. И какая это радость, оказывается, твоя собственная, ожидающая тебя к вечеру чистая и мягкая постель, и какое это наслаждение — укладываясь в нее, знать, «что никто никуда не погонит завтра». Близость к народу для Пьера, еще недавно и не помышлявшего об этом, стала самой сутью его, не чем-то привнесенным извне и сознательно в себе воспитанным, а единственной, естественной формой, единственным смыслом его существования. Он всех их навсегда заключил в себе — и молодого парня под Бородином, весело удивлявшегося тому, что барин ничего не боится, и фабричного малого, что в ужасе цеплялся за
Пьера, а потом, сразу и странно успокоившись, сам, когда ему завязывали глаза, поправлял на затылке узел, и особенно Платона Каратаева, в последний раз глядевшего вслед Пьеру торжественно и моляще. Все они стали частью его, и он стал их частью. Все то же самое, что стало и с Петром Лабазовым в результате перенесенных испытаний — после крепости, каторги, ссылки. Вот он, Петр Лабазов из первых глав романа «Декабристы», Лабазов, в 1856 году возвращающийся из Сибири, открытый и доброжелательный со всеми, без различия сословий и рангов, испытанный трудом и нуждой, навсегда освободившийся от предрассудков своей среды. Именно таким стал в конце концов и Пьер Безухов задолго до крепости и ссылки, задолго до заговора. Все еще впереди, все только-только начинается, а он уже таков, какими все они рано или поздно станут.
Все только еще начинается! «Я им говорю: теперь нужно другое... когда все ждут неминуемого переворота, — рассказывает Пьер родным после поездки своей в Петербург по делам Общества, «которого Пьер был одним из главных основателей», — * надо как можно теснее и больше народа взяться рука с рукой, чтобы противостоять общей катастрофе... Я говорю: расширьте круг общества; знаменем пусть будет не одна добродетель, но независимость и деятельность». Такова позиция Пьера, участвующего в заговоре. Не из отвлеченных умствований исходит он, не книжными и отвлеченными принципами руководствуется — в нем, как в немногих из декабристов (подчеркиваем: пока немногих!), говорит прежде всего нелегкий жизненный опыт и привычка к свободному общению с очень разными, в том числе и с совсем простыми людьми.
Что делает Толстой? Он вмещает в пределах нескольких месяцев то, что должно происходить с декабристами гораздо позднее и в течение десятков лет: процесс их нравственного созревания. Он показывает и канун 14 декабря, и само восстание в пророческом сне Николеньки, и все, что за этим последует: это вот нравственное созревание декабристов, силу духа, проявленную в испытаниях. Все это произойдет с ними позднее, в Сибири, но совсем так, как произошло с Пьером Безуховым во французском плену. Совсем так же — вот в чем дело! — так стоит ли продолжать роман? Маленький хронологический сдвиг, и замысел Толстого уже осуществлен, нет необходимости продолжать роман дальше.
Любимейшие герои Толстого — в каких противоречиях, в каких непрерывных душевных усилиях находят они то, что выражает их конечное отношение к миру. «Думай сам, — так говорит читателю и более ранний, и более поздний Толстой. — Как важнейшую работу делай — решай свои конечные отношения с миром. Он огромен, этот мир, да, но ведь и ты единственен; как же все это сложится между вами? Как проживешь ты единственную эту жизнь, к чему приведут тебя собственные твои убеждения, что подскажет собственная твоя, собственной душой твоей вскормленная совесть?..» «Мне смешно вспомнить, как я думывал и как вы, кажется, думаете, — писал Толстой другу своему А. А. Толстой, — что можно себе устроить счастливый и честный мирок, в котором спокойно, без ошибок, без раскаяния, без путаницы жить себе потихоньку и делать не торопясь, аккуратно все только хорошее. Смешно!.. Чтоб жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и опять начинать, и опять бросать, и вечно бороться и лишаться. А спокойствие — душевная подлость».
И еще об этом — о внутренней свободе и о совести, которая идет бок о бок со свободой и без которой свобода эта решительно ничего не значит.
Комедия «Горе от ума» вызвала в свое время множество споров. Спорили, в частности, о том, действительно ли умен Чацкий. Пушкин, например, Чацкому в уме решительно отказывал. «Все, что говорит он, очень умно, — писал Пушкин Бестужеву в январе 1825 года, — но кому говорит он все это? Фамусову, Скалозубу? Молчалину? Первый признак умного человека — с первого взгляда знать, с кем имеешь дело, и не метать бисера перед Репети-ловыми и тому подобными...»
Убедительно? Очень. Но вот что говорилось в Уставе «Союза благоденствия», созданном в те годы, когда писалась комедия: «Член Союза должен... во всяком месте по силе своей унижать порочных, презирать ничтожных и возводить добродетельных людей».
Во всяком месте!
Вот и Пьер Безухов свидетельствует: в Петербурге каждый тянул в свою сторону, все разваливалось. И единение различных политических программ было достигнуто только этим: идеей деятельного добра, программой нравственного переустройства общества. Вот она, эта нравственна я программа, действительна объединяла всех. И начиналась она с личного поведения, с собственного примера, с неустанной проповеди.
Все это, что называется, в воздухе висело. Еще на памяти были прогремевшие над миром лозунги Великой французской революции: свобода, равенство, братство! Что может быть прекраснее: свобода, равенство, братство! Еще звучала в сердцах изящная, легкая, зовущая за собой «Карманьола»: «Ах, все вперед, все вперед, все вперед...» Чем все это кончилось, к чему привело? К взаимному истреблению работников революции и ее энтузиастов, к этой гильотине на Гревской площади, работающей как мясорубка. К засилию духа буржуазной наживы, к завоевательным войнам оседлавшего революцию императора. Самые святые лозунги бессильны, если человеческая природа несовершенна, так полагали русские заговорщики. Если человек не свободен от стремления к власти над другими людьми, от зависти и подлости, от элементарного стяжательства. «Член «Союза благоденствия» должен во всех речах своих превозносить добродетель, унижать порок и показывать презрение к слабости...»
Вот на каком фоне выступает Чацкий. Он пылок, а следовательно, и неразумен во всем, что касается его отношений с Софьей: глух к ее намекам и колкостям,доверчив в признаниях, аффектирован до наивности, до смешного. «Он здесь, изменница!..» Вот и перед театральным эффектом не устоял, явившись из-за колонны, за которую ему и становиться-то не следовало! Чацкий беззащитен перед наглостью Молчалина, дающего ему советы, как жить, перед клеветой и злословием, перед глупостью, надвигающейся на него стеною. Он знает о подлости той среды, в которую попал, но, как человек благородный, все-таки не может поверить ей до конца. Он глубины ее не в силах измерить. Он просто очень молод, Чацкий. Но все, что он говорит, по свидетельству того же Пушкина, умно, и очень!
КОМУ Чацкий говорит все это? А что ему еще делать? Член он «Союза благоденствия» или нет, подписан им тот Устав, что мы цитировали, или он понятия о нем не имеет, это не важно. Все равно он ведет себя так, как этот Устав предписывает. Потому что это, как мы уже сказали, в воздухе висит. Поступает так, как подсказывает ему его совесть. А дойдет ли то, о чем он говорит, до Скалозуба или Молчалина, — это дело Скалозуба и Молчалина, так он, видимо, полагает. Каждый раз выверять и продумывать, на кого стоит тратить красноречие, а на кого не стоит, эдак ничего не сделаешь, ничего не скажешь. К тому же это действительно не в характере Чацкого — помалкивать; в этом он тоже дитя своей беззащитно-красноречивой эпохи. Ни одна мысль у Чацкого в долгих сундуках не залеживается и не плесневеет.
«Первое свойство умного человека — знать, с кем имеешь дело...» А какие, кстати, свидетели были у пушкинского Гринева, когда он вел беседы с Пугачевым наедине? «Я природный дворянин; я присягал государыне императрице: тебе служить не могу...» — «А коли отпущу... так обещаешься ли по крайней мере против меня не служить?» — «Как могу тебе в этом обещаться?.. На что это будет похоже, если я от службы откажусь, когда служба моя понадобится? Голова моя в твоей власти: отпустишь меня — спасибо; казнишь — бог тебе судья; а я сказал тебе правду». Кто перед Гриневым? Мужик. Что он понимает, этот мужик, в дворянском благородстве! Он привык дворян на воротах вешать, вот и сейчас задумался: захочет — помилует, захочет — казнит... Но Гринев все же отвечает так, как подсказывает ему его совесть: «Я присягу давал...» «Что бы ты делал, Пушкин, если бы 14 декабря был в Петербурге?» — «Я был бы со своими друзьями, ваше величество...» Кто не знает этого разговора Пушкина с царем? А что он, Николай I, только что подписавший смертные приговоры, что понимает он в человеческом благородстве!.. Радищева вспомним: не только свидетелей, но и сочувственников-то нет — одиночество!.. Но иначе поступить, чем он поступил, ои не может.
Вот что такое человек перед свободным выбором, когда единственный свидетель и единственный судья над ним — единственный! — собственная его совесть.
Но вот он лежит, совсем другой человек, в комнатенке, похожей на гроб, под самой крышей, на продавленной кушетке, которая почти одна только и помещается тут. Человек этот лежит и думает. Он тоже сейчас наедине со своей совестью. О чем он думает? О преступлении. Значит, и так бывает?
С героями Достоевского мы редко попадаем, даже в самые жаркие месяцы года, в Павловск или другие обжитые
знатью пригороды Петербурга, им и в голову не придет прогуляться среди бела дня по великолепным набережным или по аллеям Летнего сада. Герои Достоевского заселяют подвалы и чердаки домов, прилегающих к Сенному рынку, теснятся в квартирах так называемых доходных домов, дышат миазмами каменных колодцев-дворов, задыхаются от духоты и жара.
Что доведет Раскольникова до мыслей о преступлении — эта духота и этот жар, который источают раскаленные крыши? Ведь только они и видны в оконце его каморки, а лето 1865 года, о котором идет речь в романе, было, по свидетельству современников, жарким невероятно. Голод, крайняя нищета? Одежда, изношенная до предела, в подобных лохмотьях бессмысленно искать работу? Полная невозможность помочь самым близким, любящим его людям: сестре, которая готова ради брата продать себя в жутковатое замужество, матери, которая вынуждена на это замужество согласиться? Раскольников все решит, всем поможет единой акцией, одним ударом: он убьет жалкую, ничтожную, никому не нужную старушонку. Его совесть ему позволяет это.
Удивительно гибкая на первый взгляд совесть!.. Что же довело ее до такой эластичности, до такой покладистости? До того, что она ничему уже не мешает — даже преступлению?
Это — те самые годы, когда Толстой противопоставлял своим современникам нравственные ценности, сбереженные поколением предыдущим. Достоевский пошел, пожалуй, еще дальше: он ввел понятие «нравственной шаткости». «Нравственная шаткость века», — так он это все называл.
Человек, ожидавший на эшафоте смертной казни, прошедший каторгу и последовавшую за ней солдатчину, наглядевшийся на предельную униженность и предельную человеческую оскорбленность, Достоевский был переполнен, кровоточил этим. Соблазны насилия, безнаказанность насилия, на все это он насмотрелся досыта. Ему уже было безразлично, что защищает та или иная теория: пересоздание общества на иных, более высоких началах, о чем говорили революционеры-шестидесятники, или личное возвышение и обогащение человека, о чем говорил, например, известный в то время в России немецкий философ Штирнер. Достоевскому важно было то, что и те, и другие — и шестидесятники, и последователи того же Штирнера — допускают насилие. Он, Достоевский, насилия не хотел, не допускал. И в том, что пропаганда шестидесятников поднимала целое поколение, и в том, что теория Штирнера находила в России своих апологетов, он видел свидетельство болезни своего времени, «нравственной шаткости» его.
Все, что решает для себя Раскольников («Тварь я дрожащая или право имею?»), — все это вовсе не ново, не оригинально, это перепевы той же теории Штирнера, дающей «право» на убийство себе подобных, если это необходимо в личных целях. Перепевы на русский лад: не ради личной собственности убийство (знаменитый труд Штирнера назывался «Единственный и его собственность»), но ради утверждения неких принципов; не о себе «единственном» думает Раскольников, Раскольников поможет «всем»... Теоретизировать откровенно эгоистически — это у русских наполеончиков все-таки не получалось. Наполеон думал о расширении своей империи, русский непременно желает облагодетельствовать все человечество. Вот он и рассуждает, этот русский: Наполеону позволительно для
личных его целей истреблять народы и слыть тем не менее великим, а ему, благородному человеку Раскольникову, для осуществления высших его задач нельзя убить одну старушонку?
И все это, заметим, в России, в которой «все переворотилось», а «укладываться» еще и не начинало, в России, где очень много еще деятельной энергии, накопленной за годы общественного подъема, но почти вовсе не осталось разбуженных этими годами надежд, и думающие люди думают над коренными российскими проблемами все так же напряженно и страстно, но все более разобщенно, на собственный страх и риск. Уже скоро прозвучит одинокий, безнадежный выстрел Каракозова, в разгар работы Достоевского над романом он уже прозвучал. И вот в романе доведенный до крайности гордый и великодушный юноша, подавляя в себе это свое природное великодушие, обдумывает противоестественную теорию — между странных снов, так похожих на действительность, и бесконечных — стоит из дома выйти — впечатлений, похожих на страшный сон.
Думается, что Достоевскому не очень и важна была самая суть теории Раскольникова, он мог бы ему приписать любую, лишь бы она допускала безнаказанное преступление,
то есть являлась бы проявлением ненавистной Достоевскому «нравственной шаткости». Доморощенная «теория» Раскольникова преступление допускала, и Раскольников на преступление идет. Его сопротивляющаяся и все же расшатанная в шарнирах совесть в конце концов допускает это.
Но Раскольников в романе не только совершает преступление — он за него и платит. Роман называется «Преступление и наказание». Безнаказанных преступлений нет — вот на чем настаивает Достоевский. Вообще — нет. И дело вовсе не в том, что нарушен закон и служители закона разыскивают убийцу. Не это в данном случае важно. Важно другое. Наказание человека — в нем самом: не в силах человеческих, не в природе человеческой убивать себе подобных.
Никто из окружающих Раскольникова людей не знает, как хрустит под топором кость, а Раскольников слышит этот хруст постоянно, ему не избыть его. Никто, он один знает, как пахнет просторно вытекающая из раны кровь, — этот запах будет отныне его преследовать. Никуда от этого не уйти — от воспоминаний о том, как распрямляются и костенеют сведенные смертной судорогой члены. Всеми этими воспоминаниями Раскольников отъединен от человеческого сообщества, ничего подобного он заранее предположить не мог. Не мог предвидеть. Наказание по закону — это он предвидеть мог, для того чтобы избежать его, ему требовалась только изворотливость, только хитрость. Он не предвидел другого: того, что взбунтуется в самом неожиданном обличии его совесть, такая покладистая, пока он только теоретизировал, такая послушная до поры. Но это над нею совершено насилие, и восстает именно она. И Раскольников весь как изъязвленный зверь, по углам, в одиночестве зализывающий раны. Он мать и сестру не может обнять этими не отмытыми до конца руками, отскакивает от них в ужасе, едва они приближаются к нему, истосковавшиеся по нему, беспомощные, любящие; он до отчаяния доводит их этим своим поведением, .которое они объяснить не в силах. И недаром первая фраза, которую скажет Раскольникову Соня в ответ на его исповедь, будет: «Что вы, что вы это над собой сделали!» Не старуху Алену Ивановну пожалеет кроткая Соня, даже не безответную Лизавету — пожалеет одичавшего в одиночестве Раскольникова. Недаром первое побуждение ее будет быстро
подойти, обнять, словно шаткий мостик проложить между Раскольниковым и миром. Словно сказать этим: «Не противно, видишь? Ты не одинок на свете...»
А мысль Достоевского идет между тем дальше. Ужасно посягательство на чужую жизнь, да. Но не страшнее ли то, что совершается безнаказанно и повсеместно: посягательство на чужую совесть? И если никакая, пусть самая благородная, самая высокая идея не оправдывает, по Достоевскому, посягательства на чужую жизнь, нет и такой идеи, во имя которой человек имел бы право передоверять самое важное в себе — свою совесть. Не может, не смеет человек безответственно и бездумно передоверять другому драгоценнейшее свое достояние.
Хоть убей, следа не видно;
Сбились мы. Что делать иам!
В поле бес иас водит, видно,
Да кружит по сторонам.
Эти стихи Пушкина Достоевский предпосылает в виде эпиграфа к своему роману «Бесы».
Сколько ых1 куда их гонят?
Что так жалобно поют?
Домового ли хоронят,
Ведьму ль замуж выдают?
К 1869 году, когда Достоевский начал работу над этим романом, открытая пропаганда шестидесятников была пресечена, мы уже говорили об этом. Открытой борьбы, к которой они призывали, так и не получилось, демократическая революция, которую так уверенно предрекал заточенный в крепости Чернышевский («Почему мне и не говорить об этом, если я — знаю?..»), — эта всенародная революция так и осталась пока светлой мечтой. Демократической интеллигенции, этим «штурманам будущей бури», как называл их Герцен, приходилось, как и декабристам когда-то, все большее брать на себя, посягать на государственную машину только единоличными усилиями. Условия замкнутой революционной среды и жесточайшей конспирации требовали безусловной дисциплины, безусловного, безоговорочного подчинения центру и, главное, априорного доверия к тем, кто брал на себя ответственность за всю организацию в целом.
Жизнь показала, какую опасность все это в себе таит, если ответственность за вверившиеся ему души возьмет на себя — вдруг! — холодный честолюбец, упивающийся своей почти гипнотической властью. Таким в русской освободительной борьбе явился С. Г. Нечаев. Таким в романе «Бесы» явился Петр Степанович Верховенский, впрочем, во всех черновиках и заготовках к роману Достоевский для простоты так и называет его — «Нечаев».
Как известно, С. Г. Нечаев, приехав в Россию из-за границы, объявил себя полномочным представителем якобы существующего там «Всемирного революционного союза», выполняющим его предписания, и начал сколачивать в России организацию «Народная расправа», разбитую на тщательно законспирированные пятерки. Организация так и называлась «Народная РАСПРАВА», никаких конструктивных целей, даже судя по этому названию, перед собой не ставила, единственной задачей ее было — разрушать во что бы то ни стало.
Вот и в романе целью Петра Степановича Верховенского было: создать в городе, куда он ненадолго прибыл, атмосферу раздраженности, неуверенности и беспокойства. И оппозиционно настроенные элементы в городе (Достоевский от лица неизвестного, но очень заинтересованного во всем рассказчика именует их кратко — «наши»), эти люди «все более и более убеждаются, что это деятель, которому нечего спорить, как они, и некогда... Мысль о том, что они все сидели и спорили и ничего не сделали, а он ни о чем не спорит, а все делает, их поражает. Мало-помалу они чувствуют, что и они втянулись, как в машину. Он ловко втянул их в убийство Шатова, так что им уже нельзя было отказаться...» Это все — из подготовительных материалов к роману. «У него одно, — пишет Достоевский о Нечаеве, — устроить истреблен и е». Он подчеркивает последние эти слова: «устроить истребление». И еще одна заметка: «Тупость Нечаева возмутительна, тупость практического человека».
Но что это за «убийство Шатова»? Это — один из центральных эпизодов романа.
С. Г. Нечаев считал, что в неравной борьбе с правительством все средства хороши, что благородная цель оправдывает и провокации, и шантаж, и логжь, и бессмысленные убийства. Можно себе представить, какой вред вся эта нечистота принесла русскому освободительному движению!
Именно на последнем — на бессмысленном убийстве — «Народная расправа» и прекратила свое существование. Студент Петровской земледельческой академии Иванов, один из членов организации, выразил личное недоверие Нечаеву, был объявлен последним потенциальным доносчиком и убит в Петровском парке, убит самим Нечаевым и его сообщниками. Нечаев действовал обдуманно и холодно: он считал, что конспиративные пятерки будут крепче, если связать их совместно пролитой кровью.
Убийство это было обнаружено, виновники его предстали перед судом, широко освещенный в газетах процесс над Нечаевым и другими участниками преступления потряс Россию. Потряс он и Достоевского: с его неприятием революционного движения и недоверием к нему он давно уже ждал чего-нибудь в этом роде. «Пусть я проиграю в художественности, — писал он в письмах, — но я скажу все, что думаю на этот счет».
Сколько героев дала русская освободительная борьба, и на этом этапе, на рубеже 60 — 70-х годов, тоже. Какой удивительной беззаветностью и нравственной чистотой они отличались, как бережно и самоотверженно относились друг к другу! «Природа-мать, когда б таких людей ты иногда не посылала миру, заглохла б нива жизни...» — писал о них Некрасов. «Добрые и сильные, честные умеющие, недавно вы начали возникать между нами...» — обращался к ним Чернышевский. Достоевский словно вовсе не замечает примеров беззаветной доблести и нравственной чистоты. Он берет ЭПИЗОД в освободительной борьбе — деятельность С. Г. Нечаева, причинившего, как уже было сказано, неисчислимый вред русскому освободительному движению. Убийство ни в чем не повинного человека в демагогических, скрытых от организации целях становится кульминацией романа Достоевского: оно возводится в ранг события закономерного, вытекающего из целей и задач русской освободительной борьбы.
«Бесов» в романе много. Это прежде всего, конечно, сам Петр Степанович Верховенский, прибывший неизвестно откуда с неведомыми полномочиями и требующий, как уже было сказано, подчинения абсолютного. Он говорит очень много вообще, говорит где угодно и что угодно, но тем не менее умеет сохранить со своими так называемыми единомышленниками и загадочность, и недоступность. Мы не
знаем, и никто из них не знает, для каких целей нужен ему красавец Николай Ставрогин, опустошенный и непредсказуемый, равно готовый и на благородный поступок и на чудовищное преступление, какую роль Верховенский ему предназначает? Зачем, для каких целей нужно Верховенскому держать под рукой беглого каторжника Федьку и убить с его помощью нелепого Лебядкина и его блаженную сестру, зачем нужна ему замороченная им губернаторша Юлия Михайловна и чем, наконец, провинился не только перед ним, но прежде всего перед автором писатель Кармазинов, который описан Достоевским особенно злобно и в котором по многим намекам угадывается карикатурное изображение И. С. Тургенева.
Исследователи утверждают, что не только Верховенский и Кармазинов имеют свои конкретные прообразы, но, не вдаваясь в это, можно и так узнать распространенные в русской общественной жизни типы: и мягкого, впечатлительного Виргинского, сочетающего безусловную порядочность и в то же время безусловное безволие перед лицом откровенно совершаемого зла, и сухого теоретика Шигалева, ничем не интересующегося, кроме своих рассудочных построений, и грубоватого «знатока народа» Толкаченко, за то и почитаемого в кружке, что он якобы совершенный «знаток народа». Среди всех этих типов нас интересует сейчас один, единственно привлекательный на первый взгляд, — прапорщик Эркель. «Маленький Эркель» — так его называют.
Он появляется где-то на исходе романа, незадолго перед его кульминацией, — юноша с очень чистыми чертами лица, с прямым, ясным, наивным взглядом и миловидной кудрявой головой. И как, должно быть, мать «целовала эту бедную белокурую головку, как дрожала за нее, как молилась о ней! Я потому так много о нем распространяюсь, — скажет Достоевский устами рассказчика, — что мне его очень жаль».
Он благородный и бесстрашный человек, Эркель. Как выяснится позднее, он будет единственным членом организации, который не дрогнет на следствии, ни в чем не раскается, никого не назовет. Но главное в нем то, что он фанатически предан «великой идее», «общему делу», слова эти Достоевский не случайно ставит в кавычки. «Фанатики, подобные Эркелю, — говорит он, — никак не могут понять служения идее иначе, как слив ее с самим лицом, выражающим эту идею». Вот так дело, которому Эркель верой и правдой служит, воплотилось для него в Верховенском, и Петру Степановичу Вёрховенскому Эркель благоговейно вверяет всего себя,, tie сомневаясь ни в чем, не рассуждая. Слепо доверяется каждому его слову, потому что Петр Степанович, конечно же, информирован лучше, готов понять и оправдать самый нелепый его поступок, потому что Петр Степанович знает, что делает, и все, что он делает (а он единственный делает, другие только рассуждают), все, что он делает, продиктовано, конечно же, определяющей всю его жизнь «великой идеей». И если за всем этим Эркель подумывает иногда и о себе, так только об одном: не может же Петр Степанович не оценить этой нерассуждающей верности и преданности его и в свою очередь не почтить Эрке-ля доверительной дружбой! Кто в молодости не мечтал об исключительной дружбе! Такая чистая, бескорыстная, такая естественная для очень молодого человека мечта!..
«Чувствительный, ласковый и добрый Эркель, — так пишет Достоевский, — быть может, был самым бесчувственным из убийц, собравшихся на Шатова». Именно так: «чувствительный, добрый» — и «самый бесчувственный из убийц». Потому что Эркель — бестрепетен, он готов, не рассуждая, выполнить любой, самый чудовищный приказ. А приказ Верховенского недвусмыслен: Шатов готовится донести, утверждение это, как полагает Верховенский, в доказательствах не нуждается, Шатова необходимо вовремя обезвредить. Совсем так, как было в «Народной расправе», — вот и участники убийства, совсем так, как там, должны быть, по замыслу Верховенского, связаны накрепко совместно пролитой кровью.
Убийству Шатова предшествует сцена, на которые Достоевский такой мастер. К Шатову приезжает жена, бросившая его когда-то, приезжает из-за границы с легким саквояжиком, без копейки денег, беременная на последних днях и здесь, у Шатова, рожает сына. Шатов умилен и счастлив, он никогда не переставал любить жену и тем более любит ее сейчас, измученную, одичавшую от долгих скитаний. Он растроганно приемлет чужого ребенка, чувствуя себя единственным и законным его отцом. Раскаяние, не выражающее себя словами, прощение, и не помышляющее о том,
что оно прощение, обоюдная радость, готовность все начать заново в понимании и любви — вот атмосфера, что царит в убогой комнатенке Шатова, когда в дверь ее стучит, как и было заранее условлено, маленький Эркель.
Шатов предупрежден: он должен указать членам организации место, где зарыта подпольная типография, за которую он единолично отвечал, и это всё, и больше его не будут беспокоить — ему, Шатову, так хотелось из организации выйти! И, заверив жену, что скоро вернется, ни о чем не подозревающий Шатов выходит из дома вслед за Эркелем. «Эркель, мальчик вы маленький! — обращается к нему по дороге Шатов. — Бывали вы когда-нибудь счастливы?» — «А вы, кажется, очень теперь счастливы, — с любопытством заметил Эркель».
А к Эркелю (вот ведь как было дело) незадолго перед тем пришел Виргинский. От своей жены, акушерки, Виргинский узнал все, что произошло ночью в доме Шатова, и, «зная сердце человеческое», убежден, что если Шатов и собирался донести, как уверяет Верховенский, теперь не донесет ни за что. Эркель выслушал взволнованную речь Виргинского, глядя прямо в лицо собеседнику все теми же чистыми, спокойными глазами. «Вы, разумеется, не пойдете туда?» — заключил Виргинский. «Разумеется, пойду», — даже улыбнувшись, спокойно ответил Эркель. Приказ был получен Эркелем, как мы уже сказали, недвусмысленный, а ко всем этим психологическим изыскам, кто способен на донос, а кто и почему не способен, ко всему этому Эркель не имеет ни малейшего вкуса. «А вы, кажется, очень теперь счастливы?» — спросит он Шатова с любопытством. Эркель не только не знает «сердца человеческого», но и не желает знать, ему не до того: приказ получен.
И он идет и все делает, как и было намечено: хватает ни в чем не виноватого человека за руки и цепко держит, пока Верховенский достает револьвер и стреляет Шатову в лоб. И нет в Эркеле мук Раскольникова, нет его раздвоенности и метаний, своей преданностью «высокой идее» и «общему делу» Эркель надежно огражден от каких бы то ни было угрызений совести.
Вот это и есть, по Достоевскому, грех страшнейший: передоверить другому и тем надежно защитить свою совесть. Ни за что не отвечать, не мучиться, кому-то другому точно известно, что мучиться тебе — не надо...
...Как славно быть ни в чем не виноватым,
Совсем простым солдатом, солдатом...
В романе «Бесы» есть еще и такая сцена: Эркель провожает свое божество на вокзале. Верховенский столько натворил в городе, столько преступлений его волей и его именем совершено, «в интересах дела» ему самое время скрыться. И Эркель следит за тем, как он садится в вагон, как его попутчики почти тут же приглашают его играть в карты.
« — Ну, Эркель, — торопливо и с занятым видом протянул в последний раз руку уже из окна вагона Петр Степанович, — я ведь вот сажусь с ними играть.
— Но зачем же объяснять мне, Петр Степанович, я ведь пойму, я все пойму, Петр Степанович!..»
И тем не менее домой возвращается Эркель грустный: слишком небрежно простился с ним Петр Степанович, слишком охотно оборотился к своим случайным попутчикам, слишком быстро про него забыл... И что-то начало томить его, что-то связанное со вчерашним вечером. А что было вчера вечером? Ничего. Эркель сделал то, к чему и всегда был готов: спокойно и твердо выполнил простой и ясный приказ. Сколько людей старшего поколения, вглядевшись в этот вовсе не страшный портрет, узнают в Эркеле свою чистую, одухотворенную и, увы, бездумную юность!..
Итак, абсолютная свобода выбора собственных путей — и руководящая этим выбором бдительная, недреманная совесть. Так решает русская литература один из важнейших для человека вопросов.
В одной из своих повестей А. М. Горький вспоминает о человеке, не похожем ни на кого из окружавших его в детстве людей, человек этот возбудил когда-то в мальчике Алеше Пешкове острое любопытство. Это временный жилец Кашириных, химик, которого все не без усмешки называют «Хорошее Дело» — такова постоянная поговорка человека, настоящего имени которого никто не знает и, между прочим, не хочет знать. Даже бабушка Горького, женщина, как мы помним, добрая и сердечная, смотрит на чужака недоверчиво: бог знает, чему он может научить ее внука! Порошки, склянки, вечно жгет спиртовку — того гляди, дом спалит...
А грустный, спокойный, всему окружающему чужой человек этот, инопланетянин в среде кунавинских слобожан,
человек этот, притихнув в углу, слушает бабушкины присказки и бабушкины сказки. «Замечательная у тебя бабушка!» — говорит он маленькому Алеше. Будет приговаривать: «Это все удивительно!» — и, сдернув торопливо очки, подолгу их протирать. А однажды разволнуется особенно, вскочит с места и, не замечая насмешливых взглядов, станет ходить из угла в угол: «Это такое русское, такое наше!..» Будет повторять, как бы вслушиваясь в звучание каждого слова:
Это, вишь, ему в наказанье дано:
Злого бы приказа не слушался,
За чужую бы совесть не прятался...
Так обожжет его, русского интеллигента, бережно сохраненная в народе, отцеженная, настоянная на долгом опыте мудрость.
КОГДА ВСЕ НАБЕКРЕНЬ
Все разночинно, наспех, как-нибудь...
А. Ахматова
И еще о любви.
Жила в Париже в начале 60-х годов прошлого века русская девушка. Жила в частном пансионе, три раза в день выходила к общему обеду, в общение с людьми вступала независимо, смело. Если кто-то заинтересовывал ее складом ума или характером убеждений, умела поддержать интересный, живой разговор. Хорошенькая, увлекающаяся, одинокая, со смелым и веселым взглядом, словно приглашающим к непринужденному общению, открыто декларирующая свободу, в чопорной обстановке частного пансиона она, очевидно, казалась доступной. Впрочем, именно это беспокоило ее мало. Она откровенно презирала ханжество, мещанскую выверенность чувств, европейское филистерство; в дневнике, который она вела, об этом сохранилось немало записей.
Здесь, в Париже, она довольно скоро встретила студента-медика, испанца по имени Сальвадор. «Ты считал, что моим сердцем трудно овладеть, — писала она в Россию своему другу Ф. М. Достоевскому. — Я отдалась этому человеку в течение недели, пылко, самозабвенно...»
А потом любовь юного испанца стала угасать; вот и дневник Аполлинария Суслова — так звали девушку — начала вести тогда, когда любовь ее избранника пошла на убыль. Пошловатый и малодушный, Сальвадор избегал объяснений, уклонялся от встреч. Аполлинария теряла самообладание. Активная и страстная, она, не желая мириться с реальностью, искала возможности объясниться, словно это хоть что-то могло изменить, не скрывала ни обиды, ни разочарования, старалась оскорбить сама, посылала Сальвадору деньги «за услуги, за которые принято платить». Мысль о мщении воспаляла ее горячую голову. Или его убить, или над собой надругаться, надругаться небывало, неслыханно, так, чтоб даже Сальвадор, в непробиваемом его равнодушии, содрогнулся. Предположим, убить царя Александра II, во всяком случае, именно в этом намерении призналась она случайному духовнику на испо-
веди. Духовный отец отпустил ей эти грешные мысли, но заметил, что, на его взгляд, Александр II — «идеал монарха и человека». Вот какие были переживания.
Федора Михайловича Достоевского все, что происходило с Сусловой, касалось самым непосредственным образом. Это от его любви уехала Суслова в Париж — передохнуть, проветриться. Это его она там, по взаимному уговору, ждала или, точнее, уже не ждала. Года два назад произошло их сближение; очень высоко и тогда, и потом ценил Достоевский самозабвенный порыв девушки, видевшей в нем великого учителя жизни, высоко ценил эту безоглядную, нечаянно доставшуюся ему любовь. Но он, немолодой уже человек, не только сам много в своей жизни мучился, он и сам умел мучить. Вероятно, так. «Ненавижу Достоевского, — так писала Суслова много позднее. — Он первый заставил меня страдать, когда можно было обойтись без страданий». Именно его, первого мужчину в своей жизни, считала она виновником всех последующих своих бед. Но эти приступы ненависти не мешали ей испытывать и доверие к нему, и истинную дружбу. Достоевский отвечал ей тем же. «Друг мой вечный», «друг единственный» — так обращался он к ней в своих письмах.
А сейчас — сейчас Достоевский, как и было условлено раньше, приехал к Аполлинарии в Париж. Не знал он ни о каком Сальвадоре. Разминулся с письмом, в котором Суслова о нем писала. И Суслова так и сказала ему при встрече — может быть, с горечью, а может, не без злорадства: «Приехал поздно».
И были слезы, были бурные объяснения. Но Достоевский не был бы Достоевским, тем писателем, которого мы знаем, если б он не захотел подняться над своим чувством. Он повезет милого друга Полю в Италию, развеет ее тоску, он будет ей «как брат» — таковы были наилучшие его намерения.
«Ничего между нами быть не может» — это еще раньше, еще до поездки, словно заведомо не веря ни в какую «братскую» близость, записала в своем дневнике Суслова. И мстила. Словно всему мужскому роду мстила в лице человека, которого любила когда-то. То и дело обманывала его тенью былой близости, рассеянной нежностью, обещающим взглядом. Словно унизить хотела, доказать неведомо зачем: видишь, каков ты!.. Он, и в самом деле забыв обо всех
своих наилучших намерениях, под холодным и насмешливым ее взглядом переходил от отчаяния к надежде, от надежды — к новому отчаянию, был напорист, докучлив: «Русские никогда не отступают...» В конце концов им пришлось расстаться. Достоевский едет в немецкий город Гомбург, славящийся своей рулеткой, едет играть (он играл и раньше и проигрывал много), Суслова возвращается в Париж: мысль о молодом испанце не оставляет ее ни на минуту.
И снова все то же: она ищет встреч, подстерегает Сальвадора на улицах. Вновь посылает ему деньги: «Вы не ответили мне в первый раз. Может, вы их не получили...» Чего она ждет, на что надеется? Надеяться не на что. И казавшаяся раньше доступной, Суслова и впрямь становится таковой. Ни на свой темперамент, ни на минутные прихоти она больше узды не накладывает, не считает нужным.
И замелькали записи: «Мои руки обвились вокруг его шеи, он весь дрожал...», «Он предложил мне ехать вместе, я согласилась...», «Он пожал мне руку особенно крепко, и я задержала ее в своей...». Это все — не об одном человеке, о разных. Запестрели закодированные мужские имена: лейб-медик, валлах, грузин, плантатор... Плантатором она называет Сальвадора, с ним единственным все ее попытки сближения по-прежнему безнадежны.
Читать дневник Сусловой трудно. Потому что видишь, что делала с женщинами провозглашенная в те годы в России, страстно проповедуемая многими и вовсе не всеми до конца понятая женская эмансипация: она с них кожу сдирала. Потому что большое требуется насилие над женским своим естеством, чтобы живущей в каждом человеке, и особенно в каждой женщине, потребности в единственном друге и единственной, настоящей любви предпочесть без малейшей в том необходимости, просто так, из ложно понятого принципа такую вот, как у Сусловой, натужную, безрадостную свободу.
И видишь главное: как постепенно мельчает эта душа, как все более часто и все более искренно занимает ее только чье-то сиюминутное внимание, только свой сиюминутный успех. Иногда, все реже, она спохватывается. «Погрузился я в тину нечистую...» — вспоминает она известные стихи Некрасова, но не меняет ничего, человек, твердо знающий, что именно так «нынче носят», стойкий адепт пресловутой «эмансипации».
Читать дневник Сусловой трудно еще и потому, что при всем этом живет Суслова не дома, не с любящими людьми, которые всегда и во всем ее поймут, живет на семи ветрах, на европейском сквозняке, на международном перекрестке. Живет в гостинице, среди постоянно сменяющихся и равнодушных к ней постояльцев. Рядом — никого. Нет друга, чтобы этой девушке, не желающей считаться с реальностью, эту реальность твердо противопоставить. Нет матери, чтобы в горькую минуту просто утешить. Чтобы сказать: «Брось ты глумиться над собой! Ведь смотреть же на это больно!..»
Суслова, между прочим, еще и писала. В повести «Чужая и свой» она изобразила свои отношения с Достоевским. В повести этой — ни малейшего умения взглянуть на эти отношения со стороны, хоть сколько-нибудь объективно. Это Достоевский (в повести его фамилия Лосницкий) «свой» в этом пошлом и заурядном мире, а героиня, с ее «прекрасным лицом и глубокими глазами», с ее удивительными, утонченными чувствами, она в этом мире «чужая». Разочарованная во всем, и в своем недостойном спутнике тоже, а они, чтобы развеять возвышенную тоску героини, вместе путешествуют по Италии, Анна (так зовут героиню) уходит в один прекрасный день из гостиничного номера, который они снимают вдвоем с Лосницким, и бросается в быструю горную реку.
В жизни все было ие совсем так: никто и не думал бросаться в быструю горную реку. Суслова в конце концов вернулась в Россию. Спустя какое-то время вышла замуж за Розанова, литератора и философа, занимавшегося, в частности, творчеством Достоевского, Розанов был лет на шестнадцать младше ее. После того как они разошлись, а кончилось этим, Аполлинария Прокофьевна двадцать лет не давала развода своему мужу, мучила таким образом его и новую его семью, не давала возможности зарегистрировать рожденных в новом браке детей. Двадцать лет! Вот такой оказалась бывшая эмансипантка — женщиной деспотичной и мстительной: отстаивая свою свободу, не оставляла права на свободу другому. Ее поздний портрет — словно портрет какой-либо из героинь Достоевского: вот такое недоброе, страстное, всеми ветрами обдутое лицо.
Так что читаешь юношеский ее дневник и, в общем-то, не о ней думаешь, хотя и ее, затерянную в Париже дуреху, жалко, думаешь все о том же: как она дорого доставалась женщинам, эмансипация, как она уродовала многих из них, как надрывала их душу.
И еще один дневник. На этот раз не женский дневник, а мужской. Дневник человека, который эмансипацию эту провозгласил, сделал женскую эмансипацию «мерилом эмансипации всеобщей», — юношеский дневник Николая Гавриловича Чернышевского.
Характер его, которому позднее удивлялась Россия, складывается в этом дневнике на наших глазах. Чернышевский сам боится его внезапностей и поворотов, потому что — это он предвидит отчетливо, — «если уж я решу что-то, то не отступлю ни за что». И поэтому решиться ему на что бы то ни было — трудно. Между тем он, саратовский учитель, влюблен в дочь местного врача Ольгу Сократовну Васильеву и, убежденный рационалист, пытается абсолютно нерациональным эмоциям дать достойное теоретическое объяснение. В живости и непосредственности Ольги Сократовны, вечно окруженной поклонниками, даже в ее неустанном кокетстве видит он проявления натуры незаурядной, естественной, не изломанной никакими предрассудками и условностями, это восхищает его. Ему так важно, чтобы эта девушка оказалась во всех отношениях достойной: ведь он не просто мечтает жениться на ней. Здесь, в России, где женщина связана и социальным, и семейным рабством, он мечтает «послужить одной», хоть одной женщине предоставить возможность проявить себя совершенно свободно, расцорядиться собою так, как сама она найдет нужным. В этом, по его мнению, святое назначение мужчины, если мужчина этот не на словах, а на деле озабочен проблемами «эмансипации всеобщей».
Ну, а если его избранница не сумеет распорядиться достойно предоставленной ей свободой? Ведь может же быть и так. Если она употребит эту свою свободу во вред доверчивому рационалисту и теоретику? Что ж, Чернышевский готов и к этому, не так уж он наивен. «...Она будет вести себя так, как ей вздумается. Окружит себя в Петербурге самой блестящей молодежью, какая только будет доступна ей по моему положению и по ее знакомствам, и будет себе с ними любезничать, кокетничать; наконец,
найдутся и такие люди, которые заставят ее перейти границы простого кокетства. Сначала она будет остерегаться меня, не доверять мне, но потом, когда увидит мой характер, будет делать все, не скрываясь. Сначала я сильно погорюю о том, что она любит не меня, потом привыкну к этому положению... буду жалеть только о том, что моя привязанность пропадает неоцененная, то есть знать ее она будет, но будет считать ее не следствием... моих убеждений о праве сердца быть всегда свободным, а следствием моей глупости, моей ослиной влюбленности...»
Вот так: чего бы это лично ему ни стоило, он ничем не омрачит довольства своей подруги. «Я предаюсь твоей воле, моя милая». Она будет абсолютно свободна, это снова и снова повторит он в своем дневнике, словно самого себя вновь и вновь убеждая, это он пожизненно связан. «Чтоб разогнуть палку, надо сначала перегнуть ее в иную сторону» — так он это все окончательно для себя сформулирует.
И вот настанет день, когда Чернышевский, одолев невольные свои сомнения и естественную для влюбленного робость, приступит к решительному объяснению. Он примерно так и скажет будущей своей жене: ты, дорогая, будешь абсолютно свободна, это я пожизненно связан. Для себя он оговорит единственное и немалое: возможность жить в согласии со своими убеждениями. «У нас скоро будет бунт, — скажет он, — ...я непременно буду участвовать в нем. Меня не испугают ни грязь, ни пьяные мужики с дубьем, ни резня...» — «Не испугают и меня», — тут же ответит Ольга Сократовна. Чернышевский счастлив: он не обманулся в своих ожиданиях. На девушку с такими чувствами, или, как говорили в ту пору, «с таким направлением», можно вполне положиться!..
Что же из этого вышло? Этой супружеской паре предстояли и впрямь испытания страшнейшие. Не бунт и не резня, но арест, и неизвестность, и страшная, выпивающая кровь разлука, письма, идущие месяцами и зачастую не приходящие вовсе, ожидания, растянувшиеся на годы, и безнадежность, и новые, на годы растянувшиеся ожидания. И будут заверения Чернышевского: «Милая радость моя, благодарю Тебя за то, что озарена Тобою жизнь моя». И беспокойство Ольги Сократовны о «папочке», и готовность погибнуть тоже, если он, как она предположила было, погиб... Все это когда еще будет! И вот это письмо Ольги Сократовны сыну будет нескоро: «Была молода, много говорили, а теперь баста!..» А пока, в первые годы супружества, есть Петербург, есть, как и предполагал Чернышевский, множество знакомств и возможностей, и молоденькая, привлекательная Ольга Сократовна совершенно не умеет чем бы то ни было поступаться в капризах своих и желаниях: она упивается предоставленной ей свободой.
Что ж, тем хуже. Или тем лучше с точки зрения «теоретической»: тем последовательнее должен вести себя мужчина, тем убежденней должен способствовать той всеобщей эмансипации, с которой и придет к женщине, изуродованной вековым рабством, должное понимание личного ее достоинства и личной независимости. «Развитие, развитие!.. О, сколько наслаждений развитому человеку! Даже то, что другой чувствует, как жертву, горе, он чувствует, как удовлетворение себе, как наслажденье, а для радостей так открыто его сердце, и как много их у него!..»
А ведь это Чернышевский о себе писал! «Даже то, что другой чувствует, как жертву, горе, он чувствует, как удовлетворение себе, как наслажденье...» Это он уже в Петропавловской крепости писал. Писал, готовясь к длительному заключению, даже к смертной казни — мало ли что может случиться, если конкретных обвинений нет никаких, — и не роман, в общем-то, писал, хоть это строки из романа «Что делать?», писал программу действий для всех, кто остался на воле. Писал: «Жертв не требуется, лишений не спрашивается, их не нужно. Желайте быть счастливыми, только, только это желание нужно!..» Шел на жертвы, обрекал себя на лишения, а единомышленникам завещал: желайте быть счастливыми — только!..
Вот такой характер. Неожиданный. И эту неожиданность надо понять в нем: любил счастье. Только его и любил. Аюбил радость, любил любовь. И жену поэтому не просто любил — Любовался ею. Любовался естественностью, непосредственностью, этой ее волей к счастью, даже если эта воля к счастью порою била по нему, и била жестоко. Гордился тем, что все принимают Ольгу Сократовну за юную девушку, не верят, что она замужняя женщина, мать, заглядываются на нее на улицах; она всему этому придавала значение, и он вслед за нею всему этому значение придавал.
Вот как в романе «Пролог», в изрядной степени автобиографическом, описывает он свою с женой совместную прогулку. «Мужу было лет двадцать восемь или тридцать. Он был некрасив, неловок и казался флегматиком». Как прозаичен и скучен он рядом с женой, которая «весело смотрела вперед, беззаботно опираясь на руку своего спутника, и, по-видимому, очень мало думала о нем». В самом деле, что он, кабинетный, сухой человек, рядом с этим, неотразимым, на его взгляд, существом! И если эта жажда жизни, переполнявшая, видимо, Ольгу Сократовну, бьет по нему самому, что ж, пусть будет так! «Я могу, когда понадобится, решиться на то, на что не все могут решиться, а решившись, сделать для меня ничего не стоит...» Он твердо внушил жене: то, что хорошо тебе, то тем более хорошо мне... Зато какой доверительностью она вознаграждает его! Малейшее движение ее души для него открыто. «...Как жаль, что немногие, очень немногие мужья могут знать это чувство! Все радости счастливой любви — ничто перед ним; оно наполняет чистейшим довольством, самою святою гордостью сердце человека...» Вот так Чернышевский все это видел и чувствовал.
Трудно судить человека с таким необычным характером, над закалкой которого он сам работает неустанно. Может, именно такая жена, предельно раскованная, ничем не желающая поступаться, и нужна была Чернышевскому, чтобы испытать «чистейшее довольство» и «самую святую гордость», перед которой ничто «все радости счастливой любви». И как призыв Чернышевского к революционному преобразованию России был закреплен в общественном сознании теми жертвами, которые сам он лично принес, и теми лишениями, которые бестрепетно испытал, так и проповедуемые им идеи женской эмансипации не имели бы столько последователей, если бы он прежде всего на себе не испытал и мучительные ее издержки, и высокие радости.
А ведь была еще и любовь! Что там все теории, он любил всей душою!.. «...Лично для меня личные мои дела имеют более значения, нежели все мировые вопросы» — так писал он Некрасову. Не собиравшийся в чем бы то ни было уступать своим тюремщикам, перед единственным человеком он кается, у единственного просит прощения — у «бесценной Лялечки», которую, отправляясь на каторгу, не сумел достаточно обеспечить. «Моя здешняя жизнь не имеет ровно, ровно ничего неудовлетворительного лично для меня», — пишет он с заледенелых берегов Вилюя. Он окружен всем возможным комфортом, он и в Петербурге не часто ходил в театры и не пил хорошего вина, так что лишений он никаких не испытывает; даже острог, в котором его содержат, он во всех своих письмах называет «просторным и теплым домом». Единственное, что его беспокоит, — это ее бесценное здоровье; ей бы в Северную Италию или в Андалузию следует направиться, чтобы его как следует укрепить, да и под-развлечься кстати: общество в Европе «более разнообразное, более живое, чем на Кавказе... Для человека с таким живым темпераментом, как у тебя, скучное общество — большая помеха здоровью...». «Будь здоровенькая и веселенькая» — только этим и полны его письма. Это ей плохо, самому Чернышевскому — хорошо!..
Вот и Шелгунов, сподвижник Чернышевского, строил свою личную жизнь по тому же образцу. Мы не о женщинах сейчас говорим, говорим о высоком мужском служении, о том, как ригористы 60-х годов, в железной последовательности которых есть что-то ребячливо-трогательное, как они «перегибали палку в другую сторону», стоически вынося то, что понимали под эмансипацией их подруги.
Вот и Шелгунов мужественно, без жалоб «служил одной». Все то же самое: ты, милый друг мой, свободна, это я пожизненно связан. Врачевал душевные раны жены, без которых, конечно, не обходилось, дружбой ее гордился, гордился доверием ее к себе, «все радости счастливой любви ничто» перед этим доверием. Все то же самое: «оно
наполняет чистейшим довольством, самой святой гордостью сердце человека». Дорого доставалась пресловутая эмансипация женщинам, но как же доставалась она подвижникам ее, мужчинам!..
Мы все об эмансипации, а сама по себе эмансипация тут ни при чем, сама по себе эмансипация — дело хорошее. И в поле зрения той же Аполлинарии Сусловой была сестра ее Надежда, одна из замечательных русских женщин, получившая образование за границей, доктор медицинских наук, верная жена и подруга известного врача Эрисмана. И в доме Чернышевских бывали Боковы, история которых отражена в какой-то степени в романе «Что делать?». Расстались Боковы по доброму согласию, что по
тем временам было редкостью. Бокова по страстной взаимной любви соединила свою судьбу с известным уче-ным-физиологом Сеченовым, жила с ним гражданским браком, что требовало немалого мужества. Была скромна и тверда, никакой шумихи и сенсационности не терпела. Получила специальность врача, стала незаменимой помощницей мужу. Боков, в свою очередь, соединил свою судьбу с другой, обе семьи очень дружили. В доме Сеченовых, продолжим рассказ о них, царили нерушимые покой и дружба, об этом вспоминают многие. Между прочим, до глубокой старости супруги называли друг друга на «вы». Может, в этом была известная реакция на то, что они наблюдали когда-то, вот на эту головокружительную «свободу»?
Так что дело не в эмансипации, скажем наконец и это. Дело в так называемой душевной культуре. Есть высокая культура человеческих отношений, и есть дикость, мучительство, бескультурье. Именно так: бескультурье, какими бы теориями это ни прикрывалось. Есть надругательство над человеческой душой, и не только над чужой, над своею.
Вот и нынешние «теории» таковы: от лозунгов нынешней «сексуальной революции» тоже кружатся головы послабее. Ничего ультрасовременного в теориях этих нет. Вот уж ви-дано-перевидано: видано в 60-е годы прошлого века, видано, между прочим, в относительно недавние 20-е годы нынешнего.
«Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног» — вот на каких лозунгах воспитывалось поколение, входившее в революцию. «Мы наш, мы новый мир построим...» — вот что оно пело. И многим вовсе не самым бестолковым людям казалось, что вместе с уничтожением всех и всяческих форм угнетения должна прийти свобода и безответственность в отношениях личных. Почему-то это очень близким одно к другому оказывалось: свобода — и безответственность. Буржуазная семья, основанная на имущественном расчете, отвергалась решительно; сколько людей, и не самых, повторяю, бестолковых, и не самых плохих, впопыхах решило, что пришла пора вообще уничтожить семью — всякую. Да здравствует свободная любовь, свободный союз всех мужчин и всех женщин — и никаких обязательств!
Все это такое распространение получило, так кружило головы, таких авторитетных нашло проповедников в околопар-тийных и даже в партийных кругах, что В. И. Ленин, среди всех его дел, вынужден был откликнуться и на это. Ленин считал, что надо семью удержать от развала, надо детей сохранить. Вынужден был неоднократно подчеркивать: пропаганда «свободной любви» — это отказ «от серьезного в любви», то есть самое что ни на есть буржуазное требование.
Но пока шло в партийных и околопартийных кругах выяснение этих теоретических позиций, жизнь шла своим чередом, не терпелось все и немедленно сделать по-своему, так, как этого еще нигде, никогда, ни у кого не бывало, — зачем иначе революция! — и сколько же ломалось при этом человеческих судеб!.. И один из крупнейших поэтов современности, вынужденный всецело довериться любимой женщине, глубоко презирая себя за вполне старомодную ревность и за вполне старорежимную наклонность к моногамии, поэт этот будет заклинать, торопить: «В коммунизм!» Может быть, там, в коммунизме, все наконец упорядочится и встанет на место, и люди научатся уважать настоящее чувство и с полуслова понимать друг друга, и его гудящее «сплошное сердце» обретет наконец любовное пристанище, любовный покой! «Пролетарии приходят к коммунизму низом, низом шахт, серпов и вил. Я ж с небес поэзии бросаюсь в коммунизм, потому что нет мне без него любви...» Именно так: в коммунизм, скорее, мне без него любви — нет!..
О чем мечтает Маяковский? «Чтобы вся, на первый крик «товарищ!», оборачивалась земля...» Не о том мечтает, чтобы сегодня в его жизни одна, а завтра другая, — о слове «товарищ», обращенном к миру и, между прочим, к единственной женщине, на которую во всем можно положиться.
Ваш
тридцатый век
обгонит стаи
Сердце раздиравших мелочей.
Нынче недолюбленное
наверстаем Звездностью бесчисленных ночей.
«Недолюбленное» — вот что его мучает. При полной доступности любви, при вседозволенности ее — «недолюблен-
ное»!.. «Сердце раздиравшие мелочи» — каковы они были? «Оседало и осело бытом даже в нашем краснофлагом строе...» Что его мучило? «Тридцатый век» — с ума сойти — последний его приют, последняя надежда!.. Ну, а что делать с этим, тянущимся бесконечно двадцатым, с этим ощущением — отчетливым! — что обложившая его, Маяковского, со всех сторон «свобода любви» — никакое не счастье, не обретение, но бесприютное, всем ветрам открытое существование?..
И ТОЛЬКО Боль моя Острей —
Стою,
Огнем обвит.
На несгорающем костре Немыслимой любви.
Он весь в любви, Маяковский, — ее дыханием согревается, от ее ударов, только от них, — сжимается. Ему все нипочем, была бы любовь, как и многим из нас. «...Расцветают глаза твои, два луга, я кувыркаюсь в них, веселый ребенок...» — в самый разгар 1914 — 1916 годов, военного безумия, мечта-прибежище, мечта-надежда! «Нет людей! Понимаете крик тысячедневных мук?..» — почти рядом. Снова — тишина, благодарность, нежность: «Пришла —
деловито, за рыком, за ростом, взглянув, разглядела просто мальчика...» Новые падения, новые взлеты, и снова — подавленное рыдание, горе, прикрытое такой обычной для Маяковского иронией:
Я теперь свободен
от любви и от плакатов.
Шкурой
ревности медведь
лежит когтист.
Можно убедиться,
что земля поката:
Сядь на собственные
ягодицы —
и катись.
Нет, не навяжусь
в меланхолишке черной,
Да и разговаривать
не хочется ни с кем...
«Я поэт, тем и интересен», — писал Маяковский в своей автобиографии. Но именно потому, что он поэт, он и расхо-
довал душу щедро и страстно, всего себя отдавая окружающему и окружающим. Иначе не умел. Именно так, всего себя, без этого попросту нет крупного поэта и настоящей поэзии. Но если уж расходовать всего себя, надо что-то и получать, надо хоть чем-то восполнять гигантский перерасход душевных сил, надо все это как-то сбалансировать, иначе попросту жить немыслимо. И все навязчивее вот это, начавшееся с тех самых пор, как начался Маяковский:
«Все чаще думаю, не поставить ли лучше точку пули в своем конце...» Отметал эту мысль, одолевал эту мысль, а она, при очередном перерасходе душевных сил, вновь подступала...
Свобода любви для маленьких, для заурядных душ хороша, а душам большим, сердцам одаренным с нею делать нечего. Плохо с нею одаренным сердцам. И наверное, недаром во все времена у всех народов прославляется свой Ромео и своя Джульетта.
Верная, надежная любовь — вечный приют человеческий!..
И снова — вот он, наш, русский вариант: женщина, о которой мы уже говорили, которая любит, да — «к чему лукавить?» — но есть на свете ценности, которыми она пренебречь не может.
Чего только не говорят о народности характера Татьяны! Вспоминают «подблюдны песни, хоровод». Вспоминают масленичные блины в доме Лариных. А есть нечто неизмеримо более важное.
Писал Пушкин стихи, посвященные отцу, матери, дяде Василию Львовичу? Нет, не писал. А вот няне, крепостной женщине, посвящал их. «Подруга дней моих суровых», «моя подружка», «голубка дряхлая моя...» — так он к ней обращался. Тепло относился к ней, сердечно. Вот и в последний раз приехав в Михайловское, сетует на то, что ее уже нет, что он не слышит «шагов ее тяжелых и кропотливого ее дозора». И Татьяна, княгиня, «законодательница зал», не могилу отца своего, бригадира Дмитрия Ларина, вспоминает в последнем своем монологе, но только «крест и тень ветвей над бедной нянею». И не от няни ли в ней эта простота, тишина душевного склада, это строгое отношение к жизни, это — без всякой позы, без малейшего самолюбования — чувство долга? Не истинно ли народно
это в кровь въевшееся понимание: жизнь вовсе не сплошное ликование, не вечный праздник, а умение считаться с другими людьми и неторопливо, просто выполнять жизненное свое предназначение?..
В упомянутой нами книге Н. Долининой уже есть размышление об этом, да и другие исследователи говорят о том же; военный человек и, вопреки нашим представлениям о нем, вовсе не старый, мог муж Татьяны быть вовлеченным в декабристский заговор? Конечно, мог. Ну, и что бы в таком случае сделала Татьяна? Кинулась бы в объятия Онегина? Наконец-то! При всей строгости церковного брака это так легко было сделать в ту пору — отречься от политического преступника! Как бы ее поняли при дворе, как бы превозносили женщину, чувствующую законное отвращение к человеку, посягнувшему на престол!..
Можем мы себе представить такое? Не можем, конечно: характер не тот.
Что сделала бы Татьяна? Отправилась бы за мужем к месту его изгнания. «Та, с которой образован Татьяны милый идеал», — та, во всяком случае, именно так и поступила.
В том-то и дело: к тому времени, как Пушкин написал это последнее объяснение Онегина и Татьяны, к осени 1830 года, они все уехали уже!.. Они так и стояли перед глазами Пушкина! Ничего другого не могла ответить Татьяна Онегину, только это: отдана другому, буду верна ему — вечно!..
В романе, где все, по словам самого Пушкина, «выверено по календарю», действие заканчивается весной 1823 года:
«На синих, иссеченных льдах играет солнце; грязно тает на улицах разрытый снег...» Для героев романа еще все впереди, но для Пушкина — уже все позади. Они уже уехали, эти женщины, и Пушкин потрясен их подвигом, как и вся думающая, чувствующая Россия. Как взволнован он был, прощаясь с любимейшей из них, с Марией Волконской! Мария Николаевна Волконская свидетельствует в своих «Записках»: «...Во время добровольного изгнания в Сибирь жен декабристов он был полон искреннего восторга; он хотел мне поручить свое «Послание к узникам» для передачи сосланным, но я уехала в ту же ночь, и он его передал Александре Муравьевой...» И еще: «Пушкин мне говорил:
«Я намерен написать книгу о Пугачеве. Я поеду на места, перееду через Урал, поеду дальше и явлюсь к вам просить пристанища в Нерчинских рудниках...» Намерение это Пушкин не осуществил, как мы знаем, но как он полон и тогда, и позднее судьбой сосланных!..
А ведь тогда, когда он целовал на прощанье руку Марии Волконской, Пушкин еще не знал всего! И тогда, когда писал знаменитый ответ Татьяны отдана другому, буду верна ему, — и тогда еще всего не знал! Не знал того, что будет дальше и о чем Волконская напишет в своих «Записках» — о самой встрече ее с мужем. Но раньше, чем вернуться к «Запискам» Волконской, хочется задержаться вот на чем: в этой последней встрече Онегина и Татьяны нам жаль Татьяну?
Аполлинарию Суслову — ее было жаль, мы, помнится, говорили об этом. Жаль, потому что на наших глазах с ней происходит процесс страшнейший: она расточает, расточает драгоценнейшее и невосстановимое достояние свое — свою душу, расходует, опустошает ее. Очень жалко бывает человека в маленькой, суетливой, недостойной любви. Но Татьяну?..
Мы помним пушкинское: «О, кто б немых ее страданий в сей быстрый миг не прочитал!..» Жалко ее? Не знаю. Во всяком случае, не так, как Суслову. Потому что мы убеждены: она выдержит все. На наших глазах она нарастила — и продолжает наращивать — свои душевные силы. Жить ей тяжело, да, но не стыдно. Это очень важно для человека: жить — не стыдно.
И тут возникает еще один вопрос: а Онегина нам жалко? Нет. «В минуту, злую для него» — не жалко вовсе. И злорадное «сам виноват» здесь ни при чем. Ни в чем он не виноват. Не жаль потому, что мы чувствуем в нем то же, что и у Татьяны: как в крупных, достойных
человека испытаниях закаляется, крепнет онегинская душа, такая ленивая поначалу, такая себялюбивая, — каким благословением для него является эта любовь! Теперь-то он готов ко всему, даже к тому великому противостоянию, что вело его сверстников на Сенатскую площадь. Недаром же останется в наследии Пушкина десятая глава, недаром прозвучат в ней имена Якушкина, Лунина, Николая Тургенева. Это уже не игра с самим собой на бильярде в сельском уединении, не дуэль с оскорбленным мальчиком, — единственное, на что он, так верящий в высокое свое предназначение, оказался когда-то способен. Не в дуло приятельского пистолета ему отныне заглядывать, — очевидно, так, — смотреть бестрепетно в жерла правительственных пушек.
Мы часто ставим рядом имена Онегина и Печорина. Печорина — вот кого жаль. С его разнообразными любовными победами, с лицом, «которое так нравится женщинам». Его — жаль. Потому что ему с его «силами необъятными» делать нечего, и тратит он их на сущие пустяки: то коня покроет перекупленным на глазах у княжны Мэри ковром и проведет коня у нее под окнами к восхитительной ее досаде, то обдуманно задержит ее руку в своей, то рассчитает, что два дня не будет теперь с ней разговаривать. Сам будет удивляться: «Зачем я так упорно добиваюсь любви молоденькой девочки, которую обольстить я не хочу и на которой никогда не женюсь? К чему это женское кокетство?» И сам же ответит, как бы невзначай, на следующей же странице своего дневника: «Честолюбие у меня подавлено обстоятельствами»... Бесконечно жаль человека, жизнь которого — не по его вине! — ушла на мелочи, не в зачет.
Обратите внимание: в больших испытаниях, в том числе и в большой любви, душа наращивает силы, в маленькой любви — истощает себя, съеживается, гаснет; ее очень жаль, эту бедную душу!.. Она сосредоточивается на том, как отомстить, обездолить семью любимого когда-то человека, — так было с Аполлинарией Сусловой. Она же, душа, вырастает для громадного подвига — это мы о той, «с которой нарисован Татьяны милый идеал», — независимо от того, нарисован он с Марии Волконской, как мы до сих пор предполагали, или с Натальи Фонвизиной, как уверяют нас некоторые исследователи.
И Пушкин, повторяем, не знал того, что будет с Марией Волконской дальше и что нашло отражение в ее «Записках», не знал о встрече ее с мужем уже в Сибири, уже на каторге.
Да и сама она — знала ли еще за минуту до того, как встретится с ним, что именно сделает в первый, потрясающий момент встречи, когда он заторопится, увидев ее,
заспешит, и все же не сможет идти быстрее: будут мешать, будут звенеть на ногах его кандалы! Знала ли она сама, что именно сделает?
...Я только теперь, в руднике роковом,
Услышав ужасные звуки,
Увидев оковы на муже моем.
Вполне поняла его муки.
Он много страдал, и умел он страдать!
Невольно пред ним я склонила Колени —
и прежде чем мужа обнять,
Оковы к губам приложила.
И тихого ангела бог ниспослал В подземные копи, —
в мгновенье И говор, и грохот работ замолчал,
И замерло словно движенье.
Чужие, свои, — со слезами в глазах.
Взволнованны, бледны, суровы.
Стояли кругом...
Не было Пушкина, когда возвращались оставшиеся в живых декабристы. Не довелось ему читать «Записок» М. Н. Волконской. Не он переложил их стихами — это другой поэт, Н. А. Некрасов, читал и переложил. Но Пушкин — как точно почувствовал, как верно воссоздал он тот женский тип, которым цветет Россия!
НЕЛЬЗЯ ТАК С ЧЕЛОВЕКОМ!
...Тогда совершилось чудо: Богатырь не шелохнулся...
Салтыков-Щедрин
В молодости у Некрасова был эпизод, о котором каждый учитель литературы рассказывал, конечно, своим ученикам. Об этом эпизоде и в учебнике написано. В одну майскую ночь 1845 года читал Некрасов вместе с Григоровичем, тоже молодым тогда человеком, повесть никому доселе не известного автора и плакал, и Григорович плакал, а когда рукопись часам к четырем утра была дочитана, оба они решили, что незачем откладывать хорошее дело, и бросились на квартиру к автору, тем более что майская ночь в Петербурге так напоминает тихий, задумчивый и вполне подходящий для дружеских излияний полдень, кинулись сказать автору, что он — гений.
А потом, чуть попозже, пришли к Белинскому: «Новый Гоголь объявился!»
Белинский, как известно, проворчал: «У вас нынче Гоголи как грибы растут».
Все это, повторяю, известно. И известны слова, которые Белинский сказал автору «Бедных людей»: «Вам правда открыта и возвещена, как художнику, досталась, как дар, цените же ваш дар и оставайтесь верным, и будете великим писателем!..» Он взволнованно вглядывался в молодое, болезненное лицо: «Не может быть, чтоб вы, в ваши двадцать лет, уж это понимали». Он повторял: «Вы до самой сути дела дотронулись, самое главное разом указали...»
«Это была самая восхитительная минута во всей моей жизни, — писал поздней Достоевский. — Я в каторге, вспоминая ее, укреплялся духом...»
Но что ж это «самое главное», на что «разом» указал Достоевский? Почему так взволновались Некрасов и Григорович, а вслед за ними и взыскательный, искушенный литературными превратностями Белинский? «Да ведь этот ваш несчастный чиновник... и несчастным-то себя не смеет почесть от приниженности, и почти за вольнодумство считает малейшую жалобу... А эта оторвавшаяся пуговица,
а эта минута целования генеральской ручки, — да ведь тут уж не сожаление к этому несчастному, а ужас, ужас!..»
Чтобы уж покончить с этим, надо сказать, что Достоевский, несмотря на пережитую им «восхитительную минуту», довольно скоро разошелся с Белинским, несколько охладел к нему. То ли был неправ в этом сам Достоевский, очень шумно начавший и уже не переносивший критических замечаний в свой адрес, а они у Белинского были, то ли Белинский в этих критических замечаниях был, действительно, не очень точен и приписывал спешке и небрежности то, что становилось постепенно органической манерой Достоевского: неровность и нервность его письма. Так или иначе, отношения между этими двумя литераторами оставляли в ту пору желать лучшего.
А потом, в одно злополучное утро, Достоевский, взволнованный, потрясенный, придя к своему приятелю Яновскому, скажет ему: «Батенька, великое горе свершилось, Белинский умер». Мы, живые, всегда ощущаем свою вину перед теми, кто уходит, но какое же раскаянье, какое непреходящее чувство вины должно было терзать душу обласканного когда-то Достоевского!
И — кто знает? — не это ли непреходящее чувство вины заставило его через несколько месяцев, едва в его руки попало знаменитое письмо Белинского к Гоголю, принести его на собрание общества, членом которого он состоял, и читать это письмо вслух, и не раз, и не два читать, а столько раз, сколько его об этом просили приходящие и приходящие люди. «...Ужасное зрелище страны, где люди торгуют людьми... где, наконец, нет не только никаких гарантий для личности... но нет даже и полицейского порядка, а есть только огромные корпорации разных служебных воров и грабителей...»
Вот что читал Достоевский: письмо, которое современники называли «политическим завещанием» Белинского, а В. И. Ленин позднее назовет «одним из лучших произведений бесцензурной демократической печати».
Именно это чтение «преступного письма литератора Белинского» и будет позднее вменено в главную вину Достоевскому во время состоявшегося в 1849 году суда над петрашевцами. В стране, «где нет никаких гарантий для личности», Достоевский будет после долгих месяцев одиночного заключения стоять со своими товарищами на эшафоте, ожидая расстрела, и воспринимать как последний звук жизни отдаленные, отрывистые слова воинской команды, и отчужденно, скорбно, как смотрят на покойника, смотреть на черноволосого человека, уже привязанного к столбу и последним, строптивым движением скинувшего с головы закрывающий лицо смертный капюшон, на Петрашевского. Вот сейчас, сейчас он должен быть первым расстрелян, уже подняты ружья к плечу, уже прицеливаются солдаты, уже ждут последней команды...
О чем думал Достоевский? Он сам напишет об этом позднее: «...Жить мне оставалось не более минуты. Я вспомнил тебя, брат, всех твоих; в последнюю минуту ты, только один ты был в уме моем, я тут только узнал, как люблю тебя, брат мой милый! Я успел тоже обнять Плещеева, Дурова, которые были возле, и проститься с ними...» Напишет, как мы понимаем, уже после того, как весь этот садистский спектакль, до последних мелочей расписанный венценосным режиссером, сменится наконец в последнюю секунду — обязательно в последнюю секунду! — истинными приговорами.
Нельзя так с живым человеком! «Приготовления тяжелы. Вот когда объявляют приговор, снаряжают, вяжут, на эшафот возводят, вот тут ужасно!.. Что же с душой в эту минуту делается, до каких судорог ее доводят!..» Это все Достоевский сам напишет, расскажет устами одного из своих героев, князя Мышкина. «Зачем такое ругательство, — будет говорить князь Мышкин, — безобразное, ненужное, напрасное? Может быть, и есть такой человек, которому прочли приговор, дали помучиться, а потом сказали: «Ступай, тебя прощают». Вот этакой человек, может быть, мог бы рассказать... Нет, с человеком так нельзя поступать!..»
Так вот герой Достоевского этого мог и не знать: «Может быть, и есть такой человек...» Но сам Достоевский знал доподлинно: такой человек есть, и не один — он сам и его товарищи. Дали помучиться — и отпустили. Куда отпустили? На каторгу.
«Я не уныл и не упал духом — так будет писать Достоевский после всего пережитого на Семеновском плацу. — Жизнь везде жизнь, жизнь в нас самих, а не во внешнем. Подле меня будут люди, и быть человеком между людьми и остаться им навсегда в каких бы то ни было несчастьях, не уныть и не пасть — вот в чем жизнь, в чем задача ее...»
И все-таки каторга — это каторга. Человек вроде уже и не человек. Половина головы его выбрита, словно подчеркнуто этим — не человек он. Туз, нашитый на спине, — отчетливая мишень, чтобы в случае побега каторжанина легче было стрелять ему вдогонку. Человек ходит, ест, спит, на спине его — туз. Видит во сне, быть может, мать, или любимую жену, или подросших без него детей, слышит дорогие голоса, просыпается на мокрой от слез подушке, а вокруг все то же, и на спине — бубновый туз, отчетливая мишень для выстрела.
Так что Достоевскому, которому так рано станет внятной беспредельная униженность человеческая, собственной его судьбой все это подтвердится: да, беспредельная униженность, оскорбленность — пожизненная.
«Я ничего не брала у вас!» — скажет Соня Мармеладова, когда на поминках по ее отцу Лужин подсунет ей в карман деньги и ее же обвинит в краже. «Разве можно так!» — воскликнет она бессильно и жалобно, как подстреленная птица. Но уж это-то Соня знает доподлинно: так — можно. Только так и делается на свете. И где бы ни раздавался этот бессильный, жалобный вскрик, Достоевский удивительно умеет его услышать. Пьяную исповедь Мармеладова услышит — под пьяный трактирный смех: «Понимаете ли, понимаете ли вы, милостивый государь, что значит, когда уже некуда больше идти? Нет! Этого вы еще не понимаете...» Причитания только что овдовевшей Катерины Ивановны услышит: то ли оплакивает она своего погибшего мужа, то ли проклинает его. «...Ведь он, пьяница... ихнюю да мою жизнь в кабаке извел!.. Так чего уже тут про прощение говорить! И то простила!..» Услышит рассказ штабс-капитана Снегирева о том, как Дмитрий Карамазов схватил его за бороденку, за «мочалку» его, и вывел из трактира на улицу, а сын его, Илюшенька, «Папа, кричит, папа!». «Хватается за меня, обнимает меня, хочет меня вырвать, кричит моему обидчику: «Пустите, пустите, это папа мой, папа, простите его», — так ведь и кричит: «Простите»; ручонками-то тоже его схватил, да руку-то ему, эту самую-то руку его и целует...»
Да этого ведь и не перечислишь — звучащих в романах Достоевского голосов, сбивчивых, исступленных, этих исповедей, когда все струны душевные перетянуты во всем — последний предел. Или такое, тоже в «Братьях Карамазовых»: «А так и оставайтесь с тем на память, что вы-то у меня ручку целовали, а я у вас нет... Так я и Мите сейчас перескажу, как вы мне целовали ручку, а я-то у вас совсем нет...» Самоутверждение человека, давно уже и беспредельно униженного, который и в ласке, расточаемой ей сейчас «анге-лом-барышней», видит только прихоть избалованного благородными чувствованиями сердца, в которых Грушеньке (это все ее слова) изначально и безнадежно отказано. И опять-таки все болезненное, все — на крайнем пределе.
Или другое, и тоже в существе, которому в благородных чувствах отказано, когда бешеные деньги, цена женской независимости, женского достоинства, огромнейшие деньги — в камин, в огонь. И торжествующий вопль Рогожина, только что эти деньги принесшего: «Вот это так королева! Вот это так по-нашему! Ну, кто из вас, мазурики, такую штуку сделает, а?..»
Бессмысленность страданий, бессилие самоутверждения, бесконечный прибой изнурительных, болезненных страстей. Растянутые беспредельно сутки, каждая секунда которых занята таким вот перенапряженным общением, заполненное до последнего сантиметра пространство, когда и повер-нуться-то невозможно, чтобы кого-нибудь не потревожить и не задеть, спрессованный до предела воздух, дышать которым — немыслимо... И вдруг в одном из романов: высокий берег полноводной сибирской реки, холодное, чистое небо — и только тишина, только этот неохватимый взглядом простор. Высокое понимание истинных ценностей бытия, тихое, преданное сердце рядом... Так ведь через какое душевное смятение надо было пробиться и какое преступление искупить, сколько оставить позади, понять и отсечь, чтобы два человека почувствовали наконец возможность обновленного, полноценного существования, чтобы «сердце одного заключало бесконечные источники жизни для сердца другого»...
Где почувствовали они это? Опять-таки на каторге, потому что «жизнь везде жизнь, жизнь в нас самих, а не во внешнем...»
...Я задремал. Ты ушла молчаливо,
Принарядившись, как будто к венцу,
И через час принесла торопливо
Гробик ребенку и ужин отцу.
Голод мучительный мы утолили,
В комнате темной зажгли огонек.
Сына одели и в гроб положили.
Случай нас выручил?
Бог ли помог?
Ты не спешила печальным признаньем.
Я ничего не спросил,
Только мы оба глядели с рыданьем,
Только угрюм и озлоблен я был...
Это уже не Достоевского, это Некрасова голос, а как перекликается с Достоевским, с той же Сонечкой Марме-ладовой, которая так же «ушла молчаливо, принарядившись, как будто к венцу», а потом вернулась и положила на стол деньги, и Катерина Ивановна, которая перед тем попрекала ее и буквально выталкивала на улицу, Катерина Ивановна и Соня, обе они, наплакавшись досыта, так и заснут в обнимку, укрывшись одним платком. «Стихи эти, — напишет о приведенных нами стихах Некрасова цензор,» — невозможны потому безнравственному чувству, которое они возбуждают...» Вот и вся история Сонечки Мармеладовой, написанная Достоевским гораздо позднее, тоже невозможна, видимо, по «безнравственному чувству», ею внушаемому...
Муза Некрасова, как и проза Достоевского, словно босиком по толченому стеклу ходит. Циклы стихов Некрасова будут называться «На улице», «О погоде». Что может быть чувствительнее для бедняка, нежели перепады петербургской погоды с ее постоянной сыростью или жестокими морозами — бедняку нечего надеть на себя, нечем себя обезопасить, у него чаще всего нет крыши над головой. «Всевозможные тифы, горячки, воспаленья идут чередом, мрут, как мухи, извозчики, прачки, мерзнут дети на ложе своем...» А чего не увидишь на улице! Закушенный калач в руке рыночного вора, торопливо закушенный, пока не поймали, пока не бьют; крошечный гробик под мышкой у солдата; жестоко избиваемую, обессиленную лошадь. На Марсовом поле, где когда-то взгляд Пушкина восхищенно отмечал лоскутья победных знамен и сиянье «насквозь простреленных в бою» медных касок, Некрасов увидит жалких на вид воинов под сеющимся непрерывно дождем. И на Сенатской площади, где столько должно бы возникнуть ассоциаций, у памятника, который пренебрежительно именуется здесь «медной статуей Петра», Некрасов упрямо вслушивается в свое: «Чу, рыдание баб истеричное. Сдали парня? Жалей не жалей, перемелется — дело привычное...»
Некрасов будет сидеть в Мариинском императорском театре и смотреть, как известная танцовщица пляшет русский трепак, а видеть свое: как мужик в эту пору «пляшет довольно, зиму дома сидеть не любя». Он те же рекрутские наборы вспомнит, что привлекли его внимание и на Сенатской: «Это горе идет-подвигается к тихим селам, к глухим деревням...» Он в поезде поедет, в первом классе, на бархатных подушках, со всем возможным по тем временам комфортом, а видеть будет тысячи и тысячи крестьян, согнанных в свое время сюда на строительство этой дороги: «Мы надрывались под зноем, под холодом, с вечно согнутой спиной, жили в землянках, боролися с голодом, мерзли и мокли, болели цингой. Грабили нас грамотеи-десятники, секло начальство, давила нужда...» Он к окну подойдет в своей вполне благоустроенной столичной квартире и увидит, как по Литейному проспекту, прямому как стрела проглядывающемуся из конца в конец, удаляются от парадного подъезда мужики, «повторяя: суди его бог! разводя безнадежно руками...». Они без шапок идут, пока глаз их видит, потому что нельзя иначе, кругом господа... Равнодушная столица, равнодушно взирающая на этих мужиков...
И надолго остановится Некрасов, не замечая этой равнодушно снующей толпы, на площади Сенного рынка. Бьют молодую крестьянку — методично, тупо. Обыденная, ничем не примечательная сцена. Разве только одно: «Ни звука из ее груди, лишь бич свистал, играя...» Равнодушное, деловое избиение, цель которого одна, простая: вытравить из человека раз и навсегда самое понятие о человеческом достоинстве.
Без вины меня барин посек,
Сам не знаю, что сталось со мной?
Я не то, чтоб большой человек,
Да, вишь, дело-то было впервой.
Как подумаю, весь задрожу,
На душе все черней да черней.
Как теперь на людей погляжу?
Как приду к ненаглядной моей?..
Вот это и есть самое главное: как погляжу на людей, как покажусь на глаза своей ненаглядной — человек я?..
А вдоль Невского проспекта торопится в санях курьер, но вот остановился, какой-то извозчик его задержал, остановился и не пожалел времени, чтобы извозчика этого наказать. Поводья торопливо кинул случившемуся рядом другому извозчику, тот стоит, держит поводья, терпеливо ждет, пока их благородие отделает как полагается его товарища. Лицо этого извозчика спокойно: обычное! И люди вокруг не замедляют шага: что тут такого, обычное дело!..
И остановился в недоумении единственный человек — не русский поэт и вообще человек не русский, остановился приезжий француз, встреченный в России с особым почетом, французский дворянин, маркиз!..
Маркиз де Кюстин приедет в николаевскую Россию убежденным монархистом, а уедет из нее, по собственному его признанию, хорошо распропагандированным республиканцем.
Никто его пропагандировать не будет. Просто он увидит то, что увидит, и думать будет о том, о чем не сможет не думать.
Увидит вот эту будничную сцену в центре Петербурга. Что больше поразит его — самый факт избиения или равнодушно снующая мимо толпа? Или этот извозчик, что придерживает лошадь их благородия, пока тот беспрепятственно избивает его товарища?
Его поразит будничность происходящего, равнодушие окружающих. Но не только это. Его поразит количество льстецов при дворе, их раболепные манеры, их интересы и мнения, всецело подчиненные интересам и мнениям самодержца. «Свободы, гения и славы палачи», — всего за два года до приезда де Кюстина скажет об этих людях Лермонтов. «Жадною толпой стоящие у трона», скажет он, и эти слова Лермонтова справедливо расценят как прямой вызов трону. Вот и де Кюстин прежде всего в самом царе не увидит достоинства, в Николае I, который умел обольщать людей и на первых порах де Кюстина обольстил совершенно. Но вот в присутствии французского маркиза царю подают прошение, присланное от Трубецких из Сибири: Трубецкие просят, чтобы мальчику, родившемуся в Сибири, было высочайше разрешено получить образование в Петербурге. «Мне смеют, — надменно возразил царь, — напоминать о человеке, который состоял против меня в заговоре?»
Трубецкие обратились к нему с этим прошением в 1839 году, именно тогда приезжал де Кюстин, через четырнадцать лет после восстания! «Владыка восьмидесяти миллионов мстит! — так напишет де Кюстин в книге, посвященной путешествию в Россию. — Мой приговор царю Николаю подписан...» В холодной мстительности царя, в этой его злопамятности де Кюстин справедливо увидит все то же: отсутствие человеческого достоинства.
Он многое увидит в России. Увидит систему шпионажа и сыска, которую успешно насаждает Третье отделение его императорского величества канцелярии. Разглядит тот молчаливый сговор, по которому ему, иностранцу, будут показывать Россию лишь самой выгодной стороной. Главное увидит: то, что за каждым барским выездом, за каждой шляпкой, за каждой карточной ставкой есть некий человеческий эквивалент: количество крепостных жизней и крепостного труда.
И все это будет горькая правда о России. Недаром книга де Кюстина «Россия в 1839» возбудит такое негодование при русском дворе. И только в единственном де Кюстин будет неправ: в своем утверждении, что «в России страх заменяет мысль». Мысль в России не иссякала, в скованной страхом стране она жила, трепетала, билась.
«Николай перевязал артерию — но кровь переливалась проселочными тропинками... — так писал А. И. Герцен в книге «Былое и думы», — Тридцать лет тому назад Россия будущего существовала исключительно между несколькими мальчиками, только что вышедшими из детства, до того ничтожными и незаметными, что им было достаточно места между ступней самодержавных ботфорт и землей, — а в них было наследие 14 декабря, наследие общечеловеческой науки и чисто народной Руси. Новая жизнь эта прозябала, как трава, пытающаяся расти на губах непростывшего кратера».
И дальше там же: «Главная черта всех их — глубокое чувство отчуждения от официальной России, от среды, их окружавшей, и с тем вместе стремление выйти из нее — а у некоторых порывистое желание вывести и ее самое».
Де Кюстин разглядит и русскую интеллигенцию, да.
«Они очень несчастны и очень привлекательны, — скажет он о молодых представителях ее, — ни один обитатель иных стран не походит на них». Но он словно вовсе не заметит, что и несчастной, и привлекательной делает русскую интеллигенцию это усилие непрерывно возбужденной мысли. И о том же самом, о чем говорит де Кюстин, о систематическом вытравливании человеческого достоинства будет уже не в беглых путевых заметках иностранца, а систематически, из года в год, из десятилетия в десятилетие говорить русская литература. «Литература у народа, не имеющего политической свободы, является единственной трибуной, с высоты которой он может заставить услышать голос своего негодования и своей совести». Так напишет о русской литературе Герцен.
Русская литература дрогнет, увидев качающегося на козлах экипажа усталого слугу. «Мне так стало во внутренности моей стыдно, что едва я не заплакал», — задолго до Кюстина напишет Радищев. Радищев о многом напишет в своем «Путешествии из Петербурга в Москву» — о непосильном, нечеловеческом труде крепостного крестьянина, о кричащей нищете, в которой он живет, о том, что «крестьянин в законе мертв», о том, что владение рабами «есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние». Но он, пишущий все это с риском для жизни, он тем не менее и малости себе не простит. «Какое преступление сделал бедный твой Петрушка, что ты ему воспрещаешь пользоваться усладителем наших бедствий... сном? ...Ты думаешь, что кусок хлеба и лоскут сукна тебе дают право поступать с подобным тебе существом, как с кубарем, и тем ты только хвастаешь, что не часто подсекаешь его в его вертчении...» «Подобное тебе существо», «братья наши, в узах нами содержимые», «природное всех равенство»... Вот о чем говорит Радищев: братство, равенство, человеческое достоинство... «Бурлак, идущий в кабак, повеся голову, и возвращающийся обагренный кровью от оплеух, многое может решить доселе гадательное в истории российской».
Русская литература услышит голос обезумевшего от отчаяния маленького чиновника, лицо которого «к решетке хладной прилегло, глаза .подернулись туманом, по сердцу пламень пробежал...». И вот оно, сказанное полушепотом, но с таким ожесточением, с такой болью: «Добро, строитель чудотворный!.. Ужо тебе!..»
И в заботы Акакия Акакиевича Башмачкина вникнет русская литература, в предстоящие ему расходы. Строить шинель не шутка: ведь и воротник нужен, и пуговицы, и всякий иной приклад...
И над маленьким, странным человеком склонится, сидящим на берегу пруда. В стране, где люди, по выражению Белинского, «сами себя называют не именами, а кличками: Ваньками, Васьками, Стешками, Палашками», этот человек и вовсе забыл, как его зовут. Звали вроде Кузьмой, да барыня приказала звать Антоном, а нынче все — Сучок да Сучок. Он и поваром был, этот человек, и актером, и доезжачим, и учеником у сапожника, и даже кофишенком при буфете состоял — что это такое, он и сам объяснить не может; то его в кучера произведут, то, как теперь, господским рыболовом назначат, а только в пруду этом рыбы отродясь не было... И женат он не был: барыня «Татьяна Васильевна, покойница, — царство ей небесное! — никому не позволяла жениться. Сохрани бог! Бывало, говорит: «Ведь живу же я так, в девках... Что за баловство!..»
А вот это помните? «...Приехал в отпуск князюшка и подгулявши выкупал меня, раба последнего, зимою в проруби! Да как чудно! Две проруби: в одну опустит в неводе, в другую мигом вытянет — и водки поднесет...» Как говорил князь Мышкин: Что же с душой в эту минуту делается, до каких судорог ее доводят?..»
Как же произошло вот это бессмысленное доведение человеческой души до таких «судорог»?.. Этими систематическими, целенаправленными избиениями? «Розга царила везде. В школе, на мирском сходе, она была непременной принадлежностью на конюшне помещика, потом в казармах, в полицейском управлении... В книгах наших уголовных, гражданских и военных законов розга испещряла все страницы. Она составляла какой-то легкий, мелодраматический перезвон в общем громогласном гуле плети, кнута и шпицрутенов...»
Так говорил во время суда над Верой Засулич ее защитник Александров. Он с сарказмом обрушивался на те круги, которым «даже сейчас» (суд происходил в 1878 году), несмотря на всякие контрмеры, «казалось вдруг как-то неудобным и опасным оставить без розог Россию, которая так долго вела свою историю рядом с розгой, — Россию, которая, по их глубокому убеждению, сложилась в обширную державу и достигла своего величия едва ли не благодаря розгам...».
Так вот — этот суд был, повторяем, в 1878 году, а демократическая печать задолго до того вела речь о необходимости отмены телесных наказаний. «Самые живые, современные национальные вопросы в России теперь, — писал Белинский в том своем знаменитом письме к Гоголю, — уничтожение крепостного права, отменение телесного наказания, введение по возможности строгого выполнения хотя тех законов, которые уже есть...» Это в 1847 году: «отменение телесного наказания». И Герцен спустя десять лет, в 1857 году, в первом же номере «Колокола» очертит свою программу: «Освобождение слова от цензуры. Освобождение крестьян от помещиков. Освобождение податного сословия от побоев...»
Одно и то же, из десятилетия в десятилетие: с одной стороны — целенаправленное уничтожение человеческого достоинства («...Закон — мое желание, кулак моя полиция...»), с другой — целенаправленная его защита. Вот это и будет «самое главное» — защита его: «...Вы до самой сути дела дотронулись, самое главное разом указали... Эта оторвавшаяся пуговица, это целование генеральской ручки, — ужас, ужас!..» Ужас, что человек, обделенный судьбой, даже и несчастным-то почувствовать себя почитает за дерзость...
А в 1860 году, то есть еще через три года после выхода первого номера «Колокола», героиня одной из русских пьес сказала человеку, которого полюбила самозабвенно: «Возьми меня с собой отсюда». Сказала так свободно, так просто, словно ничего естественней и быть не могло, — ей, мужней жене, воспитанной в свое время и выросшей в замкнутой среде, в купеческом доме, — ничего естественней не было, чем уехать сейчас на все четыре стороны, движением плеч стряхнув с себя прошлое, как сношенную одежонку.
Но избранник ее искалечен необратимо. «Нельзя мне, Катя, — отвечает он. — Не по своей я воле еду: дядя посылает...» Он и сам не понимает, как глубоко его падение, потому что, невольно разрыдавшись при прощанье с любимой, только одного и попросит у бога, «чтобы она умерла поскорее, чтобы ей не мучиться долго...» Вот такая душа — вроде бы и жалеющая, и любящая, но ничего не умеющая
взять на себя, за что бы то ни было ответить. «Что обо мне-то толковать! — скажет он чуть раньше. — Я вольная птица». Он и сам не понимает, какой горькой издевкой над самим собой звучат эти его слова.
А что же женщина — упрекнет его? Нет, не упрекнет. Вот и она, как Соня Мармеладова, понимает, что так — можно. Именно такие люди и живут вокруг нее — со сломленными душами. «Поезжай с богом! — скажет она. — Не тужи обо мне. Сначала только разве скучно будет тебе, бедному, а там и позабудешь». Она ЕГО жалеет, но уже задумчиво, уже словно бы и рассеянно жалеет, потому что у женщины этой одно на душе невольно: а с нею что же теперь? Она — погибла. «Катя, нехорошо что-то. Не задумала ли ты чего?..»
Ничего она еще не задумала. Просто все, что было Катериной Кабановой, все это разбито и истоптано, оставлено в одиночестве здесь, в безлюдном сквере города Калинова. Это потом пронзит ее: «...А поймают меня, да воротят домой насильно... Ах, скорей, скорей...»
Все, что угодно, лишь бы не возвращаться домой! Лишь бы не продолжали глумиться дальше! Не истоптано ничего, не ползать ей с перебитым хребтом, не смея оторвать от земли виноватого взгляда!.. «Друг мой! Радость моя! Прощай!..»
Именно об этом говорила когда-то Катерина: «Буду терпеть, пока терпится». Вовсе не склонная к аффектации и рисовке, говорила Варваре: «А уж коли очень мне
здесь опостынет, так не удержат меня никакой силой. В окно выброшусь, в Волгу кинусь. Не хочу здесь жить, так не стану, хоть ты меня режь!» Именно об этом думает сейчас: «Не хочу здесь жить, так не стану...»
Думает: «Что домой, что в могилу — все равно!» Тупому, бессмысленному, бесконечному унижению она предпочитает могилу.
Это прозвучало тогда в литературе впервые, такого еще не было: лучше гибель, чем унижение, чем это бесконечное попирание человеческого достоинства!.. Неграмотная женщина, Катерина и слов-то таких не знает: человеческое достоинство! Но торжествует сейчас именно оно.
И демократическая печать встрепенулась: наконец-то! Наконец-то начался — так казалось демократам — необратимый процесс всенародного освобождения. Если уж самый
добрый и кроткий человек, самый непритязательный, готовый «терпеть, пока терпится», — человек этот дерзает любой ценой (и какою страшной ценой!) утвердить собственный выбор между возможностью быть (или даже умереть) свободным и навязанной извне унизительной судьбой.
Счастливые люди были шестидесятники, — им казалось, что еще одно усилие, один побуждающий толчок извне, и «русская сила» будет вызвана на «решительное дело». Именно так писал о драме «Гроза» Добролюбов: «Русская сила... вызвана на решительное дело». В «темном царстве» российской действительности блеснул, наконец, для критика-демократа луч надежды. Почему мне этого и не говорить, если я знаю, — вторил Добролюбову Чернышевский, чуть позднее, уже из крепости. Вот и Чернышевский верил, что никакие повороты личной его судьбы, никакие правительственные репрессии не остановят победоносного хода неизбежной в России революции. Шестидесятникам она казалась близкой, рукой подать.
А потом оказалось, что вовсе оиа не так близка. И семидесятники ждать уставали. Мы и об этом уже говорили с вами. Семидесятники взывали к народу: «Ты проснешься ль, исполненный сил?..» Торопили его: «Чем хуже был бы твой удел, когда б ты менее терпел...» Изнемогали в бесконечных душевных усилиях: «Мечты!.. Я верую в народ, хоть знаю, эта вера к добру покамест не ведет...» И в страшный символ вырастали глуповские «бунты на коленях». («Знали они, что бунтуют, но не стоять на коленах не могли. Господи! Чего они не передумали в это время!..») И в символ превращалась та веревочка, которую пропахший мякинным хлебом и кислой овчиной мужик сам сплел, чтобы его связали покрепче. И едкой горечью наполнена сказка Салтыкова-Щедрина о Богатыре, что залез в дупло и заснул крепким сном. «Прошла слава про Богатыря по всей земле. И свои, и чужие, и други, и супостаты не надивятся на него... А сверх того, и надежда есть: беспременно Богатырь для того в дупло залег, чтобы еще больше во сне сил набраться: «Вот ужо проснется наш Богатырь и нас перед всем миром вос-прославит». «...Многострадальная и долготерпеливая была оная страна и имела веру великую и неослабную. Плакала — и верила; вздыхала — и верила. Верила, что когда источник слез и воздыханий иссякнет, то Богатырь улучит
минуту и спасет ее. и вот минута наступила...» В общем, не дождалась та сторона великого чуда: так и не шелохнулся Богатырь, когда нагрянули супостаты своей великой силою. Сколько пережить надо, сколько верить и извериваться, чтобы возникла под пером великого русского сатирика такая горькая сказка!
И все большее интеллигенция привыкла брать на себя, все большего ждать только от своих усилий. Это к ним обращался Некрасов:
Средь мира дольного Для сердца вольного Есть два пути.
Взвесь силу гордую,
Взвесь волю твердую, —
Каким идти?..
Их заклинал он встать на «дорогу честную»:
По ней идут Лишь души сильные,
Любвеобильные,
На бой, на труд.
За обойденного,
За угнетенного Стань в их ряды...
Им обещал знаменитое свое:
Спасибо вам скажет сердечное Русский народ...
И словно от имени всех их, интеллигентов-семидесят-ников, отвечал в своем письме, уже цитированном нами, погибший 1 марта 1881 года Игнатий Гриневицкий: «...Я не увижу победы, не буду жить ни одного дня, ни часа в светлое время торжества... Но своею смертью сделаю все, что должен был сделать...» Словно от имени их всех писал тот безвестный автор в «Обозрении «Народной Воли», в стихотворении, которое тоже нам уже довелось цитировать:
...Кровавые реки, винтовка и плаха,
Проклятье, отчаянья стон...
Как много в бою вас погибло без страха,
О, братьев святой легион...
Скорее, товарищи! Сомкнутым строем Стремительно кинемся в бой!
Мы грудью опасное место закроем,
Мы брешь загородим собой...
Все большее, повторяем, привыкали они брать на себя, и по-прежнему — поскольку вера в людях неисчерпаема — уповать на то самое «спасибо сердечное», на проснувшееся наконец в народе осознание своего достоинства. Опять, как и тридцать лет назад, — неисчерпаема в сердцах человеческих вера! — в ответ на унижение человеческого достоинства, взывать к пробуждению его, самоотверженно его защищать.
Вот почему такое внимание привлекли к себе события в Петербургском доме предварительного заключения, случившиеся в 1878 году. Петербургский градоначальник Тре-пов вдруг взъярился: показалось ему, что, когда он этот дом предварительного заключения осматривал, один из заключенных, студент Боголюбов, был к нему недостаточно почтителен. «Высечь!» — приказал раздраженный градоначальник и с тем уехал.
И Боголюбова подвергли этому унизительному наказанию публично, в присутствии всех его товарищей по заключению, которых специально собрали в тюремном коридоре для столь поучительного зрелища. Трудно описать, что при этом творилось в тюрьме: политзаключенные протестовали, требовали немедленно Трепова, женщины бились в истерике; нервы у людей, выдержавших к тому времени по нескольку лет одиночного заключения, были и без того на пределе. Заключенных избивали, затыкали им рты, с силой распихивали обратно по камерам.
Вот об этом всем и узнала спустя какое-то время Вера Засулич, сама еще недавно сидевшая в крепости, пережившая все, что может пережить человек, гонимый за свои убеждения. Вот так это все у нее и отозвалось в сердце: опять избиения после всего, чего, казалось бы, добились, опять безнаказанность унижений! Никакого Боголюбова она не знала, в Петербургском ДПЗ не была; ей с избытком хватило личного опыта, чтобы заполнить пробелы в скупой информации. Вера Засулич пришла к градоначальнику Трепову во время обычного его приема и, когда он отошел от нее к очередной просительнице, выстрелила в него из револьвера.
Выстрел этот отозвался по всей России. Раненый Тре-
пов довольно быстро поправился и даже, как выражались тогда, «выезжал», а Вера Засулич, сразу же отдавшаяся в руки полиции, предстала перед судом присяжных.
Вот именно на этом суде защитник Александров и произнес ту речь о розгах, которую мы цитировали. Тот восторг, с которым публика, наполнившая зал суда, встретила оправдание Засулич, почтенные сановники, которые, расчувствовавшись, говорили, что сегодня «самый счастливый день» в их жизни, обнимающаяся галерка, мечущаяся под окнами суда сначала встревоженная, а потом восторженная толпа, — все это свидетельствовало о том, что весь этот процесс прошел как бы по гребню русской общественной жизни и на повестку дня ставился вопрос, что же именно победит на этот раз: машина повсеместного российского произвола, ни с чем не считающаяся, или элементарное человеческое достоинство. И хоть машина российского произвола так и осталась стоять незыблемо, а человеческое достоинство как унижалось, так и продолжало унижаться, именно тогда, в знаменательный день 31 марта 1878 года 29 присяжных под председательством А. Ф. Кони решили вопрос в пользу человеческого достоинства.
И тут опять возникает вопрос: нам-то, нам какое до всего этого дело? Дескать, было и быльем поросло, а мы договорились беседовать лишь о том, что нас, так сказать, кровно касается. Нас не то, что высечь, да еще публично, нас и толкнуть-то вряд ли кто-то решится. Нам свое достоинство защищать вроде бы не от кого, никто не собирается на него посягать.
Но в том-то и дело, что все, о чем мы говорили только что, это все не сказка, а присказка. В том-то и дело, что без всяких телесных наказаний, без всякого видимого посягательства на свое достоинство человек может сам так унизить себя и так растоптать, как никто со стороны этого сделать не сможет. Низость человеческой души и ее величие не всегда зависят от каких-то внешних условий: они чаще всего от самого человека зависят. И в этом смысле день сегодняшний ни от вчерашнего, ни даже от позавчерашнего не отличается, но настороженно и взыскательно заглядывает в спокойные, в сегодняшние наши глаза.
ЧЕТЫРЕ ДОКТОРА
Жизнь кажется великой, громадной, а сидишь на пятачке.
А. П. Чехов
Много различных слухов возбудил известный нам Павел Иванович Чичиков у жителей города N. N. Две партии возникли в городе: женская и мужская. Женская занялась исключительно похищением губернаторской дочки. «В этой партии, надо заметить к чести дам, было несравненно более порядка и осмотрительности...» Оказалось, что Чичиков давно уже был влюблен и виделся с губернаторской дочкой при лунном свете и что губернатор выдал бы свою дочь за него, если бы не брошенная Чичиковым жена (а у него уже и брошенная жена оказалась!), и брошенная эта жена прислала губернатору такое трогательное письмо, что Чичикову ничего другого не оставалось уже, как решиться на похищение. Другие добавляли, впрочем, что Чичиков, «как человек тонкий и действующий наверняка», решил начать дело с маменьки и имел с нею, то есть с губернаторшей, тайную сердечную связь... Нет, но нынешние нравы-то каковы!.. В том, что нынешние нравы из рук вон плохи, единодушно сходились и дамы «просто приятные», и дамы «приятные во всех отношениях». А скупка Чичиковым мертвых душ, считали они, это так, для отвода глаз...
Мужчины же, как люди материалистические и грубые, именно на скупку Чичиковым мертвых душ устремили преимущественное свое внимание. Но именно тут ничего у них и не получалось: «Андроны едут, чепуха, белиберда, сапоги всмятку!..» Одни говорили, что Чичиков, видимо, правительственный чиновник, присланный будущим генерал-губернатором с особыми поручениями, другие — что просто иностранный шпион, третьи договаривались до того, что он — сам Наполеон, бежавший с острова Святой Елены... Самые слова «мертвые души» заставляли то одного, то другого чиновника вдруг среди беседы бледнеть и задумываться, а один из чиновников, прокурор, так вот побледнел и задумался, а потом свалился со стула — и умер. Вот что наделали всколыхнувшие город слухи!..
И вот — город N. N. хоронит своего прокурора. Чичиков, бегущий из города от всех этих возбужденных им слухов, сквозь окошко своего экипажа всматривается в движущуюся наперерез ему похоронную процессию. Шли за погребальной колесницей чиновники; «все мысли их были сосредоточены в это время в самих себе: они думали, каков-то будет новый генерал-губернатор, как возьмется за дело и как примет их». Вот что на их языке называлось «сосредоточиться в самих себе»: размышление о том, как примет их новый генерал-губернатор!.. Вот и дамы, следующие в каретах сзади, тоже, видимо, «были сосредоточены в самих себе»: «...Говорили о приезде нового генерал-губернатора и делали предположения насчет балов, какие он даст, и хлопотали о вечных своих фестончиках и нашивочках...» То самое, о чем писал Гоголь в своих «Заметках по поводу «Мертвых душ»: «Не трогаются. Смерть поражает не трогающийся мир».
Вот здесь, вероятно, в сцене похорон прокурора, у которого только-то и было «на поверку, что густые брови», в этой сцене и проступает особенно отчетливо главная для самого Гоголя и дел: «Как пустота и бессильная праздность жизни сменяется мутною, ничего не говорящей смертью: как это страшное событие совершается бессмысленно... Еще сильнее, между тем, должна представиться читателю мертвая бесчувственность жизни...»
«Мертвая бесчувственность жизни», «мутная, ничего не говорящая смерть»... Какая, в сущности, разница? Кто мертвый, кто живой в этой удивительной книге, где мы, читая вместе с Чичиковым реестр Собакевича о Степане Пробке, что «все губернии исходил с топором за поясом и сапогами на плечах», о Максиме Телятникове р Григории Доезжай-не-доедешь, об Абакуме Фырове, что «гуляет шумно и весело на хлебной пристани, порядившись с купцами», читая этот реестр, как-то вовсе забываем, что речь в нем идет редко о беглых, а чаще о мертвых людях, и вот так, следя вместе с Чичиковым за похоронной процессией, видим мертвецов, забывших о мертвом, не трогающихся ничем.
И недаром именно вслед за сценой похорон идет другое, едва ли не важнейшее место в книге, а может, именно оно и есть важнейшее: вырвется бричка Чичикова за пределы города N. N., и такой простор раскинется вдруг, такая неоглядная ширь российской равнины, и такая вольная, широкая песня словно зазвучит вдруг из края в край ее и растревожит набирающую силы душу!..
Но как же измусорен он, этот российский простор! Вот оно, пошло писать: шлагбаумы и верстовые столбы, чинимые мосты, помещичьи рыдваны, потемневшие от времени и от сырости дощатые ограды постоялых дворов... «Русь! Русь! Вижу тебя, из моего чудного, прекрасного далека тебя вижу: бедно, разбросанно и неприютно в тебе... Как точки, как значки, неприметно торчат среди равнин невысокие твои города; ничто не обольстит и не очарует взора...» И весь этот пейзаж («Вороны, как мухи, и горизонт без конца») поведет Гоголя к мыслям неотступным и важным, и вдохновенно, взволнованно польется речь о том, что же «пророчит сей необъятный простор». «Здесь ли, в тебе ли не родиться беспредельной мысли, когда ты сама без конца? Здесь ли не быть богатырю, когда есть место, где развернуться и пройтись ему?» И вот это вдруг пронзительное, как прорвавшаяся наружу глубоко скрытая дрожь: «Русь, чего же ты хочешь от меня?.. Зачем все, что ни есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очи?..»
И еще бы Гоголь не гений, если этот доверительный разговор о самом для себя сокровенном он прервет вдруг грубым окриком со стороны: «А вот я тебя палашом! Не видишь, леший дери твою душу, казенный экипаж!..» Пошлый, бесцеремонный в этой своей очевидности встречный фельдъегерь с усами в аршин... «И, как призрак, исчезнула с громом и пылью тройка...» Вот так — по сокровенному, по болезненно-дрожащему своему — фельдъегерским палашом!.. Это не каждый писатель так почувствует и осмелится так написать! И не сразу, не малым напряжением души вернет себе повествователь прежний настрой: «Какое странное, и манящее, и несущее, и чудесное в слове: дорога!..»
Все противоречиво, все громадно в этой книге — и низменное соседствует с возвышенным, и «комическое одушевление сменяется все побеждающей грустью», а спугнутая грубым фельдъегерским окриком важнейшая гоголевская мысль вновь все более уверенно возвращается на круги своя.
Так вот какова она, эта важнейшая гоголевская мысль? Не в самом ли заголовке скрывается она? Недаром же Гоголь, несмотря на требование цензуры сменить заголовок, упорно за него держался.
Кто они, эти «мертвые души»? Только ли те, кого оптом и в розницу скупает Чичиков, — ревизские души, — чтобы мертвых, «как бы несуществующих», заложить за немалые деньги в Опекунский совет? Они, конечно. Но только ли они? Может, и те, кто живет себе и в ус ие дует, и заключает заведомо мошеннические сделки, и запивает, и заедает их, все эти помещики и такие похожие друг на друга чиновники города N. N.? Конечно, и они тоже. И это всё, заголовок исчерпан?
Нет, не всё. Есть еще и третье толкование заголовка, обращенное к каждому из нас. К каждому из читателей. Так же как к каждому из читателей обращены те лирические отступления, что предваряют или завершают отдельные, наиболее яркие характеристики, словно приглашая каждого все описанное как-то соотнести с собою. Вы читаете о Манилове, а чувствуете ли вы, как это страшно, когда в человеке никакого, ну решительно никакого «задора» нет, когда он «ни то ни се, ни в городе Богдан, ни в селе Селифан»? Смеетесь над Коробочкой? А вы задумайтесь о том (это Гоголь вас призывает: задумайтесь!), как она многолика, Коробочка, о том, что иной государственный и мыслящий вроде бы муж, если копнуть его, совершенная, в сущности, Коробочка... Ноздрев, Чичиков вам смешны, разговор двух дам вас развлекает? Оглянитесь лучше на себя, вот в чем третий, важнейший для Гоголя смысл. Вот о чем он говорит: как «пустота и бессильная праздность жизни сменяется мутною, ничего не говорящей смертью». «Ничего не говорящая смерть» и «мертвая бесчувственность жизни», незаметный переход одного в другое, незаметный, потому что разницы, в общем-то, нет никакой, ужас вот этого приравненного Гоголем к смерти бездуховного человеческого существования. Вот мысль, которая Гоголя прежде всего занимает. Легко считать мертвецами героев старой, давным-давно написанной книги! Гоголь через головы своих героев к живым обращается или к тем, кто считает себя живым, — ко многим!..
И как набат, как грозное предостережение звучит то лирическое отступление его, что завершает главу о Плюшкине. «И до такой ничтожности, мелочности, гадости мог снизойти человек! Мог так измениться! И похоже это на правду? Все похоже на правду, все может статься с человеком». Вот оно, предостережение, к которому нельзя не прислушаться. «Все может статься с человеком!..» «...Забирайте же с собою в путь, выходя из мягких юношеских лет в суровое ожесточающее мужество, забирайте с собою все человеческие движения, не оставляйте на дороге, не поднимете потом! Грозна, страшна грядущая впереди старость, и ничего не отдает назад и обратно...» Вот ради чего затевает Гоголь колоссальное свое произведение, начальный замысел которого ему не суждено довести даже до половины: ему мечтается громадное, в масштабах «раскинувшейся на полсвета» страны нравственное возрождение.
Мы благодарны ему и за то, что он сделал. Мы вслед за Белинским и Герценом говорим о гениальном обличении социальной неправды, о том, как разделался великий сатирик с чиновничье-бюрократическим аппаратом самодержавной России и с невозмутимым, самодовольным, непоколебимым в своих основах крепостничеством. И мы словно вовсе забываем то, чего, кстати, ни Герцен, ни Белинский не забывают: самому-то Гоголю было важнее другое. Не крепостным правом он тяготился, не на самодержавие посягал. Для него неизмеримо важнее было призвать каждого человека к достойному существованию. Вот почему он вопрошает отчаянно: «Русь, чего же ты хочешь от меня?..» Вот почему выводит скаредного, суетливого старика, эту «прореху на человечестве», и призывает: не отдавайте ни одного из лучших движений своей души, берегите в себе юность, сохраните ее до седых волос...
Но мы совсем о другом писателе предполагали говорить. Родился он уже после смерти Гоголя, разворачивался и вовсе в конце века, и совсем другой доброжелатель, уже не Белинский, а состарившийся к тому времени Григорович писал ему нечто вроде того знаменитого «вам истина возвещена, как художнику»: «У вас настоящий талант, талант, выдвигающий вас далеко из круга литераторов нового поколения». И Антон Павлович Чехов взволнованно отвечал старому писателю: «Если у меня есть дар, который следует уважать, то, каюсь перед чистотой вашего сердца, я доселе не уважал его...» Растроганно заклинал: «Как вы приласкали мою молодость, так пусть бог успокоит вашу старость...» Обращался к Григоровичу так, как никогда и ни к кому не обращался, не стремясь, как обычно, прикрыться иронией от пылкого изъявления своих чувств: «Мой добрый, горячо любимый благовеститель...»
Так вот всю свою громадную писательскую энергию, весь свой талант, который он вначале не уважал нимало, а потом научился уважать, — все это Чехов устремил на единственное: чтобы человек в любых условиях оставался человеком. В любых, в какие подчас загоняет человека судьба.
Все это очень своевременно было — провозгласить со всей убежденностью и страстью, что «в человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли», что «праздная жизнь не может быть чистой», что «человеку нужно не три аршина земли, не усадьба, а весь земной шар, вся природа, где на просторе он мог бы проявить все свойства и особенности своего свободного духа...». Очень своевременен был тот душевный настрой, что прорвался и в записных книжках, и в одном из частных писем его: «Жизнь кажется великой, громадной, а сидишь на пятачке...»
Своевременно было все это потому, что в России опять шла эпоха «безвременья», но, в отличие от «безвременья» предыдущего, от эпохи 30 — 40-х годов, то «безвременье», современником которого был Чехов, как-то особенно подло било уже не только по настроению и самочувствию человека, но по самой человеческой сути его, словно проверяя, а человек ли он вообще, есть ли в нем хоть капля человеческого достоинства. Попробуем разобраться в этом.
Как известно, В. И. Ленин означил три этапа русского освободительного движения: дворянский, разночинно-демократический и пролетарский. И каждый всплеск освободительных идей так или иначе приводил к открытому их проявлению, так сказать, к проверке этих идей на практике, а затем и кризису этих идей, то есть к тому, что мы называем «безвременьем». Открытая борьба каждый раз сменялась глубинной работой мысли, иногда на многие десятилетия, и подрастающие в эти годы поколения обречены были выжидать, когда там означатся новые цели и оформятся новые идеалы. Пока же жизнь этих людей, зачастую энергичных и самоотверженных, изготовленных к немедленному действию, уходила бесплодно. Каждый конкретный человек не может притормозиться и ждать, он мужает, а затем и старится; единственная, неповторимая его жизнь уходит в «безвременье», как в трясину. Вот почему «безвременье» так тяжело: не каждого, согласитесь, может поглотить.
целиком та глухая, потаенная работа мысли, которая в это время ощупью и тоже десятилетиями пробивает себе новое русло.
После того как в 1825 году подавлено было восстание декабристов и на виселицу, на каторгу, на вечное поселение в Сибири ушли лучшие, наиболее жизнестойкие и самоотверженные люди, «безвременье» ударило прежде всего по дворянству. Это именно дворянская интеллигенция обречена была отныне на жизнь бессмысленную, именно дворянской интеллигенции не во что стало верить. «Я действовать хочу, я каждый день полезным сделать бы желал...» — именно это с рано развившимся чувством обреченности будет писать в своем лирическом дневнике мальчик Лермонтов. Будет сетовать, повзрослев: «Богаты мы, едва из колыбели, ошибками отцов...» Будет вместе с неприкаянным своим героем безнадежно вглядываться в морскую даль и ждать, не мелькнет ли там, на горизонте, белый парус — символ действования, символ бури. Герцен будет писать тогда же и от имени этого же поколения: «Поймут ли, оценят ли грядущие люди весь ужас, всю трагическую сторону нашего существования, — а между тем наши страдания — почка, из которой разовьется их счастье... О пусть они остановятся с мыслью и грустью перед камнями, под которыми мы уснем, мы заслужили их грусть...»
Но все, о чем мы сейчас говорим, даже эта тоска, о которой не забывается «даже в минуты веселости», — все это было изящно, потому что мыслящая и страдающая интеллигенция эта по самой принадлежности своей к дворянскому классу была обеспеченна, обеспеченна в самом грубом, в самом прозаическом значении этого слова: в России было крепостное право. И, как в каждом рабовладельческом строе, крепостная Россия порождала своих патрициев, людей, жизнь которых, независимо от того, предъявляли они к себе высочайшие требования или не предъявляли никаких, хотели служить обществу или бездействовали безмятежно, жизнь их изначально исключала грубый, прагматический интерес. Можно было спорить об историческом предназначении России, — а именно эти споры шли в образованных кругах, — можно было размышлять о том, какую, следственно, историческую миссию надлежит осуществить русскому мужику, не сомневаясь в том, что в это самое время, — да простят меня чистые, прекрасные мыслители сороковых
годов! — тот же самый мужик тебя сбережет и прокормит.
А вот сейчас, в восьмидесятые годы, «безвременье» коснулось прежде всего разночинцев.
Именно разночинцы пронесли на своих плечах всю обусловленную подъемом общественного движения нагрузку, они брали на себя всю полноту ответственности и понесли наибольшие жертвы. Именно их идеи — идеи шестидесятников, а позднее народников проходили проверку временем, и именно их идеи проверку временем не прошли. Вспомним прощальное письмо Гриневицкого: «...Я сделаю все, что должен был сделать, и большего от меня никто, никто на свете требовать не может...» — этот крик обреченной молодой жизни, когда пусто и глухо вокруг, и есть только взыскательные глаза товарищей, рядом с тобой идущих на смерть, и собственная, не дающая отступиться совесть. «Смело, друзья, не теряйте бодрость в неравном бою...» — так все они пели. «...Нет прекрасней назначения, лучезарней нет венца...» — эти стихи Некрасова учили. Ни эти песни и стихи, ни эта твердость, ни самоотверженная, самоубийственная решимость не повели ни к чему: здание российской государственности стояло незыблемо. Все очевиднее становилась несостоятельность избранных разночинцами средств.
И вот тогда встал вопрос, как, собственно, жить дальше? Перед разночинцами встал, не перед кем-нибудь другим. «Смолкли честные, доблестно павшие, смолкли их голоса одинокие...» Вступало в жизнь поколение, богатое «ошибками отцов»: как жить ему? И вот тогда, когда вставал этот неумолимый вопрос «как жить», у разночинца рядом с ним неизбежно возникал и другой, такой на первый взгляд невинный: и на какие, в общем-то, средства жить? То, «что ...дворяне брали у природы даром, то разночинцы покупают ценою молодости» — это сказал Чехов. Разночинца никто не прокормит. И если нет в его жизни высокого идеала, ради которого не страшны никакие лишения, то зачем, собственно, эти лишения терпеть? И разночинец, пораженный «безвременьем», все больше начинал дорожить тем, что приобрел «ценою молодости»: положением, имуществом, деньгами, просто покоем. Профессией, которая досталась ему нелегко. Безмыслием, которое доставалось просто. Разночинец все больше привыкал жить «в брюхо», для себя, ценить свое неповторимое существование. Потому и была эта эпоха «безвременья» так подла, что ничего другого не могла предложить человеку, кроме утлого обывательского существования, нашептывала ему из всех углов: все чепуха и гниль, смотри, как живут другие, плюнь на все, если еще не плюнул, давно пора... И люди, даже совестливые, даже на первый взгляд порядочные, оказывались втянутыми в обывательское болото: им нечего было этому болоту противопоставить.
Вот в эту-то эпоху и выступил А. П. Чехов.
От него мы узнали о Дмитрии Ионыче Старцеве, земском враче, приехавшем в уездный городок Дялиж и воодушевленном намерениями наилучшими. Земский врач лечил нищих, невежественных крестьян, принимал роды, вправлял грыжи, управлялся как мог с эпидемиями. Корыстный и себялюбивый человек за подобную работу не возьмется, а Старцев — взялся. Так что Старцев поначалу не был ни себялюбив, ни корыстен. Это постепенно произошло — то, что частную практику в губернском городе, находившемся неподалеку, он стал предпочитать непосредственным своим обязанностям, полюбил пересчитывать радужные бумажки по вечерам и начал вкладывать их, как человек солидный и практический, в недвижимость. Все вело к этому, ничто ему не противостояло; очень нестойки оказались в нем исповедуемые в юности идеалы. И когда Котик, впервые с этими идеалами где-то там, в столице, соприкоснувшаяся, вновь встречает Старцева и Старцев смотрит в эти восторженно устремленные на него глаза, думает он только одно: «А хорошо, что я тогда не женился». Ведь эти глаза видят его таким, каким он был «тогда», а это «тогда» ушло безвозвратно. И среди окружающих его обывателей Нелюдимый и бесцеремонный, одышливый и ко всему равнодушный Ионыч, а именно таким он в конце концов становится, может быть, самый дремучий и одичалый обыватель.
От Чехова мы узнаем и об учителе Никитине, переполненном до краев своей молодой влюбленностью и молодой верой в жизнь. «Где я, боже мой? — думает этот человек, словно опоминаясь от долгого и беспечального сна. — Меня окружает пошлость и пошлость. Скучные, ничтожные люди, горшочки со сметаной, кувшины с молоком, тараканы, глупые женщины... Нет ничего страшнее, оскорбительнее, тоскливее пошлости...»
Мы узнаем о человеке талантливом, многообещающем, именно на нем сосредоточены надежды всей семьи: «Брат, вероятно, будет профессором!» А Андрей Прозоров из пьесы «Три сестры» женится на пошлой женщине. Женившись, играет в карты, чтобы хоть как-то забыться, и закладывает дом, принадлежащий не только ему, но и сестрам, чтобы уплатить карточный долг,.и, служа в земской управе, где председателем любовник его жены Протопопов, ни с кем уже не разговаривает, кроме сторожа земской управы Ферапонта, единственное достоинство которого в глазах Андрея то, что Ферапонт этот глух безнадежно.
И сколько таких людей в произведениях Чехова, им нет числа, бессильно погруженных в пошлость, несчастных или, наоборот, агрессивно эту пошлость утверждающих, вроде Наташи Прозоровой или незабвенного Беликова. Чехов изучает пошлость, как биолог изучает и классифицирует организмы. Он различает пошлость во всем многообразии ее, даже тогда, когда она поучает устами профессора Серебрякова: «Надо, господа, дело делать! Надо дело делать...» Даже тогда, когда она в лице Аиды Волчанино-вой проповедует: «Самая высокая и святая задача культурного человека — это служить ближним, — и мы пытаемся служить, как умеем...» Презренное самодовольство пошлости, погруженной в тешащие ее пустяки!.. Целая энциклопедия пошлости!..
Или ученый с мировым именем, которого Чехов называет просто Николай Степанович. Это не чета провинциальным врачам или преподавателям уездной гимназии. Имя его «известно каждому грамотному человеку», «он состоит членом всех русских и трех заграничных университетов», «тридцать лет в России нет и не было такого знаменитого ученого, с которым он не был бы коротко знаком». Человек этот имеет печатные труды, имеет учеников, он отнюдь не пошл хотя бы потому, что мысль его работает неустанно. Спросите его: Николай Степанович, как жить? Он не ответит. Или, точнее, ответит так, как ответил своей молодой приятельнице: «По совести, Катя, — не знаю... Давайте, Катя, завтракать...» Он потеряет ее навсегда, не простит она ему такого ответа. Но что он, совестливый и правдивый человек, мог сказать еще? Николай Степанович с горечью признает, что у него нет того, что называется общей идеей. «А коли нет этого, то, значит, нет и ничего».
Вот так судит Чехов людей — по самому высокому счету: если нет ведущей идеи, то нет вообще ничего... И никакая бессильная порядочность, никакая видимость полезной деятельности не спасет героев Чехова от пристрастного его суда.
Сочувствует он тем же сестрам Прозоровым? Не знаю. Уж слишком безропотно сдают они позиции, отступая перед наглостью, перед откровенным хамством. Старшая из сестер, Ольга, только пальцы прижимает к вискам, когда при ней топают ногами и кричат на престарелую няньку. «Мы воспитаны, быть может, странно, — только это в силах она сказать. — ...Всякая, даже малейшая грубость, неделикатно сказанное слово волнует меня...» Как ненавидит Чехов эту душевную дряблость, этот вольный или невольный эгоцентризм слабости!.. И как беспомощны другие, безусловно, порядочные герои этой пьесы с этой готовностью их «пофилософствовать» о том, что через двести — триста лет жизнь будет невыразимо прекрасна, в то самое время, как собственная жизнь обманывает их и обкрадывает, отнимая одну иллюзию за другой!.. Сочувствует он им в это время? Не знаю.
Вообще — добр Чехов или недобр? Открыт состраданию или наглухо для него закрыт? Ведь сочувствует же он словам той же Ольги, словам, что завершают пьесу: «Милые сестры, жизнь наша еще не кончена. Будем жить!..» И сестре ее Ирине сочувствует безусловно. Трагически потеряв жениха, она все же готова ехать туда, куда они с Тузенба-хом собирались ехать вместе, и делать то же, что они и собирались делать: учить. Сочувствует Марии Васильевне, юной учительнице, отцветающей в деревенской глуши. Храброй и скромной Соне Серебряковой сочувствует. Нине Заречной, которая, по собственному ее признанию, ощущает, как с каждым днем растут ее душевные силы. И если произведения его — это целая энциклопедия пошлости, то и такое есть в них: множество скромных и честных людей, беззаветных тружеников, достойных уважения.
Так где же начинается симпатия и уважение его? Где — только грустная ирония или скрытая неприязнь, не говорю об откровенной неприязни, именно «скрытая?» Он неоднозначен, Чехов, и в высшей степени непрост. И все-таки где начинается его симпатия и уважение, чем, в конечном счете, определяется его отношение к людям?..
«Да поймите же, — так обратится он к постановщикам пьесы «Дядя Ваня» В. И. Немировичу-Данченко и К. С. Станиславскому, — поймите,-это Войницкий страдает, а Астров — свистит...»
Слова известные, но что должны были понять в них постановщики? Что Войницкий и Астров — разные люди? На первый взгляд они одинаковы: обоих обложила со всох сторон провинциальная глушь, оба не видят ни малейшей надежды выбраться отсюда и зажить иначе, обоих одинаково пленила ненадолго озарившая их женская красота. А Чехов настаивает: они различны. «Это Войницкий страдает, а Астров — свистит». И та же Елена Андреевна явное предпочтение отдает второму: «Я даже увлеклась немножко...»
Ну и все-таки — в чем же различие?
Войницкий, служа профессору Серебрякову, в этой жалкой своей судьбе тешит себя иллюзией, что служит самой Русской Культуре. Именно так, с большой буквы: Русской Культуре. А потом, убедившись в ничтожестве своего кумира, бунтует, гоняется за Серебряковым с заряженным револьвером; будучи обезоружен, выкрадывает у Астрова банку морфия, чтоб, не покончив с Серебряковым, покончить, по крайней мере, с собой. «Отдай, дядя Ваня, — будет уговаривать его Соня. — Зачем ты нас пугаешь? Я терплю... Терпи и ты...» И Войницкий, разбитый и униженный своим отчаяньем, вновь садится подсчитывать доходы и расходы по имению Серебрякова.
Астров этих перепадов не знает. Он не тешит себя иллюзиями и не разочаровывается в них, а просто работает так, «как никто в губернии не работает». Астров прям, ироничен, даже грубоват порою. Он, увлекшись Еленой Андреевной, даже ей не простит ни безделья ее, ни неискренности, он видит людей насквозь: «Красивый, пушистый хорек... Вам нужны жертвы!..» Он откровенен и прост в нахлынувшей на него страсти, как старый наш знакомец Базаров, и, как Базаров, не дает себе «рассиропиться» ни на минуту. «Все равно поддадитесь чувству, это неизбежно. Так уж лучше это не в Харькове и не где-нибудь в Курске, а здесь, на лоне природы...» Вот такой он. Он и пошлость скажет порой, в чем сам же, впрочем, с грустью сознается, и рюмку пропустит перед дорогой, а в трудную, действительно трудную для него минуту только и позволит себе сказать, глядя на висящую перед ним карту: «А, должно быть, в этой самой Африке теперь жарища — страшное дело!..»
И различие очевидно: в противоположность Войницкому Астров — личность сильная, яркая, не уклоняющаяся от того, что Астров считает жизненным своим предназначением, но и не позволяющая себе ни жаловаться на обступившие его обстоятельства, ни тем более дать сломить себя обстоятельствам. А ведь мы еще и слова не сказали о тех картограммах, что Астров хранит в комнате Войницкого: Астров с беспокойством следит за тем, как вырубаются окрестные леса, как гибнет от руки человека природа. И мечтает: мечтает о том, как личные его усилия и усилия тех, кого ему, возможно, удастся привлечь на свою сторону, предотвратят или хотя бы приостановят губительный этот процесс. Мечта самого Чехова, превращающего в сад каждый клочок земли, достававшийся ему во владение, будь то в Мелихове или на крымском каменистом склоне. «Милая моя, пойми, это талант, — говорит об Астрове Елена Андреевна. — Посадит деревцо и уже загадывает, что будет от этого через тысячу лет...»
Так, может, именно в этих картограммах дело и Чехов отличает Астрова именно по этому умению мечтать? Может быть. Но, думается, и без этих его картограмм мы чувствовали бы в нем сильную и привлекательную личность, личность, которую никакие обстоятельства сломить не в силах.
Ведь не знаем же мы, чему посвящена диссертация доктора Дымова, которую он с таким блеском защищает. Не знаем, и не в диссертации дело, не благодаря его диссертации мы чувствуем к нему глубокое уважение; не благодаря тем надеждам, которые он подает в науке. Мы испытываем это уважение, чувствуя ту огромную душевную силу, напряжением которой он сносит чудовищное равнодушие и чудовищный эгоизм обольстительного и пошлого существа, которое обречен любить. «И сам себя не щадил, и его не щадили», — скажет после его гибели его товарищ. Дымов погибнет так, как, наверное, и гибнут люди, не привыкшие себя щадить: спасая жизнь умирающему от дифтерита ребенку. И перед величием этой души, без жалоб несущей жизненное свое предназначение, стоически противостоящей обстоятельствам, перед этим склоняет голову Чехов.
Так, может, в этом все дело? И ироничный, холодный взгляд Чехова, устремленный на своих героев, смягчается и теплеет именно тогда, когда жизненные невзгоды, обрушившиеся на них, не уничтожают, не сминают их души, а, наоборот, укрепляют и закаляют их? Может, поэтому так неожиданно звучат под звуки удаляющейся полковой музыки заключительные слова Ольги Прозоровой: «Наша жизнь еще не кончена. Будем жить!..» — после всех этих бессильных заламываний рук и бессильных мечтаний? Может, пог этому нам вовсе не жаль уходящей в ночь бесприютной скиталицы Нины Заречной — человека, который, несмотря ни на что, чувствует, как с каждым днем растут его душевные силы. Может, в этом-то все и дело: в сопротивляемости обстоятельствам, каковы бы они ни были, в умении сохранить верность долгу, призванию, любви, наконец? В умении сохранить человеческое свое достоинство?
Вот почему Чехов так современен нам. Он универсален, он — на все времена. Потому что говорит он о том, что величие человеческой души или, наоборот, униженность ее не зависят ни от каких обстоятельств.
Три врача перед нами: доктор Старцев, доктор Астров, доктор Дымов. Кто помогает Астрову и Дымову остаться людьми? Никто. Астров и Дымов. Кто в тех же обстоятельствах мешает Старцеву быть человеком? Старцев.
И есть еще один, четвертый, его тоже стоило бы сейчас назвать: доктор Чехов. Именно такая табличка — «доктор Чехов» — сохранялась на дверях знаменитого писателя. А в дверь с такой табличкой без опасения разбудить или просто потревожить стучатся нуждающиеся в помощи люди. Чехов ее не снимал. Ехал в голодающие районы, боролся с холерой. Что мог делать в свое глухое время, то и делал без всякого надрыва и тем более без тени самодовольства. При первой возможности устремился простым статисти-ком-переписчиком в самую отдаленную точку России — на каторжный остров Сахалин. Не испугался ни ужасов российского бездорожья, ни того, что едет навстречу застарелым, безнадежным страданиям, а следовательно, неотступным мольбам. Ничего он не боялся всю свою жизнь — ни труда, ни лишений. Развивающейся чахотки своей не боялся. Как опытный врач, лучше всех понимал, что обречен, сопротивлялся болезни, оттягивал как мог развязку, но не жаловался никому! «Мое святое святых, — так он писал, — это человеческое тело, здоровье, ум, красота...
свобода от предрассудков и лжи, в чем бы они ни проявлялись...»
Когда-то в русской литературе была поднята тема «маленького человека». Мы говорили об этом: о Макаре Девуш-кине, который и несчастным-то себя чувствовать почитает за дерзость, о бедном чиновнике Башмачкине с этим его «преклоняющим в жалость» вопросом: «Зачем вы меня обижаете?..» О бедном Евгении, который, «когда случалось идти той площадью ему», той площадью, где однажды он в отчаянии грозил исполину, «к сердцу своему он прижимал поспешно руку, как бы его смиряя муку, картуз изношенный снимал, смущенных глаз не поднимал и шел сторонкой...». Так уж оно и закреплялось в русской литературе: «Петербургские трущобы» и «Петербургские углы», «Антон-горемыка», «Униженные и оскорбленные», «Несчастные»... И литературоведы размышляли о том, кто же все-таки открыл эту тему: Гоголь или, может быть, Пушкин?
Ну хорошо, а кто же в таком случае ее «закрыл»? Кто сказал отрезвляюще, просто: полно, да есть ли еще она, эта тема? Самые эти слова — «маленький человек» — не звучат ли они анахронизмом? «Брось ты, сделай милость, своих угнетенных коллежских регистраторов! Неужели ты нюхом не чуешь, что эта тема уже отжила и нагоняет зевоту?..» Кто это писал? Чехов. Едва начав сам свой литературный путь, писал это другому начинающему литератору, брату своему Александру: «Эта тема уже отжила и нагоняет зевоту». Тогда же, едва начав свой литературный путь, пишет своего Акакия Акакиевича Башмачкина: его чиновник Червяков, как и Башмачкин в свое время, умирает от душевного потрясения, вызванного начальственным* окриком. Но никакого этого «смеха сквозь невидимые миру слезы» у Чехова нет и в помине: просто — смех. Никакого ни скрытого, ни явного сожаления: «...Я извинялся за то, что, чихая, брызнул-с... а смеяться я и не думал. Смею ли я смеяться? Ежели мы будем смеяться, так никакого тогда, значит, и уважения к персонам — не будет...»
«Ничтожество свое сознаешь? — так писал Чехов еще девятнадцатилетним юношей брату своему Михаилу. — Ничтожество свое сознавай знаешь где? Перед богом, пожалуй, перед умом, красотой, природой, но не перед людьми. Среди людей нужно сознавать свое достоинство». А через десять лет посоветует литератору Суворину: «Напишите-ка рассказ о том, как молодой человек, сын крепостного, бывший лавочник, певчий, гимназист и студент, воспитанный на чинопочитании, целовании поповских рук, поклонении чужим мыслям, благодаривший за каждый кусок хлеба, много раз сеченный, ходивший по урокам без калош, дравшийся, мучивший животных, любивший обедать у богатых родственников, лицемеривший и богу и людям без всякой надобности, только из сознания своего ничтожества, — напишите, как этот молодой человек выдавливает из себя по каплям раба и как он, проснувшись в одно прекрасное утро, чувствует, что в его жилах течет уже не рабская кровь, а настоящая человеческая».
Вот так Чехов осмыслял свой собственный опыт. А может, и не только свой. Этот опыт убеждал: быть человеком достойным и независимым или быть человеком зависимым и презренным, это все-таки сам человек решает. Подчиняться условиям, которые тебя растаптывают и унижают, или, несмотря ни на какие условия, оставаться собою. Сам Чехов, сын мелкого лавочника, мещанин из мещан, «лицемеривший и богу и людям без всякой надобности, только из сознания своего ничтожества», а ведь каково себя воспитал!..
Собственно, что такое «безвременье», о котором мы столько говорим? Темный тоннель. Темный тоннель на пути, который надо перетерпеть, переждать, не унижаясь до вскриков и жалоб, не теряя присутствия духа, не теряя ничего из того, чем жива человеческая душа, — ни любви к людям, ни преданности однажды избранному делу, ни мужества в неустанном труде. Не теряя ничего, хотя риск при этом есть, и риск немалый: есть риск, что тоннель этот так и протянется во всю твою жизнь. Ну, и что из этого?.. Придется идти на риск. Потому что, если повезет, если пробьешься, если ослепит яркий свет, рвущийся навстречу, хорош же ты будешь, если яркий свет этот ударит в измученное, растерянное, ни к чему не готовое лицо! Пусть он не застанет человека врасплох, этот свет, рванувшийся навстречу, и человек выйдет из тоннеля таким же, каким и вошел в него когда-то. Нет, не таким же, впрочем, — более закаленным, более умудренным, нарастившим там, в темноте и в тишине, свои душевные силы. Тоже ведь и это работа: посидеть в таком вот сосредоточенном раздумье! Но пусть тем уверенней выйдет человек навстречу сбывающимся своим мечтам.
Этому и учит Чехов. Это он, стоически продираясь через длинный, почти во всю недолгую его жизнь, тоннель «безвременья», один из первых разглядел замерцавший в глубине его свет. «Пришло время, надвигается на всех нас громада, готовится здоровая, сильная буря, которая идет, уже близка и скоро сдует с нашего общества лень, равнодушие, предубеждение к труду, гнилую скуку...» И Чехов, ироничный, сдержанный Чехов рванулся навстречу юной русской революции. Как только услышал молодые эти голоса: «Здравствуй, новая жизнь!..» — так и устремился этой новой жизни навстречу.
Целую книгу под многообещающим заголовком «Современная этика» можно было бы написать по письмам и произведениям Чехова. Там было бы все: отношение к обществу, отношение к труду, к людям, которые тебя окружают, отношение родителей к детям и детей к родителям, мужчин к женщинам и женщин к мужчинам, были бы ответы на вопросы о том, что такое истинная порядочность или истинная культура, — было бы все. Там не было бы одного: снисхождения к «маленькому человеку». Потому что нет в современности ни «маленьких», ни «больших» людей, есть только то, каким человек себя ощущает, — исполненным достоинства или не имеющим такового, независимо, повторяю, от обстоятельств, в которых он живет, от того давления, которое на человека извне оказывается. Независимо от того, ощущает ли он себя на залитой солнцем дороге или нырнул, и надолго нырнул, в длинный и темный тоннель.
Как и многие читатели, я очень люблю песни Булата Окуджавы — все или почти все его песни. Но одной не приемлю, ненавижу ее: о Муравье, который «создал себе богиню по образу и духу своему». И сколько бы меня ни убеждали, что я не понимаю песни, что я самый дух ее искажаю, я все равно слышу вот это: «Подумайте, простому муравью вдруг захотелось боженьке молиться, поверить в очарованность свою...» Простому муравью — подумайте! — вдруг захотелось поверить в свою очарованность!.. Даже поистине очаровательная концовка песни ни в чем меня лично не убеждает: все равно — нельзя про человека «простой муравей»! Ни про одного человека так сказать нельзя!..
ТУЛЬСКАЯ БУЛАВКА С БРОНЗОВЫМ ПИСТОЛЕТОМ
Вместо заключения
...За окном, Не умолкая, распевала Анна.
И пахнул двор соседа-молдав она Бараньей шкурой, хлевом и вином. День наполнялся нежной синевой,
Как ведра из бездонного колодца.
И голос был высок: вот-вот сорвется. А Пушкин думал:
«Анна! Боже мой!..»
Д. Самойлов
Вот, кажется, и приходит к концу наш разговор. Конечно, не обо всем, о чем хотелось бы. Сразу и обо всем, о чем хотелось бы, ни в одной книжке не переговоришь.
Но еще об одном надо сказать во что бы то ни стало, потому что без этого «еще одного» и литературы-то нет. А мы, о чем бы ни говорили, ни на секунду не забывали: разговор идет не только о жизни — о литературе.
Так вот, помните: въехала во двор гостиницы города N. N. небольшая рессорная бричка, «в которой ездят обычно холостяки», и два мужика, стоящие в дверях кабака, что напротив гостиницы, обменялись по этому поводу кое-какими замечаниями. «Вишь ты, — сказал один другому, — вон какое колесо! Что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось, в Москву, или не доедет?» — «Доедет», — отвечал другой. «А в Казань-то, я думаю, не доедет?» — «В Казань не доедет», — отвечал другой».
Так начинается книга Гоголя «Мертвые души». И мы видим — сразу! — что книга эта веселая, что Гоголю весело было ее писать. Мы в прошлой главе о Гоголе-моралисте говорили о том, что именно для него и серьезно, и важно, а вот об этом не говорили ни слова: о том, с каким удовольствием, с какой непосредственной веселостью он пи-
шет. И мы, между прочим, тоже невольно улыбаемся: не можем же мы, читатели, не оценить глубокомыслия только что приведенной беседы!
Но мы еще и первого абзаца не дочитали, еще и Чичикова не разглядели как следует, только то и узнали, что он не стар, но и не молод, не тонок, но и не толст, не то, чтобы хорош собою, но и не дурен, как перед нами предстал еще. один человек — молодой человек «в белых канифасовых панталонах, весьма узких и коротких, во фраке с покушениями на моду, из-под которого видна была манишка, застегнутая тульской булавкой с бронзовым пистолетом». Вы пристально в него вгляделись, вот даже и бронзовую булавку увидели, которую даже Чичиков из своей брички ни в коем случае разглядеть не мог. «Молодой человек оборотился назад, посмотрел экипаж, придержал рукою картуз, чуть не слетевший от ветра, и пошел своей дорогой».
Встретится нам этот молодой человек еще? Нет, не встретится. Ни разу вы его не увидите больше. Так зачем же Гоголь так подробно его описывает?
Ответим на этот вопрос обстоятельно и глубоко научно. Ответим единственным словом: так. Так! Гоголю, как мы уже сказали, писать весело, делает он это с удовольствием, увлекается подробностями, вот и сейчас увлекся подробностями, а увлекшись ими, даже булавку углядел. Как они жадны до подробностей, эти смеющиеся гоголевские глаза! Гоголь развлечен и счастлив многообразием жизни.
Вам случалось с пароходной пристани или с площади перед железнодорожным вокзалом впервые вступать в совершенно незнакомый вам город? Удовольствие неповторимое! Вот и Гоголь не может себе в этом удовольствии отказать. Обыкновенный губернский город, похожий на множество других губернских или уездных русских городов, а как много увидел он на его таких скучных и будничных улицах: и вечные мезонины на домах, очень красивые, «по мнению губернских архитекторов», и подпорки на «дурно принявшихся» деревьях, кочень красиво выкрашенные зеленой масляной краской», и продающиеся повсюду орехи, мыло и пряники, «похожие на мыло», и вывеску с нари-
сованными на ней брюками и «подписью какого-то аршавского портного», и еще одну вывеску над магазином с картузами и фуражками: «Иностранец Василий Федоров», и множество двуглавых орлов, заменивших прежнюю лаконичную надпись «Питейный дом», — да мало ли еще подробностей оценил веселый и наблюдательный писательский глаз!..
А вот Чичиков совершает свой туалет перед губернским балом. «Целый час был посвящен только на одно рассматривание лица в зеркале. Пробовалось сообщить ему множество разных выражений: то важное и степенное, то почтительное, но с некоторою улыбкой, то просто почтительное без улыбки, отпущено было в зеркало несколько поклонов в сопровождении неясных звуков, отчасти похожих на французские, хотя по-французски Чичиков не знал вовсе. Он сделал даже самому себе множество приятных сюрпризов, подмигнул бровью и губами и сделал кое-что даже языком; словом, мало ли чего не делаешь, оставшись один, чувствуя притом, что хорош... Наконец, он слегка треп-нул себя по подбородку, сказавши: «Ах ты, мордашка эдакой!» — и стал одеваться». Решительно никакого отношения к тому, что произойдет дальше, это затянувшееся стояние Чичикова перед зеркалом не имеет, — что из того! Как зато славно все это читать! «Сделал самому себе множество приятных сюрпризов», «звуки, отчасти похожие на французские», «ах ты, мордашка эдакой!..». Без этого смеха, который пронизывает повествование, как солнечный луч пронизывает листву, без этого нет ни «Мертвых душ», ни вообще Гоголя.
А вспомните бесконечные счеты Селифана с Чубарым, который только вид делал, что везет, в отличие от Гнедого и тем более от Заседателя, у которых «даже в глазах было заметно получаемое ими от того удовольствие». «Хитри, хитри, вот я тебя перехитрю! — говорил Селифан, приподнявшись и хлестнув кнутом ленивца. — Ты знай свое дело, панталонник ты немецкий! Гнедой — почтенный конь, он сполняет свой долг, я ему дам с охотою лишнюю меру... Ну! Ну! Что потряхиваешь ушами? Ты, дурак, слушай.
коли говорят! Я тебя, невежа, не стану дурному учить!..» Или поручика вспомните, что живет за стеной у Чичикова! Вот и вся его роль в повествовании: живет за стеной у Чичикова!.. Но Гоголь не может не рассказать нам, что этот поручик из Рязани — «большой, по-видимому, охотник до сапогов, потому что заказал уже четыре пары и беспрестанно примеривал пятую. Несколько раз подходил он к постели с тем, чтобы их скинуть и лечь, но никак не мог: сапоги, точно, были хорошо сшиты...».
В том-то и дело, что литература захлебывается жизнью, она полна ею, упивается звуками внешнего мира, красками его. Вот как в стихотворении Д. Самойлова, отрывок которого мы взяли в эпиграф, Пушкин, ведя свой очень важный и надолго запомнившийся ему разговор с Пестелем (стихотворение называется «Пестель, поэт и Анна»), разговор «о Ликурге, и о Солоне, и о Петербурге, и что Россия рвется на простор», ни на секунду не забывает, слышит все время пенис девушки за окном. Для истинного поэта одинаково значительны и собственная мысль о том, что «русское тиранство — дилетантство», и то, что за окном «деревья, как зеленые кувшины, хранили утра хлад и синеву», — существует жизнь во множестве ее проявлений, а иначе какой же он, в сущности, поэт!..
Не просто жизнь — подробности ее, именно подробностями жизнь значительна; не просто человеческие чувства — подробности этих чувствований...
Что знаем мы, например, о том же Пьере Безухове? Вернулся из плена, вновь встретил Наташу, которую любил с тех самых пор, как помнил себя, женился на ней. Так? Но Толстому даже не это важно, важно, КАК все это произошло: встретил, женился. Толстой прежде всего об этом пишет — о том сложном и порой непредсказуемом, что происходит с человеческой душой.
Вот и вспомним. Приходит Пьер к княжне Марье, видит, что она не одна, но не удивляется; он знает, что при княжне Марье всегда были компаньонки, а это, видимо, одна из них, и неясно почему, «как это бывает иногда», чувствует, что компаньонка эта — «милое, доброе, славное
существо, которое не помешает его задушевному разговору с княжной Марьей». И он взволнованно говорит княжне Марье о том, что ничего не знал о смерти ее брата, и как удивительно то, что князь Андрей, раненный, попал в обоз к Ростовым. И княжна Марья спросит его:
— Вы не узнаете разве?
«Пьер взглянул еще раз на бледное, тонкое, с черными глазами и странным ртом лицо компаньонки. Что-то родное, давно забытое и больше, чем милое, смотрело на него из этих внимательных глаз.
«Но нет, это не может быть, — думал он. — Это строгое, худое и бледное, постаревшее лицо? Это не может быть она, это только воспоминание того». Но в это время княжна Марья сказала: «Наташа». И лицо с внимательными глазами, с трудом, с усилием, как отворяется заржавевшая дверь, улыбнулось, и из этой растворенной двери вдруг пахнуло и обдало Пьера тем давно забытым счастьем, о котором, в особенности теперь, он не думал. Пахнуло, охватило и поглотило его всего.
Когда она улыбнулась, уже не могло быть сомнений: это была Наташа, и он любил ее».
Понять невозможно, как это произошло: Пьер, любивший Наташу, не узнал ее! Но в том-то и дело, что происходит в нашей жизни многое, чему мы никогда не поверили бы, чего мы не ждем. За это мы, между прочим, и любим жизнь. Во всяком случае, и за это тоже.
Но Толстому важно точно передать глубинную правду чувствований, и поэтому он постарается нам все объяснить досконально. «Ее нельзя было узнать в первую минуту, потому что на этом лице, в глазах которого прежде всегда светилась затаенная улыбка, теперь, когда он вошел и в первый раз взглянул на нее, не было и тени улыбки». Все ясно? Вот почему, оказывается, Пьер не узнал Наташу.
Нам-то ясно, но Толстой недоволен собой, он продолжает работать над фразой. Не просто «в первую минуту» — «в первую минуту, когда он вошел». Улыбка Наташи? Но ведь это не просто улыбка — это «улыбка радости». Даже не так, точнее: «улыбка радости жизни». Он усложняет фразу, наращивает и наращивает ее и успокаивается только тогда, когда, как ему кажется, достигает наибольшей полноты и правды в передаче человеческих чувств.
«Пьер не заметил Наташи, потому что он никак не ожидал видеть ее тут, но он не узнал ее потому, что происшедшая в ней с тех пор, как он не видал ее, перемена была огромна. Она похудела и побледнела. Но не это делало ее неузнаваемой: ее нельзя было узнать в первую М№ нуту, как он вошел, потому что на этом лице, в глазах которого прежде всегда светилась затаенная улыбка радости жизни, теперь, когда он вошел и в первый раз- взглянул на нее, не было и тени улыбки; были одни глаза, внимательные, добрые и печально-вопросительные». Обратите внимание: не просто «вопросительные», но «печально-вопросительные».
И в этом сила толстовского повествования: в этом истовом стремлении к абсолютной правде. Помните, как девушке, которая ему нравилась, он писал, что сегодня любит ее меньше, а сегодня — вовсе не любит?.. Он верен себе — ив литературе, и в жизни.
Или вот как пишет Толстой о Наполеоне. «Когда вернувшийся адъютант, выбрав удобную минуту, позволил себе обратить внимание императора на преданность поляков к его особе, маленький человек в сером сюртуке встал и, подозвав к себе Бертье, стал ходить взад и вперед по берегу, отдавая ему приказания и изредка недовольно взглядывая на тонувших улан, развлекавших его внимание.
Для него было не ново убеждение в том, что присутствие его на всех концах мира, от Африки до стен Московии, одинаково поражает и повергает людей в безумие самозабвения».
Вот оно, точно и правдиво выраженное отношение Толстого к тому явлению, которое он ненавидел: «безумие самозабвения» — и «маленький человек в сером сюртуке», это безумие культивирующий вокруг себя и к этому безумию привыкший. И вот эта сцена: гибнущие на глазах Наполеона польские уланы, гибнущие бессмысленно, потому что за полверсты отсюда — превосходная переправа, гиб-
нущие, если можно так сказать, энтузиастически, потому что сам великий император на них сейчас смотрит (а он, между прочим, не очень и смотрит), — это и есть, как понимает Толстой, глубинная правда о Наполеоне. И могло уже не быть ни Бородина и Наполеона под Бородином, ни затянувшегося стояния его на Поклонной горе в ожидании «бояр», ни этого сравнения Наполеона с мальчиком, который сидит в движущейся карете, дергает за веревочки и пребывает в счастливой уверенности, что это он приводит карету в движение, — всего этого могло и не быть, потому что вся правда о Наполеоне уже сказана: «не ново убеждение в том, что его присутствие... повергает людей в безумие самозабвения». Но будет и разговор с Лаврушкой, и Бородино, и эти люди в чужих, непривычных его глазу мундирах, стоящие насмерть против французской артиллерии, и взгляд Наполеона на златоглавую Москву с Поклонной горы, многое еще будет, потому что только так может он поведать читателю предельную правду о ненавистном ему явлении, которое он взялся описать.
И как Гоголь только что радовал нас этим своим юмором и веселостью, пронизывающими все, о чем бы он ни писал, так Толстой привлекает нас, не может не привлекать этим напряженным усилием правды.
«Кутузов побагровел не оттого, что этот офицер был виною ошибки, но оттого, что он был достойный предмет для выражения гнева, и, трясясь, задыхаясь, старый человек, придя в то состояние бешенства, в которое он в состоянии бы приходить, когда валялся по земле от гнева, он напустился на Эйхена, угрожая руками, крича и ругаясь площадными словами...»
Обратим внимание на это «состояние» бешенства, в которое он в состоянии был приходить...» Мы Толстому все простим, потому что отчетливо чувствуем: важнее изящества фразы и стройности ее — неизмеримо важней для него! — глубинная правда человеческих чувствований.
«...Он, главнокомандующий, светлейший, которого все уверяют, что никто никогда не имел в России такой власти.
как он, он поставлен в это положение — поднят на смех перед всей армией. ...Он испытывал физическое страдание, как от телесного наказания, и не мог не выражать его гневными и страдальческими криками; но скоро силы его ослабли, и он, оглядываясь, чувствуя, что он много наговорил нехорошего, сел в коляску и молча уехал назад...»
И вот мы читаем об этом бессильном гневе старого и вовсе не здорового человека — он очень скоро уже умрет, Кутузов, — и даже если вы очень еще молоды и едва ощутили, что же такое жизнь, границы этой единственной вашей жизни словно раздвигаются, она становится более богатой, более значительной. Потому что и это вдруг входит в нее: разгневанный Кутузов. Как еще раньше вошел в нее Кутузов, оборотивший к чернеющим в углу избы образам задрожавшее вдруг лицо: «Спасена Россия! Благодарю тебя, господи...» — при известии, которого он так давно ожидал, известии о том, что Москва французами оставлена. Такой простой и такой великий в этой простоте своей Кутузов! Он вошел в вашу жизнь, как вошел в нее осчастливленный встречей с Наташей Пьер. Как вошел Селифан со своими конями. Как вошел молодой человек «во фраке с покушениями на моду» или тот поручик из Рязани, «большой, по-видимому, охотник до сапогов»...
Очень соблазнительно было бы проследить подробнее за тем, чего мы только едва коснулись: за тем, КАК ИМЕННО сделаны те же «Мертвые души» или роман Толстого «Война и мир»; но это в данной книжке невозможно, мы и задачи-то такой перед собой не ставили. Мы только то и хотели сказать, что у каждого художника есть свое магическое «как», и чем глубже проникнем мы в своеобразие художественной его манеры, тем больше он осчастливливает нас (именно так: осчастливливает!) не только богатством и очевидностью изображенной им жизни, но и тем, как именно он это делает, неповторимым своим мастерством.
И тогда мы особенно много поймем, если приучимся слышать неповторимый голос самого автора.
Поймем, например, почему небрежный и резкий в общении с людьми Евгений Базаров, который так деспотически
оборвал попытку друга своего Аркадия «говорить красиво», почему сам он в последнюю встречу свою с Одинцовой говорит вдруг такие неожиданные в его устах слова: «Дуньте на умирающую лампаду, и пусть она погаснет...» Базаров говорит так? Почему? Кокетничает, рисуется? Ох, не до того ему!.. «Теперь... темнота...» И вот в последнем усилии жизни, меркнущего своего сознания — такие неожиданные, словно вовсе не Базарову принадлежащие слова!..
А это чьи слова? «И долго я лежал неподвижно, и плакал горько, не стараясь удерживать слез и рыданий; я думал, грудь моя разорвется; вся моя твердость, все мое хладнокровие — исчезли, как дым. Душа обессилела, рассудок замолк...» Чьи это слова? Ведь поверить же невозможно — Печорина! Мы все поймем, мы поверим, что это Печорин, по следующей же фразе: «Мне, однако, приятно, что я могу плакать!..» Ну конечно же, это Печорин! Но как точен этот переход, как это удивительно сделан о!..
А случалось ли вам со всем возможным вниманием, с невольным сочувствием вслушаться в плач оскорбленной женщины, в эту горькую и бессильную ее жалобу:
...Громко кликала я матушку,
Отзывались ветры буйные,
Откликались горы дальние,
А родная не пришла!
День денна моя печальница,
В ночь — ночная богомолица!
Никогда тебя, желанная,
Не увижу я теперь!
Ты ушла в бесповоротную,
Незнакомую дороженьку,
Куда ветер не доносится,
Не дорыскивает зверь...
Некрасов так много слышит в знаменитой своей поэме! Слышит пьяный говор и пьяные окрики и песни — после ярмарки, на ночной дороге, и это тупое, мужицкбе: «Пьем — значит, силу чувствуем...» И гневное бормотание старика Савелия слышит, и умильный голос преданного князьям Утя-тиным дворецкого, и бравую солдатскую запевочку под мелкую дробь деревянных ложек, и слезливые речи стран-
ников, и многозначительное повествование «смиренного богомола» Ионы Ляпушкина. Она очень полифонична, некрасовская поэма, она поет, голосит, причитает, издевается, говорит голосом гнева и голосом надежды... Но вот этот плач Матрены Тимофеевны по умершей матери — «день денна моя печальница, в ночь — ночная богомолица», как нужно слышать Россию, чтобы так написать!
А как нужно слышать русскую революцию, чтоб на занесенных снегом улицах Петрограда услышать не только мерную поступь вооруженных отрядов и революционных патрулей, но и хищное, приблатненное: «Уж я ножичком полосну, полосну...» Не только приглушенный разговор так называемой чистой публики: «Уж мы плакали, плакали...», но и доверительный рассказ проститутки очередному клиенту: «И у нас было собрание... вот в этом здании... Обсудили — постановили: на время — десять, на ночь — двадцать пять...»
«Русской интеллигенции словно медведь на ухо наступил, — сетует в годы революции Александр Блок, — мелкие страхи, мелкие словечки...» Он заклинает современников: «Всем телом, всем сердцем, всем сознанием — слушайте Революцию».
Он и сам прежде всего слушает — и слышит! Не будь у гениального Блока этого обостренного слуха, мы только так, может, и представляли бы революцию — плакатно, просто:
Революцьонный держите шаг!
Неугомонный не дремлет враг!
Только так и представляли бы ее себе — песенно:
Как пошли наши ребята В красной гвардии служить,
В красной гвардии служить,
Буйну голову сложить...
Мы именно так и представляли бы все это себе — и плакатно, и песенно. Со всем этим так перекликается и «Левый марш» Маяковского, и его «Ода революции», и знаменитая речевка его, которой он так гордился: «Ешь
ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй!..»
Но мы, вслед за Блоком, и другое слышим, вовсе не простое, не однозначное, — тоску человека по загубленной невзначай возлюбленной:
Упокой, господи, душу рабы твоея...
Скуяио!
Именно так, по-народному и очень точно выраженное: «Скучно», то есть тоскливо, невмоготу. Словно вся взметенная, перемученная, обозленная Россия, рвущая сейчас из-под ног все привычное, устоявшееся, делающая страшный рывок в будущее, — а что в том будущем, каково оно? Как говорит Пугачев в «Капитанской дочке» — помните? — Пугачев, не уверенный ни в чем, безоглядно рискующий: «Как знать? Авось и удастся! Гришка Отрепьев ведь царствовал же над Москвою». Тут — многое. Услышать в бешеном развороте революционных событий еще и такое — голос тоски и потерь, голос готовности ко многому и смертельного риска — это, наверное, только гению и под силу.
Так же, как только гений мог несколько раньше, в межреволюционное лихолетье, с устойчивым бытом его, с чинными прогулками вдоль набережных, «со скукой загородных дач», с расчисленностью модных поэтических вечеров услышать вдруг топот несущейся по степи кобылицы, увидеть пророческим взглядом зарево далеких пожаров, сказать бессмертное и такое неожиданное в выморочности однообразных будней:
И вечный бой!
Покой нам только снится...
Вот такое подспудное, глубинное — «вечный бой» — слышать эти звуки, слышать!
Или стихотворение Блока «Россия»: «Какому хочешь чародею отдай разбойную красу...» Вот такая у Блока любовь к России — странная! Как у Лермонтова, казалось бы. Но нет, времена не те, замешано круче, вы вслу-
шайтесь: «Пускай заманит и обманет, не пропадешь, не сгинешь ты...» Забота? «Ну что ж? Одной заботой боле...» Слезы? «Одной слезой река шумней...» Ничего ему не страшно, потому что сердце Блока настежь открыто одному: жизни. Жизни — как бы она ни сложилась, какова бы ни была. То самое, с чего мы начали, — со слов Толстого: «Цель художника... в том, чтобы заставить любить жизнь в бесчисленных, никогда не истощимых всех ее проявлениях...»
И было сердцу ничего не надо,
Когда пила я этот жгучий зной...
«Онегина» воздушная громада,
Как облако, стояла надо мной...
Из другого времени, другой поэт, точнее, поэтесса: так Анна Ахматова говорит о романе Пушкина «Евгений Онегин». «Было сердцу ничего не надо...» Вот такая полнота восприятия, такое исчерпывающее богатство сотворенной Пушкиным жизни!
Но Анна Ахматова, именно потому, что она сама поэт, особенно точно чувствует то колдовское «как», при помощи которого художник не просто воссоздает жизнь, но делает это неповторимо. Видите, что пишет Ахматова: «воздушная громада», «как облако», «стояла надо мной». Здесь каждое слово точное. И конечно, мы тоже чувствовали эту удивительную, воздушную легкость пушкинского романа, только не умели так сказать об этом. Как облако, как воздушная громада, стоял он над нами, если нам выпало счастье не просто прочесть роман, но вчувствоваться в каждое его слово.
Кто главный герой романа: Онегин, Татьяна? Нет, конечно. Главный герой его — сам Пушкин, мы об этом много слышали и соглашались, конечно. Это Пушкин раскрывается перед нами так легко, так непринужденно.
Онегин, добрый мой приятель,
Родился на брегах Невы,
Где, может быть, родились вы Или блистали, мой читатель;
Там некогда гулял и я,
Но вреден север для меня...
О ком он пишет — об Онегине? Нет, о себе. Недаром отметит в примечаниях: «Писано в Бессарабии». Вот и понимай, читатель: «вреден» ему север, и не им, не Пушкиным, это решено...
Наверное, так это все и было: заскучал в своей южной ссылке о далеком Петербурге и начал с удовольствием рассказывать обо всем, что оставил. Вот откуда эта с самого начала заявленная непринужденность и легкость. Вот так и появилось в конце концов это «собранье пестрых глав, полусмешных, полупечальных», так и развернулась в конце концов «даль свободного романа» — свободного!..
И будет Пушкин вспоминать, как «во, дни веселий и желаний» он был «от балов без ума», и собственные посещения петербургских театров, и собственные любовные шалости и увлечения, и сам же обрывать себя будет: «полно, перестань, ты заплатил безумству дань»... И вздыхать будет, молодо и лицемерно: «Увы, на разные забавы я много жизни погубил...» Как его тянет вновь следить за мельканьем дамских ножек по сверкающему паркету!..
А потом пройдут годы в работе над этим романом, и все чаще будет задумываться Пушкин и уже всерьез, как и всякий человек задумывается с возрастом, будет писать: «Другие, хладные мечты, другие, строгие заботы и в шуме света, и в тиши тревожат сон моей души». Будет писать: «Познал я глас иных желаний, познал я новую печаль...» Будет признаваться: «Без неприметного следа мне было б грустно мир оставить, живу, пишу не для похвал...» Будет вздыхать: «Иных уж нет, а те далече...» Вовсе не легко бывает иногда Пушкину, и роман, что-то вроде лирического дневника его, отразит и тень, набежавшую на его лицо: «грустно думать, что напрасно была нам молодость дана, что изменяли ей всечасно, что обманула нас она»... — и невольную улыбку воспоминаний о той же молодости, о том, как «безмятежно расцветал» он в садах Лицея, вольные сочинения Апулея читал охотно, важные и серьезные — Цицерона — не читал вовсе...
Многое напишет он о себе, а на нас, как и всегда при соприкосновении с Пушкиным, будет идти то, о чем
мы уже писали: радость жизни, и даже в горе, даже в трудностях радость, потому что только в трудностях и горе познает человек истинную меру своим силам, а познав ее, понимает и другое: то, что может — всё! И какая безукоризненная при этом, какая строгая, продуманная, взвешенная и в целом, и в частностях форма — именно такая, строгая и взвешенная, она подчеркивает, как никакая другая, эту свободу, эту непринужденность: словно в безукоризненно ограненном сосуде искрится, пенится, переливается через край солнечный пушкинский гений.
Жизнь фонтанирует в Пушкине, — и он щедро делится с нами тем, что имеет. Он принадлежит всем, как вода, как солнце, да! Ничему решительно он не учит насильственно, ничего не навязывает, ни на чем не Настаивает, просто — живет. Но как же оно заразительно — пушкинское мужество и пушкинская свобода, вся эта пушкинская жизнь!
Да и вся хорошая литература такова, если она, конечно, хороша. Она не занудствует, не поучает. Хотите — думайте вместе с нею, не хотите — не думайте, подумаете потом. Обязательно подумаете, потому что люди растут и меняются, и все большей мудрости требует от них жизнь. Ничего, в сущности, от читателя и не требуется иного, только жить. Только чувствовать то, что чувствует настоящий художник: полноту и разнообразие бытия.
И Анна Ахматова, величавая Анна Ахматова, вдруг напишет совсем неожиданные строки:
Когда б вы знали, из какого сора Растут стихи, не ведая стыда.
Как желтый одуванчик у забора,
Как лопухи и лебеда.
Сердитый окрик, дегтя запах свежий.
Таинственная плесень на стене...
И стих уже звучит, задорен, нежен,
На радость вам и мне.
На радость, только так! Иначе зачем оно все? Зачем наша жизнь, зачем высочайший взлет человеческого духа, именуемый творчеством? Ничего этого иначе не надо.
Цель творчества — самоотдача...
Это уже другой поэт сказал» Борис Пастернак: истребляй себя в том, что ты пишешь, щедро делись с другими богатством проживаемой тобой жизни.
...Другие по живому следу Пройдут твой_ путь за пядью пядь.
Но пораженья от победы Ты сам не должен отличать.
И должен ни единой долькой Не отступаться от лица,
Но быть живым,
живым и только,
Живым и только, до конца.
...Случалось ли вам лежать в траве или, еще лучше, на морском берегу и, ни о чем не думая, с наслаждением подставлять лицо солнцу и чувствовать, как жизнь существует в вас и вокруг вас? И вот такая, как сейчас, сама по себе, ничего не желающая, никуда не торопящаяся, она — наслаждение.
Так и литература. Руку протянуть — она рядом. |||||||||||||||||||||||||||||||||
Распознавание текста книги с изображений (OCR) —
творческая студия БК-МТГК.
|