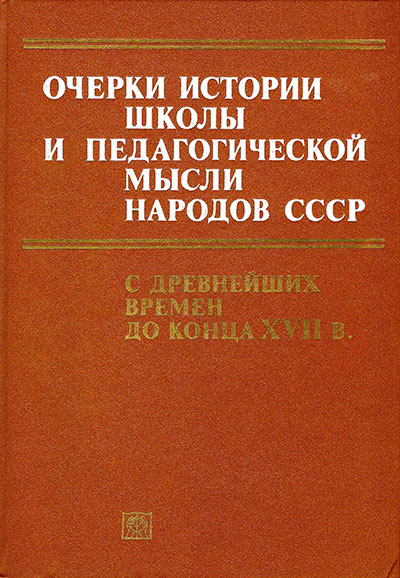Настоящий том посвящен начальному периоду истории отечественной школы и педагогики, развитию образования и педагогической мысли народов нашей страны с древнейших времен до конца XVII в. В книге раскрыты содержание и специфика педагогического процесса, его место и роль в общем процессе развития отечественной культуры.
Для специалистов в области педагогики, а также для всех, кто интересуется историей школы и педагогики.
ОТ РЕДАКЦИИ
Настоящая книга представляет собой первый опыт обобщающего труда по истории просвещения, школы и педагогической мысли народов СССР с древнейших времен до конца XVII в. Последующие этапы этой истории освещены в вышедших ранее томах «Очерков»
Книга подготовлена лабораторией истории школы и педагогики дореволюционной России Научно-исследовательского института общей педагогики Академии педагогических иаук СССР при участии большого коллектива сотрудников научных учреждений и преподавателей высших учебных заведений.
Общее научное редактирование тома проведены Э. Д. Диепровым, О. Е. Кошелевой.
Авторы тома:
Введение — Э. Д. Днепров
Раздел I
Введение к разделу — Э. Д. Днепров (Историография), О. ?. Кошелева (Источники)
Глава I — Г. Б. Корнетов (1); О. Е. Кошелева (2); В. В. Кусков (3)
Глава II — О. Е. Кошелева (1); | Г, В. Семенченко\ (2); М. А. Давыдов (3); М. А. Давыдов, О. Е. Кошелева, \ Г. В. Семенченко | (4)
Глава III — О. Е. Кошелева (1 (при участии Б. Н. Морозова), 2); А. П. Богданов (3)
Глава IV — ./О. Л. Щапова (1, 2); Л. В. Мошкова (2 — Ремесленное ученичество в XVII в.); Н. Ф. Демидова (3 — Обучение прн Посольском и Поместном приказах); И. И. Макеева (3 — Обучение при Аптекарском приказе); В. А. Кондрашина (3 — Обучение при Пушкарском приказе); Л. И. Влодавец, М. П. Лукичев (3 — Обучение военному делу)
Раздел II
Введение к разделу — | Л. С. Геллерштейн |, О. Е. Кошелева
Глава I — | Л. С. Геллерштейн | (1); В. В. Кусков (1 — «Слово некоего калугера...»); С. А. Пшеничный (2 — Изборники 1073 и 1076 годов); | Л. С. Геллерштейн |, О. Е. Кошелева (2 — Сборники афоризмов); | Л, С. Геллерштейн | (2 — Повесть об Акире Премудром)
Глава II — Г. Б. Корнетов (1); Т. В. Черторицкая (2); И. В. Курукин (3); О. Е. Кошелева (4); Л. А. Черная (5)
Глава 111 — О. Е. Кошелева (1); И. В. Поздеева (2 — Московский Печатный двор); О. Е. Кошелева, Л. А. Черная (2 — Верхняя типография); Л. В. Мошкова (3 — Методика обучения чтению и письму); Р. А. Симонов (3 — Методика обучения счету); А. А. Круминг, Е. Ю. Фарзтдинова (3 — Печатные азбуки и буквари); Н. Б. МечковскАя (4 — Грамматики, «Грамматика» Мелетия Смотрицкого); В. И. Аннушкин (4 — Риторика); Н. К Гаврюшин (4 — Диалектика); Р. А. Симонов (4 — Литература для обучения математике); Б. Н. Морозов (4 — Литература для обучения истории); Е. Ю. Фарзтдинова (4 — Азбуковники)
1 См.: Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. XVIII — первая половина XIX в. М., 1973; Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. Вторая половина XIX в. М., 1976.
Глава IV — О. Е. Кошелева (1); М. Н. Громов (2); Е. Л. Немировский (3); Л. У. Звонарева (4); О. А. Белоброва (5); А. П. Богданов (6); В. В. Калугин (7)
Раздел Ш
Глава I — Н. Н. Яковенко (1); Б. Н. Митюров (2)
Глава II — И. Г. Коновалова, И. В. Концеску, Ф. Ф. Чиботару
Глава 111 — С. В. Думин (введение к главе; 1 — Католические школы); В. П. Мещеряков (Г, 2 — С. Будный и В. Тяпинский); Л. У. Звонарева (2 — Ф. Скорина)
Глава IV — С. В. Думин Глава V — Я. И. Анспак Глава VI — Я. И. Набер Глава VII — С. В. Гамсахурдия Глава VIII — К. А. Мирумян
Глава IX — Г. М. Ахмедов (1, 2); А. Ш. Гашимов (2 — Народная педагогика)
Глава X — С. С. Архангельский (1, 2 — Ибн Сииа, Саади, Джами, Навои); К Пир-лиев (2 — Народная педагогика); К. Б. Жарикбаев (2 — Фараби, Юсуф Баласагуиский, Махмуд Кашгарский, Ахмед Югнаки); С. Р. Раджабов (Бабур)
Глава XI — Я. И. Ханбиков (1); Б. М. Ховратович (2)
Указатель имен — О. Е. Кошелева, Л. В. Мошкова
Научно-вспомогательная и иаучио-организациоиная работа по тому проведена О. Е. Кошелевой и Л. В. Мошковой.
Научно-исследовательский институт общей педагогики Академии педагогических наук СССР выражает глубокую благодарность за ценные советы и замечания, высказанные в ходе подготовки тома и отдельных его глав: доктору педагогических наук С. Д. Бабишину, доктору исторических наук Е. И. Каменцевой, доктору педагогических наук К И. Салимовой, доктору исторических наук А. И. Сахарову, доктору исторических наук, члену-коррес-поиденту АН Туркменской ССР С. Г. Агаджанову, кандидату искусствоведческих наук Н. Л. Асатиани, доктору исторических наук В. И. Буганову, доктору педагогических наук В. В. Гагуа, доктору исторических наук М. X. Гейдарову, кандидату исторических наук Г. Я. Голен-ченко, доктору филологических наук В. С. Горскому, доктору исторических наук В. Я- Гросу-лу, кандидату исторических наук Е. Н. Дзюбе, академику АН АрмССР С. Т. Еремяну, кандидату исторических наук А. И. Ешану, доктору филологических наук В. М. Конону, доктору исторических наук А. Н. Копылову, кандидату исторических наук Э. И. Лаулу, кандидату исторических наук И. Лукшайте, кандидату исторических наук Т. И. Макаровой, кандидату исторических наук А. К Мирбабаеву, доктору исторических наук М. Мошеву, доктору исторических наук Р. Г. Мукминовой, доктору исторических наук Л. Мулявичюсу, доктору педагогических наук Е. Г. Осовскому, кандидату исторических наук И. В. Поздеевой, доктору исторических наук Л. Н. Пушкареву, академику АПН СССР С. Р. Раджабову, кандидату исторических наук М. Сваране, кандидату исторических наук А. А. Тури лову, доктору исторических наук Н. Н. Улащику, А. И. Фотеевой, Н. Н. Хабибуллаеву, доктору исторических наук С. В. Хармандаряну, кандидату педагогических наук Б. М. Ховрато-вичу, доктору исторических наук Ю. Л. Щаповой, доктору исторических наук Я. Н. Щапову, кандидату исторических наук Э. Э. Яанвярк, а также коллективам научных учреждений и кафедр вузов, принявших участие в обсуждении материалов настоящей книги.
ВВЕДЕНИЕ
Книга, предлагаемая вниманию читателей, хронологически открывает дореволюционную серию «Очерков истории школы и педагогической мысли народов СССР». Как и вышедшие прежде тома «Очерков», она представляет собой первый опыт воссоздания целостной картины развития отечественной школы и педагогической мысли, но на более раннем его этапе — с древнейших времен до конца XVII в.
Предшествующие тома «Очерков» охватывали относительно короткие периоды отечественной истории — полтора столетия, полстолетия, четверть века. От тома к тому хронологические рубежи стягивались, сужались, и это сужение не было случайным. Оно отражало уплотнение, ускорение исторического процесса, нарастание его сложности и динамизма.
Необходимость учета этой закономерности исторического развития требовала определенных корректив в характере подхода к историко-педагогическому материалу в отдельных томах «Очерков», варьирования способов его отбора и рассмотрения. Указанные изменения шли, однако, в русле привычных форм историко-педагогического анализа, поскольку сама педагогическая реальность нового и новейшего времени была более близкой, знакомой, привычной. Иначе обстоит дело в настоящем томе.
Период, рассматриваемый в данном томе, лишен атмосферы «привычности». Меры и системы отсчета здесь принципиально иные, равно как и представления о мире, человеке и его воспитании. Соответственно для проникновения в сущность педагогической реальности этого периода, для ее понимания и объяснения уже недостаточно модификаций в рамках привычного. Необходимо значительное смещение угла исследовательского зрения и, кроме того, весьма существенная его довооруженность.
Классическая ленинская формула исторического познания — «не забывать основной исторической связи, смотреть на каждый вопрос с точки зрения того, как известное явление в истории возникло, какие главные этапы в своем развитии это явление проходило, и с точки зрения этого развития смотреть, чем данная вещь стала теперь» [3, 67] — ориентирует прежде всего на анализ исходных точек развития, на различение качественных состояний в процессе этого развития. Однако учет преемственности состояний явления вовсе не предполагает прямолинейное понимание этой преемственности, взгляд иа «предыдущее» только как на ступени к «последующему».
«Так называемое историческое развитие, — писал К. Маркс, — покоится вообще на том, что последняя по времени форма рассматривает предыдущие как ступени к самой себе и всегда понимает их односторонне, ибо лишь весьма редко и только при совершенно определенных условиях она бывает способна к самокритике...» [2, 42 — 43].
Эта мысль К. Маркса имеет кардинальное значение для всех отраслей знаний, обращенных к истории человека и общества. «Основные понятия, которыми неизбежно пользуются гуманитарные науки, сложились в новое время, и применение этих понятий к обществам далекого прошлого чревато опасностью приписать им такие отношения, которых тогда не существовало, по крайней мере в развитом и сложившемся виде. И здесь гарантией может служить только строго исторический подход к подобным категориям и общим понятиям, сознание того, что сами по себе они — результат длительного развития» [6, 7].
Для исследования педагогической реальности, представленной в настоящем томе, мысль К- Маркса об «односторонности» понимания приобретает особую значимость. И не только в силу специфики эпохи, но и в силу определенной историографической традиции в истории педагогики, упускавшей из виду эту специфику. Однако новейшие достижения смежных областей знания создают те условия, в которых может проявиться упомянутая К. Марксом способность к самокритике.
При обращении к педагогическому наследию древнейшего периода традиционные формы подхода к историко-педагогическому материалу оказываются недостаточными или малопригодными, поскольку прежде всего претерпевает существенную трансформацию само представление о таком материале. Привычные нам развитые формы педагогической реальности здесь практически еще не существуют. Историко-педагогический процесс еще не выделяется в самостоятельную ветвь историко-культурного процесса. Он идет внутри этого более широкого потока, подчиняясь его закономерностям и одновременно отчетливо окрашивая его в просветительные тона. В то же время сама культура, во всех ее проявлениях, имеет широкий учительный, т. е. в большей или меньшей мере «педагогический», характер.
Синкретизм, нерасчлененность мировосприятия и духовной жизни рассматриваемой эпохи, недифференцированность отдельных сфер ее культуры неоднократно подчеркивались в новейшей советской литературе. В духовной материи этой эпохи трудно «выделить в качестве достаточно обособленных такие сферы интеллектуальной деятельности, как эстетика, философия, историческое знание или экономическая мысль». Столь же трудно выделить и мысль педагогическую. «Различные сферы человеческой деятельности в эту эпоху не имеют собственного «профессионального языка» [6, 26 — 27]. Попытки же навязать данной эпохе современный «профессиональный язык» и современное понимание явлений ведут к вольному или невольному ее искажению, к спрямлению исторической перспективы.
Но дело не только в «профессиональном языке» и невосприимчивости к прошлому узкопрофессионализированного, внеисторического сознания. Опасность искажений неизбежна и при отсутствии учета того «языкового барьера» в целом, который разделяет древность и новейшее время. Достаточно напомнить неучтенное в педагогической историографии различие прежнего, древнерусского, и нынешнего понимания слова «отрок», чтобы убедиться в рискованности построений современных педагогических конструкций на неосвоенной почве древней действительности. Современное «вычитывание» слова «отрок» из этой действительности порождало в историко-педагогических работах немало воздушных историко-педагогических замков, пленяющих законценностью своих форм. Между тем на ранних этапах реальной русской истории, которую призваны были отобразить эти работы, слово «отрок» не содержало возрастной семантики; оно обозначало «работник», «слуга», «младший дружинник» и т. д.
Приведенный пример вдвойне показателен, поскольку он обнажает одновременно два барьера между рассматриваемой эпохой и современностью. Помимо «языкового барьера» раскрывается и «барьер сознания»: средневековье не знало категории детства как особого качественного состояния человека.
Таким образом, сетка привычных историко-педагогических понятий и представлений «не ложится» на эту эпоху, «не сживается» с ней. Поиски привычного большей частью не удаются. Они ведут либо к модернизации, либо к упрощению рассматриваемых явлений. Отсюда или гипертрофия существовавших педагогических представлений, возведение их в ранг «гениальных педагогических догадок», завершенных и совершенных педагогических систем, или снисходительное небрежение ими как «младенческими», «наивными».
Истина, однако, лежит не всегда посредине. В данном случае она лежит в иной плоскости. И педагогические представления, вплетенные в сложную ткань общественного сознания, и само это сознание, и носитель его — человек («объект воспитания» — К- Д. Ушинский), и, наконец, собственно процесс воспитания (объект педагогики) были иными в ту эпоху, которой посвящена настоящая книга. Поэтому в число важнейших задач книги входило: раскрыть и объяснить сущность этого «иного»; проанализировать особый характер воспитательной практики эпохи, воспитательных идеалов, понятий и представлений о воспитании; показать, как эти понятия, формируясь в процессе практической деятельности, отражали ее и на нее воздействовали.
Иная система общественных отношений, определявших особый «тип личности», иной способ духовно-практического освоения мира и иное общественное сознание, невычлененность в этом сознании педагогических представлений — вот та система координат, в которой выстраивалась эпохой исследуемая в книге педагогическая реальность. Доминирующими в ней были два мощных взаимодействующих пласта — народные традиции и христианское миросозерцание с его восприятием «мира как школы» [4, 150 — 182]. В этом «диалоге-конфликте» [5] двух культурных традиций на двух их уровнях — идеологическом и социально-психологическом, рефлексивном и ментальном — протекала реальная, социально многослойная воспитательная практика в различных ее видах и формах. Медленно и постепенно она секуляризировалась как самостоятельная, особая область человеческой деятельности, в недрах которой созревали зачатки специальных, научных знаний о воспитании человека. Но этот процесс обретает зримые черты уже на исходе рассматриваемого периода.
Сказанное выше очерчивает качественные отличия эпохи, освещаемой в настоящей книге, от периодов, которым были посвящены предшествующие тома «Очерков». Не менее важны, однако, и «количественные» отличия — длительность рассматриваемой эпохи, обнимающей несколько столетий, что также предопределяет особый ракурс и характер ее историко-педагогического освоения.
Сущность различий в анализе длительных и относительно коротких исторических периодов красноречиво показана академиком Д. С. Лихачевым на историко-литературном материале: «Подходы к определению изменений в пределах десятилетий и в пределах нескольких веков принципиально различны. В первом случае на передний план выступает зависимость историко-литературных изменений от исторических событий, во втором — зависимость литературы от особенностей исторического развития в целом. Для определения первых различий необходимо наблюдение над единичными явлениями литературы, для определения вторых — широкие обобщения огромного материала и суммирование их в характеристиках эпох, основанных в значительной мере на чувстве стиля — стиля эпохи» [8, 5].
Отмеченные отличия характерны не только для историко-литературного, но и для всякого историко-научного исследования, в том числе для историко-педагогического.
Столь же значима и другая мысль Д. С. Лихачева: «Как бы ни были трудны определения эпох сравнительно с определением коротких периодов, их необходимо сделать даже для того, чтобы выяснить исторический смысл изменений на коротких дистанциях» [там же).
Анализ развития педагогических представлений и воспитательной практики в ту эпоху, которой посвящен данный том, позволяет увидеть школу и педагогическую мысль в широкой исторической перспективе, рассмотреть истоки и основные направления их генезиса и в итоге понять сущность прогресса в педагогике как движения к «открытию» и познанию человека, к открытию и познанию закономерностей его развития и воспитания.
Настоящая книга, охватывающая многовековой период истории нашей Родины, не претендует и не может претендовать на полное и всестороннее историко-педагогическое его освещение. История педагогики еще только приступает к изучению этой эпохи. Еще только формируется корпус источников, которые предстоит подвергнуть историко-педагогическому анализу, только начинается их осмысление, теоретическая разработка принципов, путей и методов исследования истории воспитания, образования и обучения у народов нашей страны в ранние периоды их развития. Предпринятое в данном томе первичное обобщение накопленного материала представлялось необходимым этапом начавшейся исследовательской работы, этапом «стягивания» и одновременно накопления, углубления знания, без которого был бы затруднителен его дальнейший рост.
Очерковая форма книги в некоторой степени облегчила выполнение названной сложной задачи, позволив в ряде случаев ограничиться лишь постановкой вопросов или прочерчиванием линий возможного их решения. Не все проблемы, поднятые в томе, освещены в равной степени полно, не все затронутые в нем сюжеты обрели законченное очертание. Для данного этапа работы такое вынужденное ограничение необходимо и оправданно. Претендовать на большее было бы делом весьма рискованным.
Приступая к подготовке настоящей книги, ее авторский коллектив понимал, что к началу 80-х гг. в историографии отечественной школы и педагогической мысли наибольшее отставание проявилось именно в области освоения педагогического наследия древности и средневековья. Целью работы над томом была попытка преодолеть или хотя бы сократить дистанцию этого отставания, что потребовало консолидации усилий историков педагогики и специалистов, разрабатывающих близкую проблематику в истории философии, литературоведении, лингвистике и других областях знания.
Авторы книги сознают трудность стоявшей перед ними задачи. Но если предпринятые усилия дадут импульс к более глубокому и всестороннему раскрытию богатства педагогического наследия отечественной древности и средневековья, авторы будут считать свою цель достигнутой.
Было бы небесполезно, опираясь на сделанное, наметить перспективы, некоторые направления дальнейшей работы по освещению педагогического наследия рассматриваемой эпохи.
Думается, что первым из этих направлений должно стать интенсивное введение в историко-педагогический оборот и историко-педагогическое осмысление знаний, накопленных смежными науками. Надо сказать, что большая часть историков педагогики понимают острую необходимость работы в этом направлении. Значительно менее понятно то, что само обращение к опыту и достижениям смежных отраслей знания должно идти отнюдь не только на привычном, эмпирическом уровне (как это в основном делается сейчас), но и на уровне теоретическом. То есть необходимо не только овладение новым, неизвестным истории педагогики фактическим материалом, но и методологическое, теоретическое, методическое перевооружение историко-педагогических исследований на основе теоретического арсенала смежных наук.
Именно это даст необходимый импульс и материал для работы еще в одном важнейшем направлении — для разработки методологических и теоретических проблем собственно историко-педагогического познания наследия древнего периода отечественной истории, для широкого анализа историко-педагогических явлений в общем контексте развития отечественной и мировой культуры средневековья. Концепция закономерности развития мировой культуры, выдвинутая академиком Н. И. Конрадом [7], концепция русского Предвозрож-дения и русского историко-литературного процесса, обоснованная академиком Д. С. Лихачевым [8], идеи А. Я. Гуревича и С. С. Аверинцева о характере средневековой культуры, средневекового сознания и многое другое при соответствующем их историко-педагогическом осмыслении откроют новые теоретические горизонты для историко-педагогической медиевистики.
Выход на этот уровень осмысления и освоения педагогической реальности рассматриваемой эпохи является сегодня наиболее актуальным. Сущность этой реальности не может быть понята только на основе работ историко-методического уровня. Необходимо, говоря словами К. Маркса и Ф. Энгельса, возвыситься до «теоретического понимания всего хода исторического движения» [1, 434]. Историко-методические работы не могут дать такого понимания. Эти работы, безусловно, будут разрастаться и развиваться (и чем более интенсивно, тем лучше), но, опираясь на теоретический пласт, они сами сегодня обретут иное звучание. И главное, исчезнет та подмена, которую мы сегодня наблюдаем в большей части историко-педагогических работ, методика перестанет быть синонимом педагогики, педагогической мысли древних эпох.
Исследователям еще предстоит рассмотреть на теоретическом уровне такие важнейшие, но до настоящего времени не решенные проблемы, как само понимание педагогики Древней Руси, форм ее «бытования» и развития, ее социальной роли, ее места в системе идеологии и культуры; отражение в ней средневекового общественного сознания и влияние на нее идейных и духовных движений эпохи (в последние годы началось перспективное изучение одной из сфер такого влияния — народных традиций воспитания, народной педагогики); предстоит рассмотреть основной круг идей и теоретических представлений педагогики Древней Руси, способы и средства их выражения, их развитие и взаимосвязь с идеями и представлениями, выдвигаемыми другими формами средневекового сознания (в частности, при переходе от статичного к динамичному восприятию мира, при появлении историзма сознания и открытии ценности отдельной человеческой личности); процесс секуляризации педагогики, ее эмансипации от теологии, философии и литературы; сущность самого историко-педагогического процесса в Древней Руси, его характер и специфику, его движущие силы, этапы и периоды (в соотнесении с общеисторической периодизацией, с периодизацией истории культуры и с обоснованием своих собственных критериев периодизации); причины возникновения тех или иных педагогических явлений; особенности национального педагогического процесса в
сравнении с мировым историко-педагогическим процессом средневековья, с его проявлениями в других странах и регионах и т. д.
Последний аспект теоретического рассмотрения — соотнесение национального и инонационального в историко-педагогическом процессе и в педагогическом наследии Древней Руси — представляется тем более актуальным, что в настоящее время наметились две противоположные тенденции в освещении этого наследия: одна — в работах историков смежных областей знания, другая — в исследованиях историков педагогики. Историки науки в силу более широкой осведомленности и сознательной установки на компаративноконтактные исследования при оценке тех или иных явлений педагогической действительности Древней Руси, в частности древнерусской учебной литературы, делают акцент на проблеме взаимосвязей, взаимовлияний и заимствований. Историки педагогики в силу неразработанности методологии и методики сравнительных историко-педагогических исследований, а также в силу не менее сознательной установки на изучение традиций народной педагогики акцентируют проблемы национального своеобразия, национальных корней тех или иных педагогических идей древности и средневековья.
Очевидно, что эта установка историков педагогики перспективна и правомерна, особенно в свете того обстоятельства, что народная педагогика в последнее двадцатилетие не без труда получила гражданские права в педагогической науке. Однако не следует ограничиваться только этой установкой, не следует, говоря словами историка литературы академика А. С. Орлова, «уединять» древнерусскую педагогику «как что-то туземное» [9, 189].
Историкам педагогики еще предстоит найти «правомерную соотнесенность» названных аспектов изучения педагогического наследия Древней Руси — поиска национальных корней и формационной общности русской и мировой педагогической мысли. Предстоит уяснить, что национальная специфика педагогической мысли, как и любой другой сферы общественного сознания, «возникает на почве ее национального социально-исторического развития при участии обусловленных этим развитием иностранных влияний, но выясняется она с помощью инонациональных историко-типологических сопоставлений в общих пределах соответствующих социально-экономических формаций» [10, 42].
Не менее важным, чем совершенствование методологии изучения педагогического наследия Древней Руси, чем освоение добытого другими науками фактического материала, является самостоятельный и целенаправленный историко-педагогический поиск такого материала. При той рыхлости и ограниченности Источниковой базы, которой сегодня располагает историко-педагогическая литература, нет оснований смущаться, если этот поиск на первых порах будет мозаичным и фактографическим. Сейчас важно расширить поиск, привлекая к нему возможно большее число источников и возможно более широкий круг представителей самых различных специальностей. Дело историков педагогики будет состоять в том, чтобы, опираясь на помощь специалистов, кристаллизовать имеющийся в этих источниках историко-педагогический материал, осмыслить его с точки зрения своей специальности, обработать по собственным методикам (которые также еще предстоит создать), выстроить его, систематизировать и в дальнейшем на этой основе и на основе той теоретической работы, о которой выше шла речь, создать целостную концепцию историко-педагогического процесса в Древней Руси, целостное представление об этом процессе.
Это и будет реальным воплощением комплексного, интеграционного, системного подхода к историко-педагогической проблематике, в частности к освоению педагогического наследия Древней Руси. И только такой подход сможет в итоге дать подлинное, научное представление об этом наследии.
РАЗДЕЛ I
ПРОСВЕЩЕНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ШКОЛА В ДРЕВНЕЙ РУСИ
ИСТОРИОГРАФИЯ И ИСТОЧНИКИ ИЗУЧЕНИЯ ДРЕВНЕРУССКОЙ ОБРАЗОВАННОСТИ И ШКОДЫ
Вопрос о грамотности, образовании, школе в допетровскую эпоху — один из наиболее важных и в то же время наиболее спорных в историографии культуры и просвещения Русского государства. Дореволюционными исследователями был собран значительный источниковый материал по этому вопросу, выделены многие важные аспекты его изучения, написаны крупные работы, посвященные древнерусской школе. Однако обширная дореволюцонная историография древнерусского просвещения весьма противоречива. Она группируется в основном вокруг двух полярно противоположных точек зрения: одна их них — утверждение о полной безграмотности и невежественности населения Древней Руси, другая — идеализация древнерусской школы и образованности [20; 13].
Эта противоположность суждений отражала два различных взгляда на проблему, глубоко волновавшую русские умы XIX столетия, — о самобытности России и влиянии Запада на ее историческое развитие, отражала тот известный спор, который с первой трети XIX в. расколол русское общество на два лагеря — западников и славянофилов. Оценка степени культуры и образованности в Древней Руси была одним из ведущих аргументов в этом споре.
В сущности это был спор не столько о прошлом, сколько о будущем России, о том пути, который ей предстояло избрать. Крайности спорящих сторон не способствовали, однако, решению вопроса об истинном уровне образованности на Руси, что вызывало неудовлетворенность многих крупных русских историков. И. Е. Забелин, в частности, посвятивший всю жизнь изучению культуры этой эпохи, выступил против поверхностно-публицистического, «политизированного» подхода к столь сложной научной проблеме, без серьезного обращения к историческим источникам. Он полагал, что западники приносили в жертву политическим соображениям русские национальные традиции, тогда как славянофилы в угоду тем же соображениям, идеализируя российскую древность, тщетно пытались приложить устои старой Руси к новым историческим условиям [21, 68 — 69]. «Старина имеет свои неотъемлемые достоинства, — писал И. Е. Забелин, — хотя и не такие, какие хочется нам видеть. Достоинства эти могут раскрыться только при добросовестном, беспристрастном ее изучении, проведенном искренно, нелицеприятно, со всею строгостью понимания, невзирая ни на какие уклонения старой действительности от наших собственных идеалов» [10, 20].
Вместе с тем не только споры западников и славянофилов наложили отпечаток иа характер дореволюционной историографии древнерусского просвещения. В немалой степени на ее облике сказалось и то, что изучение истории школы и образованности в Древней Руси с самого начала оказалось в руках историков православной церкви. Соответственно эта история рассматривалась лишь как часть церковной истории. Все более теряя господствующее положение в школьном деле, церковь активно пыталась удержать позиции, в том числе и с помощью исторических реминисценций. Со своей стороны самодержавие, сохранявшее за церковью ведущую роль в идеологии воспитания, не только не препятствовало, но, напротив, поощряло все, что могло способствовать поддержанию этой роли, в частности исторические экскурсы в область церковношкольного дела [3].
Эти экскурсы постепенно приобрели и другую политическую цель. С усилением влияния общественности на развитие начальной народной школы во второй половине XIX в. они призваны были исторически обосновать «первородное» значение церкви в данном звене школы с тем, чтобы отодвинуть от него общественные силы. Официальная историография древнерусского просвещения стала, таким образом, одним из главных элементов идеологического обоснования начавшегося в 1880-х гг. насаждения церковноприходских школ (что нашло наиболее яркое выражение в работах известного историка и деятеля церковной школы С. М. Миропольского [15]). Данное обстоятельство еще более усугубило противостояние апологетического и «скептического» подходов в оценке древнерусских школ. В конечном счете эта оценка отражала не столько реальность Древней Руси, сколько отношение авторов к современным проблемам образования, более всего к церковноприходским школам.
Размежевание подходов не всегда, однако, проходило по линии: официальная — неофициальная историография. В ряде работ историков русской церкви, в частности в трудах Е. Е. Голубинского [2] и особенно Н. Ф. Каптерева, отчетливо выражалась «скептическая» позиция. Н. Ф. Кап-терев, например, считал, что школа в Древней Руси — миф, созданный историками. Он утверждал, что в Древнерусском государстве практически невозможно обнаружить следы существования «правильно устроенной, постоянной и доступной для всех желающих учиться греческой или греколатинской школы, в которой бы все могли получить правильное систематическое научное образование» [11, 625].
Приведенное суждение отражает один из основных методологических пороков дореволюционной историографии древнерусского просвещения (и сегодня еще далеко не преодоленный). Прямое перенесение современных понятий о школах и системе образования на педагогическую реальность Древней Руси — наиболее характерная черта основной части дореволюционных исследований. Отсюда — ошибочные критерии, на основе которых оценивался уровень развития просвещения и школы в Древнерусском государстве.
Само понятие «правильно устроенной» школы, которым оперирует Н. Ф. Каптерев, являлось новейшим приобретением русского училищеведения конца 1880 — начала 1890-х гг. Это понятие было введено в связи с необходимостью оценить реальное состояние начального народного образования в данный период. Такая оценка потребовала дифференцированного анализа народной школы, выделения в ней двух основных видов — училищ, создаваемых в соответствии с существующим законодательством, которые были условно названы «правильно организованными», и самодеятельных крестьянских школ грамоты, а также конфессиональных училищ, получивших столь же условное название «неорганизованных». По меркам Н. Ф. Каптерева, ни первые, ни тем более вторые не смогли бы удостоиться наименования «школа», поскольку оба вида училищ, были, во-первых, недоступны «для всех желающих учиться» и, во-вторых, далеки от того, чтобы давать своим учащимся «правильное систематическое научное образование». Таково было положение на исходе XIX столетия. Тем более несостоятельными были эти мерки для древнейшего периода русской истории.
В конце XIX в. появляются первые обобщающие работы по истории русской школы и педагогики, в которых определенное внимание уделялось и периоду Древней Руси. Наиболее крупными из этих работ были труды М. И. Демкова и П. Ф. Каптерева [6, 12].
П. Ф. Каптерев в целом рассматривал средневековый период отечественного образования как темный, невежественный. При этом школа, образование освещались им вне исторического контекста, без опоры на самостоятельную исследовательскую работу. М. И. Демков, напротив, идиллически представлял древнерусскую образованность. Он поставил перед собой задачу собрать воедино «немногие ценные факты, разбросанные в специальных исследованиях», «дать им систему и порядок» [7, 285, 290], при этом исходя из концепции Н. А. Лавровского и его последователей. Хотя именно эта концепция была еще в середине 1850-х гг. подвергнута Н. Г. Чернышевским сокрушительной критике.
Поскольку некоторые выводы М. И. Демкова, заимствованные у Н. А. Лавровского, позднее перекочевали во многие историко-педагогические работы и даже сейчас активно повторяются в некоторых из них, небесполезно напомнить оценку, которую дал Н. Г. Чернышевский «исследовательским» приемам Н. А. Лавровского. Н. А. Лавровский, отмечал критик, «нашел средство написать около двухсот страниц» «о предмете, столь богатом», что о нем «можно было написать разве три строки». «Главнейшее средство для этого дает глагол «учити», который значил не только учить, но также поучать, назидать. Все места, свидетельствующие, что пастыри церкви назидали свою паству в благочестии и благонравии, перетолковывает он в том смысле, что они заводили училища и были наставниками в качестве школьных учителей, а не в том качестве, как повсюду и всегда каждый священник назывался наставником своей паствы. Между тем во всех случаях очевидно, что говорится не о школьном учении детей, а о благочестивом назидании взрослых... Подобным способом пишутся большие ученые трактаты о предметах, о которых нельзя сказать больше двух слов» [24, 689 — 690].
В советской историографии проблемы древнерусской культуры получили широкое освещение в контексте общих социально-экономических и политических процессов, определявших ход отечественной истории. Особенно плодотворно эти проблемы разрабатывались в последние два-три десятилетия. Трудно назвать какой-либо другой период отечественной истории, где советскими учеными в эти годы было сделано так много, как в изучении Древней Руси. Достаточно раскрыть работы А. В. Арциховского, А. А. Зимина, Д. С. Лихачева, В. Т. Пашуто, Б. А. Рыбакова, М. Н. Тихомирова, Л. В. Черепнина, С. О. Шмидта, В. Л. Янина и многих других исследователей, чтобы увидеть, насколько расширились и изменились наши представления о древнейшем и средневековом периодах отечественной истории.
И вместе с тем в этом научном движении наиболее слабым звеном остаются до настоящего времени проблемы древнерусского просвещения. Исследователи, изучавшие литературу, науку, общественную мысль Древней Руси, затрагивали эти проблемы лишь попутно. Историки же педагогики, в ведении которых находилась названная проблематика, долгое время оставались фактически вне общего развития отечественной медиевистики.
Именно в этой области историко-педагогической русистики, где особенно необходимо взаимодействие со смежными науками, в наибольшей мере проявился традиционный изоляционизм историков педагогики, который начал складываться еще в середине 1930-х гг. Не меньшее влияние на отставание историко-педагогического изучения Древней Руси от общего движения советской науки имела восходящая к тем же годам длительная недооценка данного периода отечественного просвещения. Между тем еще в 1938 г. В. Я. Стру-минский, предостерегая от этой недооценки, отмечал, что древнейший период истории нашей педагогики «кладет известные основы» всему ее дальнейшему развитию, «намечает определенные перспективы» этого развития [19, 119].
Существенное отставание истории педагогики в изучении просвещения, образования, школы Древней Руси проявилось не только в узости подхода, проблематики, кругозора большей части историко-педагогических работ и в отсутствии крупных, обобщающих исследований, дающих целостную концепцию древнерусского просвещения [8]. Оно особенно наглядно обнажилось в методологии этих работ. Не случайно во многих из них еще встречаются рудименты «апологетического» и «скептического» подходов дореволюционной историографии, подходов, которые получают своеобразную, модернизированную окраску.
В педагогической историографии древнерусской школы и просвещения в целом еще только начинается осознание той специфики педагогической реальности данной эпохи, о которой говорилось в введении к настоящему тому. Это осознание идет непросто. Во многих работах все еще просвечивают реликты традиционного переноса современных понятий о школе на древнерусскую почву, с выстраиванием на ней едва ли не законченного здания школьной системы. Отмеченная неисторичность взгляда на древнерусскую школу имеет своим истоком традицию дореволюционной историографии искать аналоги западноевропейской школьной системе в реальности Древней Руси. Но такому, достаточно еще распространенному взгляду все более убедительно противостоят представления о системе обучения в Древней Руси как о совокупности не воображаемых регулярных учебных заведений, а реальных форм общественно-педагогической практики, которые существовали в ту эпоху [4]. Между тем сравнительно-историческое исследование отечественной и европейской систем обучения в X — XVII вв. показывает очевидную специфику данных культурных феноменов — размытые границы понятия «школа» в России и его строго очерченные контуры в западноевропейской практике. Эта специфика оказывала существенное влияние и на различие в сфере бытования отечественной и европейской педагогической мысли. В России в отличие от Европы она развивалась не столько в специальных дидактических и методических сочинениях, сколько преимущественно в работах нравственно-этического плана [9].
Таким образом, проблема образования в Древней Руси не может быть сведена только к вопросу о существовании или отсутствии школ в их современном понимании. Древнерусское образование как яркий социокультурный феномен нагляднейше предстает, в частности, в таких явлениях, как достаточно высокий уровень грамотности населения и «книжная» культура Руси. Отмечая широкое развитие этой культуры, А. И. Соболевский еще в конце прошлого столетия писал: «Взглянем на количество дошедших до нас всякого рода книг и документов XV, XVI, XVII вв., сохраняющихся в наших библиотеках и архивах. Число их (особенно за XVI и XVII вв.) так велико, несмотря на пожары и разные невзгоды, постигавшие наши города и села, что мы затрудняемся даже приблизительно определить их число в тысячах. Они написаны в разных местностях Московского государства, начиная с его столицы Москвы и кончая пустынными окраинами нашего Севера и Сибири. Над ними должны были трудиться целые тысячи писцов и подьячих; они предназначались еще большему количеству читателей» [18, 4].
С открытием советскими археологами берестяных грамот сомнения и споры по поводу распространения грамотности в Древней Руси были окончательно разрешены. Эта находка «имела все основания для сенсации. Она открывала почти безграничные возможности познания прошлого в тех отделах исторической науки, где поиски новых видов источников признавались безнадежными» [25, 5]. Берестяные грамоты убедительно показали, что письменность на Руси была обыденным явлением, ею владели не только знать и духовенство, но и достаточно широкие круги посадского люда.
Вместе с тем и эти яркие проявления древнерусской образованности — грамотность и «книжность» — еще не раскрывают полностью феномен культуры и просвещения рассматриваемой эпохи. В дореволюционной и советской историографии исследовательский угол зрения оказался зауженным, смещенным в сторону изучения только письменной, книжной христианской культуры. Однако она представляет собой лишь тонкий слой в общей толще средневековой культуры. Основным в этой толще являлся пласт бесписьменной культурной традиции народа. Как отмечал известный советский историк средневековья А. Я. Гуревич, «в обществе, подавляющая часть которого оставалась неграмотной, письменность не служила ни единственным, ни даже определяющим средством человеческой коммуникации... Огромная масса духовных ценностей циркулировала в средние века, не будучи зафиксирована на пергамене или, в более позднее время, на бумаге» [5, 19].
В советской историографии до настоящего времени, к сожалению, практически нет работ, посвященных русской народной педагогике как неотъемлемому компоненту общей народной культуры. Это обстоятельство имеет ряд существенных негативных последствий. Оно препятствует не только воссозданию целостной древнерусской культуры, но и изучению взаимодействия различных ее слоев, в частности народной и письменной церковной культуры, на разных этапах их развития.
Не трудно понять, что без такого изучения это взаимодействие легко может быть уподоблено, по традициям дореволюционной историографии, улице с односторонним движением — от духовных пастырей к народу, причем само это движение окажется весьма искаженным. Как отмечалось уже в советской литературе, рассматривая только официальную культуру, вне общей системы народного воспитания и обучения в Древней Руси, «не так-то просто различить, чего было больше в работе, которую повели церковники вокруг вопросов семейной морали, физиологии, гигиены и быта: стремления как-нибудь перестроить эту первичную ячейку человеческого общества, вдохнуть в нее новую жизнь, приподнять ее культурный уровень или желания, приспосабливаясь к существующему и беря на приводы все мышечные и нервные сплетения этого организма, подчинить себе русское общество в целом — таким, на первых порах, каково оно есть» [16, 212].
Недостаточная теоретико-методологическая оснащенность историко-педагогических исследований Древней Руси не единственная причина значительного отставания данной области педагогической историографии. В неменьшей степени оно обусловлено крайне ограниченной источниковой базой этих исследований, общей неразработанностью историко-педагогического источниковедения, в частности методики изучения источников по истории школы и педагогической мысли рассматриваемой эпохи. Эта методика в основном все еще остается на том прагматически-потребительском уровне,
о котором В. Я. Струминский писал полстолетия назад: «К сожалению, необходимо констатировать, что среди историков педагогики есть не высказанное прямо, но на практике широко господствующее убеждение, что изучение памятников с литературной стороны, выяснение характера и условий их происхождения — это дело историков, историков литературы, но не педагогов. Как правило, историк педагогики пользуется уже исследованиями, готовыми материалами и не только не производит самостоятельных исследований, но игнорирует те исследования, которые над данным материалом произведены другими научными работниками, например историками литературы. Поэтому даже те памятники, которые так или иначе стали известны историку педагогики, включаются им в свой научный инвентарь без учета той историко-литературной работы, которая над этим памятником уже произведена, и без организации новой, дополнительной... Воздерживаясь от этой сложной и достаточно трудоемкой работы, историк педагогики тем самым искусственно задерживает свою дисциплину на той примитивной стадии развития, которая мешает ей превратиться в настоящую науку и подрывает доверие к ней у тех, кто ее изучает» [19, 122 — 129].
* * *
Источниковедение Древней Руси, зародившись в XVIII в., сформировало систему вспомогательных исторических дисциплин. С развитием исторической науки в XIX в. круг вводимых в научный оборот источников расширялся, разрабатывались новые аспекты в источниковедении. Первая публикация источников, представлявших подборку памятников древнерусской педагогической мысли, была подготовлена Н. А. Лавровским [14]. Она снабжена введением, имевшим цель не столько интерпретировать публикуемые памятники с источниковедческой стороны, сколько привлечь внимание к существованию в средневековой России педагогических произведений.
Ряд памятников, таких, например, как «Домострой», азбуковники, грамматические статьи различных сборников, жития святых, записки иностранцев и другие, были подвергнуты историками квалифицированной палеографической и текстологической обработке и критическому источниковедческому анализу. Этот пласт источников, прошедших научную обработку (установление подлинности, датировка, количество списков и их сравнение, установление авторства и пр.) и в большинстве своем опубликованных, составил ту источниковую базу, на которой основывались работы педагогов как в буржуазный период, так и в первые десятилетия развития советской историко-педагогической науки.
Для буржуазного источниковедения второй половины XIX в. ведущим был позитивистский подход к источникам — выяснение достоверности одного или группы фактов без анализа социально-экономических причин их появления, без выявления их взаимосвязей.
В советской науке исторические источники стали рассматриваться в качестве продукта экономических и социальных условий общественного развития, поддающегося историческому познанию.
В области историко-педагогических исследований Древней Руси преодоление позитивистского подхода проходило крайне медленно. Более чем через полвека после работы Н. А. Лавровского появилась новая публикация памятников [1]. Это было переиздание на более высоком археографическом уровне уже известных произведений, здесь были помещены и новые источники. Книга подвергалась критике за неточности и ошибки. Позже вышло в свет несколько хрестоматий, включавших в себя и памятники Древней Руси, но их набор был невелик, публикации не отличались научностью, так как преследовали только учебно-ознакомительные цели [22; 23].
В последние годы советские ученые осуществили научное издание многих древнерусских памятников, в том числе азбук Федорова (1574 и ок. 1578), «Букваря» Кариона Истомина (1694) и ряд других публикаций не только учебной литературы, но и памятников светской и церковной письменности, имеющих огромное значение для истории педагогической мысли феодального периода.
Начиная с 50-х гг. XX в. были открыты новые источники, заставившие пересмотреть многие устоявшиеся воззрения на древнерусское просвещение. В 1951 г. в Новгороде археологами были найдены берестяные грамоты. В эти же годы в зарубежных книгохранилищах были обнаружены 3 экземпляра «Азбуки» печати Ивана Федорова 1574 и 1578 (условно) гг., изменившие бытовавшее убеждение, что первой печатной азбукой русского происхождения являлась «Азбука» 1634 г. Василия Бурцова. В 1984 г. несколько листов из «Азбуки» Федорова были найдены и в нашей стране.
Новые подходы, наметившиеся в последние годы в изучении науки и культуры средневековья, расширение круга источников, применение особых методов их исследования позволяют по-иному подойти к истории школы и просвещения, углубить ее проблематику, увеличить объем знаний.
Количество письменных источников по истории средневекового периода по сравнению с количеством источников по истории нового и тем более новейшего времени в целом ничтожно мало. Многие из них отражают события и факты односторонне, и нет возможности проверить их показания другими источниками. В арсенале историка-медиевиста гораздо больше так называемых уникальных, т. е. не находящих аналога, источников (для педагогов, например, это такие известные памятники, как «Поучение детям» Владимира Мо-номаха, «Послание архиепископа новгородского Геннадия митрополиту Симону»), и гораздо меньше источников массового происхождения.
Как известно, работа с уникальными источниками требует от исследователя большой эрудиции и такта, ибо здесь подстерегает опасность субъективной трактовки. Интерпретация средневековых источников сложна и в целом возможна как при общем знании конкретно-исторических событий, так и при понимании мировосприятия эпохи, характера ее культуры, стиля мышления. Необходимы не только особые знания, но и особый «исторический слух», чтобы услышать то, о чем говорит памятник, а не то, что исследователю хочется услышать.
Среди источников средневековья преобладают рукописные. Сама рукописная литература представляет собой иной феномен по сравнению с печатными памятниками нового времени. При переписке она дополнялась и изменялась; произведения, утратившие популярность у широких кругов читателей, прекращали переписываться и потому встречаются редко. Научное исследование памятника не может быть начато, пока не выяснены количество и характер всех его списков и редакций.
Ограниченное количество источников средневекового периода заставляет ученых вводить новые методы исследования, повышающие их информативность (математические методы, практический эксперимент, спектральный анализ и др.). В современном историческом источниковедении все большее применение находит системно-структурный метод, когда к рассмотрению той или иной проблемы привлекается максимально возможное количество источников, которые анализируются в сопоставлении, в определенной системе, в качестве единой структуры.
Источниковедение истории педагогики Древней Руси, базируясь на основных теоретических и методологических принципах исторического источниковедения, имеет свои специфические особенности. Его цель — отбор и выработка
критериев источниковедческого анализа памятников для выявления информации по истории школы и педагогической мысли.
Источники по истории школы и педагогики Древней Руси — это и литературные памятники, и фольклор, и церковнослужебная литература, и делопроизводственные материалы и многое другое. Оригинальный источник — иконопись и книжная миниатюра. На некоторые вопросы, например о методах профессионального обучения в киевский период, дают ответ только археологические источники. Традиции народной педагогики могут быть раскрыты в основном с помощью этнографических источников.
В историко-педагогических исследованиях применима общеисторическая классификация источников по видам. Она дает возможность проанализировать потенциал педагогической информации каждого вида источников (актовых, делопроизводственных, летописных и т. д.) и определить видовую методику исследования. Для педагогики важно также разделение всех источников по принципу их содержания на две большие группы. В первой группе источников внимание направлено на педагогическую мысль, во второй — раскрываются историко-педагогические реалии (виды и формы обучения, учебные заведения, подготовка учебной литературы, грамотность населения и т. д.). Каждая из групп имеет свою источниковедческую специфику: в первой приоритет остается за источниками литературными, во второй преобладают источники археологические, памятники письменности и делопроизводства.
Как уже отмечалось, педагогическая действительность Древней Руси не имела привычных нам форм, например развитой школьной системы. Прямая документация о деятельности школ почти отсутствует. В настоящее время исследователями привлечен широкий круг источников для воссоздания картины существовавших на Руси своеобразных форм образования. Сведения педагогического характера извлекаются из всех видов источников — из летописей, законодательных памятников, актового материала, делопроизводственной документации государственных учреждений, литературных, эпистолярных и других памятников письменности, из фольклора, археологических и этнографических источников.
Для ранних веков русской истории основные письменные источники — это летопись. Отражая в целом многие представления о нормах морали и нравственности, неся в себе, в сущности, дидактическую направленность, летописи, однако, почти не содержат прямой информации о школах и образовании. Исключение составляют сообщение Лаврентьевской летописи 988 г. об «училище», открытом князем в Киеве, и сообщения Софийской и Никоновской летописей 1030 г. об открытии школы в Новгороде. Это были события новые для Руси, они имели важное значение, поэтому летописец счел нужным рассказать о них. Но о формах начального обучения, мелких школах грамотности и т. д., представлявших для летописца обыденную реальность, в летописном жанре сообщать не полагалось. Летописи заключают в себе и косвенную, ненамеренную информацию, например об образованности того или иного исторического деятеля, или такие «лирические отступления», как знаменитая «похвала книге». В Степенной книге — историческом сочинении XVI в. летописного типа — имеются ценные сведения о школах Киевской Руси, приводится речь митрополита Михаила. Есть подобные сведения и в сочинениях В. Н. Татищева, который пользовался недошедшими до нас памятниками.
Современное источниковедение разрабатывает и успешно применяет методику работы с летописными материалами. Для истории педагогики необходимо более широко использовать летописи, извлекая из них все имеющиеся сведения об образовании и просвещении, критически оценивая уже известные факты.
В истории педагогики используются также сведения агиографической литературы. В сочинениях такого рода обычно, согласно канону, рассказывалось, как учился герой жития, указывался возраст, в котором он приступал к учению. Но упоминания об училищах в житиях краткие, больше говорится об учителе и ученике. Интересны миниатюры, иллюстрирующие в некоторых рукописях сюжеты учения, например в житиях Сергия Радонежского и Антония Сийского. Следует учитывать, что по традиции сведения из одного жития могли механически вставляться в другое, поэтому без текстологического анализа доверять таким сведениям трудно.
Небогаты данными по истории школы законодательные источники. Первое законодательное постановление об учреждении школ по всем городам Российского государства находится в статьях церковного Стоглавого собора 1551 г. Постановления собора интересны также с точки зрения информации официального источника о существовании в государстве «в прежние времена» многих училищ: «прежде сего в Российском царствии на Москве, и в Великом Новгороде, и по иным городам многие училища бывали, грамоте, и писати и пети, и чести учили» [17, 290].
Сведения о плохом состоянии школьного обучения в XVI в., содержащиеся в постановлениях Стоглава, подтверждают информацию более раннего документа конца XV — начала XVI в. — «Послания архиепископа новгородского Геннадия митрополиту Симону». Послание — уникальный источник, сообщающий о состоянии обучения в школах, о содержании и некоторых приемах обучения.
Находка берестяных грамот показала односторонность утверждения и Геннадия и Стоглавого собора о безграмотности населения Руси. Уровень грамотности населения и книжная культура имеют непосредственную связь с вопросами обучения и являются более красноречивым свидетельством наличия на Руси своеобразной системы обучения, чем прямые упоминания источников о существовании школ.
А. И. Соболевский сделал попытку показать уровень грамотности различных сословий на основании собственноручных подписей (рукоприкладств) на различных документах. Полученные им цифры до сих пор используются практически во всех работах, затрагивающих вопросы грамотности и просвещения, хотя его метод не раз подвергался критике. Очевидно, что для решения вопроса о грамотности необходимо привлечение более широкого круга источников. Особые надежды историки возлагают на берестяные грамоты, по которым можно проследить процесс бытового обучения грамоте в среде горожан.
В XVII в. в Москве возникли школы с повышенным курсом обучения. Исследователи находят все новые и новые данные о существовании этих школ. Но характер большинства источников таков, что он не дает определенного представления о содержании и методах обучения в школах: основные сведения об училищах находятся в хозяйственных документах московских приказов и фиксируют денежные и вещевые выдачи на нужды той или иной школы. Даже о начальном этапе деятельности Славяно-гре-ко-латинской академии мы знаем в основном из документов Казенного патриаршего приказа. О содержании обучения дают некоторое понятие учебные книги, создававшиеся для курсов повышенного обучения самими учителями, например братьями Лихудами.
Много ценнейших данных о школах содержат документы московских приказов и городовые писцовые книги, которые не стали пока достоянием истории педагогики. Сплошной просмотр их чрезвычайно важен, так как он поможет внести ясность в вопрос о существовании школ в провинции. Полезными являются и данные переписных книг, отражавших занятия городского населения. Изучение самых различных материалов, связанных с крупными монастырями, дает важные сведения о школах.
Особым видом источника для характеристики древнерусской школы и педагогической мысли является литература, предназначенная для обучения. Анализ учебной литературы не только помогает лучше понять методику обучения, но и показывает постепенный процесс кристаллизации педагогической мысли, выделения типа учебной книги из «научного» (в средневековом понимании) типа книги. Здесь ясно отражены и характер, и цели обучения. В рукописных изданиях имеются предисловия и послесловия, оглавления, пометы (записи на полях), предназначенные для учеников и учителей, — все это драгоценный для педагогики материал.
Из литературных источников особого внимания заслуживают записки иностранцев. Иностранцев, как правило, интересовали школы и просвещение в России, но неумение и нежелание большинства из них понять самобытность русской культуры, непохожей на привычные и считаемые единственно возможными европейские образцы, приводят к тому, что нельзя полностью доверять сведениям записок. Исследователям в каждом отдельном случае приходится учитывать характер и особенности тех или иных записок иностранцев, проверять степень их достоверности путем сравнения с данными русских источников.
Сведения о школах, книгопечатании, просветительной деятельности отдельных лиц, разбросанные в текстах многочисленных сочинений, записок, писем, донесений иностранцев, до сих пор не собраны воедино и не подвергнуты источниковедческому анализу. Между тем эти материалы часто единственные свидетельства очевидцев, которые не встречаются в русских источниках.
Ценные для истории педагогики сведения содержит комплекс эпистолярных источников. Даже беглое знакомство с письмами дает много интересных подробностей. Хорошо известна берестяная грамота, в которой адресант просит прислать ему «чтения доброго» (№ 271); с просьбой о присылке книг обращается в своем послании друг знаменитого архитектора XV в. Василия Ермолина и др.
Таким образом, вопрос о школах в Древней Руси имеет солидный резерв неиспользованных или малоиспользованных источников, которые требуют углубленного изучения.
Предложенный обзор источников, лежащих в основе исследований авторов настоящего раздела, поможет читателю полнее представить себе проблемы, рассматриваемые в данной книге.
Глава I ПРОСВЕЩЕНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА РУСИ В VI — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIII В.
I. ВОСПИТАНИЕ У ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН В VI — IX ВВ.
Практика воспитания, типичная для феодального общества, начала складываться у восточных славян в VI — IX вв. В это время в Среднем Поднепровье возник союз племен, на базе которого в IX в. сформировалось Древнерусское государство с центром в Киеве [179, 235 — 256].
Благодаря археологическим открытиям последних десятилетий, работам историков, этнографов, фольклористов и лингвистов стало возможно значительно полнее, чем ранее, реконструировать различные стороны жизни восточных славян в VI — IX вв., в том числе основные черты и особенности воспитания детей и подростков.
В эту эпоху существенное влияние на характер педагогической практики восточных славян оказывала древняя традиция, уходящая своими корнями в недра первобытнообщинного строя.
В первобытном обществе воспитание осуществлялось преимущественно в процессе включения детей в конкретные виды деятельности. Однако уже на заре человеческой истории существовали первые институализированные формы воспитания — специальные- ритуалы. Среди них особую роль играли возрастные инициации, имевшие место, как свидетельствуют данные фольклористики, и у предков восточных славян [163, 52 — 166; 199, 12]. В первобытных родовых общинах подростки, достигшие половой зрелости, проходили специальную подготовку, в ходе которой их учили охотиться и изготовлять орудия труда, развивали волю и выносливость, приучали быть дисциплинированными, приобщали к религиозным тайнам. Эта подготовка завершалась обрядом инициаций, в ходе которого подростки должны были доказать свою физическую и социальную зрелость. Прошедшие испытания признавались полноправными членами общин, получали статус взрослого человека. Инициации обеспечивали усвоение подростками важнейших трудовых знаний, умений и навыков, системы ценностей, правил поведения и мировоззренческих представлений, принятых в общине.
В первобытных родовых общинах воспитание носило общественный характер. Все дети без исключения воспитывались в духе взаимопомощи, коллективизма, подчинения личных интересов интересам общины. Община выступала как совокупный воспитатель. На каждом ее члене лежала обязанность заботиться о детях, руководить их поведением. Основные педагогические функции выполняли, как правило, ближайшие родственники и наиболее опытные, авторитетные сородичи.
Различия в воспитании детей определялись их полом. Мальчиков готовили преимущественно к мужским видам деятельности (охота, изготовление орудий труда), а девочек — к женским (собирательство растительной пищи, ведение домашнего хозяйства, уход за детьми). Это обусловливалось господствующей системой половозрастного разделения труда и соответствовало потребностям производственной жизни.
В VI — IX вв. педагогическая практика у восточных славян1 претерпела заметные изменения. Хотя воспитание детей по-прежнему осуществлялось главным образом в процессе включения их в различные виды деятельности, хотя продолжали существовать обряды инициации и различия в воспитании девочек и мальчиков продолжали оставаться очень существенными, на характер воспитания оказывали сильное влияние процессы, связанные с разложением первобытнообщинного строя и формированием раннеклассового общества. В основе этих процессов лежал переход к земледельческо-скотоводческой экономике, возникновение общественного разделения труда.
Зарождение имущественного и социального неравенства, постепенное дробление общин на семьи, становившиеся самостоятельными хозяйственными ячейками, приводило к превращению воспитания из всеобщего, равного, контролируемого общиной в семейно-сословное. Основные функции воспитания, цели,
1 Обособление восточных, западных и южных славян произошло в середине I тысячелетия н. э. [213, 152 — 290].
содержание и формы которого все более различались для разных социальных групп населения, сосредоточивались в семье. Инициации утратили свой всеобщий характер и стали достоянием элиты, институтом, закрепляющим ее привилегированное положение, возвышающим над основной массой общинников, подчеркивающим исключительность элиты.
В VI — IX вв. у восточных славян уже вполне сформировалось четыре социальных слоя — общинники-земледельцы, ремесленники, племенная феода-лизирующаяся знать и языческое жречество [104, 44 — 56]. Воспитание представителей каждой общественной группы имело свои специфические черты.
Цели воспитания и соответственно средства, используемые для их достижения, определялись теми конкретными потребностями, которые обусловливали необходимость воздействовать на психику детей, руководить их поведением, передавать детям знания, прививать умения и навыки, формировать ценностные ориентиры. Общая направленность воспитания, осуществляемого в конкретных жизненных ситуациях, была неразрывно связана с образом идеального героя, специфического для каждой социальной группы. Этот образ воплощал в себе как бы высшую цель воспитания, в принципе недостижимую, но определяющую его общую конечную направленность.
Идеал вождей и воинов ориентировал на подготовку к войне и руководству жизнью общины. Жреческий идеал предполагал интеллектуальную подготовку и овладение священным религиозным знанием. В основе идеала основной массы общинников лежал труд как высшая социальная и нравственная ценность.
Древнейшие русские былины, такие, как «Волх Всеславьевич», рисуют идеальный образ вождя-воина, на примере которого воспитывалась племенная знать восточных славян, и прежде всего вожди и дружинники. Образцом для массы общинников являлись герои многих сказок — Иван Крестьянский Сын, Никита Кожемяка и другие. Для них производительный труд, как земледельческий, так и ремесленный, являлся важнейшим и почетнейшим занятием. Идеалу языческого жречества соответствовали часто встречающиеся в фольклоре образы мудрых старцев, владеющих магической «хитрой наукой», умеющих общаться с богами, предсказывать судьбу, превращаться в зверей.
Идеалы различных социальных групп, получая педагогическое преломление, помогали взрослым придать соответствующую направленность развитию личности ребенка, обратить его преимущественно к производственной (сельскохозяйственной или ремесленной), военно-политической или религиозно-культовой деятельности.
Воспитание детей основной массы населения — крестьян-земледельцев, живших в VI — IX вв. соседскими общинами, осуществлялось в семье. Роль родителей в воспитании детей заметно возрастала. В патриархальных семьях мальчики и девочки, достигнув определенного возраста, воспитывались главой семьи и его женой.
С момента рождения и до 3 — 4 лет ребенок преимущественно находился на попечении матери, что, однако, не исключало участия отца и других членов семьи в его воспитании. Мать, а вместе с ней и другие члены семьи заботились о ребенке, обеспечивали по мере его взросления усвоение им элементов жизненно необходимого опыта. На этом этапе жизни ребенка его воспитание было тесно связано с уходом за ним. Само значение славянского слова «дите» исторически восходит к выражению «кормить грудью» [209, 36 — 37]. В славянском языке глаголы «родить», «вскармливать», «воспитывать», «растить» произошли от одного корня [40, 36].
К 3 — 4 годам ребенок начинал выполнять посильную работу, помогая старшим, главным образом матери. Воспитание осуществлялось в практике повседневной жизнедеятельности. Старшие члены семей поощряли игры, разви-
вающие у детей ловкость, силу, смекалку, формирующие умения и навыки, необходимые для будущей производственной деятельности [205, 20].
С 7 лет начинался новый период в жизни ребенка, новый этап в его воспитании. Мальчики переходили в возрастную группу отроков. В восточнославянском языке слово «отрок» означало мальчика 7 — 14 лет, который не получил еще право голоса зрелого мужчины [209, 47]. Этот переход освещался особым обрядом, так как мальчики переходили из женской в мужскую половину семьи. Мальчики-отроки помогали отцам в выполнении «мужских» видов работ, прежде всего в сельском хозяйстве, в земледелии и животноводстве. Девочки, осваивали «женские» виды работ — учились вести домашнее хозяйство, прясть, ткать, лепить горшки и т. п.
Наряду с трудовым опытом подростки усваивали правила поведения и мировоззренческие представления общины.
По достижении 14 лет подростки становились полноправными членами семьи. В этом возрасте они получали военную подготовку, необходимую для каждого мужчины.
Постепенно общественное разделение труда привело к отделению ремесла от земледелия. Ремесленники начали селиться в укрепленных поселениях — городищах [186, 242]. Техническая специфика ремесел, использующих гончарный круг, керамические горны, литье в закрытых моделях, потребовала профессиональной организации ремесленников. Значительно возросло время на овладение профессией [115, 117). Так же как и дети крестьян-земледельцев, дети ремесленников постепенно включались в трудовой процесс. Ремеслу обучались мальчики. Передача ремесленного опыта требовала интенсивного воспитательного воздействия старших.
В VI — IX вв. у восточных славян складывается такая форма воспитания, как ремесленное ученичество. Оно охватывало не только детей ремесленников, но и детей, поступивших к ним в обучение.
Особенности ремесленного ученичества определялись тем, что ученик жил в семье мастера, помогал ему в мастерской и его жене в ведении домашнего хозяйства. Постепенно мастер раскрывал ученику различные производственные секреты, передавал знания, необходимые для овладения основами металлургического, кузнечного, ювелирного и других ремесел, формировал умения и навыки. Мастер также вводил ученика в круг моральных ценностей и религиозных представлений, принятых в среде ремесленников, которые имели у восточных славян славу колдунов и чародеев. Ремесленное ученичество как форма воспитания занимало промежуточное положение между неинсти-туализированным и институализированным воспитанием.
В VII — VIII вв. у восточных славян происходило формирование сословной иерархии феодального общества [82, 291]. Дети племенной знати согласно существовавшему у восточных славян обычаю отдавались до 7 — 8 лет на воспитание в другую семью, подчиненную или зависимую. Это явление было типично для эпохи перехода от первобытного к классовому феодальному обществу. Как пережиток переходной эпохи, получивший в условиях феодальной Руси новое социальное значение, так называемый обычай «кормильства» сохранился и в Киевском государстве [44, 43 — 44]. Этот обычай был исторической модификацией такой распространенной у многих народов нашей страны формы воспитания, как аталычество — обязательное воспитание детей вне родной семьи [149, 38].
Разложение первобытнообщинного строя совпало с переходом от матриархата к патриархату. Поскольку первоначально род был матрилинейным, восстановление его прав на детей приняло форму передачи их из отцовской семьи в семью материнского дяди, который и становился главным воспитателем. Так появилась исторически первая форма воспитания детей вне родной семьи. Родовая семья, отстаивая свои права на детей, заставляла еще недостаточно окрепшую отцовскую семью отдавать своих детей сначала навсегда, а затем на более или менее длительный срок. Дальнейшая эволюция привела к окончательному распаду материнского рода, уступившего свое место роду отцовскому. И обычай обязательного воспитания детей вне родительской семьи, являвшийся пережитком первобытной общности детей, принял форму, соответствующую патриархальному порядку. Детей стали отдавать на воспитание в любую другую семью, но только не в родственную по материнской линии. Но и этому обычаю со временем стала противостоять противоположная тенденция, порожденная экономическими потребностями каждой семьи оставлять и воспитывать своих детей у себя. К концу эпохи разложения первобытнообщинного строя, когда социальная дифференциация общества уже вполне определилась (как это было, например, у восточных славян), традиция воспитательства стала сводиться к обычаю отдавать детей из привилегированных семей в семьи рядовых общинников [45, 15 — 16].
В восточнославянском обществе VI — IX вв. «кормильство» (или «кумовство») было, вероятно, весьма распространенным обычаем, объективно препятствовавшим отрыву знати от основной массы племенного населения. Через механизмы воспитания, более или менее единого для всех детей доподросткового возраста и знатного и незнатного происхождения, патриархальный род в условиях еще не окончательно сложившегося классово-антагонистического общества поддерживал свою распадающуюся целостность. Возвращаясь в дом родителей, подростки из знатных семей получали в своей семье воспитание, соответствующее их привилегированному социальному статусу. Они приобретали знания, умения и навыки, необходимые для военного и административного руководства общиной.
Большую роль воспитание играло в подготовке профессиональных воинов. Уровень экономического развития восточных славян уже в VI в. позволял «не только прокормить, но и снарядить в дальний поход вождя и его дружину» [178, 73]. Дружинники представляли социальную группу профессиональных воинов, живших уже в VII в. в специальных укрепленных лагерях [193, 62]. Дружина обогащалась, обособлялась от общины, и ее пополнение осуществлялось все более за счет детей самих дружинников. Военизированная племенная знать у восточных славян формировалась, вероятно, с помощью такой испытанной тысячелетиями раннеродовой формы воспитания, как обряды посвящения.
С двенадцатилетнего возраста будущие дружинники жили в специальных домах — гридницах, где и проходили военную подготовку [139, 841].
Подготовка дружинников представляла собой единственную известную институализированную форму воспитания у восточных славян в VI — IX вв.
Воспитание у восточных славян в VI — IX вв. все более приобретало семейно-сословный характер и определялось общественным разделением труда. 2
2. ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ КНИЖНОМ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ В ДРЕВНЕРУССКОМ РАННЕФЕОДАЛЬНОМ ГОСУДАРСТ BE
На этапе формирования Древнерусского государства были заложены особенности дальнейшего развития всей средневековой системы образования на Руси, оказавшейся во многом отличной от образовательной системы Западной Европы. Древнерусская педагогика зарождалась при взаимодействии двух культур — языческой культуры восточных славян и христианской культуры, распространившейся в стране с принятием новой официальной государственной религии. Педагогические представления славян исходили из мифологического сознания, свойственного языческой культуре, в которой действовала своя система социализации, обучения и воспитания детей, составившая в дальнейшем основу народной педагогики феодального периода. Христианское мировоззрение постепенно вторгалось в языческое сознание масс, разрушая его и взаимодействуя с ним. Языческая культура была бесписьменной, знания передавались устным путем, христианская же культура потребовала новой системы обучения, нацеленной на приобщение к книжности, необходимой для овладения христианской догматикой и отправления богослужений. Таким образом, главным в системе христианского обучения стала работа с текстом. Естественно, это обусловило появление иных методов обучения, отличных от существовавших в бесписьменной культуре.
Однако главным фактором в развитии у славян письменной культуры стало не принятие Русью христианства, а появление у восточных славян крупных городов и образование государства. Зарождение письменной культуры связано именно с городским типом культуры. Эта культура — порождение города, вне зависимости от того, какой характер (рабовладельческий, феодальный) имеет город и какую религию (язычество, христианство, мусульманство) исповедуют его жители. На родо-племенном уровне, как показывает история многих народов, письменная книжная культура даже при существовании примитивных письмен (на Руси такими, вероятно, являлись знаменитые «черты и резы») не зарождается.
Возникновение городов связано с переходом племен к более высокому, государственному уровню развития, который потребовал новых форм социализации, иного воспитания и обучения. Овладение славянами письменной культурой отвечало не только потребностям христианской религии, но и функционированию начавшего зарождаться государственного аппарата, было необходимым для законодательства, дипломатии, торговли, официальной идеологии. Недостаток грамотности сдерживал их развитие.
Как отмечается в «Повести временных лет» (988 г.), с целью распространения письменной культуры уже князем Владимиром была сделана попытка организации христианской школы. Но школьная «прививка» на языческой почве проходила болезненно. Сам акт крещения населения не мог сразу изменить сложившееся за тысячелетия языческое мировоззрение. Следы его можно увидеть даже в трудах такого высокообразованного приверженца новой христианской культуры, как митрополит Иларион [120]. На первом этапе школа воспринималась населением как опасное новшество, способное разрушить вековые устои. То, что матери по отданным в школу детям плакали «аки по мертвици», не есть метафора летописца — по их представлениям, сыновья действительно умирали для жизни прежнего уклада, «если учесть пропасть, разделявшую две культуры, и последствия, которые были связаны с тем, что человек окажется по другую сторону этой пропасти. Если детей брали на войну, они имели возможность вернуться и продолжить род и племя со старой культурой и устной литературой; научившись же письменной литературе, они теряли свою родо-племенную принадлежность, поскольку в этом случае самоопределение по вере возвышалось над самоопределением по крови» [164, 33].
В IX — X вв. в раннефеодальном обществе восточных славян еще значительную роль играл родо-племенной уклад [184, 226], а с его постепенным изживанием продолжали действовать пережиточные родо-племенные традиции. Это обусловливало сохранение родо-племенных форм воспитания и обучения.
Создававшиеся школы не смогли сложиться в стройную и стабильную школьную систему, какая существовала в Византии и Западной Европе. Причина этого в исторических условиях: Киевская Русь была молодым государством, возникшим «примерно на пять веков позднее, нежели первые государственные объединения германских племен, завоевавших западную часть Римской империи» [101, 10 — 11]. Государственные и общественные институты Древнерусского государства, не испытавшие влияния высокой цивилизации Римской империи, под воздействием которой складывались государства Западной Европы, оказались в Киевской Руси достаточно слаборазвитыми и не требовали большого притока грамотных людей. Ученики школ имели весьма ограниченную сферу применения своих знаний. Если в Византии в VIII в. «выпускники школ... могли стать чиновниками императорской или церковной канцелярии, податными сборщиками, судьями, секретарями, адвокатами, офицерами, переписчиками-каллиграфами и т. п.» [100, 479],
то в домонгольской Руси общественные условия не могли дать такого широкого поля деятельности для образования и тем самым не стимулировали его развития.
Европейские страны, и особенно Византия, были прямыми наследниками античной образованности и школьной системы, а на Руси в ситуации встречи языческого и христианского мировоззрения славянское язычество оказалось без традиций школьного книжного образования, каким обладало язычество античности. Поэтому заимствование византийской школы здесь, так же как и в других сферах заимствования, не было легким и простым, а испытало сильнейшее влияние славянской языческой культуры, не знавшей школы и не воспринимавшей ее как необходимость.
Огромную роль в становлении древнерусской книжной образованности сыграли контакты с другими славянскими государствами, принявшими христианство ранее Руси. «Первые просвещенные кадры... были, вероятно, подготовлены с помощью представителей южнославянских государств» [107, 40]. Это оказалось возможным потому, что языком богослужения, как и языком делопроизводства в Киевской Руси, стал не греческий, а родной, славянский язык.
Хотя книжный церковнославянский язык имел значительные отличия от разговорного языка [211] и требовал специального изучения, оно не было столь сложным, как изучение латыни в странах Запада. Обучение на родном языке требовало гораздо меньших усилий, что в свою очередь не могло не повлиять на характер школ и отчасти даже тормозило организацию школьного обучения.
Если заботы о распространении христианства и устройстве школ первоначально взяло на себя государство, то с упрочением древнерусской церковной организации они полностью перешли в ее ведение. Освоение христианской книжности стало профессиональной задачей священства. Отсутствие у православных священников целибата (безбрачия) способствовало потомственной передаче профессии и связанных с ней знаний. Традиции семейного обучения делали излишним обучение школьное.
Развитие школы как социального института зависело от уровня социального развития общества и его запросов.
3. КУЛЬТУРА И ПРОСВЕЩЕНИЕ В X — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIII В.
ШКОЛЫ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА
Появление образования неразрывно связано с возникновением письменности. Одним из сложных и до сих пор окончательно не решенных вопросов является вопрос о начале письменности у восточных славян.
Лаконичные свидетельства наших древних летописей, житийной литературы, сведения, содержащиеся в записках иностранных путешественников, данные археологии позволили установить, что письменность стала известна на Руси еще до принятия христианства. Так, «Паннонское житие» Кирилла сообщает, что когда он прибыл в Корсунь (Херсонес Таврический, в конце 860 г.), направляясь из Константинополя в Хазарский каганат (еще до создания славянской азбуки), то там ему показали Евангелие и Псалтырь, написанные «русскими письменами» [64, 71, 115]. О существовании у славян в докирилловский период знаковой системы сообщает черноризец Храбр в сказании «О письменах» (X в.): «Ведь прежде славяне, когда были язычниками, не имели письмен1, но читали и гадали с помощью черт и резов» [190, 102]. Можно предполагать, что «русские письмена»,
«черты и резы» представляли собой одну из разновидностей рунического письма, которым пользовались восточные славяне до конца IX — начала X в.2.
Приблизительно с начала IX в. на Русь начинает проникать христианство. Согласно окружному посланию константинопольского патриарха Фотия, «не только болгары обратились к христианству, но и тот народ, о котором много и часто говорится... т. е. так называемые русские.
Поработив соседние народы и через то чрезмерно возгордившись, они подняли руку на ромейскую империю. Но теперь они... приняли пастыря и с великим тщанием исполняют христианские обряды» [105, 77].
Можно предположить, что вместе с появлением на Руси первых греческих миссионеров во второй половине IX в. началось индивидуальное обучение русичей грамоте. По-видимому, первоначально число грамотных людей в древнем Киеве составляло буквально единицы. Они еще при князе
Аскольде начали вести отдельные исторические записи. Об этом свидетельствует Никоновская летопись (XVI в.) под 876 г.: «Василие же... сътвори же и мирное устроение с прежереченными Русы, и преложи сих на христианство, и обещавшеся креститися, и просиша архиерея, и посла к ним царь» [156, 13]. «Киевские погодные записи, — полагает Б. А. Рыбаков, — можно предположительно считать первой русской летописью князя Аскольда» [177, 172].
Договоры, заключенные князьями Олегом в 911 г., Игорем в 944 г. с греками, были написаны как по-гречески, так и по-русски.
Греческие послы, явившиеся в Киев к Игорю, приводили христиан-русских к присяге в церкви Ильи, «что стоит над Ручьем в конце Пасынчей беседы: это была соборная церковь, так как много было христиан варягов и хазар» [152, 54]. Существование в Киеве соборной христианской церкви и общины в первой половине X в. бесспорно свидетельствует о наличии
1 Списки памятника имеют разночтения: вместо «письмен» — «книг».
2 О существовании на территории Северной Руси рунического письма свидетельствуют надпись на деревянном стержне из Ладоги, граффити на монетах из Тимеревского клада (конец IX в.), надпись на кости домашней свиньи из Новгорода (начало X в.) и металлической подвеске из Ладоги (вторая половииа X в.) [166, 36 — 45].
необходимого минимума богослужебных книг и грамотных людей. Возможно, что клирики этой церкви занимались индивидуальным обучением грамоте. К середине X в. христианская прослойка среди киевского населения увеличилась в связи с крещением в Константинополе матери великого князя Святослава княгини Ольги (955).
О распространении грамотности на Руси в X в. свидетельствуют и археологические находки. Так, при раскопках Гнездовских курганов близ Смоленска был обнаружен глиняный сосуд первой четверти X в. с надписью «горухща» (горчица) [3, 71 — 79]. Эти находки говорят об использовании письменности и в быту, а не только в культовых целях.
Обращают на себя внимание и свидетельства арабских писателей-пу-тешественников. Так, Ибн Фадлан видел надпись на могиле знатного руса (922). Любопытный факт сообщает Ибн-ан-Недим: «Мне рассказывал один, на правдивость коего я полагаюсь, что один из царей горы Кабк (Кавказа. — Авт.) послал его к царю Русов; он утверждал, что они имеют письмена, вырезываемые на дереве. Он же показал мне кусок белого дерева, на котором были изображения; не знаю, были ли они слова или отдельные буквы...» [46, 240].
Все эти факты свидетельствуют о том, что ко времени официального принятия Русью христианства в крупнейших политических центрах Древнерусского государства Киеве, Новгороде, Смоленске уже существовала письменность, были грамотные люди, хотя и в относительно небольшом количестве, и, вероятно, существовало индивидуальное обучение грамоте.
Первое официальное свидетельство о начале систематического обучения в столице Древнерусского государства Киеве содержится в «Повести временных лет» под 988 годом. Оно связано с крещением Руси Владимиром Святославичем: «И нача ставити по градам церкви и попы, и люди на крещенье приводити по всем градам и селам, послав нача поимати у нарочитое чади (знати) дети и даяти нача на ученье книжное» [152, 118 — 119]. Как следует из этой лаконичной записи летописца, насаждение христианства и введение на Руси книжного обучения осуществлялись путем крутых правительственных мер.
Великий князь и его ближайшее окружение, греческие священники, пришедшие с ним из Корсуня вместе с царевной Анной, были заинтересованы в распространении новой, христианской религии как теологической основы формирующегося феодального государства. Именно этими причинами и были продиктованы заботы Владимира Святославича о распространении образования среди господствующего класса. Образование насаждалось сверху, и детей «нарочитой чади», т. е. людей именитых, бояр, повелением князя забирали у родителей и отдавали «на учение книжное» «учителям», по-видимому, грекам и болгарам, а также и русичам, овладевшим «премудростью книжною».
По вопросу о том, какой характер носили учебные заведения, созданные по распоряжению князя, исследователи имеют различные мнения. Большинство вслед за Е. Е. Голубинским полагают, что, заботясь о распространении образования в боярской среде, киевский князь использовал опыт греков (византийцев), у которых образование было делом частным1 [58; 54]. «Приведены были из Греции ученые люди и открыли у себя на домах частные пансионы, в которые были розданы и имели быть отдаваемы дети бояр для учения. Намерение и желание правительства было то, чтобы в этих
1 Точку зрения на школы Киевской Руси как на государственные дворцовые учреждения отстаивает С. Д. Бабишин [18, 19].
пансионах дети бояр получили возможно лучшее научное образование, какое могли дать приведенные учители, чтобы они изучили все то, что было в Греции» [49, т. I, 711]. Однако, считает исследователь, попытка Владимира ввести просвещение не удалась. «Оно у нас не принялось и не привилось и весьма скоро от нас исчезло» [там же, 709]. Причиной этого, по мнению Е. Е. Голубинского, явилось отсутствие казенных училищ и частные формы обучения. И окончательный вывод исследователя: «Владимир желал и пытался было ввести к нам просвещение, но его попытка осталась безуспешною. После него мы уже не делали никаких попыток и остались без просвещения, при одной грамотности, при одном умении читать. Грамотность, а не просвещение — в этих словах вся наша история огромного периода, обнимающего время от Владимира до Петра Великого...» [там же]. Но факты во многом опровергают точку зрения Е. Е. Голубинского.
Введенное Владимиром Святославичем просвещение успешно развивается его продолжателем Ярославом Мудрым (ум. в 1054 г.). Слагая настоящий гимн просветительской деятельности Ярослава, летописец отмечает: «Отец ведь его Владимир земли вспахал и размягчил, то есть крещением просветил. Этот же засеял книжными словами сердца верующих людей, а мы пожинаем, учение получая книжное» [150, 302].
Ярославу Мудрому Киевская Русь была обязана созданием первой библиотеки при построенном в Киеве знаменитом Софийском соборе. «Красуется эта церковь и прославляется во всех странах соседних, поскольку не найдется другой такой во всем подлунном мире в полунощных странах от востока до запада» — так характеризовал ее современник митрополит Иларион [79, 58].
Ярослав, как сообщает летописец, «собрал книгописцев множество, которые переводили с греческого на славянский язык» [150, 302]. Уже в 30-е гг. XI в. великий киевский князь смог привлечь для работы по созданию библиотеки большое количество писцов. Вряд ли это были дети «нарочитой чади», хотя, как известно, даже князья в Древней Руси не гнушались перепиской книг. Собранные Ярославом писцы, по-видимому, владели греческим языком, а также древнееврейским и сирийским.
Созданная по инициативе Ярослава Мудрого библиотека включала произведения, как переведенные непосредственно с греческого, так и переписанные древнеболгарские переводы [118; 182].
Прославление просветительской деятельности Ярослава Мудрого летописец завершает похвальным словом книге, знанию, образованию: «Велика ведь бывает польза от учения книжного; книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость обретаем и воздержание в словах книжных. Это — реки, напо-яющие вселенную, это источник мудрости, в книгах ведь неумеримая глубина; ими мы в печали утешаемся; они — узда воздержания... Если поищешь в книгах мудрости прилежно, то найдешь великую пользу для души своей» [150, 302].
Весьма примечательно, что в этом гимне книге, книжному учению летописец подчеркивает ее роль не только в образовании, но и в нравственном воспитании. Книга — источник мудрости, знания и одновременно средство «наказания», т. е. наставления, поучения, «узда воздержания» от низменных побуждений и страстей.
В 1030 г. Ярослав Мудрый учреждает школу в Новгороде, «собра от старост и поповых детей 300 учити книгам» [155, 126]. В этом лаконичном летописном известии обращает на себя внимание довольно большое число набранных для учения детей и их социальный состав — это уже не дети «нарочитой чади», а дети кончанских и уличанских старост1, приходских священников.
1 Великий Новгород административно делился на «концы» (районы), а «концы» — на улицы.
«Житие Феодосия Печерского», написанное Нестором в 80-е гг. XI в., свидетельствует о существовании «школы» в таком небольшом городке Киевского государства, каким был тогда Курск. «Феодосий попросил... отдать его учителю поучиться божественным книгам, что и сделали. Скоро постиг он всю грамоту, так что поражались все уму его и способностям и тому, как быстро он всему научился» [142, 309]. По-видимому, речь здесь идет об училище, в котором было несколько учителей и много учеников. Таким образом, можно говорить о постепенном распространении школ в городах Киевской Руси. В XII в. известны школа в Галиче, созданная Ярославом Осмомыслом, школа в Смоленске, учрежденная князем Романом1. В начале XIII в. известность приобретает школа во Владимире-на-Клязьме, патроном которой был высокообразованный князь Константин Всеволодович. О существовании многих школ сообщает в своей «Истории...» В. Н. Татищев, располагавший рядом неизвестных нам источников. В этих школах были собраны дети «знатных, средних и убогих» (бедных) [206, 63]. Показательно обращение нравоучительного сборника «Златоструй», созданного в X в. в Болгарии и широкоизвестного на Руси: «Но молю вы, возлюблении, аще и богат еси, и нищ, аще и раб, аще и свобод, аще и мужеск пол, аще и женск, но вси пытайте книг. Святыи бо книги сокровище суть» [35, 1232].
О распространении грамотности на Руси свидетельствуют и берестяные грамоты* 2. К настоящему времени их найдено около 700 в Новгороде, Старой Руссе, Смоленске, Пскове, Витебске, Мстиславе, Твери, Звенигороде Галицком и Москве. Большинство грамот обнаружено в Новгороде. (То, что грамоты найдены только в этих 9 городах, может объясняться условиями, при которых береста сохраняется в течение веков, — повышенной влажностью почвы.) Но при раскопках практически всех древнерусских городов были найдены орудия письма по бересте — писала, свидетельствующие о постоянной практике письменного общения. Писалами сделаны многочисленные граффити на стенах церквей [39; 116].
В Новгороде были также найдены церы3 — дощечки с углублением для воска, которые использовались в процессе начального обучения. Две из них имеют на одной из сторон вырезанный алфавит. С их находкой стало понятным назначение лопаточки на конце многих писал: ею стиралось написанное на воске.
Берестяные грамоты представляют собой документы бытового назначения: частные письма (самая многочисленная группа), хозяйственные записи, челобитные, учебные упражнения и др. Из изданных к настоящему времени новгородских грамот учебные составляют чуть более 3 % (19 из 614).
Вероятно, такой низкий процент ученических упражнений объясняется тем, что, «обучаясь письму, маленькие новгородцы прибегали в основном к воску», следовательно, «редкость школьных упражнений на бересте не должна нас удивлять» [236, 57]. Датируются найденные берестяные грамоты XI — XV вв. Верхний рубеж их бытования связан с вытеснением бересты и пергамена как основного писчего материала бумагой.
Изучение содержания грамот заставило в корне пересмотреть вопрос о распространении грамотности в Древней Руси. Стало очевидным, что владели грамотой не только лица духовного звания и представители феодальной администрации, но и городское (посадское) население. Кстати, среди авторов
О просвещении и письменности в Смоленске.: [11, 245 — 2531.
2 Текст о берестяных грамотах написан Л. В. Мошковой.
3 В Византии церы использовались для обучения письму, записи деловых документов, завещаний и пр.
новгородских берестяных грамот духовенства оказалось очень мало. Б. В. Сапунов пришел к выводу, что в начале XIII в. процент грамотных среди всего населения не опускался ниже 1 — 2 %, а в городах достигал 10 %, т. е. 20% от числа всего взрослого населения [181, 198 — 207]. Эти подсчеты сделаны в основном на данных книжной письменности. Возможно, что анализ найденного к настоящему времени числа грамот в сочетании с другими источниками (граффити, надписи на бытовых предметах и др.) позволит с большей достоверностью решить вопрос об уровне грамотности отдельных социальных слоев в Древней Руси.
В первые годы после обнаружения берестяных грамот многие исследователи говорили об их «безграмотности», т. е. о несоответствии их графикоорфографических систем нормам книжного языка того времени. В настоящее время эта точка зрения принципиально пересмотрена. В литературе существуют две трактовки данного явления. Одна из них говорит о том, что «...написания берестяных грамот представляет собою результат попытки реализовать в письме навыки, полученные в процессе овладения чтением», а система письма «имеет более или менее индивидуальный характер» [211, 38]. Иначе говоря, грамоты написаны людьми, которых учили читать по-церковнославянски, но не учили писать, если под обучением письму понимать усвоение определенных графических и орфографических правил.
А. А. Зализняк считает, что берестяные грамоты написаны на основе графико-орфографических систем письменной фиксации древненовгородского диалекта, отличных от системы книжного письма [237, 10, 217]. Из этого можно сделать вывод о существовании в Новгороде особого, светского обучения письму.
Немаловажную роль в развитии образования играли монастыри. Одним из крупнейших культурных центров, поставлявших кадры церковных иерархов — епископов в другие города Руси, был Киево-Печерский монастырь, созданный «не от князей и вельмож», а «трудами Антония и Феодосия». Тесно связанный с Афоном — этой средневековой международной «академией православия», Киево-Печерский монастырь стал центром русского летописания. Монах Никон Великий явился инициатором создания первого Киево-Печерского свода 1073 г., в котором была выработана основная патриотическая концепция начальной русской летописи. О Никоне неоднократно упоминает «Житие Феодосия Печерского»: Никон в келье игумена «сидит бывало... и пишет книги», в то время как сам Феодосий в это время прядет нити для книжных переплетов [142, 345].
Школу нравственного воспитания и образования прошел в Киево-Печерском монастыре Нестор, создатель 1-й редакции «Повести временных лет», автор «Жития Феодосия Печерского» и «Чтения... о Борисе и Глебе». В стенах Киево-Печерского монастыря протекала жизнь первого князя-монаха Святослава Давыдовича, постригшегося в монахи в 1106 г. под именем Николая Святоши. Он занимался переписыванием книг, составивших часть монастырской библиотеки и хранившихся на «полатех» наряду с «харатьями» — пергаменами греческих мастеров, расписавших Великую Успенскую Печерскую церковь.
Как сообщает Киево-Печерский патерик, искусным в книгописании был чернец Иларион, который дни и ночи переписывал книги в келье игумена Феодосия. Можно предположить, что в функции игумена входило также наблюдение за работой писцов. Прилежно читает по ночам книги монах Дамиан. В монастыре начинает учиться грамоте «простец словом» Спиридон. При этом патерик сообщает и об основном методе обучения грамоте — заучивании текста наизусть: Спиридон «начал учиться книгам и выучил всю Псалтырь наизусть» [143, 587]. Хорошо изучил все иудейские книги Ветхого завета Никита Затворник. Он читал греческие, латинские и древнееврейские тексты. Подвизался в монастыре и творец канонов Григорий. Как сообщает епископ Симон в своем послании Поликарпу, ряд монахов Киево-Печер-сокого монастыря возглавили затем епископские кафедры Новгорода, Ростова, Суздаля и Владимира. Естественно предположить, что это были люди образованные. В свою очередь епископские центры Руси становились средоточием культуры и образованности. И вероятно, местное духовенство занималось обучением грамоте горожан. Судить о том, как протекало это обучение, можно по берестяным грамотам, и в частности по «школьным» упражнениям новгородского мальчика Онфима [236, 40-57].
С первых шагов развития образованности в древнерусском обществе воспитывается глубокое уважение к книге, бережное отношение к ней. Так, Устав Федора Студита (ум. в 862 г.), принятый Киево-Печерским монастырем в XI в. и получивший затем широкое распространение на Руси в XII — XIII вв., содержит статью «О том, иже съ всяцемь прилежанием книг блюсти книго-хранильнику порамон/арю/»: «Да имеет аж (порамонар) да отрясает и затва-ряет книжные хранилы, да не подаеть никомуже хартии прикоснутися, да не осквернять их; да бывають же и четния с свещами чистами и тънъками, и да блюдоут чьтоущеи ни капати ни единою из уст их окропит, ни рукама окалят...» [36, 27]. Обращают на себя внимание изображения книг в древнерусской иконописи, где святители держат их в левой руке и обязательно на плате.
Наряду с простым обучением грамоте (не знавшим первоначально сословных ограничений) существовала и более высокая ступень образования — «книжное учение».
Уже с середины XI в. в Киеве существует определенная группа лиц, «преизлиха насышьтьшемся сладости книжные», т. е. обладавших широким кругом знаний, начитанностью. В эту группу, очевидно, входили сам князь Ярослав Мудрый, его дети и ближайшее окружение. Именно к ним обращался митрополит Иларион в своем знаменитом «Слове о законе и благодати», построенном по всем правилам риторической науки и искусства. Мы не располагаем сведениями, как и где обучался сам Иларион, а также его слушатели. О его высокой образованности свидетельствует его произведение, ни в чем не уступающее «Словам» прославленных византийских ораторов.
Сын Ярослава Мудрого Всеволод, как свидетельствует Владимир Мономах в своем «Поучении», «дома седя», т. е. живя в Киеве, изучил пять иностранных языков и «в том бо честь есть от инех земль» [142, 400]; По-видимому, Всеволод знал греческий, латинский, польский, шведский и норвежский языки. Была грамотна и дочь Ярослава Мудрого Анна, ставшая затем королевой Франции, женой французского короля Генриха I. Сохранился ее автограф «Ана ръина». Можно предположить, что образованными людьми были и Изяслав и Святослав Ярославичи, о чем свидетельствует знаменитый «Изборник великого князя Святослава» 1073 г. (см. разд. II, гл. 1.2).
Широкое образование получали не только княжеские сыновья, но и дочери. Так, Ефросинья, дочь полоцкого князя Всеслава Брячеславича, о котором говорит автор «Слова о полку Игореве», получила образование в Полоцке. О страстной любви полоцкой княжны к «книжному учению» говорится в «Повести о Ефросинии Полоцкой». Ее усердие и прилежание к занятиям приводили в изумление родителей, «вести же разидошася по всем градом о мудрости ея и блазем учении ея». Постригшись в монахини, Ефросинья «начат книги писати своима руками и наем емлюще». Как величайшее сокровище бережет она книги, ибо ими «утешается ея душа и веселится сердце».
Ефросинья просит отца прислать к ней сестру Городиславу, дабы обучит! ее грамоте [145, 172 — 179] . Очевидно, образованной женщиной была сестрг Владимира Мономаха Янка (конец XI — начало XII в.). Высокообразован ной была дочь черниговского князя Михаила Ефросинья (первая половине XIII в.). Как свидетельствует ее житие, она «не в Афинех учися.. но афинейския премудрости изучи». Ее учителем был черниговский боярин Федор, и, вероятно, под его руководством она учила «философию же и историю и всю грамматикию, числа и кругов обхождение»1.
Диалектика, риторика и грамматика составляли тот тривиум, который лежал в основе «энкиклиос педиа» («всеохватывающее обучение») византийской средней школы и который, вероятно, был известен и в Древней Руси в рамках «учения книжного».
Грамматика, судя по сочинениям известного византийского ученого и богослова Иоанна Дамаскина (VIII в.) — сочинения его были широко известны в Древней Руси и пользовались авторитетом и популярностью, — включала в себя учение о восьми частях речи, сведения по этимологии, о грамматических категориях, поэтической образности языка. На Руси был известен трактат Георгия Хировоска «О образех», созданный в Византии в VIII — IX вв. и включенный затем в состав «Изборника 1073 г.».
В преподавание грамматики входило изучение и толкование текстов Священного писания: Евангелия, Псалтыри и некоторых библейских книг. По всей вероятности, ученики знакомились с текстами античных авторов — Гомера, Платона, Аристотеля. Об этом свидетельствуют слова митрополита Климента Смолятича (середина XII в.), который был обвинен пресвитером Фомой в том, что он «творит себя философом». Отвечая на это, Климент писал: «...излагал я Гомера, и Аристотеля, и Платона, которые среди греческих столпов славнейшими были» [143, 283]. Исследователь творчества Климента Смолятича Н. К- Никольский пришел к выводу, что русский митрополит «был знаком с подлинным или переводным текстом некоторых из сочинений греческих философов и поэтов» [130]. На знание Климентом одного из важнейших разделов византийского образования — схедографии — обратил внимание историк церкви Е. Е. Голубинский [50, 49 — 59]. Схе-дография включала в себя упражнения как орфографические, так и словарно-грамматические, связанные с изучением грамматических форм, этимологии, когда редко употребляемые слова объяснялись при помощи общеупотребительных слов. В занятия схедографией включались шарады: слово разделялось на части, приобретающие самостоятельное смысловое значение.
Учащиеся под руководством учителя обучались правильному произношению и написанию слов, пониманию уже устаревшей лексики. С этой целью под руководством учителя создавались специальные схедографические лексиконы. Такова, например, «Азбука сотворена по альфе, еже есть по скоростихии, како которая буква глаголется и на колько делится речь и пословица и в колико сочетается» [234, 781 — 784]. Схедография подготавливала к усвоению тривиума, и в первую очередь грамматики и «диалектики» — логики, искусства вести полемику. Методика преподавания состояла в том, что учитель читал и толковал текст, задавая ученикам вопросы, цель которых заключалась в том, чтобы обнаружить скрытый аллегорический, символический его смысл.
Судя по сочинениям Климента Смолятича, он был хорошо знаком с диалек-
1 Житне... великая княжны Евфросинии Суздальский. СПб., 1889. С. 67. Однако существует мнение, что сообщение об обучении Ефросинии наукам тривиума является топосом византийских житий, заимствованным русским автором и к реальной биографии святой не имеющим отношения [30].
тикой, риторикой и грамматикой, т. е. со всем тривиумом.
В тривиуме важное место отводилось риторике, обучению навыкам красиво говорить и писать1. Представления о риторике на Руси имеют историческим источником греко-латинско-византийскую культуру. Сущность риторики как научной и педагогической дисциплины перешла в средневековые руководства от античных философов, риторов и педагогов. Образцами риторского искусства также служили «Слова» Иоанна Златоуста — знаменитого византийского оратора (347 — 407), ученика софиста Либания. Произведения Иоанна Златоуста пользовались широкой известностью на Руси, входили в состав Изборников 1073 и 1076 гг., сборников «Златоструй», «Измарагд» и «Златоуст».
Многочисленное использование в древнерусских памятниках слов «ритор», «риторика», «ветия», «ветийство», «хитростное глаголание» с очевидностью показывает, что правилам построения речи и обучению «науке риторике» уделялось серьезное внимание. Это диктовалось во многом проникновением на Русь христианства и его книжной культуры.
В сочинении Георгия Хировоска «О образех» [62, 65 — 67] представлены 27 риторических фигур и тропов: «инословие» (аллегория), «превод»
(метафора), «приятие» (металепсис) и др. Принципы и форма их описания дидактичны — они соответствуют потребности передачи знаний, прежде неизвестных на Руси. Некоторый термин получает определение, затем приводится пример: «Инословие — это когда говорят нечто одно, а иное разумеют. Например, сказано богом змее: «Проклята ты от всех зверей». Слово «змея» иносказательно обозначает дьявола, а не змею» или «преступное» (инверсия) — это переставленное от начала идущего к последующему. Например, вместо «Призываю господа» говорим «К господу взываю» [62, 65; 67]. Как видим, риторическая терминология появляется в одном из первых известных книжных памятников Древней Руси. Однако «...перевод трактата Георгия Хировоска не привлек внимания древнерусских и южнославянских писателей. В последующем литературном процессе славянского средневековья непосредственного участия он не принимал» [30, 13].
Статья Георгия Хировоска не единственное указание в Изборнике 1073 года на риторические знания, которые приходили на Русь вместе с сочинениями христианско-византийской учености. Так, в «Начале притьчам Василия Великого» пишется об осуждении тех, кто не только «божьствьныих словес учение преобидеша, нъ и творитвьная и ветииская и хытростьное изобретение многыя упраздни». Пренебрежение к нормам риторики ставится в вину тем, кто «в суетьних пытаниях състаревъшся», но «учения разум» так и не обрел [80, 203 об.]. По сочинениям древнерусских писателей мы можем судить, что они были знакомы с нормами риторики. Риторика чаще всего определяется славянским словом «ветииство», а «ритор» — «ветия», но встречается и термин «риторика». Риторика в Древней Руси рассматривалась как «высшая» наука. Приезжие ученые-греки высоко ценились за знание не только грамматического, но и «риторического художества». Об «историцах и ветиях» говорит Кирилл Туровский — блестящий оратор и представитель торжественно-учительного красноречия на Руси. Он писал, что писатель и оратор («летописец и песнотворец») должен вслушаться в происшедшее («приклоняють своя слухы в бывшая межю цари рати...»), украсить деяния героев подобающими словами («украсить словесы и възве личать мужьствовавъшая крепко по своемь цари... и тех славяще похвалами венчают»). Возвышенно-хвалебный строй эпидейктических речей позволяет назвать их создателей «песнотворцами» [62, 72 — 73].
Текст о риторике написан В. И. Аннушкииым.
В риторически организованной речи учителю и ученику предлагались правила жизненного поведения (в частности, речевого поведения), которым должно было следовать в соответствии с христианско-этическими нормами жизни. Сборники под названием «Пчела» содержат множество изречений о житейской мудрости и добродетели. Почти половина из них относится к правилам практической риторики, т. е. нормам речевого поведения, записанным в наставлениях античных и христианских писателей. Формируются нормы общения: «Соломон рече: во уши безумнаго ничто же глаголи, егда похулить мудрая твоя словеса»; «Пифагор: удобь есть камень всуе пустити, нежели слово праздно»; «Фотий: слово подобно есть зерцалу, яко же тем образ телесный и личный является, тако же и беседою душевный образ образуем назнаменуется». Слово есть благо при правильном обращении с ним («Слово аки благы житьем одевает душю образом... Ластвици тишину проповедають весньную, а мудрая словеса беспечалие»). Именно словом человек отличен от прочих животных («То его знаменье, то же его град, то же его сила, то же оружье, то же и стена») [62, 69 — 70]. Эти правила речи (педагогический настрой в них очевиден) являлись фактически «теорией речи» в Древней Руси, ее практической риторикой.
Наконец, в состав тривиума входила диалектика, под которой в средние века подразумевались в первую очередь начала философии.
Как указывает Ф. Энгельс, «...монополия на интеллектуальное образование досталась попам, и само образование приняло тем самым преимущественно богословский характер» [1, 360]. Иоанн Дамаскин различал философию теоретическую, которая включала в себя богословие, арифметику, музыку, геометрию, астрономию и физиологию (учение об окружающей природе), а также философию практическую — этику, политику, экономику.
Лица, оканчивавшие университет в Константинополе, получали звание философа, т. е. учителя, преподавателя. Это звание прочно закрепилось за Кириллом-Константином, просветителем. «В древней славянской и русской письменности слово «философ» употреблялось чаще всего в значении «ученый, образованный человек» [53, 26]. В статьях Изборника 1073 года широко представлена философская терминология, вырабатываемая старославянским языком [148]. «Книжником и философом, которого в Русской земле не бывало», называет летописец митрополита Климента Смолятича.
Звания «философ» летописец удостаивает волынского князя Владимира Васильковича: «Володимер же бе разумея приятъче и темно слово (понимал притчи и «темные» слова), и повестив со епископом много книг, зане быс книжник велик и философ, акогоже не быс во всей земли и ни по немь не будет...» [153, 913]. Высокообразованным был внук Владимира Мономаха, который с «грекы и латины говорил их языком, яко русским». Сын Всеволода Большое Гнездо ростовский князь Константин (ум. в 1218 г.) «великий был охотник к читанию книг и научен был многим наукам; того ради имел при себе и людей ученых, многие древние книги греческие ценою высокою купил и велел переводить на русский язык, многие дела древних князей собрал и сам писал, також и другие с ним трудилися; он имел одних греческих книг более 1000, которые частью покупал, частью патриархи, ведая его любомудрие, в дар присылали» [36, 18]. «Блаженный, милостивый и учительный епископ» — так именуется один из инициаторов создания Киево-Печерского патерика — Симон [152, 448].
Обучение арифметике на начальном уровне в Древней Руси состояло в овладении нумерацией, а на повышенном заключалось в овладении счетом на абаке1. Основой его являлась общеобразовательная арифметическая культура, включавшая в себя умение записывать и прочитывать числа в древнерусской нумерации. При анализе особенностей обучения счету в Древней Руси необходимо учитывать, что в число арифметических действий входили: запись чисел (нумерация), удвоение, раздвоение, сложение, вычитание, умножение, деление. Теперь неупотребляющиеся удвоение и раздвоение играли важную роль базовых действий, на основе которых выполнялось умножение и деление.
Усвоив в процессе обучения структуру счета, т. е. постигнув связь между счетными единицами и пятерками, переход по десятеричному принципу с нижнего счетного уровня на последующие, изучив другие особенности записи чисел, переходили к выполнению арифметических действий. Об этом свидетельствует комплекс задач XI в. по расчету дохода, который должна принести вотчина за ряд лет с учетом прогнозируемого приплода от скота и получаемой продукции (шерсти, сена, ржи, овса и др.). Нереальный характер содержания этих арифметических задач чем-то напоминает условный характер современных математических упражнений.
О фактах обучения счету на абаке в системе монастырского образования на Руси в XII в. свидетельствует календарно-математический трактат «Учение им же ведати человеку числа всех лет». Он был написан Кириком, иеродиаконом новгородского Антониева монастыря в 1136 г. В трактате речь идет о единицах счета времени (.год, месяц, неделя, день, час), дается пересчет числа лет (6644), прошедших от мифического Адама до 1136 г., — в месяцах, неделях, днях и часах. Наибольшее в трактате число — 29 120 652 (количество «дневных» часов в 6644 годах) получается умножением числа 2 426 721 (количество дней за эти годы) на 12. Этот результат Кирик мог получить на древнерусском абаке того типа, какой применялся и для решения вышеназванных арифметических задач. Трактат Кирика внес существенный вклад в развитие древнерусской математической культуры, выразившийся в первую очередь в увеличении разрешающей способности абака.
Глава II ПРОСВЕЩЕНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В РУССКОМ ГОСУДАРСТВЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIII — XVI В.
I. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ В ПЕРИОД ФЕОДАЛЬНОЙ РАЗДРОБЛЕННОСТИ И ОБРАЗОВАНИЯ РУССКОГО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА
После татаро-монгольского нашествия на Руси постепенно складывалась своеобразная система образования, генетически восходившая к традициям Киевской Руси и имевшая значительные отличия как от западноевропейской, так и от византийской образовательной системы. Трудность развития просвещения определялась в первую очередь тем, что 250-летнее татаро-монгольское иго сопровождалось постоянными набегами Орды, многие из которых силой не уступали нашествию Батыя. Об условиях, 1
1 Абак — механическое приспособление для выполнения арифметических подсчетов, состоящее из вычислительного поля и счетных элементов, предшественник современного прибора «счеты». Текст об обучении счету написан Р. А. Симоновым.
в которых развивалась русская культура в рассматриваемый период, дает наглядное представление тот факт, что за XIII — первую половину XV в. Русь выдержала более 160 войн, «из которых 45 сражений с татарами, 41 — с литовцами, 30 — с немецкими рыцарями, а все остальные — со шведами, поляками, венграми и болгарами» [113, 127]. Поступательное развитие экономики и культуры оказалось приостановленным. Во множестве гибли культурные ценности, но более невосполнимой утратой была гибель и пленение многих тысяч талантливых «русичей» — киевлян, новгородцев, смоленцев, тверичей и других. Продолжительное время усугубляла сложности развития культуры и образования страны ее раздробленность на отдельные враждующие между собой княжества. В такой политической и экономической ситуации вопросы образовательной политики отходили на второй план.
В эпоху, когда в государствах Западной Европы возникали школы и университеты, своими корнями уходившие в традиции классического античного образования, в Русском государстве складывалась такая система обучения и воспитания, в которой регулярная школа как государственный и церковный институт оказалась в феодальный период лишним и ненужным звеном.
Экономическое развитие страны на данном этапе не являлось фактором, оказывавшим непосредственное влияние на систему образования. Оно не требовало введения школьного обучения. В каждом сословии существовали свои традиции обучения профессиональным навыкам. Государство не имело необходимости вмешиваться в эту сложившуюся систему. Обучались в большинстве случаев в семье, иногда дети посылались на выучку к мастерам-профессионалам своего дела, принадлежавшим к тому же сословию. При достаточно сильных родовых связях отрыв от своей семьи, своего рода был тяжелым и болезненным, а переход в иное сословие — практически невозможным. Только одна сословная группа — монашество — имела открытый характер: в нее попадали лица из всех слоев общества. «Грамотность не входила в состав общеобразовательного воспитания как необходимое образовательное средство; она причислялась к техническим промыслам и рукоделиям, к «механическим хитростям» [93, 228]. И все же множество профессий требовало знания грамоты и счета. Но было бы неправомерным сводить потребность в обучении грамоте только к профессиональной необходимости. Тяга к постижению письменного текста возникала по природной склонности у людей самой различной сословной и профессиональной принадлежности. Начальные знания письменной культуры получали либо в семье, либо обучаясь индивидуально у любого грамотного человека из ближайшего окружения, либо у мастера грамоты, т. е. человека, который занимался обучением детей уже специально и постоянно, хотя и совмещая такую учительскую деятельность со своей основной профессией. Мастер мог иметь сразу нескольких учеников, которые и составляли «училище». «Под школой того времени, безусловно, следует понимать одного учителя с небольшим количеством учеников, вероятно, никогда не доходившим до 10 человек, без деления на классы... По прошествии некоторого времени курс наук считался пройденным, и школа на этом кончала свое существование» [16, 262 — 263].
Помимо профессиональных и «письменно-книжных» знаний необходимым компонентом социализации для представителей всех сословий являлось усвоение устной народной культуры с ее представлениями об истории, географии, традициях родной страны, с фольклорными языком и жанрами, с народной этикой и эстетикой, а также общефилософским миропониманием. Это усвоение реализовалось через традиции народной педагогики. Основную «учительную» роль играли старейшие члены семьи и рода.
Еще одной важной стороной в обучении и воспитании ребенка являлось приобщение его к православию, через которое осуществлялось идеологическое воспитание всего народа. В обязанности священства входило обучение паствы в самых общих формах основным догматам христианского вероучения. «Все христианское население всех возрастов было обязано посещать приходские храмы, где выслушивало проповеди, поучения, наставления клира. Богослужения суточного, недельного и годичного циклов формировали устойчивые мировоззренческие стереотипы и нормы поведения. Вовлечение в обрядовые церемонии, воздействие эстетически продуманного и изощренного церковного искусства, сакрализация основных жизненных ситуаций, начиная с рождения и кончая смертью человека, обеспечивали большую степень воздействия на всех без исключения людей» [55, 37]. В церкви воспитывалось уважение к властям, как светским, так и церковным. Огромным фактором педагогического воздействия являлась церковная исповедь, к которой приводили детей с семилетнего возраста. Она приучала сызмальства давать ответ за каждый свой поступок, анализировать не только с религиозной, но и с этической точки зрения свои действия. Большая часть существовавших «училищ» сосредоточивалась именно при приходских церквах.
Таким образом, начальный комплекс знаний, включавший в себя несколько необходимых для социализации ребенка аспектов, получал (или во всяком случае мог получить) каждый и при отсутствии организованной школьной системы начального образования, которая оказывалась для данного периода развития государства и общества ненужной. «Главное внимание педагогики обращено было в другую сторону, на житейские правила, а не на научные знания. Кодекс сведений, чувств и навыков, какие считались необходимыми для усвоения этих правил, составлял науку о «христианском жительстве», о том, как подобает жить христианам. Этот кодекс состоял из трех наук, или строений: то были строение душевное — учение о долге душевном, или дело спасения души, строение мирское — наука о гражданском общежитии и строение домовное — наука о хозяйственном домоводстве. Усвоение этих трех дисциплин и составляло задачу общего образования в Древней Руси» [93, 221].
Специальных навыков и знаний, а следовательно, и людей с повышенным образованием требовали две сферы — государственный аппарат и церковь. Государственный аппарат развивался и усложнялся вследствие складывания централизованного государства, но в целом вплоть до второй половины XVII в. в нем было занято весьма ограниченное количество лиц. Многие специалисты высокой квалификации, требовавшиеся для княжеского двора, часто приглашались из-за границы — это были медики, переводчики, архитекторы, художники и др. Все они, как правило, имели русских учеников.
Феодальное судопроизводство не знало института адвокатуры, не нуждалось в судебных ораторах, поэтому не имело потребности в правовых и риторских школах, широко распространенных в Византийской империи. Отношение к медицине как к «небогоугодному» занятию, исходящее из церковных воззрений, делало невозможным какое-либо медицинское обучение.
Существуют сведения о том, что некоторые из русских обучались за границей. «Дмитрий Герасимов и Герасим Поповка в 80 — 90-х годах XV в. учились в Ливонии. В университет Ростока 14 июня 1493 г. поступил Сильвестр Малый из Новгорода» [217, 228]. Это были в основном выходцы из новгородской и псковской земель, имевших традиционно более тесные контакты со странами Европы. Советским исследователем Е. Л. Немировским выдвинута гипотеза о том, что за границей, в Краковском университете, обучался Иван Федоров [128, 13 — 26]. Но самостоятельные поездки за границу с образованием централизованного государства ставились властями под контроль и к XVI в. стали почти невозможны. Кроме трудностей с выездом иной характер начального образования, иное вероисповедание, незнание латыни делали обучение в европейских высших учебных заведениях чрезвычайно затруднительным и для тех, кто оказывался за границей. При Борисе Годунове государством было предпринято несколько попыток послать русских юношей за границу, за казенный счет [15], но эта политика не была продолжена, так как не принесла желаемого результата. Не единожды Русскому государству с европейской стороны делались предложения о помощи в обучении языкам и схоластическим наукам [180], но цель таких предложений была совершенно ясна русскому правительству — путем «педагогической экспансии» распространить в Московии католицизм, включив таким образом страну в сферу своего влияния. Подобные проекты, в частности, принадлежали папскому легату Антонио Поссевино, прибывшему с дипломатической миссией к Ивану Грозному [159], и известному утописту Томмазо Кампанелла (1618) [83].
Таким образом, государственные нужды в образовании удовлетворялись на данном этапе развития без создания светской образовательной системы. Книжное образование было профессиональным образованием церковнослужителей. Но в русской православной церкви в отличие от Запада не было богословского образования, церковь не создала школ, подобных европейским схоластическим школам. В этом сказалась иная философская парадигма православия. В качестве официально признаваемой католической церковью философской системы выступала схоластика, имевшая целью постижение бога в логике и рассуждении. Католическому богословию в качестве «служанок» были необходимы различные схоластические (т. е. школьные — от лат. schola — «школа») науки, изучение которых требовало правильно организованной системы обучения, воплотившейся в школах. Православное богословие ограничивало роль разума в делах веры, полагая, что богопостижение более возможно через созерцание, чувство, нравственный подвиг. В сознании русских людей западноевропейская школа верно оценивалась как органичная часть римско-католической церковной системы и как таковая была неприемлема в Древней Руси.
«Православие в отличие от католицизма всегда было убеждено в том, что философия ему не нужна. Все истины в высшей инстанции заключены в Священном писании и в творениях святых отцов и учителей церкви» [2, 36]. Тем не менее представителям официального православия приходилось «принудительно-вынужденно» прибегать к философствованию, в особенности для борьбы со «много и активно философствующими еретиками» [2, 36]. Как и в Западной Европе, где внутрицерковная борьба порождала повышенное внимание к школе, так и в России вопрос об организации специального церковного обучения стал подниматься не случайно: нужны были грамотные священники для борьбы со всяким религиозным вольномыслием и недомыслием. И само православное ортодоксальное богословие требовало книжных знаний, овладения широким кругом церковной литературы различного характера. Такое обучение, начиная от элементарной ступени, получали в монастырях — центрах рукописной книжности. В отличие от Запада, где монастырской учености и монастырскому образованию противостояли университеты, рожденные западноевропейским городом, в России система городского светского обучения не сложилась. Одной из важнейших причин этого оказалось экономическое ослабление русских городов в результате татаро-монгольского ига.
Таковы общие черты образовательной системы, существовавшей в Русском государстве в XIII — XVI вв.
2. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ГРАМОТНОСТИ НА РУСИ В XIII XVI ВВ.
Источников, позволяющих судить о грамотности русского населения рассматриваемого времени, в целом очень мало. По-видимому, уровень грамотности на Северо-Западе Руси, менее пострадавшем от татаро-монгольских нашествий, в XIII — XIV вв. был выше, чем на Северо-Востоке. Об этом свидетельствует значительно большая распространенность здесь письменных частных документов. К середине XIV в. на Северо-Западе формуляры письменных частных актов, скорее всего, уже сложились, а на Северо-Востоке только начинали складываться [187, 10]. В Пскове и в Новгороде были городские архивы, где хранились частные акты, а о существовании аналогичных архивов на Северо-Востоке сведений нет [232, 213 — 222]. Хорошее по тем временам образование получали именно на Северо-Западе. Не случайно в 1341 г. тверской князь Михаил Александрович поехал в Новгород «ко владыце грамоте учиться» [154, 81].
Конечно, и на Северо-Востоке Руси в XIII — XIV вв. было определенное количество грамотных людей. По мере того как Русь оправлялась от последствий татарского погрома, их число росло. В результате политики Ивана Калиты и его ближайших преемников Русь на несколько десятилетий была избавлена от разорительных татарских ратей. Это создало благоприятные возможности для ее экономического и культурного подъема, вследствие которого, по-видимому, заметно вырос уровень грамотности русского населения. Думается, не случайно именно с середины XIV в. пергамен на Руси начинает постепенно вытесняться более удобным и доступным для письма материалом — бумагой и возникает полууставное письмо.
По мере феодализации русского общества, - объединения русских земель вокруг Москвы, создания органов власти единого Русского государства, его выхода на международную арену росла и потребность в грамотных людях. В период объединения русских земель, вокруг Москвы все более активно функционировала княжеская канцелярия. Сидевшие в ней дьяки и подьячие писали исходящие от князей жалованные и указные грамоты и другие документы. В XIII — XIV вв. дьяки рекрутировались из числа привилегированных холопов, но с конца XIV в. это были свободные люди [76, 311 — 319], преимущественно из сферы мелких и средних феодалов [74, 219 — 286]. Такое изменение социального состава дьячества отражало рост его значения и авторитета в жизни русского общества. Дьяки ведали составлением летописей, актов, писцовых книг, разрядов, дипломатической перепиской и т. д. Еще более возрастает роль дьячества в связи со складыванием в середине XVI в. приказной системы. Рост делопроизводственной документации привел к возникновению в XV в. скорописи. Увеличение дьяческого аппарата в центре и на местах, несомненно, стимулировало рост грамотности в среде мелких и средних феодалов. Ведь именно из них с конца XIV в., повторим, преимущественно рекрутировались дьяки и подьячие.
Грамотность была необходима и ряду других должностных лиц. Некоторые ближние бояре великих князей иногда подписывали княжеские жалованные и указные грамоты [37, 325 — 350]. Для рассмотрения спорных дел из центра на места посылались приставы (недельщики), им приходилось иметь дело с различными документами, и грамотность была условием успешного выполнения приставами своих обязанностей.
В качестве доказательств в суде по земельным спорам все большую роль играли письменные акты — жалованные, данные, купчие, меновные и другие грамоты. В XVI в. судебное разбирательство поземельного спора обычно начиналось с выяснения того, какие документальные доказательства могут предъявить участники тяжбы в подтверждение своих претензий. Поэтому подделка документов с конца XV в. становится все более заметным явлением. Появляются так называемые подписчики — лица, специализировавшиеся на подделке документов. Судебник 1550 г. рассматривает «подписку» в ряду наиболее тяжких уголовных преступлений. Чтобы разоблачить подделку, нужна была относительно широкая образованность и знание исторических фактов [90, 147 — 151; 72]. Например, жалованная грамота на деревню, якобы выданная князем Иваном Можайским Ферапонтову монастырю, вызвала подозрение у судей, которые указали, что «князь Иван зде был на Белеозере невотчен» [7, № 362, 313].
Рост значения письменного документа имел прямую связь и с ростом грамотности русского населения и в свою очередь стимулировал ее рост.
Княжескую власть на местах вплоть до середины XVI в. представляли наместники и волостели, во главе дворцовых ведомств стояли путные бояре. Представители княжеской власти на местах вели переписку с князьями, разбирали спорные дела. Наместники и волостели были грамотными, в противном случае они не могли контролировать свой аппарат.
Грамотные нужны были не только для обеспечения нормального функционирования государственного аппарата, но и для управления крупными вотчинами. Тиуны и посельские вели там учет крестьянских долговых и оброчных платежей. Письменный учет крестьянских повинностей характерен и для крупной церковной вотчины. От XVI в. до нас дошли многочисленные приходно-расходные книги монастырей.
В XIII — XV вв. представители волости и посада (сотские, старосты) выполняли определенные административные функции, требовавшие грамотности. Это в особенности характерно для Северо-Западной Руси, где сотские активно участвовали в судопроизводстве и в оформлении связанной с ним документации [12, 34 — 41]. Статья 38 Судебника 1497 г. считает участие волостных судебных мужей (дворского, старосты и лучших людей) в судебном процессе обязательным. Судебник 1550 г. конкретно очерчивает объем их прав и определенно указывает на то, что отправление этих функций требует грамотности.
Во второй половине 50-х гг. XVI в. на большей части территории Русского государства ликвидируется институт наместников и волостелей. Их функции переходят к выборным земским судьям, права и обязанности которых регулировались земскими уставными грамотами. Они предусматривали оформление судебных дел земскими дьяками [235, 101 — 161].
С конца 30-х — начала 40-х гг. XVI в. начинается осуществление реформы, суть которой в передаче в ведение местных органов власти дел о разбое и татьбе. Естественно, в их компетенцию перешло и оформление документации по этим делам. Губные (уездные) старосты чаще всего были местными феодалами средней руки. Но в районах, где не было феодального землевладения, губными старостами были представители наиболее состоятельных слоев волости и посада. Таким образом, развитие сословно-представительных учреждений также стимулировало рост грамотности.
Для нормального функционирования феодального общества нужно было не только определенным образом организовать управление им, но и позаботиться об идеологическом обосновании существующего порядка вещей. Эту функцию взяла на себя церковь. Среди белого духовенства совершенно неграмотных людей не было. Без определенного минимума грамотности они не могли выполнять свои обязанности: ведь нужно было знать богослужебные книги. Существует, правда, мнение о низком проценте грамотных
среди священников XV — XVI вв. [200, 192 — 193; 106, 7 — 8; 17, 1 — 16]. Оно опирается прежде всего на свидетельства новгородского архиепископа Геннадия (конец XV в.) и Стоглавого собора (1551) (подробнее см. ниже).
Рост потребности в грамотных людях в конце XV — первой половине XVI в. должен был привести к общему росту грамотности. Какова же была степень грамотности в различных слоях русского общества?
Для оценки удельного веса грамотных людей в феодальной среде в XVI в., как справедливо подчеркнули А. И. Яцимирский и А. И. Соболевский, крайне важен учет статистики «рукоприкладств на оборотной стороне актов» [196; 238, 250] (рукоприкладство — собственноручная подпись). При частных актах (купчих, данных, меновных, закладных, духовных и т. д.) послушест-вовали в большинстве феодальные землевладельцы мужского пола (реже послухами — свидетелями — были белые священники, представители волости и посада; очень редко при актах послушествовали женщины). Вот почему учет статистики рукоприкладств на обороте частных актов может дать достаточно объективные данные для решения вопроса о грамотности взрослых мужчин в феодальной среде. Конечно, верно, что «статистика подписей — «рукоприкладств» на документах... не могла быть одинаковой во всех случаях для всех мест России». Верно также, что «эта статистика даже и для какого-то конкретного места относительна» (в силу того, что некоторые послухи могли не подписываться из-за старости, другие могли уметь читать и не уметь писать и т. д.) [140, 250]. И тем не менее систематический подсчет статистики рукоприкладств по большому количеству актов, охватывавших территории многих уездов за большой промежуток времени, дает представительную картину грамотности правящего класса. Сомнения, которые вызывал вывод А. И. Соболевского о большом проценте грамотных среди вотчинников и помещиков, объясняются прежде всего тем, что он был сделан на основании очень ограниченного круга источников. Издание в последние десятилетия крупных комплексов русских актов XIV — XVI вв. дает возможность проверить обоснованность вывода о преобладании грамотных людей среди светских землевладельцев XVI в. Рукоприкладство послухов на обороте данных грамот, купчих и других документов становится обязательной составной частью их формуляра примерно с начала XVI в. Причем сопоставление количества послухов с общим числом подписавшихся показывает очевидное преобладание среди них грамотных над неграмотными. В 43 грамотах первой четверти XVI в. из архива Иосифо-Волоколамского монастыря послушествовал 181 человек (из них 104, т. е. 57,5%, оставили на обороте свои подписи). В 70 грамотах второй четверти XVI в. из архива этого же монастыря расписались 243 послуха из 302 (80,4 %), в 102 грамотах третьей четверти XVI в. — 319 из 386 послухов (82,6%), в 16 грамотах последней четверти XVI в. — 58 из 68 послухов (85,3%) [9]. Итак, на протяжении всего XVI века на грамотах подписываются большая часть свидетелей. Причем с течением времени удельный вес тех, кто расписывался, возрастал.
Высокий процент грамотных феодальных собственников выявляется и при анализе актов XVI в., дошедших в составе архива Симонова монастыря. В 14 частных актах 1506 — 1525 гг. указан 81 послух, 65 из них (80 %) расписались на обороте грамоты. 80% послухов (ПО из 138 на 29 грамотах) расписываются и на актах этого монастыря за 1526 — 1550 гг., за 1551 — 1575 гг. (167 подписей 211 послухов на 42 актах) и за 1576 — 1599 гг. (48 подписей 61 послуха на 12 грамотах). Акты Симонова монастыря фиксировали сделки на земли Московского, Переяславского, Дмитровского, Рузского, Бежецкого, Костромского, Галицкого уездов [10]. На 140 частных актах Троице-Сергиева монастыря (вотчины которого располагались в тех же районах, что и владения Симонова монастыря) за 1506 — 1526 гг. расписались 383 послуха из 581 (66 %). Мы снова видим, что процент грамотных весьма высок. Привлечение значительного комплекса актов (учтено более 450 грамот) показывает, что в XVI в. на частных актах расписываются около 60 — 80 % послухов.
К интересным выводам о состоянии грамотности в XV — XVI вв. приводит анализ разного рода актов (духовных, данных, купчих, меновных и пр.), написанных частными лицами без участия профессиональных писцов [6 — 8; 9; 10]. При этом учитывались и текстуально развернутые рукоприкладства на грамотах, написанных профессиональными писцами. Если стандартное рукоприкладство говорит, что «по сей купчей (имя) послух руку приложил», то развернутое рукоприкладство включает текст, который не может быть заучен механически и определенно требует умения излагать свои мысли в письменной форме.
Общее число собственноручно написанных документов в указанных изданиях превышает 100, однако некоторые из них написаны одними и теми же лицами. При исключении дублирующихся остается 83 акта, начиная с конца XIV в. и до середины XVI в. 70 из них написаны представителями феодальной верхушки общества. 5 документов написаны монашествующими, 4 — крестьянами, 2 — представителями княжеской администрации (наместником и подьячим — вкладчиком в монастырь), социальная принадлежность двух лиц неясна — «вятчанин» (очевидно, посадский) и «рассельник». Преобладание в этом списке феодалов обусловлено самой спецификой актового материала, связанного с землевладением.
Хронологически акты располагаются таким образом: на конец XIV — первую половину XV в. приходится 11 документов, на вторую половину XV в. — 34 и на первую половину XVI в. — 38. Они наглядно показывают тенденцию роста грамотности, по крайней мере, среди класса феодалов. Однако небольшой удельный вес собственноручно написанных актов в общем числе частных актов (примерно 5 %) не является показателем распространения грамотности. Об этом убедительно говорит сделка Троицкого монастыря с вотчинником Дубровой Раменьевым. Две купчие на землю написаны монастырскими писцами. Третью же написал «Дуброва сам» [6, 37]. Таким образом, при отсутствии последней купчей грамотность Дубровы не была бы зафиксирована. Понятно также, что не всегда имелась возможность лично написать свое завещание.
Факт отправления представителями посада и волости обязанностей, требовавших грамотности, выше уже отмечался. Но источников для решения вопроса об удельном весе грамотных среди представителей третьего сословия, к сожалению, немного.
В XVI в., несомненно, было уже достаточно распространено и такое явление, как переписка книг в городах с целью их продажи. Этому вопросу посвящена особая глава Стоглава («О книжных писцехъ»): «Такожде которые писцы по городом книги пишут, и вы бы им велели писать с добрых переводов. Да написав правили, потом же бы и продавали» [169, 292]. Большое количество книг в русских городах XVI в. [230,1 — 18] — показатель того, что в них был довольно многочисленный читатель и что, следовательно, среди русских горожан процент грамотных был не столь уж мал. Широкое участие их в торговле делало грамотность желательной.
Сказать что-либо определенное относительно удельного веса грамотных среди крестьян затруднительно. А. И. Соболевский считает, что грамотно было около 15 % крестьян, но этот вывод не опирается на достаточно представительный комплекс источников. Не поддается конкретному решению и вопрос об удельном весе грамотных среди мужчин и женщин в средневековой Руси. Учитывая зависимое положение женщин в средневековом обществе, можно в общей форме высказать предположение о более низком проценте грамотных среди них.
3. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
Крупными образовательными центрами, как отмечалось выше, являлись монастыри. В рассматриваемый период «последовательная интеллектуально-духовная деятельность в светских условиях была почти что невозможна и потому все философы средневековья — клирики» [229, 56]. В монастырях учились не только лица, готовившиеся к духовному званию, но и просто желавшие знать грамоту и читать книги. Выдающимися учительными и книгописными центрами XIV в. стали московские и подмосковные монастыри. Наибольшее количество книг вышло из мастерских Чудовского монастыря в Кремле и Спасо-Андрониковского монастыря [207, 243 — 244]. Оба монастыря были митрополичьими, основанными русским митрополитом Алексием (1348 — 1378), и обладали некоторыми особенностями, в частности в них по преимуществу селились образованные иноки. Чудов монастырь с самого основания приобрел значение «ученого или учительного, где... собирались знающие и испытанные старцы» [69, 299]. Сюда митрополит Алексий передал книги, послужившие началом монастырской библиотеки.
В середине XIV в. основан Троице-Сергиев монастырь. Иосиф Волоцкий писал, что при Сергии Радонежском «самый книги не на харатиях писаху, но на берестах», что подтверждается Описью монастырской библиотеки 1642 г., в которой говорится о том, что в ризнице монастыря хранятся «свертки на деревце чюдотворца Сергия» [34, 83]. Сергий поощрял книгописание в своем монастыре и отличал иноков, которые усердно предавались этому занятию. При игумене Никоне Радонежском (ок. 1395 — 1427) переписная деятельность «приобрела черты последовательного занятия большой группы иноков, которые, вероятно, были обязаны нести монашеское послушание исключительно по части книгописания...» [33, 131].
Книжные традиции Троицкой лавры поддерживались и развивались в монастырях, основанных выходцами из Троицы. Одним из центров просвещения стал основанный в 1397 г. Кирилло-Белозерский монастырь. Его основатель Кирилл первые книги принес из Москвы, из Симонова монастыря. Житие Кирилла дает основание считать его опытным писцом. Он поощрял келейное чтение, что, конечно, воздействовало на культурную атмосферу монастыря.
В середине XIV в. в число культурных центров входит Нижний Новгород. В 70-х гг. XIV в. на страницах русских летописей появляются имена нижегородских книжников. Главным центром местного просвещения был пригородный Успенский Печерский монастырь. Печерский архимандрит Дионисий «благословил» монаха Лаврентия на создание знаменитой Лаврентьевской летописи. Дионисия летопись характеризует как «мужа... премудра, разумна, промышле-на же и разсудна, изящена в божественных писаниях, учителна и книгам сказателя...» [157, 113]. В 1383 г. в том же Печерском монастыре умер старец Павел Высокий, «книжен бысть велми и философ велии» [156, 83]. С 1381 г. в Печерском монастыре жил приехавший на Русь грек Малахия Философ. Книгописные и учительные традиции имели и монастыри других земель — тверской, новгородской, псковской, смоленской, рязанской и пр.
По принятым на Руси византийским правилам монахи должны были уделять часть времени, свободного от церковной службы, чтению и переписке книг. В этом смысле показателен приводимый в Житии Ферапонта Белозерского «чин всякаго рукоделия», регламентировавший круг занятий монастырской братии. Среди них в ряду обычных хозяйственных дел, таких, как постройка келий, плетение сетей, выпечка хлеба, колка дров и пр., перечисляется и переписка книг и обучение книгам. Требование книжного чтения содержится практически во всех дошедших до нас монастырских уставах.
Об уровне грамотности в монастырях косвенно свидетельствует устав Кор-нилия Комельского. Он, во-первых, запрещает инокам вскрывать получаемые ими письма прежде, чем они будут показаны настоятелю, и, во-вторых, не разрешает делать какие-либо приписки в книгах без благословения настоятеля, или уставщика, или книгохранителя, поскольку от этого бывает «мятеж и смущение».
Книжный репертуар определялся главным образом потребностями богослужения. Псалтыри, служебники, минеи, часословы и другие книги были фундаментом церковных библиотек. Книжные собрания сельских церквей ограничивались этим первым уровнем. Но в крупных соборах и монастырях были сочинения святых отцов, учительные сборники различного содержания и другая «четья», т. е. предназначенная для уставного чтения литература. Проведенное исследование светской литературы в составе монастырских библиотек показало наличие сравнительно значительного количества разнообразных по содержанию светских книг, а главное, наличие интереса к такой литературе в монастырях [60].
Приведенные краткие сведения о монастырской книжности делают понятнее отрывочную информацию источников о том, как происходило обучение грамоте в монастырях. В уставе скитского монастыря говорится, что те из монахов, которые не умеют читать и петь, должны научиться этому «сколько могут». Обучение происходило в том же ските, и учителями выступали грамотные скитники. Таково было положение в обителях, где численность монашествующих была невелика. В крупных монастырях существовали своего рода училища.
Источники отмечают, что во многих обителях был обычай брать на обучение детей. Возникавшие при этом «злоупотребления» вызвали к жизни следующий пункт устава Евфросина (вторая половина XV в.): «Не принимайте в обитель детей и вообще голоусых под предлогом учить их книгам или иметь своими прислужниками, но трудитесь сами» [114, 62].
О существовании обучения в том или ином монастыре можно судить по уровню образованности вышедших из него церковных деятелей. Из стен обители, созданной Пафнутием Боровским в XV в., вышли известный богослов Иосиф Волоцкий (Санин), первоначально отданный «на учение грамоте» старцу в монастырь [122, 32], его брат архиепископ ростовский Вассиан, церковный писатель Иннокентий, знаменитый митрополит Макарий и другие иерархи, отличавшиеся своею образованностью. Из Елизаровского монастыря вышел популярный в Пскове «учительный подвижник» Савва Крыпецкий, основатели новых монастырей Досифей и Иларион [145, 74 — 76]. В Комельском монастыре получили церковное образование основатели и игумены северных монастырей Лаврентий, Кассиан, Геннадий Любимский, Кирилл Новоезерский, Симон Сойгинский, Адриан Пошехонский и другие.
Сохранились свидетельства о педагогической деятельности монастырских книгописцев. Игумен Перынского монастыря в Новгороде в выходной записи Минеи 1438 г., написанной им лично, оправдывается в погрешностях, которые он допустил, «с другом глаголя или дети уча» [168, 46]. У такого книгописца, мирского человека, учился Мартиниан Белозерский (род. ок. 1398 г.). Тринадцати лет он был отдан Кириллом Белозерским в обучение: «Прилунился близ обители святаго человек некий живяше, имя ему Олеш Павлов, дьяк мирский, дело его бяше книги писати и ученики учити грамотный хитрости, и зело искусен бе таковому художеству». Олеш Павлов и стал учителем Мартиниана, и, надо полагать, не одного его. Монастырские акты свидетельствуют о работе в монастырях значительного количества мирских профессиональных писцов.
Как проходило специальное обучение этих писцов, видно по рукописной книге «Мерило праведное» из Троице-Сергиева монастыря. Она написана не менее чем восемью писцами, двое из которых были старшими, а шестеро — учениками. Последним в рукописи время от времени поручалось писать «уроки», т. е. части текста размером от нескольких строк до нескольких десятков листов [119, 118 — 127].
Обучение грамоте велось и в городских церквах и соборах, в которых осуществлялась переписка книг, и в артелях мирских книгописцев.
Училища существовали в приходах при церквах, а также в домах священников и других церковных служителей. Видимо, тот же приход, который содержал храм, устраивал при нем и школу. Отводилось специальное помещение в доме священника или одного из причетников, в котором происходили занятия. Учителем такой школы, содержавшейся на средства прихода, был кто-нибудь из причта.
Обучение также велось мастерами грамоты, которые либо учили у себя на дому, либо ходили по дворам, нанимаясь в домашние учителя. Появление термина «мастер грамоты» отражает выделение специальной группы профессиональных учителей в рассматриваемый период. Источники, к сожалению, не позволяют строго дифференцировать приходские школы от школ мастеров грамоты. Приблизительны и наши сведения о социальном составе преподавателей. Видимо, духовенство в нем преобладало. В целом состав учителей в известной степени отражал состав профессиональных писцов: книгописцев, мирских дьяков и подьячих, церковных дьячков, иконописцев. Значительная часть профессиональных писцов получили свою профессию по наследству. Среди имен писцов весьма обычны такие, как «Семен попов сын Окулов», «Иев попов сын Иванов», «сын митрополича диака» и т. щ. Дьячество, как показывает исследование С. Б. Веселовского, в значительной части было потомственной профессией.
Образец профессиональной преемственности, указывающий на обучение в семье, содержит приписка на Паремейнике 1271 г., где отец просит об исправлении ошибок сына, еще не очень опытного писца: «А чтете исправливаюче, не кльнуще бога деля, чи кде детина помял» («А читайте, исправляя, не кляня меня, ради бога, если где-то ребенок ошибся»). Эта приписка стоит под пометой «Отце псал (писал) досюду» [167, 144].
В городских, приходских и «мастеровых» училищах учились, согласно сведениям агиографии, многие видные церковные деятели XIV — XVI вв.: Варлаам Пинежский в Новгороде, Дмитрий Прилуцкий в Переяславле-Залесском, Пахо-мий Нерехтский во Владимире, Евфимий Суздальский в Нижнем Новгороде, Корнилий Комельский в Ростове, епископ Арсений в Твери, Макарий Каля-зинский в Кашине. Мастера и «мастерицы» обучали и царских детей [67, 156].
В сельской местности обучение производилось дьяками — мастерами грамоты, нередко совмещавшими работу мирского писаря или руководство церковным хором с педагогической деятельностью. Многие дьяки занимались переписыванием книг. Рукописное Евангелие Симеона Гордого (1343 г.) из села Подчеркова, близ Дмитрова, рукопись 1410 г. из вологодского села Петровского, Евангелие из вяземского села Нового (1527 г.) и другие рукописи показывают развитие книгописания в сельской местности [196, 4].
Из житийной литературы мы узнаем, что в школах-«дьяковках» обучались Серапион Новгородский — в подмосковной деревне, Иона Новгородский — в деревне близ Новгорода, Александр Свирский и Зосима Соловецкий — в селах Обонежья, Антоний Сийский — в селе около Белого моря, Александр Ошевен-ский — в деревне у Белого моря. Житие Ионы свидетельствует о многолюдности сельской школы того времени: «Бысть же в училище том множество детей учащихся».
Обучение грамоте ребенка начиналось примерно с 7 лет; дети князей, бояр, посадских и крестьян проходили одинаковый курс начального обучения. Бесспорно, большинство учащихся заканчивали свои «университеты» скромным курсом. Их повседневная жизнь не требовала большего. Дальнейшее образование зависело прежде всего от желания, любознательности и заинтересованности каждого человека в отдельности. Тот, кто хотел учиться дальше, должен был самостоятельным трудом, путем изучения книг расширить свои знания. Такой человек мог рассчитывать на поддержку «книжников» в монастырях и городах.
«Высокое гуманистическое образование составляло редкость на Руси» [ 108, 25]. Но оно все же было. Сведения, почерпнутые из различных источников, позволяют утверждать, что в рассматриваемый период были на Руси высокообразованные и эрудированные люди, составлявшие своеобразный «Олимп» тогдашнего русского богословия. О них говорится в ярлыке хана Узбека митрополиту Петру (1313), где хан обращается в числе прочих «к книжникам, уста-водержальникам и учительским людским повестникам» [102, 52]. Таким «книжником» был Дионисий Суздальский, поразивший в Константинополе патриарший двор своей ученостью. В Москве в XV в. был знаменит Никита Попович, которого митрополит Филипп призвал себе в помощь, готовя богословский диспут с сопровождавшим Софью Палеолог папским легатом Антонио Бонум-бре. Как показывает известный спор Ивана III с митрополитом Геронтием, «книжники» вместе с виднейшими иерархами играли роль как бы «апелляционной инстанции» при решении важных вопросов [49, т. II, ч. I, 554].
Прекрасным примером получения «книжного» образования высокого уровня служит судьба Стефана Пермского (см. разд. II, гл. IV. 1).
Значительной образованностью отличались новгородские и московские еретики. Конец XV — первая половина XVI в. ознаменовались появлением гуманистической тенденции в русской публицистике. Об этом говорят имена монаха Гурия Тушина, вольнодумца Ф. Курицына и других. Как на одном из примеров следует остановиться на колоритнейшей фигуре окольничего Федора Карпова (ум. до 1545 г.), представителя нового .«поколения русских гуманистов» [75, 344], идейно связанного с гуманистическим кружком, существовавшим при дворе Ивана III, в который входили философ и литератор Федор Курицын, книжники Иван Черный, Истома и Сверчок, купцы Кленов, Зубов и другие.
Федор Карпов продолжительное время играл ведущую роль в руководстве внешней политикой государства. Он знал восточные языки, был знаком с латынью и греческим, читал Аристотеля, Гомера, Овидия, состоял в переписке с образованнейшими людьми того времени: Максимом Греком, знаменитым старцем Филофеем, выдвинувшим идею о Москве — «третьем Риме». Круг интересов Карпова энциклопедичен: от литературы и политики до проблем астрологии и естествознания. Он был противником теократического самодержавия, проповедовавшегося воинствующими клерикалами, выступал за законность как важнейшее средство обеспечения государственного благосостояния. Монарх должен править законом, а не произволом: «Всяк град и всяко царьство управлятися имать от начальник в правде и изъвестными законы праведными, а не трепетанием» (о Ф. Карпове см.: [73; 188]).
Характерна для этого времени и фигура Дмитрия Герасимова. Он получил образование в Ливонии, великолепно знал латынь, перевел на русский язык учебник латинского языка «Донат». Ему принадлежат переводы трактата де Лиры, а также «Послания Самуила». Исследователи связывают с ним известный перевод письма Максимилиана Трансильвана о кругосветном путешествии Магеллана, вышедшего в Риме в 1523 — 1524 гг. (в 1525 г. Д. Герасимов с дипломатической миссией был в Риме). Он помогал также Максиму Греку в его переводческой деятельности.
4 ПРОБЛЕМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧИЛИЩ В XVI В.
В конце XV в. в церковных кругах зарождается мысль о необходимости создать подконтрольные государству и церковным властям училища грамоты. Она нашла отражение в послании новгородского архиепископа Геннадия (Гонзова), обратившегося в 90-е гг. XV в. к московскому митрополиту Симону с просьбой уговорить князя Ивана III создать специальные училища для подготовки грамотных священнослужителей. Это послание дает нам более полную картину состояния обучения в тот период. Приводим его текст:
«Господину отцу моему Симону, митрополиту всея Руси, сын твой архиепископ Великого Новагорода и Пскова, владыка Генадей челом биет...
Да бил есми челом государю великому князю, чтобы велел училища учини-ти; а ведь яз своему государю воспоминаю на его же честь да и на спасение, а нам бы простор был: занеже ведь толко приведут кого грамоте горазда, и мы ему велим одны октении учити, да поставив его да отпущаю боржае (быстро), и научив как ему божественная служба совершати; ино им иа меня ропту нет. А се приведут ко мне мужика, и яз велю ему апостол дати чести и он не умеет ни ступити, и яз ему велю псалтырю дати и он и по тому одва бредет, и яз его отор-ку (отвергну), и они извет творят: «земля, господине, такова, не можем добыти кто бы горазд грамоте»; ино де ведь-то всю землю излаял, что нет человека в земле, кого бы избрати на поповство. Да мне бьют челом: «пожалуй деи (дескать), господине, вели учити»; и яз прикажу учити их октении, и он и к слову не может пристати, ты говоришь ему то, а он иное говорит; и яз велю им учити азбуку, и они поучився мало азбуки да просятся прочь, а и не хотят ее учити. А иным ведь силы книжные немощно достати, толко же азбуку границу и с подтителными словы выучит, и он силу познает в книгах велику; а они не хотят учитись азбуке, да хотя и учатся, а не от усердия, и он живет долго; да тем-то на меня брань бывает от их нерадения, а моей силы нет, что ми их не учив ста-вити. А яз того для бью челом государю, чтобы велел училища учинити, да его разумом и грозою, а твоим благословеньем, то дело исправится; а ты бы, господин отец наш, государем нашим, а своим детем великим князем, печаловался, чтобы велели училища учинити... А се мужики невежи учат робят да речь ему испортит, да первое изучит ему вечерню, ино то мастеру принести каша да гривна денег, а завтреня также, а и свыше того, а часы то особно, да те поминки опроче могорца, что рядил от него; а от мастера отъидет, и он ничего не умеет, толко-то бредет по книге, а церковного постатия ничего не знает. Толко же государь укажет псалтырю с следованием изучити да и все, что выше писано, да что от того укажет имати, ино учащимся легко, а сяк не смеют огурятися (противиться). А чтобы и попов ставленых велел учити, занеже то нерадение в землю вошло, и толко послышат то учащийся, и они с усердием приимут учение» [218, 23 — 24].
Большинство дореволюционных исследователей считали это послание совершенно недвусмысленным доказательством низкого уровня просвещения в тот период. Приведем два наиболее характерных мнения. Так, П. Н. Милюков писал: «Всем известны классические жалобы новгородского архиепископа XV в. Геннадия, и никакой комментарий не может изменить грустного смысла его по-
казаний... То же самое подтверждает через полвека и Стоглавый собор» [121, 16]. П. Ф. Каптерев отмечал: «Несмотря на яркость набросанной (Геннадием. — Авт.) картины и полную ее недвусмысленность относительно крайне печального положения образования духовенства и вместе просвещения вообще, т. е. отсутствия или крайне малого числа сколько-нибудь сносных школ, находятся такие неунывающие исследователи, которые и свидетельство Геннадия пытаются повернуть в пользу существования на Руси в то время школ и просвещения» [89, 32].
Полемический пафос приведенных мнений будет снят, если учесть, что Геннадий в своем послании имел в виду специальную подготовку будущих священников. Ее специфику нельзя отрицать. Уместно привести постановление Владимирского собора 1274 г. [176, 91 — 92], который выдвинул в числе прочих требований к вновь поставляемому священнику не только грамотность. Собор подтвердил необходимость «научения» вести службу у одного из опытных клириков. Хорошее знание грамоты отнюдь не означало, что кандидат в священнослужители был сразу готов исполнять свои обязанности. Именно это и не учитывали дореволюционные исследователи, неправомерно перенося низкий уровень именно профессиональной подготовленности священников на общий уровень рбразованности всего населения, в том числе на такие в целом достаточно образованные слои, как дьячество и купечество. Нетрудно убедиться, что Геннадий говорит о двух категориях кандидатов в священники. Первая — это те, кто «грамоте горазд» и чья общая подготовка сводит до минимума заботы самого Геннадия и его помощников по их рукоположению. Слова «за-неже ведь толко приведут кого грамоте горазда» не дают никаких оснований для утверждения о том, что это случалось редко или реже, чем когда «приведут ко мне мужика...». Контекст послания дает основания считать, что хорошая подготовка была таким же обычным явлением, как и плохая. Неподготовленность к священнической службе вовсе не говорит о неграмотности того или иного кандидата. Более того, Геннадий сам возмущается теми, кто ложно утверждает («извет творит»), что во всей земле нет «грамоте гораздых»: «...ино де ведь-то всю землю излаял, что нет человека в земле, кого бы избрати на по-повство». Данные советской науки (от берестяных грамот до сведений о книжности еретиков) убедительно показали достаточно высокий уровень грамотности и книжных знаний в Новгороде, где служил Геннадий.
Послание Геннадия представляется непосредственно связанным с его непримиримой борьбой против новгородского еретического вольномыслия. Геннадий в скрытой форме выступал против демократических традиций Новгорода избирать попов в свою церковь всей улицей. Именно «уличане» приводили к Геннадию «мужика» (т. е. простолюдина), учившегося у мирского мастера грамоты и не знавшего «церковного постатия». Такая школа мастера грамоты, по мнению Геннадия, ничему не учит, а только «речь испортит». Ввиду распространения в Новгороде городских волнений и еретичества новгородский владыка предпочитал не иметь священников, близких к народу, среди которых легко распространялись ереси: «Основную массу еретиков... составляли представители белого духовенства — священники, дьяконы, крылошане» [78, 85]. В борьбе против еретичества наряду с политикой репрессий Геннадий, бывший архимандрит Чудовского монастыря, славного своими книжными традициями, проводил и «просветительную» политику. К ней наряду с подготовкой перевода Библии, организацией литературно-публицистического кружка, распространением церковно-полемической и другой литературы относилась и идея создания государственных церковных училищ. Именно в них Геннадий видел возможность упрочения роли официальной церкви в ее противоборстве с вольномыслием.
Послание Геннадия косвенно свидетельствует не только о необразованности населения, но и о существовании богословски образованных вольнодумцев, для споров с которыми у церкви не хватало достаточно знающих священнослужителей. «Даже отрывочные сведения о книгах, читавшихся еретиками, говорят не только о реформационных устремлениях вольнодумцев, но и о поисках ими реальных философских и естественнонаучных знаний, о гуманистической направленности их интересов» [78, 92].
Таким образом, действительному распространению просвещения более способствовало общественно-демократическое еретическое движение, заставившее и государство (в лице его церковных представителей) задуматься о вопросах образования. И излишняя книжная ученость, и элементарная неграмотность в случае отхода от официальных догм трактовались церковью как «невежество». В XVII в. появление раскольнического движения также будет объявляться церковниками «невежеством», возникшим в результате отсутствия на Руси школ. Радение Геннадия о создании школ связано не с желанием распространить просвещение, а с желанием внедрить через официальный институт официальную церковную идеологию. Как известно, в борьбе с еретичеством Геннадий вдохновлялся рассказами об испанской инквизиции [185, 33 — 37], возможно, что и мысль о школах как о действенном средстве воспитания борцов за чистоту веры была навеяна ему иезуитской школьной практикой.
Для истории педагогики представляют интерес разногласия ортодоксов и еретиков по вопросу о грамоте и грамотности (позиция первых отразилась в «Беседе о учении грамоте», позиция вторых — в «Написании о грамоте») [91, 352 — 379]. Официальная церковь стремилась организовать обучение таким образом, чтобы ученик твердо усвоил постулаты православной веры. Автор «Беседы о учении грамоте» считал, что через изучение грамоты «да не знающие бога сим бога познают и заповеди его творят и немудрии от сего да умудрятся на законы господня...». Грамота определяется как «наставник крепок всякия божественные заповеди господня». Она является тем средством, с помощью которого до человека доводится божья воля: «А еж что предано уму человеческому и что повеленно глаголати и творити и проповедати божественными книгами, по заповедей господним и по правилам святых апостол и святых отец, то все грамотою известуется в лепоту и глаголется невозбранно». Иными словами, грамота должна служить богословию. В противном случае она бесполезна и даже вредна: «Грамота имеет в себе два уклонения, понеж мудрым дается на спасение душевное и на всякий благопотребный богоугодный успех, безумным же и слабоумным, и неистовым на горшую погибел и на конечное искоренение, и на вечное мучение. Зане мудр без грамоты, но премудрее того, тако-вый умеяй грамоте, а еж безумен без грамоты, скуден ума, таковый и умея грамоте».
Иначе понимали цели обучения грамоте русские еретики. По их мнению, «тоя ради вины грамота состроена, да искуснее будут человеци и не удаляются от бога». Еретики также не отрицали, что грамота должна воспитывать христианские добродетели («не удаляются от бога»). Но характерно, что эта цель у них не единственная. Другой важнейшей задачей обучения (о которой совершенно умалчивают церковные ортодоксы) они считают расширение возможностей человека — «да искуснее будут человеци». Вышедшее из еретической среды «Написание о грамоте» подробнее раскрывает и ее значение как средства самовыражения разума и связующего звена между прошлым, настоящим и будущим: «Грамота есть бывшим и минувшим и забвению воспоминание и паме-тование, настоящим же бывающим и пребывающим предложения и разум и исправление, грядущим и будущим и последним предзрение, извещение и наказание и всему всячески память превечная» [91, 352 — 357, 375 — 379].
В целом представления русских еретиков, хотя и не вырвались из богословских пут, сделали ряд важных шагов в направлении рационалистического понимания происхождения и целей образования. Усиление влияния еретических идей на различные слои русского общества заставило ортодоксов подумать о подготовке высокообразованных священников. Эту проблему поднимали новгородский архиепископ Геннадий и составители Стоглава. В Стоглаве речь идет об организации в городах начальных школ, в которых преподавали бы священнослужители. Но разосланные после завершения Стоглавого собора наказные списки Стоглава (мы знаем,два таких наказных списка — во Владимир (10 ноября 1551 г.) и в Каргополь (2 февраля 1558 г.) расширяют эту программу, призывая организовать такие школы не только в городах («на посаде»), но и по «волостем и по погостам» [21]. О желательности организации как можно более значительного числа училищ, в которых преподавание велось бы служителями культа, говорилось и на соборе 1589 Г. [191; 51, 151]. Однако постановление Стоглавого собора, не подкрепленное каким-либо контролем за его выполнением, по сути осталось лишь на бумаге.
Итак, конец XV — XVI вв., по-видимому, есть тот период, когда ортодоксальная церковь делает попытки усилить контроль над образованием. Указанные обстоятельства вызывали стремление высшего духовенства создать более регулярную и контролируемую церковью систему обучения, что нашло отражение в послании архиепископа Геннадия и в постановлениях Стоглавого собора. Однако не только «образовательные» мотивы лежали в основе этого стремления церкви. Оно было одним из выражений обшей тенденции к монополизации и всеобъемлющей регламентации духовной жизни общества, что в первую очередь отражало процесс усиления русского самодержавия и укрепления его союза с церковью, которая становилась все более идеологически воинствующей. Этот процесс отразился на целом ряде крупных, «обобщающих» идеологических акций середины XVI в.: в своде постановлений Стоглавого собора, в создании «Великих миней четьих» (монументального собрания житий, слов и поучений, предписываемых для каждодневного назидательного чтения, которое призвано было упорядочить это чтение и ввести его в единое русло), «Лицевого летописного свода» (объединившего политически и переосмыслившего идеологически большое количество летописных источников, повестей и сказаний), «Домостроя» — своеобразной энциклопедии быта, морали и воспитания, предписывавшей определенную систему юридических, нравственных и педагогических норм. Все эти и другие официально санкционированные «обобщающие предприятия» имели «охранительный» характер, преследовали цель ограничить и целенаправить умственную и духовную деятельность общества.
В этом же русле централизаторских мероприятий было санкционировано и начало книгопечатания в России, ставшее непосредственным государственным делом. Однако культурные последствия введения книгопечатания (как, впрочем, других названных выше мероприятий) вышли далеко за предположенные пределы. Книгопечатание стало важным культурным фактором, фактором распространения грамотности, образования. В нем большее место занимала литература, относившаяся к разряду учебной, что свидетельствовало о возрастающей потребности в образовании.
Однако развитие образования и культуры, как и социально-экономическое развитие страны в целом, было существенно приостановлено и поставлено в тяжелейшие условия реакционной политикой самодержавия, стремившегося в лице Ивана Грозного укрепить само себя, бессмысленно н жестоко попирая
социально-экономические, политические и культурные интересы страны. Опричный террор, разруха, военные поражения поставили страну на грань катастрофы и привели к резкому усилению феодального гнета. Ответной реакцией на это были массовые народные движения, крестьянские войны и городские восстания, вспыхивавшие неоднократно в конце XVI и на протяжении всего XVII века.
Глава 111 ПРОСВЕЩЕНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В РОССИИ В XVII В.
I. ГРАМОТНОСТЬ И ОБРАЗОВАННОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ СОСЛОВИЙ
Объективной предпосылкой роста грамотности среди населения и распространения светских знаний явилось социально-экономическое развитие страны, с середины XVI в. вступившей в фазу позднего феодализма, а также укрепление и усложнение ее государственного аппарата. Род деятельности каждого феодального сословия — занятость в производительной, управленческой, торговой, военной, идеологический сфере — требовал соответствующего уровня грамотности и культурного развития, без которого невозможно было освоение специального комплекса знаний.
Процесс централизации Русского государства в первую очередь оказал влияние на перестройку и усложнение органов государственного управления. Сфера производства, достаточно стабильная при феодализме, претерпевала малозаметные изменения. При отсутствии в стране, в XVI в. еще полностью не преодолевшей пережитков феодальной раздробленности, развитого центрального управленческого аппарата Боярская Дума соединяла в своей деятельности функции совещательные (при монархе), законодательные и управленческие. С увеличением в XVII в. количества приказов, занимавшихся текущим государственным управлением, в Думу из них передавались наиболее важные или запутанные дела, по которым члены Думы давали окончательное заключение.
К концу XVII в. с возрастанием абсолютной власти монарха, опиравшейся не на сословные органы представительства, а на развитой бюрократический аппарат и армию, Боярская Дума не утратила своего значения. Постепенно она превращалась из соправительствующего с царем представительного органа феодальной аристократии в высший приказно-бюрократический орган государства, в высшую распорядительную и судебную инстанцию [141, ч. I, 311].
Процесс бюрократизации деятельности аристократии и высших кругов дворянства, в конечном итоге существенно повлиявший на уровень их образованности, приводил к психологической ломке традиционных представлений знати об отношении к светским знаниям. В раннефеодальный период основной функцией боярства в государстве была военная служба, охрана и защита владений своего князя. Бюрократическая же деятельность считалась делом людей незнатных — дворцовых слуг, в дальнейшем — дьяков. Как государь, так и бояре считали унизительным для себя заниматься писанием бумаг. В случае нужды речь бояр и государя записывали дьяки. Но нежелание и часто неумение писать отнюдь не означали неумения читать. Не только большая начитанность, но и склонность к литературной деятельности проявилась у таких бояр, как Федор Карпов, Андрей Курбский, Иван Хворостинин.
В XVII в., хотя бояре и окольничие стали заниматься приказной службой.
она по-прежнему не считалась престижной. Но уже и сам царь Алексей Михайлович фактически втянулся в приказную деятельность, встав во главе созданного им Тайного приказа. Не считал он зазорным и писать собственной рукой, но в редких случаях, обозначая таким образом особую милость к адресату.
В целом рост грамотности высших слоев дворянства во второй половине XVII в. прослеживается по документам. По наблюдениям Н. В. Устюгова, «в первой половине XVII в. встречаются неграмотные воеводы. Дворяне, посылаемые для выполнения правительственных поручений, были либо неграмотными, либо малограмотными и поэтому ездили с подьячими. В 30-х годах XVII в. Соликамский воевода Д. Е. Остафьев не умел даже расписываться. Во второй половине XVII в. неграмотных или малограмотных воевод не встречается» [212, 77].
Московское государство, оправившись после Смутного времени, наладило дипломатические контакты с зарубежными странами и активно включилось в сферу европейской политики. Необходимость в знании западной культуры, науки и техники стала очевидной. Ему нужно было военное и техническое оснащение, чтобы успешно противостоять военным силам Запада. Умелая экономическая политика должна была защитить экономическую независимость страны. Государство остро нуждалось в грамотных и образованных людях, квалифицированных мастерах, но не менее нуждалось оно и в умных, образованных руководителях, проводниках государственной политики. Расширяющаяся государственная деятельность думных людей, осуществлявших внутреннюю и внешнюю политику страны в XVII в., потребовала от них широкого кругозора и многих специальных знаний.
Существует мнение о боярах как о людях косных, невежественных, приверженных православной старине. Еще в XVII в. подьячий Посольского приказа Г. К- Котошихин писал, что «иные бояре» сидят в Думе перед царем и, «брады свои уставя, ничего не отвещают» и «многие из них грамоте не ученые и не студерованные». Но было бы неверно относить высказывание Котошихина ко всем думным людям. Сам же Котошихин писал, что в Думе «сыщется и окроме их кому быти на ответы разумному из больших и из меньших бояр» [99, 24].
О грамотности думных людей можно судить по подписям под Соборным уложением 1649 г. Только двое (из 29 бояр) не поставили подпись собственноручно.
Красноречиво говорит об уровне просвещенности верхних слоев общества приобретение книг. Исследование С. П. Луппова показало, что 66,7 % покупателей книги «Учение и хитрость ратного строения пехотных людей» (1650 — 1651) составляли знать и дворянство, Соборного уложения — 60%, миней месячных — 25,9%. Покупались в значительном количестве и другие книги. Записи приходных книг Печатного двора, отмечает С. П. Луппов, определяют круг лиц, «проявлявших особый интерес к книгам». Среди них — основатель Андреевской школы окольничий Ф. М. Ртищев, бояре Г. Г. Пушкин, Н. И. Романов, Б. И. Морозов [112, 52].
Многие бояре имели неплохие библиотеки. Так, у Н. И. Одоевского были книги «Учение и хитрость ратного строения...» [112, 126], «Прения с греками о вере» Арсения Суханова [23, 243], книги на латинском языке, лечебники, историко-родословные сочинения. Пять книг из своей библиотеки он преподнес царю Федору Алексеевичу. Среди дворовых людей Одоевского имелись профессиональные переписчики книг [111, 39; 112]. Сам он имел «основательные познания в славянском языке и некоторые сведения из истории польской» [215, 297]. Большой и разнообразной по содержанию библиотекой владели бояре Ромодановские [219]. Заметен интерес к светской литературе, особенно историческим сочинениям. В сборнике из библиотеки боярина Н. И. Романова отразился
читательский вкус владельца: рукопись включала извлечения из Степенной и Родословной книг, летописные сказания и летописцы разных времен, «Послание Ивана Грозного к Курбскому», различные жития. Повелением боярина П. М. Салтыкова было составлено «Астраханское сказание» — сочинение о восстании Степана Разина [31, 271]. Появляются в библиотеках и переводы иностранных авторов.
О том, что книги в кругах московской знати становятся насущной потребностью, показывает и личная переписка того времени. Так, в своем письме окольничий И. И. Чаадаев (70-е гг. XVII в.) просил сестру дать денег «на мою покупку на книги... а чаю, надобе рублев 12 или 15» [228, 450]. Не мог обойтись без книг и находившийся в 1642 г. за границей будущий знаменитый дипломат, «канцлер» и «великия государевы печати сберегатель» боярин А. Л. Ордин-Нащокин. Он писал в Москву своему покровителю боярину Ф. И. Шереметеву: «Пришли ко мне, в ряду вели купить книгу московские печати словеть (называется) «Свиток многосложный». Да у князя Михаила Петровича Пронсково возьми книжицу, што списана во Пскове у Онтонья попа «О иконном поклонении»... Бога ради, государь, те книжицы пришли — не на час я приехал, впредь тем и утешатца» [42, 23].
Чтением книг серьезных, а не только развлекательных гордились. Это видно из слов стольника И. Бегичева в послании к боярину С. Л. Стрешневу, с которым он спорил по ряду богословских вопросов. Бегичев высокомерно осудил круг чтения Стрешнева и его друзей, увлекавшихся «легкой» литературой, в частности повестью о Бове-королевиче и сатирой «О куре и лисице»: «И все вы, кроме баснословные повести, глаголемые еже о Бове королевиче, и мнящихся вами душеполезна быти, иже изложено есть от младенец, иже о куре и о лисице и о прочих иных таковых же баснословных повестей и смехотворных писем — божественных книг и богословных дохмат не читали» [239, 4].
Начальное образование получали дома, у какого-нибудь грамотея, чаще всего из духовенства. Заботясь об учении сына, А. Л. Ордин-Нащокин писал из-за границы: «...прикажите в домишко мое, штоб мальчика моево дали грамоте учить попу Григорью Опимахову и жил бы он у нево в дому» [42, 43]. Московского дворянина Бориса Плещеева «и трех сестер его девок учил грамоте и писать» их «старинной человек» (т. е. холоп) [67, 267]. Есть и другие указания на то, что женщины в кругах высшего дворянства обучались грамоте. Так, стольник князь П. И. Хованский получал обычно письма от жены, написанные ею собственноручно, что следует из его тревожного вопроса в письме к сыну: «Да отпиши ко мне, для чего (в полученном письме. — Авт.) не материна рука?» [228, 316]. А жена думного дворянина И. С. Ларионова обращалась к мужу с просьбой: «Да пиши, друг мой, и Катюшке (дочери. — Авт.) грамотки уставом, хотя небольшие» [66, 277]. Мать специально просила писать уставом, т. е. крупными, четкими буквами, а не скорописью, как обычно писались письма, чтобы ребенку легче было читать.
Детей московской знати отдавали в школу Чудова монастыря, находившуюся под покровительством патриарха, где было «много учеников» [81, 143].
Со второй половины XVII в. намечается стремление дать детям повышенное образование, в первую очередь знание иностранных языков. Но это новшество поддерживали далеко не все. Некоторые «старые бояре по зависти, что молодежь получит такие дары, которые из пренебрежения не хотели брать сами» [117, 112], выступали против повышенного обучения. Многие представители служилого сословия не могли да и не считали нужным учить детей чему-либо сверх умения читать и писать. Мальчики с детских лет начинали служить при дворе стольниками, спальниками, рындами, приучались к будущей службе. Сама атмосфера столичной и дворцовой жизни, где обсуждались внутригосударственные и мировые события, подготавливались заграничные посольства, вводился новый придворный этикет с чтением панегириков, постановкой пьес, вырабатывалось законодательство (Соборное уложение), образовался «ученый» ртищевский кружок, стала требовать различных знаний и широкого кругозора.
Появилась насущная потребность в чтении не только русских, но и иностранных книг. Возникла мода на домашних учителей — иноземцев. Они преподавали языки и направляли учеников в выборе книг. Латинскому языку учил боярина А. С. Матвеева и его сына переводчик Н. Спафарий. Сына А. Л. Ордина-Нащокина обучали пленные поляки. В. В. Голицын, будучи у власти, советовал дворянам «посылать детей в латинские училища в Польшу» и «нанимать для детей польских гувернеров» [71, 267]. Сетуя на распространение влияния «латинства», монах Чудова монастыря Евфимий считал, что этому способствовала знать, «которая в видах образования детей стала держать у себя домашних иностранных учителей и читать латинские книги» [233, 72].
Сторонники обучения «на иностранный манер» находили теперь поддержку в царской семье. Два сына царя Алексея Михайловича обучались языкам и разным наукам у Симеона Полоцкого. Возникло новое отношение к самой царской персоне. Неизвестный автор в 70-х гг. выразил его словами Платона: «Подданные благоденствуют тогда, когда или философ царствует, или царь философствует» [70, XL]. Подобная точка зрения имела и оппозицию, «...ритор ни философ не может быть христианин», — писал протопоп Аввакум в ответ на вопрос Ртищева: «Достоит ли... учитися риторике, диалектике и философии?» [59, 387 — 388].
В среде столичного дворянства уже появилось немало лиц с достаточно высоким образовательным уровнем. Они постепенно подготавливали почву для петровских реформ в области просвещения.
Центральное государственное управление (дипломатическое ведомство, хозяйственные и военные приказы, находившиеся в Москве) и местное управление (приказные избы, а в крупнейших городах — приказные палаты) также не могли существовать без огромного штата лиц, как просто грамотных, так и широко образованных. Система центральных и местных органов управления России сложилась ко второй половине XVI в. В связи с колоссальным территориальным ростом страны после присоединения казанских и астраханских земель, Сибири, а позднее — Украины эта система значительно усложнилась.
Со второй половины XVII в. государство все более приобретало черты абсолютной монархии с характерной для нее бюрократической системой управления. Происходил значительный рост группы населения, единственным занятием которого являлась государственная служба. Эта группа в отличие от других сословий не была сугубо замкнутой, т. е. хотя дьяческая профессия чаще всего была наследственной, ряды подьячих пополнялись и за счет других слоев населения, особенно из духовенства, так как нужда государства в служащих постоянно возрастала. Переход в разряд приказных людей привлекал освобождением от тягла, получением государева жалованья. Но для того, чтобы попасть в этот разряд, была необходима грамотность.
В течение XVII в. рост количества приказов был не очень значителен: в 1626 г. центральных приказов насчитывалось 45, а в 1698 г. — 56. Но сильно возросли их штаты: в 1626 г. в приказах насчитывалось 673 дьяка и подьячих, в 1698 г. — 2750. Рост приказных изб на местах шел быстрее: в 1626 г. было 185 изб, а в 1698 г. — 302. Если в 40-х гг. в приказных избах работали 748 подьячих, то в 90-х — 1873 подьячих [57, 120, 124, 128, 135].
Особую категорию составляли площадные подьячие — люди, кормившиеся тем, что писали различные прошения, челобитные и письма неграмотному населению. Такие подьячие сидели на городской площади или на рынке. В Москве местом работы площадных подьячих стала Ивановская площадь в Кремле: выгодное и почетное место, на которое мог быть назначен далеко не каждый [208, 256]. Социальный состав таких подьячих различен: и посадские люди, и мелкие духовные чины, и разорившиеся дворяне [109, 139 — 143].
Определив, хотя бы приблизительно, количество дьяков и подьячих, можно говорить о количестве людей, грамотность которых не вызывает сомнений. Но квалификация приказных людей, конечно, не была одинаковой. Более опытную группу государственных служащих составляли дьяки, за ними следовали подьячие. Дьяков было гораздо меньше, чем подьячих. В 1675 г. в московских приказах было 103 дьяка и в уездных приказных избах — 35 [56, 215]. От трех до десяти дьяков входили в Боярскую Думу, они назывались думными дьяками. Думные дьяки руководили крупнейшими приказами, были видными государственными деятелями. Они, как правило, владели иностранными языками. Так, «канцлер» Ивана Грозного дьяк Андрей Щелкалов говорил по-польски, думный дьяк Алмаз Иванов свободно мог «объясняться с персиянами и турками без переводчика» [133, 297], посольский дьяк С. Романчуков и думные дьяки Л. Голосов и Ф. Лихачев знали латынь [212, 82].
«Подьячие составляли основной корпус чиновничьего сословия, на них лежала главная тяжесть повседневной государственной работы; это были обладатели всех тайн канцелярского искусства, порой относившиеся иронически даже к такому крючкотворских дел мастеру, как дьяк. Они — главные авторы всех государственных документов, в том числе и по Посольскому приказу. «А лучится писати о чем грамоты во окрестные государства, и те грамоты прикажут готовить посольскому думному дьяку, а думный дьяк прикажет подьячему, а сам не готовит, только чернит и прибавляет, что надобно и не надобно» [13, 328; 99, 23].
Каждый приказ имел свою специфику работы, которая вызывала необходимость формирования особых навыков у служащих. При приказах создавались школы. Приказные люди должны были уметь не просто писать, но писать быстро, владеть скорописью, знать начала математики. Для 3-х подьячих главных московских приказов была специально организована школа Симеона Полоцкого. Наиболее образованные дьяки и подьячие работали в Посольском и Тайном приказах. К ним примыкали и служащие Приказа печатного дела. Не случайно при Печатном дворе находилась Типографская школа. О характере школы при Посольском приказе известно немногое (см. гл. IV.3), но именно там требовались писцы наивысшей квалификации для письма и подготовки международных документов.
В Посольском приказе была прекрасная библиотека, в которую входили книги не только на русском, но и на европейских языках. В ней можно было ознакомиться с произведениями, не одобрявшимися церковью, но при приказе содержавшимися «для внутреннего пользования». Библиотека (в основном книг духовного содержания) имелась и на Печатном дворе.
Посольский приказ был главным светским культурным центром столицы. Сюда поступала европейская пресса, и здесь выпускалась первая русская рукописная газета «Вести-куранты», делались переводы пьес для первого русского театра (1671), актеры которого были в ведении Посольского приказа. Здесь же находилась Золотописная мастерская, занимавшаяся художественным оформлением посольских грамот и книг. В 70-х гг. XVII в. в Посольском приказе стали делать великолепные иллюстрированные рукописные книги светского содержания, многие из которых предназначались для обучения и просвещения царских детей. Особый размах и новый характер литературная переводческая деятельность в приказе получила в 80 — 90-е гг. XVII в., когда начал-
ся массовый перевод литературы по различным отраслям знаний: по математике, астрономии, инженерному искусству и технике, естествознанию, истории и др. [125, 107 — 123]. Эти книги носили в основном элементарно-научный характер и имели для русского читателя значение учебных книг. Успешной просветительской деятельности приказа способствовало то, что его возглавляли люди, понимавшие необходимость преодоления отсталости России и стремившиеся освоить западную культуру (бояре А. Л. Ордин-Нащокин, А. С. Матвеев, В. В. Голицын).
Посольский приказ объединял людей разных специальностей, обладавших первоклассными навыками письма: подьячих, шифровальщиков, знавших различные виды тайнописи, художников, переводчиков и толмачей (людей, занимавшихся только устной формой перевода). Штат состоял из 1 — 4 дьяков, подьячих же — от 15 человек (в начале XVII в.) до 53 (в конце XVII в.). Переводчиков и толмачей в 60-е гг. было соответственно 8 и 70 [98, 86; 24]. Все это люди высокой грамотности.
Служащие не только Посольского, но и других приказов составляли светскую интеллектуальную элиту города. Они отлично владели пером, и в приказной среде сложилась даже особая, «приказная» школа поэтов, которые, впрочем, «не выходили за круг традиционных для православного книжника источников» [147, 51]. Ядром этой школы являлись справщики (редакторы) Печатного двора. Произведение, созданное в Швеции беглым подьячим Посольского приказа Г. К. Котошихиным о России его времени, свидетельствует об остром критическом уме, прекрасной осведомленности в различных областях действительности, умении четко систематизировать материал. Представляется, что уровень знаний и умений Г. К- Котошихина являлся достаточно типичным для московских приказных людей.
Дети московских дьяков, получавшие, как правило, чин стольника — один из высших служилых чинов, имели неплохое домашнее образование и стремились в дальнейшем к расширению своих знаний. А. Олеарий рассказывал о приставе, сопровождавшем его посольство в Персию через Россию, — сыне дьяка Посольского приказа Алексее Романчукове: он был «доброго разума и очень хитрый. Он мог назвать несколько латинских слов и, против обычного нрава русских, имел склонность к свободным искусствам, особенно к некоторым математическим наукам и к латинскому языку» [133, 410]. А. С. Романчуков был одним из ведущих поэтов «приказной» стихотворной школы [147, 35 — 39]. Сын думного дьяка стольник Ф. Г. Богданов в 1676 г. сделал перевод с книги польского философа профессора Краковского университета С. Петрици (1554 — 1626) «Экономики Псевдоаристотеля» [197, 16].
Приказные люди — наиболее грамотный слой городского населения, но и в целом уровень культурного развития горожан сильно возрос к XVII в. Это отразилось на росте грамотности посадского населения. Анализ подписей на мирских (т. е. написанных «миром», общиной) челобитных по московской Мещанской слободе, проведенный Н. В. Устюговым, показал, что в 1677 г. под приговором мирских сходов было 36 % собственноручных подписей жителей посада, в 80-х гг. — от 25 до 40 %, в 90-х гг. — от 36 до 52 % (при этом, правда, следует учесть, что население Мещанской слободы в большинстве состояло из выходцев юго- и западнорусских земель). Подсчет же личных подписей московского посадского люда на записях допросов в судебных делах за 1686 г. показал, что 23,6% из них были грамотны [212, 78].
Школы в посадах обычно существовали при церквах. В Москве священником церкви Введения Богородицы в Барашах в 60-е гг. XVII в. была устроена на собственные средства начальная школа. Но были и светские частные учителя, жившие тут же, на посаде. Так, в описи 1677 г. «обывательским дворам» той же Мещанской слободы значился посадский, который «промышляет» тем, что «в школе учит детей грамоте» [231, 16].
Провинциальные города, даже совсем небольшие, также имели школы грамоты, но о них сохранилось немного сведений, в основном за последнюю четверть XVII в. Так, писцовая книга г. Боровска за 1685 г. сообщает, что на торговой площади и подле богадельни «построена школа для учения детям: строение та школа рождественского попа Ефима» [134, IX]. В Нижнем Новгороде школу грамоты организовал протопоп Иван Неронов, сподвижник протопопа Аввакума [172, 215]. Но в основном посадские дети учились у частных лиц. Кормление посредством учительства было распространено среди бобыльства (категории населения, не имевшей земли и не платившей государственных налогов). Указания на это встречаются в источниках. Например, в книге Кевроль-ского уезда 1673 г. значится «бобыль Якушко Павлов, прозвище Тренка, учит детей» [27, 137]. Среди бобылей «было много ремесленников, встречались и люди образованные, занимавшиеся учительством» [195, 110].
Исследования, ставившие целью выяснение уровня грамотности в XVII в. в определенных уездах и городах страны, показывают, что провинция имела значительный процент грамотных. Таких много было среди жителей г. Шуи, где, очевидно, существовала и школа [28]. В Соликамске в 80 — 90-е гг. среди посадских людей было до 49 % грамотных [212, 78]. В Вологде было немало писцов-профессионалов, ряды которых пополняли «посадские оскудалы люди», знавшие грамоту. Грамотными были и вологжанки: в основном монахини, но также и некоторые из мирянок. Известны три рукописные азбуки (1643, 1667 и 1701), написанные в Вологде и в Устюге Великом [204]. В последнем по документам 53 подьячих были из посадских людей [212, 78]. Намного увеличился в XVII в. и процент книгописцев из посадских людей (ранее этим занимались лица духовные) [97, 15].
Феодальный город являлся центром обмена и рынком, здесь же находились и административные учреждения. Город привлекал к себе большие массы людей, втягивал их в процессы производства, торговли, городской культурной жизни. Городская жизнь в отличие от сельской оказывала влияние на развитие грамотности и светской культуры. Особенно это относится к крупнейшим городам государства, каковыми в XVII в. являлись помимо Москвы Астрахань, Казань, Смоленск, Новгород, Псков, Архангельск, Тобольск и др. Характер деятельности горожан (ремесло, торговля, приказная служба) настоятельно требовал разнообразных светских знаний. Для осуществления крупных торговых операций необходимо было иметь знания в математике, географии (страноведении), мореплавании, иностранных языках. Ремесло и торговля в период позднего феодализма в основном развивались через рынок, это порождало определенную конкуренцию, а та в свою очередь стимулировала рост профессиональных знаний. Таким образом, город фокусировал в себе и развивал различные отрасли светских знаний, фактически выпадавших из-под контроля церкви. Город являлся главным фактором формирования светской культуры [183, 96 — 100].
В Москве сложился район, сосредоточивший большинство просветительных учреждений столицы, — Никольская улица в Китай-городе (ныне — ул. 25-го Октября). Здесь находились два древних (XIV в.) монастыря — Богоявленский и Никольский, являвшихся центрами греческой колонии в Москве. В них останавливались и жили приезжие из Византии иконописцы и ученые-монахи. Колония притягивала к себе и русских книжников, стекавшихся в эти монастыри, что, очевидно, и дало начало развитию в этом районе книжных и культурных традиций. При монастырях находился один из лучших скрипториев (книгописных мастерских) Москвы. Здесь же работали и иконописцы. Без сомнения, в монастырях проходило и обучение молодежи. Именно на Никольской улице было построено здание Государева Печатного двора, где работал Иван Федоров и печатание книг продолжалось в течение всего XVII века. Здесь же находилась книжная лавка Печатного двора и располагались Книжный и Иконный торговые ряды. В самом начале XVII в. от Никольского монастыря отделился Заиконоспасский монастырь (получивший свое название по местонахождению за «иконным» рядом). В нем была организована школа Симеона Полоцкого. На Никольской же находилась Типографская школа при Печатном дворе и Богоявленская школа братьев Лихудов. Не случайно первое в России высшее учебное заведение — Славяно-греко-латинская академия — было открыто именно в этом районе — в здании Заиконоспасского монастыря [92].
Земные потребности, светские интересы горожан не только выводили их за круг традиционных церковных знаний, но и повлияли на развитие самой церковной жизни и церковного искусства, проявившись в «процессе обмирщения веры» [182]. Духовенство жаловалось на формальное исполнение прихожанами церковных обрядов, на утилитарный подход к церкви: бог вспоминался тогда, когда нужно было обратиться к нему за помощью в земных делах. В свою очередь и прихожане были недовольны церковным клиром: в XVII в. явно начало проявляться падение церковного авторитета. Среди произведений так называемой посадской литературы преобладала антицерковная сатира.
Церковь в XVII в. находилась в трудном положении. С одной стороны, государство стремилось ограничить ее богатства, контролировало деятельность ее органов с помощью созданного МонастырЬкого приказа, ущемляло судебные функции церковников. С другой стороны, государству необходимо было усиление идеологической роли церкви: для поддержки и обоснования абсолютной власти монарха, для сдерживания народных движений, не прекращавшихся в течение всего XVII века, для идеологического обоснования внешней политики, имевшей своим знаменем защиту православия. Именно государство в первую очередь было заинтересовано в поддержании церковного авторитета и в грамотных, эрудированных представителях духовенства, служивших на благо государству.
Духовенство продолжало и в XVII в. оставаться самым грамотным сословием в России. По данным А. Соболевского, белое духовенство было поголовно грамотным, среди черного духовенства (т. е. монашества) процент грамотных составлял более 70 [196, 5 — 6]. Но уровень образованности был различен: в крупных монастырях, среди столичного клира были люди, знавшие грамматику, риторику и другие «мудрости», в провинции встречались попы, которые, как и во времена Геннадия Новгородского, «еле брели» по книгам. Духовенство, как мы видели, организовывало в городах школы и стояло во главе них. Школа без духовного пастыря не мыслилась. И тем не менее традиционной книжной культуры церковникам для решения стоящих перед ними задач в XVII в. было явно недостаточно. Решившись пойти на исправление церковных книг, государство и церковь сразу столкнулись с нехваткой подготовленных кадров. Более тесные контакты с Западом и присоединение Украины вынуждали духовенство вступать в участившиеся «прения» с иноверцами и отстаивать свои взгляды. При этом необходима была эрудиция, умение вести спор, знание иностранной литературы и иностранных языков. Не поддерживая в принципе светских «свободных мудростей», церковь стала нуждаться в них сама, хотя и в ограниченном объеме. И среди духовенства появились первые поклонники светских наук.
Несмотря на неудовольствие многих церковников, правительство Алексея Михайловича взяло курс на приглашение в Москву представителей украинского и белорусского православного духовенства, получивших образование в высших духовных коллегиях и знавших схоластическую философию, риторику, грамматику, иностранные языки. Они должны были осуществлять просветительскую и преподавательскую деятельность среди русского духовенства и молодежи. Недовольных нововведениями, во главе которых стоял протопоп Аввакум, подвергли репрессиям. Воплощением типа священнослужителя, требующегося абсолютистскому государству, стал Симеон Полоцкий — человек, искушенный во многих науках, начитанный, знавший языки, владевший пером и устным словом, имевший педагогический дар и направлявший свои таланты на прославление царской власти, на благо Русского государства.
Не только сферы государственного управления и городского производства требовали расширения знаний и повышения уровня грамотности. Аналогичные процессы шли и в более консервативной, но основной для феодального государства сфере сельскохозяйственного производства. В течение второй половины XVI — XVII в. в крупных боярских хозяйствах складывалась сложная система управления многочисленными вотчинами, расположенными в разных уездах, во многом копировавшая государственное делопроизводство. Она требовала значительного штата грамотных служащих. Центром управления был московский боярский двор, где работали главные приказчики. В хозяйствах крупнейших земельных магнатов на московских дворах были созданы специальные учреждения — «боярские приказы». Под началом главного приказчика здесь «сидели в избе у письма» по нескольку подьячих. Они должны были иметь профессиональные навыки письма и составления документов, умение производить вычисления для учета сельскохозяйственной продукции. В главный «боярский приказ» стекались многочисленные донесения сельских приказчиков, челобитные крестьян и т. д. Здесь оформлялись земельные сделки вотчинника, писались грамоты с его распоряжениями. Объем этой переписки был огромен. Если взять данные только по одной (хотя и очень крупной) вотчине — селу Павлову, то в его архиве за 1669 — 1673 гг. отложилось 379 грамот от имени вотчинника и 149 отписок приказчиков. Переписка боярина Б. И. Морозова с селом Павловским за 1652 г. составила 128 документов. Таких крупных вотчин у «больших» бояр было по нескольку десятков [124, 126 — 128]. Приказчики из центрального села вели переписку с приказчиками более мелких сел, с сельскими старостами и выборными крестьянами. По сохранившимся образцам этой переписки можно составить представление об уровне грамотности сельского населения. Иногда отписку или челобитную писал сам староста или выборные крестьяне, но чаще они обращались к земскому или церковному дьячку или священнику.
Небольшим аппаратом управления обладали средние вотчинники. Объем переписки у них был более скромен [131]. Провинциальные помещики, постоянно проживавшие в своих владениях, сами руководили хозяйством и, как правило, не имели специальных приказчиков, весь хозяйственный учет и документацию вели собственноручно. В дворянских архивах отложилось значительное количество различных черновиков челобитных, отдельных записей и т. д. Наиболее рачительные помещики заводили специальные записные книжки. Например, бежецкий помещик А. К. Глазатый в своей записной книжке вел учет посева и умолота зерновых, а также делал записи литературного характера: выписки из «Сказания о Мамаевом побоище», родословие смоленских князей и др. [126].
Не менее сложным, чем управление боярской вотчиной, было управление церковных и монастырских вотчин. Размеры церковного землевладения в XVII в. можно представить себе на основании следующих цифр: по переписным книгам за 1678 г. за патриархом числилось 7128 крепостных крестьянских дворов, за епархиальными архиерейскими домами — 11 661 двор, за монасты-
рями и церквами — 97 672 двора. Всего в церковных владениях был 116 461 крестьянский двор [132, 122]. В монастырских деревнях и селах сидели приказчики, подчинявшиеся монастырским приказам. В монастырях переписывались не только книги духовного содержания, здесь аккуратнейшим образом велась весьма обширная хозяйственная документация. Для ее ведения был нужен штат грамотных специалистов-хозяйственников. Уже в 30 — 40-е гг. XVI в. «все текущее монастырское делопроизводство... начинает концентрироваться в руках дьяков, находившихся под повседневным надзором казначея, келаря, а подчас и самого игумена» [77, 167]. Штат таких монастырских приказов состоял из светских лиц — монастырских слуг, часто воспитанных и обученных грамоте здесь же, в монастыре. Они занимались не только деловыми бумагами, но и перепиской книг, в том числе и на заказ [77, 168; 97, 15].
Так же как и в крупных вотчинах, в больших торговых предприятиях необходим был аппарат хозяйственного учета. Знаменитые промышленники Строгановы уже в XVI в. имели обширный архив хозяйственных документов и привлекали специальных людей для его описания [32, 7 — 12]. Деятельность богатейших купцов — членов гостинной и суконной сотен Панкратьевых, Никитниковых, Калмыковых и других охватывала значительные регионы страны. Десятки приказчиков сопровождали караваны судов с товарами, следили за работой железоделательных заводов, соляных промыслов и др. О всех производимых операциях они регулярно докладывали хозяевам. Записная книга приказчика соляных промыслов купцов Панкратьевых за 1673 — 1703 гг. содержит копии 295 грамоток, адресованных в Москву, некоторые из них носят характер личных писем [47].
Наряду с привилегированными купеческими корпорациями торговой и промышленной деятельностью занимались сотни рядовых торговых людей — выходцев из посада и крестьянства. Сохранились материалы (росписи товаров, записи расходов), свидетельствующие об их приемах документирования своей деятельности. Как правило, они вели все записи самостоятельно, что подтверждает выводы А. И. Соболевского о практически поголовной грамотности в этой среде. Лучшие черты русского купечества воплотил в себе Афанасий Никитин. Из торговой среды вышли многие государственные деятели: протопоп Сильвестр, братья Н. и А. Чистые, Алмаз Иванов, Аверкий Кириллов, Данило и Григорий Панкратьевы и другие.
Купцы часто были людьми не просто грамотными, но и «книжными». Сосланный в Соловецкий монастырь «торгового чину человек Великого Новаграда Иван Козырев» в 1636 г. переписал там Диалектику Иоанна Дамаскина, сделав к ней «грамматическую справу» и оглавление [41, 97]. Торговое предпринимательство требовало разнообразных знаний. Необходимо было вести счет, знать меры и весы. Не случайно многие математические пособия предназначались именно для купечества. Средние слои купечества наиболее часто самостоятельно выезжали за границу, где не только занимались торговлей, но и выполняли тайные поручения правительства, а для этого необходимо было практическое знание иностранных языков.
Многочисленные списки азбуковников — словариков иностранных слов, в большинстве своем рассчитанных на торговых людей, обращались в их среде. Не вызывает удивления сообщение А. Олеария о том, что новгородский купец Микляев всячески старался добиться разрешения для своего сына выучиться у него немецкому и латинскому языкам [133, 225]. А хозяйственная записная книжка новгородских купцов Кошкиных открывается шведско-русским словарем [20, 219].
Рядовые торговые люди сохраняли связь с городскими и сельскими общинами, к которым они были приписаны. Разъезжая по своим торговым делам по стране, они часто являлись источником информации для своего окружения. Например, крестьяне Яренского уезда Поморского края Шангины, осуществлявшие крупные торговые операции в Москве, привезли в родное село Лена список «Вестей-курантов» за 1697 г. с информацией о широком круге европейских событий [123].
Говоря о крестьянстве как о наиболее многочисленном и наименее грамотном сословии, не следует забывать, что оно не было однородно. Черносошные крестьяне (крестьяне государственных черносошных земель и промысловых сел), менее задавленные нуждой, чем крепостное население мелких дворянских владений, не были сплошь безграмотными. Это во многом объяснялось тем, что деятельность зажиточных крестьян была гораздо шире обычной крестьянской работы на пашне: они занимались торговлей и промыслами, активно участвовали в работе органов земского самоуправления. Имея большое хозяйство и наемных работников, такие крестьяне не могли обойтись без «ларца с письменными крепостями и кабалами» [96, 211].
Изучение документов, связанных с крестьянством русского Севера, позволило сделать следующие наблюдения: «Наличие дорогих тогда книг в частных домах свидетельствовало о высокой грамотности таких (зажиточных крестьянских. — Авт.) семей. Примером может служить семья Емецких. Нам известно, что три поколения ее — Андрей, Афанасий и Яков — были грамотными, так как сохранились написанные ими документы. В своей духовной Яков Емецкий уменьшает долю в имуществе двух старших сыновей на том основании, что они «изучены „промыслу" и изучены грамоте и пети и писати», а долю младших сыновей (12, 7 и 6 лет) увеличивает, ибо они «не изучены ни промыслу, ни грамоте». Но не пройдет и 6 лет после составления духовной, как на документах семьи мы встречаем подписи всех сыновей Якова Емецкого, в том числе и двух младших — 13 и 12 лет. Традиция освоения грамоты взяла свое: дети научились грамоте даже без отца» [96, 212].
В северных волостях существовала традиция покупать книги сообща на волостные деньги. Они хранились в церкви и являлись коллективной собственностью крестьян. Отсюда они брались грамотеями для чтения и для обучения детей [95, 394 — 399].
В XVII в. в связи с усилением крепостничества, разорявшего крестьян и отлучавшего их от грамотности и просвещения, «начинают прослеживаться все более и более углубляющиеся различия в культурном уровне крестьян северных и других районов страны» [181, 199 — 200]. На Севере, не знавшем крепостного права, среди крестьянства сохранялась книжная культура и грамотность.
Итак, во всех слоях русского общества «грамотности и книге принадлежало в XVII в. гораздо большее место в жизни общества, нежели в предшествующее время. Это означало, что для большого круга людей познание окружающего мира и выработка определенных представлений и понятий теперь уже не ограничивались тем, что они услышат или увидят, будь то в народном ли творчестве или в церковном храме. Теперь распространялась такая важная система передачи мыслей и знаний, каким было письменное (или печатное) слово» [183, 102].
Социально-экономическое и политическое развитие государства требовало во всех его сферах увеличения грамотных и образованных людей. И несмотря на ничтожное количество государственных школ, значительный рост числа таких людей в XVII в. налицо, что говорит о развитой системе внешкольного обучения. И тем не менее к концу века эта система уже не могла удовлетворить насущные потребности государства. Сложились объективные условия для петровских реформ в области образования и просвещения.
Наряду с общим ростом грамотности и культуры в XVII в. в среде крестьян-
ской массы наметился и обратный процесс. Усиление крепостничества и приписка крестьян к заводам постепенно привели сельское население страны к нищенскому и рабскому состоянию и, как его результат, к падению грамотности и общей культуры крестьянства в XVIII — XIX вв. по сравнению с XVI — XVII вв.
2. ОБУЧЕНИE В XVII В.
ПЕРВЫЕ МОСКОВСКИЕ ШКОЛЫ ПОВЫШЕННОГО ТИПА
Данные о начальном образовании в XVII в. не говорят о каких-либо значительных изменениях в этой области. Обучение грамоте по-прежнему осуществлялось в различных формах — в семье, приказе, индивидуально или у «грамотея», который мог иметь как одного, так и нескольких учеников, составлявших своеобразное начальное училище. Среди жителей городских посадов и слобод появилось значительное количество людей, занимавшихся обучением грамоте — специально или одновременно с ремеслом и торговлей. За право учительствовать платился налог в размере 5 алтын. Наиболее преуспевающие учителя нанимали для учеников особое помещение. Учительским ремеслом занимались практически все площадные и приказные подьячие. Наиболее состоятельные горожане нанимали к своим детям домашних учителей [15, 109 — ПО]. Таким образом, обучение грамоте в городах переставало быть абсолютной монополией церкви.
Картину порядков и содержания обучения в начальных училищах рисуют школьные азбуковники (раздел II, гл. III. 3), но следует учитывать, что недостаточная текстологическая изученность их оставляет сомнения в том, что они отражают внутренний порядок школ Московской, а не Юго-Западной Руси.
В Москве имелись школы, заведенные иноземцами. С 1621 г. существовала лютеранская школа, переведенная в 1652 г. С Покровки в Немецкую слободу. В ней обучали чтению, письму, счету, музыке, немецкому и латинскому языкам.
Большинство лиц, желающих углубить свои познания после начального обучения, обращались к самостоятельному книжному чтению. Получить образование за границей вплоть до петровского времени было невозможно: правительство, как и в XVI в., продолжало придерживаться в этом вопросе запретительной политики. Г. Котошихин так объяснял ее причины: «Для науки и обычая в иные государства детей своих не посылают, страшась того: узнав тамошних государств веры и обычаи и вольность благую, начали б свою веру отменять, а приставать к иным, и о возвращении к домам своим и к сродичам никакого бы попечения не имели и не мыслили. И о поезде (поездке) ни для каких дел никому не позволено» [99, 53]. Но русские дипломаты, находясь за рубежом, иногда пользовались этим случаем для обучения своих детей. Так, стольник В. М. Тяпкин, русский резидент в Варшаве в 1674 — 1675 гг., взял с собой своего сына Ивана. На прощальной аудиенции у польского короля Иван на латинском языке, «переплетаючи с польским языком, как тому обычай наук школьных надлежит», благодарил «за хлеб и соль и за науку школьную, которую употреблял, будучи в его государстве», и «так явственно и изобразительно орацию свою предложил, что ни в одном слове не запнулся» (цит. по: [202, 521]). Не упустил возможности приобщиться к западным наукам и упоминавшийся уже А. С. Романчуков, отправившийся в Персию вместе с голштинским посольством А. Олеария. Олеарий записал о нем: «Он имел склонность к свободным искусствам, особенно к некоторым математическим наукам и к латинскому языку. Он просил, чтобы мы ему помогли в изучении всего этого. И действительно... прилежным вниманием, постоянным разговором и упражнениями в течение 5-ти месяцев он дошел до того, что мог выражать свои мысли, хотя не особенно
складно; кроме того, он стал понимать употребление астролябии (определение) часов и высоты солнца, а также геометрию» [133, 410]. Резкое повышение интереса к европейским странам и усиление с ними контактов привели к тому, что многие стремились овладеть иностранными языками и различными науками с помощью домашних учителей — иностранцев. Это обучение было характерно для некоторой части наиболее прогрессивно настроенной и состоятельной знати. Купечество и посадские люди обучались языкам на практике при непосредственных деловых контактах с иностранцами и по специальным руководствам и разговорникам [180, 56 — 58].
Разрешался выезд за границу для обучения детям иностранцев, живших в русском подданстве, с тем условием, что они вернутся для работы в Москве. Так, при Михаиле Федоровиче для обучения медицине в Англию был послан сын переводчика Посольского приказа Ивана Фомича Алманзенова (Элмстона) [38, 154 — 155], а в Лейден — сын доктора Бильса [180, 39].
Новые тенденции в области образования начали появляться со второй половины XVII в. не в сфере начального, а в сфере повышенного обучения. Они нашли выражение в том, что государство и церковь стали предпринимать робкие шаги по организации специальной подготовки лиц со знанием иностранных языков и различных наук. В 30 — 40-е гг. делалось несколько попыток пригласить опытного греческого «дидаскала» в Москву для обучения при Патриаршем дворе молодежи греческому языку и другим наукам. Но все они не увенчались успехом. В 1632 г. протосингелу александрийского патриарха греку Иосифу было поручено «учити на учителном дворе малых робят греческого языка и грамматике», но никаких сведений о том, как осуществлялась деятельность Иосифа, до нас не дошло. Известно только, что она длилась недолго, так как в 1634 г. Иосиф умер. Аналогичную миссию собирался взять на себя константинопольский архимандрит Венедикт, но не сумел завоевать в Москве доверие властей и был вынужден ее покинуть.
Так же неудачно окончилась учительская деятельность Арсения Грека, приехавшего в Москву в 1649 г. вместе с иерусалимским патриархом: через несколько месяцев по прибытии по навету этого патриарха он был уличен в измене православию и сослан в Соловецкий монастырь. Известно, что Арсений успел начать обучение латинскому языку дворянина Степана Олябьева и Федо-сея Евтихеева [22; 203; 127; 180; 174].
В эти же годы на подмосковных Воробьевых горах окольничий Ф. М. Ртищев основал Андреевский монастырь с целью организовать в нем обучение по типу украинских и белорусских училищных монастырей с традиционным для них содержанием обучения. Обострившаяся в 30 — 40-е гг. XVII в. обстановка на Украине привела к усилению гонений на православное население католическими властями. С украинских земель в Россию выезжали целыми монастырями. Митрополит киевский, глава Киево-Могилянского коллегиума, в 1640 г. обратился к московскому правительству с просьбой «построить в Москве монастырь, в котором бы старцы киевского братского монастыря учили детей боярского и простого чина грамоте греческой и славянской» [201, 458].
Деятельность Ф. М. Ртищева по созданию подобной школы-монастыря не была его частной инициативой, как об этом сообщает автор его Жития [61]. Она явилась первым шагом в новой правительственной политике, начавшейся с воцарением Алексея Михайловича Романова (1645). Ее творцом был воспитатель царя ближний боярин Б. И. Морозов, который при юном Алексее стал фактическим главой правительства. Морозов лояльно относился к западной культуре, покровительствовал «киевским старцам», ученым грекам и другим иностранцам, приезжавшим в Москву. Без его согласия невозможна была бы организация школы в Андреевском монастыре и приглашение туда учителей из Юго-Западных русских земель. Деятельность Морозова в области образования поддерживал царский духовник Стефан Внифантьев.
Ф. М. Ртищев, человек незнатный, но выдвинувшийся при дворе благодаря тому же Морозову, как дипломат был причастен к проведению московской политики в Малороссии. Наряду с интересом к языкам и наукам это обусловило роль Ртищева в организации Андреевской школы. В Андреевский монастырь принимали далеко не всех старцев, стремившихся в него попасть, — необходим был именной царский указ. Платили старцам за их труды из денег Посольского приказа — факты, говорящие о заинтересованности и прямом участии государства в деятельности монастыря [173, 180, 183].
Попытки наладить в Москве обучение церковно-богословского характера прямо связаны с намечавшейся подготовкой церковной реформы, которую в 1653 г. начал осуществлять патриарх Никон. Для нее были необходимы грамотные переводчики, хорошо знакомые с церковной литературой. Однако, несмотря на возросший в московском обществе интерес к иностранным языкам и наукам, многие не одобряли наплыв в Москву украинских и белорусских «учителей» и не без подозрения относились к их «учености». Сам Ф. М. Ртищев, очевидно, не раз укоряемый в сомнительных нововведениях, вынужден был обратиться к духовенству с вопросом: «Достоит ли... учитися риторике, диалектике и философии?» Вопросы дальнейшего пути развития образования в России стали предметом острой идейной борьбы в русском обществе (см. гл. III. 3).
Чему же учили в Андреевском монастыре? По единственному сохранившемуся рассказу одного из учителей, бывшего родом из Полоцка, он «два года учил малых детей полской и латинской грамотам» [173, 182]. Исследователи полагают, основываясь на Житии Ф. М. Ртищева, что в монастыре существовало и повышение обучения грамматике, риторике и богословию [173, 183].
Помимо Андреевского монастыря обучение молодежи киевскими старцами, наиболее известными из которых были Епифаний Славинецкий, Арсений Сата-новский и Дамаскин Птицкий, проходило в стенах Московского Кремля: в кремлевском Чудовом монастыре, на Государевом и Патриаршем дворах, а также при кремлевских храмах . Отрывочные и разрозненные сведения не позволяют составить четкое представление о том, как проходило обучение, каково было количество учеников, обучались ли одновременно в нескольких местах, или ученики переходили от одного учителя к другому. Наиболее содержательная информация об обучении у киевлян содержится в одном из судных дел 1650 г. . Из него ясен контингент учащихся: подьячие московских приказов, посадские, низший церковный клир, дворяне (всего около 10 человек) [172, 217 — 218]. Все они были уже взрослыми, хотя и молодыми, людьми, имевшими начальное образование. Известно, что обучали их латинскому и греческому языкам, а также, возможно, грамматике и риторике.
В 1653 г. в Патриаршей школе в Кремле возобновил свою учительскую деятельность Арсений Грек, вызволенный с Соловков патриархом Никоном, который сделал его первым справщиком Печатного двора. Здесь Грек учил «малых детей». Сохранился специально написанный им для своих учеников рукописный учебник греческого и латинского языков (94, 88]. О самом Арсении Греке, его жизни и деятельности, о его библиотеке дошло до нас немало сведений, что позволяет достаточно живо представить личность этого учителя — человека способного и трудолюбивого, упорно стремившегося к знаниям и ценив-
1 Источники указывают на ученика кремлевской церкви царя Константина [172, 215]. Возможно предположить, что другие кремлевские соборы тоже имели учеников.
2 Очевидно, в деле упоминаются имена учеников и Андреевской, и кремлевских школ [180, 41 — 42].
шего их превыше всего [94, 88].
Патриархом Никоном была открыта школа для детей и при патриаршем, построенном в 1652 г., Иверском монастыре. О содержании обучения в ней можно судить только по одному известному факту: восемь «школьных робят» получили вознаграждение за «речи», произнесенные перед патриархом [ПО, 86]. Вероятно, школ при патриархии и крупных монастырях было больше, чем мы имеем о них сведений. Подтверждение этому можно найти в словах чеха Иржи Давида, посетившего Москву в 1684 г.: «Патриарх содержит многих учеников... Больше всего здесь таких, которые готовят себя к церковному званию» [81, 143].
Другой иностранец, голландец, записал свои впечатления о кремлевском монастыре, под которым подразумевался Чудов монастырь: его «скорее можно назвать дворянским учебным заведением, чем монастырем; там редко увидишь кого другого, как детей бояр и важных вельмож. Их помещают туда, чтобы отдалить от дурного общества и научить благонравному поведению. По исполнении шестнадцати лет от роду они снова могут уйти» [158, 521]. Монастырь находился на территории Кремля, в стенах которого или поблизости и располагались хоромы знати. Здесь, в Чудове, жили Епифаний Славинецкий, которого многие исследователи считают главой Чудовской школы, Дамаскин Птицкий, Карион Истомин и ряд других лиц, занимавшихся переводческой деятельностью и учительством. Монастырь, основанный еще в XIV в., имел большую библиотеку, свой скрипторий и безусловно древние традиции воспитания и обучения подростков. На этой основе и было предпринято расширение круга преподаваемых знаний — введено обучение греческому языку, риторике, диалектике.
В середине 1660-х гг. учителю царских детей белорусскому дидаскалу монаху Симеону Полоцкому было поручено обучение трех подьячих Тайного приказа (который по сути являлся личной царской канцелярией). Вместе с ними занятия посещал приехавший из Киева певчий Иван Репский. Возможно, в школу к Полоцкому посылали подучиться и некоторых лиц из патриарших служащих [ПО, 87]. Учение проходило в Спасском монастыре и продолжалось около четырех лет, до отъезда обучавшихся подьячих в 1668 г. вместе с русским посольством за границу. Курс обучения включал в себя латинский язык, грамматику, риторику, поэтику, логику, философию, богословие [174, 110]. Ученики Полоцкого в дальнейшем соперничали с учениками Чудова монастыря, отстаивая «латинское» направление образования. Существовала ли школа с 1668 по 1682 г., неизвестно. Но в 1682 г., после смерти Полоцкого, занятия возобновились под руководством любимого ученика и последователя Полоцкого Сильвестра Медведева. Он ходатайствовал перед царем об открытии в монастыре новых специальных палат для школы. В 1686 г. в Спасской школе Медведева было 23 ученика, изучавших грамматику, латинский язык, риторику [180, 43-44].
В 60-е гг. при участии Полоцкого проводилась работа по организации крупного училища при церкви Иоанна Богослова в Бронной слободе1 с преподаванием «грамматической хитрости, языков словенского, греческого, латинского и прочих свободных хитростей» (см. подробнее гл. III. 3). Однако вопрос о том, действовало ли это училище, до сих пор остается открытым.
Первым учебным заведением в России со значительным числом учащихся была Типографская школа2. Ее основание относится к 1681 г., когда из Кон-
До настоящего времени ошибочно считалось, что училище предполагалось открыть при церкви Иоанна Богослова, что под Вязом в Китай-городе (см.: Лаврентьев А. В. К истории организации славяно-греческого училища в московской Бронной слободе//История СССР (в печати).
5 Текст о Типографской школе написан Л. В. Волковым.
стантинополя в Москву возвратился иеромонах Тимофей, в 1666 г. направленный к константинопольскому патриарху. Русский по происхождению, Тимофей хорошо знал греческий язык [86; 193; 152]. Под школу была отведена «старая правильная палата» (палата, где проходила правка рукописей) Печатного двора: в марте 1681 г. «велено... построить на Печатном дворе в полате гре-ческаго учения... всякого строенья» [29, 27]. Строительные работы, завершившиеся, очевидно, к сентябрю1, велись с целью приспособить уже существовавшие палаты под школу.
В школу первоначально было набрано «от всякого чина малых детей числом яко 30». Тимофею было поручено «яко ректору назирати над ними, а учить греческого чтения, письма и языка греку Мануилу мирянину, мужу свободных наук искусну, а по нем греку же иеромонаху Иоакиму», — сообщает ученик школы, видный деятель просвещения Федор Поликарпов [151, 296]. Однако ни Иоаким, ни Мануил не владели русским языком2. Обучать «малых детей», не знавших греческого языка, им, естественно, было затруднительно. Мануил пришел на Печатный двор лишь в декабре 1684 г. [226, 1]. Первоначально в Типографской школе, видимо, преподавал лишь один иеромонах Тимофей.
В июне 1683 г. в качестве учебных книг Тимофею было отпущено из Приказа печатного дела 50 азбук, 10 учебных псалтырей и 10 часословцев [227, 1]. Это были именно те книги, с помощью которых в России давалось начальное образование. По словам немецкого ученого Э. Кемпфера, посетившего Типографскую школу 6 августа 1683 г., «в первом отделении или классе было около пятидесяти мальчиков, которые обучались славянской грамоте; в другом отделении сидело десять больших мальчиков, которые только что читали», причем «хорошо наблюдали ударение» [4, 354]. Число учеников младшего класса школы, указанное Кемпфером, соответствует количеству азбук, отпущенных для школы накануне ее посещения немецким ученым, а число «больших мальчиков» — количеству учебных псалтырей и часословцев. Азбуки предназначались для младшего класса, псалтыри — для старшего. Следовательно, в августе 1683 г. в Типографской школе давалось лишь начальное образование, а греческий язык еще не изучался. Тогда в ней было около 60 учащихся.
Число учеников Типографской школы значительно возросло к 1684 г., когда ей были предоставлены новые помещения. Кроме двух перестроенных палат Печатного двора был сооружен «сарай для учения детей книгам» [220, 72 — 72 об.]. Очевидно, в нем занимались младшие ученики. На 15 января 1684 г. в школе было не менее 194 учащихся. 23 из них изучали греческий язык, причем учились «словесному» (чтению). Остальные были учениками «словенского языка», обучавшимися «словесному и писать» [65, 1114]. К концу июня 1685 г. тех, кого учили «греческому языку и письму», стало 44 человека. Они подразделялись на две «статьи». Ученики первой «статьи» (11 человек) получали жалованье по 3 деньги в день, а второй — по 2. Прочие учащиеся в начале июля 1685 г. обучались «греческого и словенского языка книжному писанию» [65, 392]. К концу января 1686 г. в Типографской школе было не менее 67 учеников «греческого писания» и 166 учеников «словенского писания» [192, 40]. В ней соблюдалась традиционная последовательность обучения: сначала учили читать («проходили... курс словесного учения»), а затем писать. Это относится к изучению как «словенского», так и греческого языка. Ученики, обучавшиеся
Об этом свидетельствует тот факт, что в 1681 — 1682 гг. школьному сторожу был выплачен оклад за год [221, 73].
2 В получении жалованья в 1684 — 1687 гг. они расписывались по-гречески, причем за Иоакима в 1684 г. по-русски расписывались учащиеся Типографской школы [222, 68 — 68 об.; 223, 46 об.; 225, 431.
«словесному», упоминаются только в 1684 г. В дальнейшем учили главным образом «писанию». В 1684 г. школа получила из Приказа книгопечатного дела «Апостолы», использование которых в качестве учебной книги было характерно только для обучения царских детей [58, 223].
В 1684 г. иеромонах Тимофей обучал учеников Типографской школы церковнославянскому и греческому языкам. С марта 1684 г. он получал довольно значительное жалованье (50 руб. в год) [222, 68]. С этого же времени и до осени 1685 г. [192, 39] в школе вел занятия также иеромонах Иоаким, которому предоставлялся «поденный корм» по 1 гривне в день [222, 68 об.]. В 1685 г. стал преподавать грек Мануил Григорьев, получивший такой же «поденный корм» [224, 48 об.]. По свидетельству Ф. Поликарпова, учителя-греки не преподавали одновременно, но документы говорят о том, что некоторое непродолжительное время они работали вместе [65, 392].
Существенную роль в учебном процессе в Типографской школе играли старосты. В 1684 — 1687 гг. их одновременно было 3 человека [65, 1114; 223, 59 — 59 об.; 224, 53 — 54; 225, 50 — 51]. Старосты школы характеризовались как первые ученики и «над прочими надсматривальщики» [65, 1114]. Они, очевидно, должны были выполнять все те обязанности старост, которые указаны в азбуковниках XVII в., в том числе «спрашивать уроки у товарищей» [58, 233; 192, 42]. Помощь старост Типографской школы иеромонаху Тимофею в обучении многочисленных учеников была, как представляется, совершенно необходима. С сентября 1684 г. старостам выплачивался «поденный корм», составлявший 4 коп. [223, 59 — 59 об.]. Известны имена семи учащихся Типографской школы, которые в 1684 — 1687 гг. являлись старостами.
В Типографской школе поддерживалась суровая дисциплина. В мае 1685 г. «в школьную полату» была даже «куплена чепь железная... для смирения детей» [223, 143].
Можно выделить два этапа в истории Типографской школы, грань между которыми приходится на последнюю треть 1683 г. На первом этапе (1681 — 1683) школа была начальным учебным заведением с числом учащихся 30 — 60 человек. К 1684 г. число ее учеников значительно возросло, в школе стал преподаваться греческий язык. Она превратилась в своеобразное учебное заведение, которое одновременно было и начальной школой, и училищем для подготовки переводчиков Печатного двора.
В связи с планами правительства открыть высшее учебное заведение — академию, Привилегия для которой создавалась еще в 1682 г., были приглашены из Константинополя два ученых грека — Иоанникий и Софроний Лихуды, учившиеся в Италии [192]. Сразу по приезде в сентябре 1685 г. братья Лихуды, поселившиеся в Богоявленском монастыре, начали обучать учеников «греческому книжному писанию» [ПО, 88]. Первыми были переведены к Лихудам пять старших учеников Типографской школы — Алексей Барсов, Николай Семенов-Головин, Федор Поликарпов, Федор Агеев и Иосиф Афанасьев, а также монах Чудова монастыря Иов и иеродиакон Богоявленского монастыря Палладий Роговский. К декабрю 1685 г. в монастыре была построена специальная школьная палата, в которой занималось уже около 30 учащихся из разных сословий, а к 1687 г. число учеников превышало 40. Братьям Лихудам было разрешено преподавать «все свободные науки на греческом и латинском языках» [151, 298] (см. гл. III. 3).
Многие ученики Типографской и Богоявленской школ продолжали свое учение. Некоторые из них в дальнейшем сами начали заниматься преподавательской деятельностью, например Федор Поликарпов и Николай Семенов-Головин.
Каково же значение в истории русского просвещения факта появления первых школ с повышенным курсом обучения? Их организация явилась, с одной стороны, результатом правительственной политики, направленной на обеспечение государства и церкви образованными кадрами, с другой — новым отражением интересов и потребностей прогрессивной части русского общества. Образцом для московских школ послужили традиционные средневековые схоластические школы Запада, опыт которых был воспринят через учебношкольную практику южнорусских и западнорусских земель, откуда и приглашались учителя для организации школьного дела. Но время появления первых русских школ — XVII в. — для большинства европейских стран ознаменовалось общим кризисом феодально-средневекового мировоззрения, а вместе с ним и переходом от схоластики к культуре нового времени, к новым гуманистическим формам образования, интересом к опытной науке. В Европе схоластические школы начинают уходить в прошлое, менять свою суть. В России они появляются как новшество — процесс, в общем сходный с тем, что происходило с переводом западной литературы. «В XVII в. Россия усваивала второразрядную «народную книгу», которой давно пренебрегла образованная Европа» [146, 167]. Объясняется это тем, что «русской словесной культуре, „пропустившей*1 беллетристику XVI в. (впрочем, и в XV в. мы видим лишь беллетристический ручеек), поскольку она отказалась от мысли о национальной замкнутости — сначала нехотя и непоследовательно, потом все решительнее, предстояло пережить период литературной учебы» [146, 167]. Такой же период «учебы» происходил и в школьном деле, но и он оказался непродолжительным.
Во второй половине XVII в. в Русском государстве светские элементы культуры стали явственно теснить старые, церковные традиции. Однако для появления специальных светских школ не было еще достаточных предпосылок — светские школы появятся несколькими десятилетиями позже, в результате петровских реформ. Назревавшая необходимость в их создании проявлялась в противоречии между схоластически-церковным характером московских школ и в значительной степени светским контингентом обучавшихся в них лиц, многие из которых по окончании школы принимали духовный сан.
Содержание образования в московских школах 40 — 80-х гг. XVII в. в целом сводилось к изучению классических языков (греческого и латыни), а также предметов тривиума — начальной ступени схоластического курса — грамматики, риторики и, возможно, диалектики. Овладение этими знаниями могло иметь ограниченный диапазон практического применения. Поэтому кадры государственного аппарата (приказные люди) продолжали получать специальные знания и навыки в основном в приказах, в процессе ученичества на месте своей будущей деятельности. Наиболее крупная из новых школ. Типографская, была создана именно на основе этой традиции при Приказе печатного дела, что отличало ее от всех других школ, созданных при монастырях. Возможность получения образования несводима только к обучению в новых школах — в гораздо большей степени оставалось развитым частное, индивидуальное обучение.
Дальнейшая линия исторического развития первых московских школ шла в направлении церковного высшего образования. Они подготовили создание Славяно-греко-латинской академии, превратившейся затем в Московскую духовную академию. В начале XVIII в. школы, подобные московским, продолжали создаваться крупными церковными чинами. Например, известна школа митрополита Иова в Новгороде, школа Дмитрия Ростовского в Ростове и др.
И тем не менее, несмотря на богословскую в целом направленность московских школ, их значение трудно переоценить. Именно они явились знаменательным фактом, характеризовавшим развитие культуры нового времени. Московские школы стали важным и, что особенно примечательно, санкционированным церковью и государством явлением в преодолении культурной замкнутости России. Школы, хотя и в крайне урезанном виде, давали основы классической
западноевропейской образованности, создавали возможность разговора с иной культурой на общем языке. Без них был бы невозможен достаточно быстрый переход к светской культуре и науке нового времени, произошедший в петровскую эпоху.
Философия древнерусской православной церкви строилась на иных, чем западноевропейская схоластика, принципах, обусловивших неприятие школ западноевропейского схоластического типа в церковной образовательной практике Древней Руси. В XVII в. церковь оказалась вынужденной обратиться к преподаванию языков и некоторых из «семи свободных мудростей». Этот шаг был вызван не стремлением перенять чуждую схоластическую науку, а необходимостью иметь людей, разбирающихся в «западной учености» в связи с процессом быстрого преодоления изоляции Русского государства от других неправославных стран. Этот процесс стал влиять и на саму церковь, веками поддерживавшую изоляцию страны. Обучение наукам тривиума и латыни вызывало резкое осуждение у многочисленных приверженцев старины как отход от русского православия. «Русь, чего-то тебе захотелося немецких поступков и обычаев!» — восклицал протопоп Аввакум. Получившие образование в московских школах ученики составили в церковной среде новую прослойку духовной «интеллигенции», апеллировавшей в вопросах веры к разуму, рационализму и образованию. По окончании школ они становились справщиками (редакторами) Печатного двора, переводчиками иноязычной литературы, учителями. Таковы Сильвестр Медведев, Карион Истомин, Палладий Роговский и другие.
Изучение предметов тривиума, в своей основе восходивших к наукам античности и в средневековье поставленных на службу богословской схоластике, приобщало русских людей к традициям античной образованности. Важным для развития русской культуры было и то, что «школы, которыми руководили Симеон Полоцкий, Сильвестр Медведев, Дмитрий Ростовский и Стефан Яворский, играли роль литературных центров. Пиитика была обязательным предметом, а вирши, стихотворные драмы и орации — школьными упражнениями» [147, 140].
Особое значение имело изучение греческого и латинского языков, которым в школах уделялось преимущественное внимание. Латынь — международный язык науки — была в России в течение долгого времени под негласным запретом. Желающие изучить язык делали это тайно. Так, например, сын окольничего В. П. Головина в начале XVII в. «тайно держал у себя одного из немцев, живших в Москве, нашел также поляка, разумевшего латинский язык; оба они приходили к нему скрытно, в русском платье, запирались в комнате и читали вместе книги латинские и немецкие» [189, 59, 67]. Неприятие латыни объяснялось тем, что с точки зрения церкви на ней могли быть написаны только «ложные» и еретические книги и уметь их читать было совершенно незачем. Начавшееся официальное обучение латыни в школах поколебало такое отношение к этому языку и дало возможность желающим изучать его открыто и даже ездить в Киев «доучиваться» по-латыни. Но преодоление сложившегося в сознании общества отрицательного отношения к латыни было трудным, многих учащихся продолжали одолевать страх и сомнения, о чем свидетельствуют слова ученика Андреевской школы Л. Голосова: «...вперед учиться никак не хочу, кто по-латыни научится, тот с правого пути совратился» [201, 491 — 492].
О значении для русской культуры и науки факта введения в школьное обучение латинского языка возможно судить по той роли, которую он сыграл в научной деятельности М. В. Ломоносова. Библиотека, которую Ломоносов начал собирать еще в годы учебы, включала в себя латинские книги по физике, химии, медицине, риторике, философии, античной литературе. Изучение древних авто-
ров Ломоносов считал основой своей образованности. Латинские трактаты дали ему возможность овладеть научной терминологией к лексикой. Большинство работ ученый писал по-латыни, на ней он также вел переписку с коллегами из других стран. В своих проектах, относящихся к области образования, Ломоносов отводил важное место изучению латинского языка, считая его обязательным предметом для среднего образования [103].
Историческое значение московских школ заключалось в том, что их создание означало возникновение нового социального института — школы. Теперь с помощью этого института государство могло контролировать и развивать сферу просвещения и образования. Организация новых школ ознаменовала поворот русского общества в сторону европейской системы образования, перелом в образовательной политике правительства. Это новое направление в политике в конце XVII в. проявилось и в том, что если ранее выезд за границу запрещался, то теперь туда посылали учиться не только добровольцев, но и в принудительном порядке. Новые тенденции были обусловлены начавшимся переломом в общественном сознании в сторону культуры нового времени. Следующим шагом правительства стало создание чисто светских школ для формирования технических, военных и научных кадров. Однако нельзя забывать, что в XVII в. в школах учился ничтожнейший процент населения, в целом же те, кто желал иметь начальное образование, вынуждены были обращаться к старым, традиционным способам его получения.
3. БОРЬБА ЗА РАЗВИТИЕ ПРОСВЕЩЕНИЯ В РОССИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVII в.
ПОЛЕМИКА ВОКРУГ СОЗДАНИЯ СЛАВЯНО-ГРЕКО-ЛАТИНСКОЙ АКАДЕМИИ
Проблема просвещения объективно была одной из насущнейших в развитии Российского государства второй половины XVII в.
Острейшим образом встала задача создания системы образования. Решение этой задачи, требовавшее значительной теоретической и организационной работы, в первую очередь зависело от организации высшего учебного заведения. Не удивительно, что проблема «устроения» высшей школы, сконцентрировавшая в себе вопросы о содержании и целях образования, стала предметом борьбы прогрессивных и реакционных группировок и ярко отразилась в русской публицистике конца XVII в.
Сведения о полемике вокруг вопроса о высшем учебном заведении в России восходят к весьма узкому кругу источников. Прежде всего речь идет об орациях (речах) участников церковного собора 1666 — 1667 гг., осудившего приверженцев старого обряда. Здесь впервые встречается развернутое обоснование необходимости создания в России государственных училищ повышенного типа, в которых наряду со славянским языком изучались бы и иностранные языки.
Одна из названных ораций принадлежала Паисию Лигариду, митрополиту газскому, — высокообразованному иерарху, принимавшему активное участие в деятельности собора. Обращаясь к царю Алексею Михайловичу, Паисий излагает вначале итоги своих размышлений о причинах, породивших раскол: «Исках и аз корене духовнаго сего недуга... Напоследок, умом обращая, обретох из двою истекшее, си же есть: от лишения и неимения народных училищ, такожде от скудости и недостаточества святыя книгохранительницы» [51, 160]. Аналогичную мысль высказывал в материалах собора и Симеон Полоцкий, обвиняя старообрядцев в том, что они «на брезе грамматическаго разума и в мелкости все утопают», а беседуя о богословии, «ниже малейшим перстом прикоснулися ея» [63, 17 об. — 20].
Чтобы по достоинству оценить значение выступлений Лигарида и Полоцкого на Вселенском соборе 1666 — 1667 гг., полезно вспомнить факты противостояния образованию на Руси. Напомним некоторые из них. На челобитную в Посольский приказ константинопольского учителя Венедикта, приехавшего в Москву для учительской деятельности, «дают здесь ответ, — как он пишет, — противный, думая, что они великие мудрецы и ученые». В официальном ответе на челобитную Венедикта мы читаем: «При патриархе неприлично и крайне дерзко младшему по сану называть себя учителем и богословом», а таланты не учением развиваются, но «даются от бога» [165, 285]. В 1650 г. разрядный подьячий Лукьян Голосов (будущий думный дьяк и думный дворянин) сообщал властям, что «учится у киевлян Федор Ртищев греческой грамате, а в той грамате и еретичество есть»; что двое учеников школы Ртищева отправились в Киев, «поехали они доучиваться у старцев-киевлян по латыни, а как выучатся и будут назад, то от них будут великия хлопоты; надобно их до Киева не допустить и воротить назад» [165, 286; 203, 14; и др.].
Связывая вопрос о создании училища с борьбой за единство церкви, сторонники просвещения добились серьезного успеха. После этого даже в книге, изданной от имени противника Полоцкого, рьяного сторонника авторитарных методов решения церковных разногласий — патриарха Иоакима, заявлялось, что люди, познавшие грамматику, философию и богословие, не будут «на святая книги порок наводити» [210, 264]. Это заявление тем более значительно, что на практике Иоаким и его подручные ученой аргументации не признавали. Нет сомнения, что для Лигарида и Полоцкого связь раскола с невежеством была очевидной. Но ограничивать ею мотивы идеи организации в Москве государственных училищ нельзя. Еще Арсений Глухой в первой половине XVII в. предупреждал, что невежда «удобь может прегрешити не точию (не только) в божественных писаниях, но и в земских делех». В орации Паисия Лигарида после цитированной преамбулы развивается аналогичный подход: «Прехрабрый некто воевода Алкивиад ответ даде древле Афином, яко ко благополучно-ратованию три вещи суть нужны: первая есть злато, вторая есть злато, третья злато. Аз же, вопрошен о санех церковном и гражданском, кии бы были столпы и завесы обою, рекл бых: первое училища, второе училища, третье училища пренуждены быти» [51, 160 — 161]. В 1680-х гг. мысль о том, что развитие «свободных мудростей» станет путем к славе Российского государства, займет важное место в публицистике в пользу просвещения. В орации Лигарида процветание Российского православного государства связано с пользой училищ равно и для церковных, и для гражданских дел. Особого внимания заслуживает конкретность содержавшихся в орации предложений. «Ты убо, о пресветлый царю, — говорил оратор Алексею Михайловичу, — подражай Феодосием, Юстинианом, и созижди зде училища ради остроумных младенец, ко учению трех язык коренных наипаче: греческого, латинского и славенскаго». Далее автор уточняет задачи училища, которое должно удовлетворить прежде всего церковные, а затем и светские нужды: «...от сего новаго училища Алексиевскаго... изыдут, аки от коня Троянского, христоименитии борцы, иже о добродетели твоего пространнейшаго царства, о умножении сего чина церковнаго, и о общей напоследок пользе всего христоименитаго гражданства ратовати будут» [51, 162].
Патриархи Паисий александрийский и Макарий антиохийский, так же как и Лигарид, увещевали на соборе 1666 г. «взыскать премудрости». Но мотивировали они это потребностями греческой православной церкви. Признавая, что раскол связан с «невежеством», они видели причину последнего в упадке учения на «еллинском» языке. Даже народы, говорили патриархи, «противнии вере православной, на западе обитающий, греческий язык яко светильник держат, ради мудрости его, и училища его назидают» [51, 163]. Говоря о необходимости греческого училища в России, патриархи упоминали о трудностях, с которыми находящиеся под турецким владычеством греки содержат училища; упоминали о том, что для получения высшего образования греки вынуждены отправляться в католические университеты; наконец, связывали с училищем в Москве и само сохранение «благочестия» греческого духовенства. Таким образом патриархи мотивировали основание в Москве греко-славянского училища для церковных нужд.
Предложения, высказанные Лигаридом и патриархами, различались между собой, но не противостояли друг другу. Так, патриархи не возражали против изучения в Москве иных, помимо греческого, языков. «Положи отныне в сердце твоем, — обращались они к царю, — еще училища, так греческая, яко славен-ская и иная назидати, спудеов (учеников) милостью си и благодатию умножа-ти, учители благоискусныя взыскати, всех же честьми в трудолюбие поощряти» [51, 164]. Но и Лигарид, предлагая преподавание на славянском и латыни, выдвигал изучение греческого языка на первое место.
Есть основания полагать, что на позицию Паисия Лигарида и патриархов на соборе 1666 — 1667 гг. серьезное влияние оказал Симеон Полоцкий [48; 85]. Обе вышеуказанные орации известны по одной рукописи — это перевод на русский язык, написанный рукою Симеона Полоцкого и помещенный в его авторском сборнике [170]. Как известно, именно Симеон был переводчиком и консультантом патриархов и Лигарида на соборе 1666 — 1667 гг. Зная Полоцкого как активнейшего сторонника русского просвещения и учитывая сходство высказываний в его сочинениях и орации Паисия Лигарида, можно с большой долей уверенности предполагать, что последняя отразила и взгляды учителя русских царевичей. Таким образом, «антигреческие» взгляды, безоговорочно приписывающиеся в историографии XIX в. Полоцкому, малоосновательны. Сочинение Паисия Лигарида и патриарха Макария отстаивало прежде всего этот язык. Вместе с тем произведение восточных патриархов не было направлено против изучения латинского языка и содержало сильные доводы в пользу просвещения, утверждая необходимость училища в Москве.
С деятельностью Симеона Полоцкого, по-видимому, было связано еще одно выступление в пользу организации училища. В одном из авторских сборников Симеона среди грамот и писем находятся уникальные документы об основании училища в приходе московской церкви Иоанна Богослова. Подборка открывается анонимным челобитьем прихожан к восточным и московскому патриархам с прошением о благословении «славенския грамматики училища строения» [135, 153]. Две патриаршие грамоты с ответами по поводу этого челобитья датированы 1668 г. Грамоты патриархов не являются простым ответом на челобитье прихожан церкви Иоанна Богослова, которые вели речь только о славянском грамматическом училище. Грамоты же санкционировали создание славяно-греко-латинской гимназии. Можно предположить, что они явились результатом деятельности Симеона Полоцкого, в сборник которого включены. Не менее вероятно, что ходатаем об открытии школы выступил новый настоятель церкви Иоанна Богослова выпускник Киево-Могилянской коллегии Иоанн Шмитковский [216, 384].
В сборнике грамоты безадресны, однако нельзя с полной уверенностью утверждать, что адрес отсутствовал и в подлинниках. Возможно, грамоты относились не просто к частному случаю приходской гимназии, а являлись общей санкцией организации славяно-греко-латинских училищ в России. По крайней мере, именно так они были представлены Симеоном Полоцким и Сильвестром Медведевым.
В грамоте патриархов Паисия александрийского и Макария антиохийского дается «благословение на сие достохвальное дело, еже есть на создание училищ и в них устроение учения, по закону православнокафолической церкви, во славу божию, различными диалекты: греческим, словенским и латинским... да отныне во вся последующие веки свободно будет сие святое дело совершати».
Российский патриарх Иоасаф начал свою грамоту с общей похвалы Премудрости, которая драгоценнее всего на свете и дарует все блага ее обладателю. Как и восточные патриархи, Иоасаф называет обратившегося к нему с просьбой «честный и благоговейный муж», который «неотступно молил» о благословении основания гимназии для обучения грамматике и прочим свободным наукам на разных языках, «паче же славенском и латинском». Патриарх на это «благословение дахом, да трудолюбивии спудеи радуются о свободе взыскания и свободных учений мудрости, и собираются во общее гимнасион...».
Между двумя грамотами есть некоторые расхождения. Паисий и Макарий имели в виду обучение прежде всего греческому, затем славянскому и, наконец, латинскому языку. Иоасаф же, говоря о «различных диалектах», подчеркивает первенство языков славянского и латинского. В той и другой грамоте целью учения считается удовлетворение религиозных нужд, однако восточные патриархи писали о школе для детей («младенцев»), а Иоасаф — о «гимнасии» «свободных учений мудрости» для «спудеев», т. е. об изучении тривиума и ква-дривиума, как в Киево-Могилянской коллегии (где, кстати, основными языками были славянский и латинский, а греческий — вспомогательным). Более того, упомянутое патриархом московским богословие было признаком университетского курса, отсутствовавшего даже в Киеве.
Но идея организации училища имела и серьезных противников. На это указывает сам факт составления тремя патриархами благословенных грамот, необходимость которых (при некотором расхождении авторов во взглядах) можно объяснить лишь стремлением усилить позиции сторонников просвещения. Дальнейшие события еще раз подтверждают, что организованная не без участия Полоцкого пропаганда идеи высшего образования в России столкнулась с сильным сопротивлением.
Несмотря на выступления Лигарида и трех патриархов, в Москве не возникло ни греческого, ни латинского, ни славянского училища. Гимназия в приходе Иоанна Богослова, вероятно, не была открыта. Действовавшая с 1665 г. в Заиконоспасском монастыре школа Симеона Полоцкого закрылась в начале 1668 г. [161, 67 — 68]. Последнее упоминание о московской деятельности ученых старцев Андреевского монастыря, выписанных из Белоруссии Федором Ртищевым, относится к 1667 — 1668 гг. В 1669 г. на них поступила жалоба уже из Иверского монастыря: попавшие туда старцы обвинялись в склонности к бунту, назывались «крамолистыми, своеобычными, не общежительными» [175, 742 — 744; 203, 14, 19 — 20]. К 1663 г. относится последнее упоминание о преподавании «гречанина Арсения» (Сатановского) в чудовской школе, действовавшей с 1653 г. [51, 159; 129, 173 — 174; и др.]. Таким образом, к концу 1660-х гг. все известные нам училища в Москве были закрыты. Немногословные противники просвещения одержали крупную победу и сохраняли свои позиции более десятилетия.
Новый этап борьбы за высшее учебное заведение начался в последние годы царствования Федора Алексеевича (1676 — 1682). В сочинении, приписываемом Федору Поликарпову-Орлову, изданном Н. И. Новиковым под названием «Историческое известие о Московской Академии», сообщается об открытии школы при Государевом Печатном дворе [151, 296 — 297]. Автор связывал это событие с возвращением из Иерусалима (1681, по Поликарпову — 1679) иеромонаха Тимофея. Рассказывая царю Федору Алексеевичу об утеснениях, которые претерпевали христиане под властью Оттоманской Порты, Тимофей обратил внимание царя на происки «латин» в Иерусалиме и опасность, которую они представляют для православия. И царь, «сожалея об участи христиан восточных», якобы сам просил патриарха «об учреждении училища греческого в Москве, дабы оказать какую-нибудь помощь угнетенному православию». Таким образом, по версии Поликарпова, в мотивировку необходимости училища был внесен новый элемент: не только помощь притесняемым варварами восточным христианам, но и защита восточного «благочестия» от «латинства».
Обострение отношений между православными и католиками в Палестине отразилось в грамотах иерусалимского патриарха Досифея (подробнее см.: [87]). Позиция Досифея, выраженная в его грамоте царю Федору Алексеевичу по поводу открытия Типографского училища, весьма сходна с миссией Тимофея в изложении Ф. Поликарпова. «Благодарим господу богу, яко благоволил есте быти в царствующем граде Москве Еллинскому училищу», — писал Доси-фей, чтобы «...тем еллинским учением удалятися от латинского учения». В связи с этой задачей Досифей просил государя «тое училище... впредь распространив» [198, 421; 51, 175 — 176].
На первый взгляд иерусалимский патриарх просто развивал взгляды, высказанные в слове и грамоте Паисия и Макария (1666 — 1667). Но обращает на себя внимание его нетерпимость к латинскому языку, резкость, с которой он нападает на «латинство», и особенно на чтение латинской литературы в России. «Храни, храни, храни стадо Христово, — писал он, — чисто от латинскаго пис-ма и книг якоже в них есть учение антихристово... иде же обрящутся — да сожгутся, а елицы я хоронят (а которые их хранят) — смертию да казнятся. Тако сотворите и вы о латинских книгах, яко есть лестныя и прелестныя» [86, 668].
Боясь лишиться получаемой из России материальной помощи, иерусалимский патриарх отлично понимал опасность довольно распространенного в Москве мнения о потере греками «благочестия» и о перемещении в русскую столицу центра мирового православия. Досифей всеми силами стремился убедить, что греки были и остаются «учителями и источником веры». Поэтому восточные иерархи опасались возможности для русских черпать церковную ученость из другого источника.
В 1681 г., одновременно или даже ранее школы Тимофея, в Москве было открыто другое училище — славяно-латинская повышенного типа школа Сильвестра Медведева в Заиконоспасском монастыре, с преподаванием на двух языках курса грамматики, риторики и, вероятно, других «свободных мудростей» [86, 649 — 653; 67, 140; 160, 217; и др.]. Это детище царя Федора Алексеевича, содержавшееся на его средства, возглавленное близким к царю и весьма энергичным человеком, было свидетельством определившихся намерений правительства реализовать идею государственного училища повышенного типа. Чрезвычайно важно отметить, что слухи об этих намерениях распространились еще до начала учения в Заиконоспасском монастыре. Досифей проявил беспокойство еще в 1679 г. (его первая грамота против латинских книг в России датирована 24 июля). Примерно в одно время с Тимофеем в Москву прибыл и Андрей Белобоцкий, официально сообщивший о цели приезда: «...для того, слышал он, что великий государь на Москве хощет заводити школы, и он желал того, чтоб ему в тех школах быть учителем» [52, 197, 200]. Слух о характере этих школ был вполне определенным; в доносе, поданном на Белобоцкого 19 мая 1681 г., Павел Негребецкий (живший в Москве) сообщал: «Вопросих его: что вина твоего в Москву приезду? Он же отвеща: услышах, яко великий государь хощет по Москве учение заводити и Академию устроити, и аз приехал учити». С этой новостью соседствовала в речах Белобоцкого и другая, не менее интересная, что «римляне всякими способы помышляют в Российском царствии, чрез науку, ввести свои ереси» [170; 51, 179].
Итак, уже в 1679 г. Россия и окрестные страны полнились слухами о предстоящем открытии в Москве высшего учебного заведения и опасности, которую представляло для православия изучение в нем «латинской» науки. Если первая версия вытекала, по-видимому, из замыслов правительства, то вторая была связана с разгоревшейся вокруг этих замыслов идейной борьбой, в которой открыто выступила группировка, получившая в литературе название «греческой (старомосковской, великороссийской) партии». Ее позиция отразилась, в частности, в двух публицистических сочинениях. Наиболее вероятным автором первого из них («Учитися ли нам...») называется признанный в литературе лидер «грекофилов» Ефимий Чудовский [192, 119 — 120, 396 — 399; 214, 123]. Важен вопрос о времени создания памятника, определяющий его место в идейной борьбе конца XVII в. В сочинении после описания некоторых якобы проникших в Москву «ересей» говорится: «И сия убо еще ниже начало приемшу латинскому учению славяном, егда же тое учение в дело произыдет и преуспе-вати начнет... егда услышат латинское учение в Москве наченшееся, ...лукавии иезуити подъидут, и неудобознаваемая своя силлогизмы или аргументы ду-шетлительныя начнут всевати, тогда что будет?» (цит по: [192, Приложения, VI — XXVI]). Если «славяне» еще не приняли латинского учения, то текст правильнее датировать временем накануне открытия Заиконоспасского училища в 1681 г., когда начались уже и «хлопоты» об организации академии.
Рассуждение Ефимия состоит из двух вопросов. Первый из них: «Учитися ли нам полезнее грамматики, риторики, философии, и феологии, и стихотворному художеству, и оттуду познавати божественная писания, или, не учася сим хитростем, в простоте богу угождати и от чтения разум писаний познавати?» Другими словами, что предпочтительнее с точки зрения благочестия: старинная система начетчества или свободные науки, риторически вопрошает автор, как будто этот вопрос не был разрешен участниками Вселенского собора 1666 — 1667 гг. Автор считает необходимым отметить, что учение — свет, а неучение — тьма: «Неученье — тьма, ослепляющая умныя очи... учение же ясная луна есть, ею же невежества тьма разрушается и естественныя человеческаго разума очеса просвящаются, и есть велие благо».
Затем следует второй вопрос: «Вопроситель паки рече: Вижду и поразуме-ваю, яко учение свет, неучение же тьма; но котораго языка учению учитися нам, славяном, потребнее и полезншее, латинскаго или греческаго?» Ответ свидетельствует, что все произведение было написано не для обоснования необходимости устроения в России училища, а прежде всего с целью не допустить открытия в Москве училища славяно-латинского. «Глаголют неции, — пишет автор, — яко свойственше нам, словеном, учитися латинскаго языка учению, яко удобншу сушу к познанию и потребншу, нежели греческому, неудобознан-ному». Опровергая это утверждение, публицист пересказывает вначале аргументы Мелетия Смотрицкого о сходстве славянского и греческого алфавитов, языков и грамматики, благодаря которому «учася тому не погрешит истинны о богословии». Но «опаство имети подобает, да не и славенский диалект от того латинского учения постраждет, яко уже и начинаются латинския и польския пословицы славенскаго языка в писаниях появлятися».
Далее любое возражение автора немедленно переходит в сферу богословия и пугает читателя жупелом «ереси». «Латинский язык скуден и убог по себе самому», а латинские библии все «неисправны». «Язык греческий честен и велик, и богословие могущ объяти, не заимствуя языка латинскаго; язык же латинский без греческаго ничто же могущ высоких разумений, паче же о богословии пи-сати и глаголати».
Обильно цитируя рассказы Епифания Славинецкого, автор утверждает, что «греческий язык и учение всю вселенную просвещает»; «Поведаше вышепомяненный Епифаний Славинецкий, о себе глаголя: яко вмале не прельстихся латинскаго мудрования лестию, дондеже прочитал святых отцев писаний греческих книг, но точию (только) читая латинския».
Следующий аргумент автора имеет негативный характер. «От учения латинскаго, — пишет он, — ничтоже еще видя, начинаются быти странныя под-верги и чуждыя восточныя святыя церкве...» Если же в Москве начнут изучать латинский язык, то она станет добычей иезуитов; тогда будет «отступление от истины, еже страждет или же пострада Малая Россия: приучившися латине, быша мало не вси униаты, редции (мало кто) осташася православнии». Зачеркивая многолетнюю борьбу украинского православного духовенства с католическим и униатским влиянием, автор сильно отступал от истины, тем более что именно оно твердо и последовательно отстаивало политический союз с Россией. Очевидно, что, обвиняя малороссиян в латинской ереси, публицист руководствовался корыстью некоей неофициальной группировки, не связанной с политическим курсом правительства.
Заключение сочинения еще яснее вскрывает намерения автора. Обращаясь ко всем духовным и мирским начальникам, он молит их всеми средствами «угасить малую искру латинскаго учения, не дати той раздмитися и воскуритися, да не пламень западнаго зломысленнаго мудрования растекся попалит и в ничто же обратит православия восточнаго истину». Другими словами, изучение латинского языка и, как следствие, знакомство с европейскими науками рассматриваются как прямая опасность для веры. Вместо этого предлагается изучать греческий язык и читать на нем сугубо богословскую литературу. Напоследок автор пугает власти распространением некоторых европейских идей в народе: «Аще же услышится в народе, паче же в простаках, латинское учение, не вем коего блага надеятися, точию избави боже всякия противности».
Таким образом, автор памфлета «Учитися ли нам...» выразил позицию непримиримых противников проектов российской академии, основной целью которых было недопущение распространения в государстве европейских знаний. Но памфлет показывает и другое: идея высшего учебного заведения стала к концу 1670-х гг. настолько популярна, что прямое отрицание ее сделалось невозможным. Потеряв свое подавляющее влияние, молчаливые до того «мудро-борцы» оказались втянутыми в полемику и вступили в нее в качестве «грекофилов», стремясь ограничить содержание и цели образования греческим богословием и нуждами греко-русской православной церкви.
Публицистическое сочинение под заглавием «Довод вкратце. Яко учение и язык еллиногреческий наипаче нужно потребный, нежели латинский язык и учения, и чем пользует словенскому народу» датируется концом 70-х — началом 80-х гг. XVII в. [51, 176 — 178; 86, 672 — 679]. Автор «Довода вкратце» не считает своих противников «латинствующими», т. е. зараженными ересью. Он сам ссылается на «Антония Поссевина, славнаго генерала иезувитцкого», призывавшего к изучению греческого языка, и обильно цитирует его сочинение. Публицист справедливо отмечает большое значение греческой культуры для западноевропейских стран. «Притом, — пишет он, — и академии древний греческие во многих странах, и греческий язык является в немецком и французском языке... А по взятии Царяграда от турков многие ученые мужи и з книгами святых отцов и философов приедучи, варварию разсыпали и искусство языков к ним приведоша» [86, 672 — 679].
Автор «Довода вкратце» дважды ссылается на опыт западноевропейских университетов, в которых изучается греческий язык. Он говорит, что «сами латини во всех своих академиах... вкупе учатся греческому и латинскому языку, зане иное основание, кроме греков, во всех свободных учениях, хотя и много трудилися, вымыслити не могут!» В другом месте автор повторяет, что «гречес-
кое учение во всех академиях и до днесь поучается вместе с латинским» в Венеции, Париже, Лондоне, Праге и Риме. Он признает превосходство этих университетов над современными греческими училищами, хотя и приукрашивает последние.
Утверждая, что «великая есть антипафия древняя меж народа русскаго и латинскаго», автор не склонен считать все латинское еретическим: «...и что-нибудь происходит от латинов, хотя и доброе, однако же подозрительное и неприятное». Тезис о «повреждении веры» латинским учением упоминается мельком лишь в заключении памфлета. Наконец, автор отнюдь не склонен запретить изучение латыни: «А по греческом учении, хотящему не вредительно учитися и латинскому, а в первой латинскому языку учитися велие опасение».
Таким образом, памфлет отстаивает необходимость положить в основу московского училища греческий и славянский языки с латинским факультативом. Более того, автор его отнюдь не сводит науки к богословию. Он упорно повторяет, что Греция «всех учений свободных всем государствам предаша». На греческом языке писали: «Птолемей — мусикию и астрологию, Никомах и Амвлих — сириане — арифметику и геометрию, Эрмис Тривеличайший и Архис-та — диалектику; и оставлю которые во учение законов, и в дохтурстве, и иных учениях написаны, иже нужно надобно ко учению языка греческаго».
Аргументы от богословия весьма кратки. Автор указывает, что грекоязычная Библия и святоотеческие произведения дают лучшие тексты, «с которыми сравнены переводы их являются на иных языках как неполны и несовершенны». Но эта тема не развивается из-за «множества толиких богословов, философов, дохтуров, творцов, риторов, астрологов, геометров и прочих. Кто богословие тако высоко, яко Дионисий и Григорий написаху? Кто остроумнее Аристотеля философию, или во астрологии Птоломеа, и в геометрии Евклида, и в риторику Димостена, и в дохтурство Ипократа и Галина, и в творцах Омира, и во всех прочих учениях кто подобии грекам?..»
Итак, автор безусловно признает авторитет античной науки и ее изучение на греческом языке ставит едва ли не выше богословия. В то же время он отдает себе отчет в том, что языком современной ему науки и дипломатии является латынь. «И греческое учение болшую славу причиняет, нежели латинское, — завершает автор свое сочинение, — понеже латинский язык общий, умножен, и не так в чести, яко греческий». Но в том-то и соль позиции публициста, что он отвергает этот общий язык европейской интеллигенции, добивается изоляции России, сохранения ее относительной обособленности от культуры Европы. «Вся Славяния по природе народа своего, — пишет он, — омерзается от учения и художества немецкаго, и что оттуду придет, какое-нибудь дело, кроме ремест-ва, чает себе вредительно и низвергает яко подозрительное». На том автор предлагает славянам стоять и впредь.
Как видим, несмотря на весьма существенные расхождения, авторов обоих памфлетов объединяет противостояние европейской науке нового времени. Важным средством ограждения России от нее является, по их мнению, полное запрещение или же ограничение изучения в стране латинского языка. Не в силах воспрепятствовать организации государственного высшего учебного заведения, «мудроборцы» в самом конце 70-х — начале 80-х гг. XVII в. попытались трансформировать его идею, превратив проектируемую академию либо в церковную школу, либо в средневековый университет.
Против организации академии выступал глава русской православной церкви. Причем его позиция в основном совпадала с позицией автора памфлета «Учитися ли нам...». Грамота патриарха Досифея к царям Ивану и Петру с сообщением о просьбе, переданной ему русским патриархом Иоакимом, говорит о том, что последнему «как мысль об учреждении училища в таких размерах
казалась несвоевременною, так и права, предоставляемая начальству академическому, не совсем согласными со строгими иерархическими понятиями». Иоаким «просит не многих наставников для учреждения целой академии, а одного учителя греческого языка. Очевидно, что патриарх хочет только продолжить и, может быть, улучшить состояние существовавшей греческой школы» [51, 184 — 185], которая была организована в противовес замыслу академии, сформулированному в особом документе («Привилее»).
«Привилей Московской академии», написанный от имени царя Федора Алексеевича Сильвестром Медведевым1 и утвержденный в начале 1682 г., в основных своих положениях совпадает с рассмотренными орациями 60-х гг. Так же как Лигарид, Сильвестр развивает мысль о спасительности науки для охранения и расширения веры и подчеркивает, что именно учением «вся царствия благочинное расположение, правосудства управление, и твердое защище-ние, и великое разпространение приобретают». «Сокращение же речей, — гласит «Привилей», — мудростию во вещех гражданских и духовных познаем доброе и злое, ...ни о чем же тако тщание наше составляем, яко же о изобретении премудрости, с нею же вся благая от бога людем дарствуется». Сильвестр ссылается на благословение «учения» в России «разными диалекты, греческим, славенским и латинским», данное при Алексее Михайловиче восточными патриархами Паисием и Макарием. Благословение Иоасафа опущено, возможно, потому, что разрешенное им могло быть запрещено Иоакимом. Однако программа «всему нашему царствию полезнаго... дела», по «Привилею», более соответствует иоасафовской грамоте. «На взыскание свободных учений мудрости, — гласит документ, — царь желает, — ...храмы чином академии утвердити; и во оных хощем семена мудрости, то есть науки гражданский и духовный, наченше от грамматики, пиитики, риторики, диалектики, философии разумительной, естественной и нравной, даже до богословии... постановити. При том же и учению правосудия духовнаго и мирскаго, и прочим всем свободным наукам, ими же целость академии, сиречь училища составляется, быти». Высшее учебное заведение должно давать как церковное, так и светское образование на трех языках, соответствовавших этим задачам.
Место и значение светского образования в академии определялись специальной 10-й статьей «Привилея»: студенты, избравшие светскую карьеру, «по совершении свободных учений имут быть милостиво пожалованы в приличные чины их разуму...».
Рассмотренные документы свидетельствуют о настойчивых попытках во второй половине 1660-х гг. добиться основания как латино-, так и греко-рус -ких светских и духовных училищ повышенного типа, предпринятых Симеоном Полоцким и поддержанных позже Сильвестром Медведевым. Противники предлагаемой ими системы впоследствии называли их латинствующими, тем самым обвиняя в пристрастии к католичеству. Однако подлинная позиция этих сторонников просвещения России иная. В конце 1670-х гг. усилия сторонников просвещения делают реальным осуществление проекта академии для подготовки европейски образованных светских и духовных кадров. Как раз в это время выступают так называемые грекофилы. Представители этой группировки, которых наиболее точно характеризует определение «мудроборцы», выступали
1 Авторство Симеона Полоцкого, в котором сомневался еще А. В. Горский [51, 180], было убедительно опровергнуто Н. Ф. Каптеревым [86. 655 — 656]. На Медведева как главного инициатора «умоления» Федора Алексеевича «построите академию» указывают Лихуды [137, 99 об. — 103, 117). Предположение А. И. Рогова, что «Привилей» был написан Карионом Истоминым, которое, по его мнению, «тем более вероятно, что «Привилею» предшествует стихотворное предисловие с прямым указанием на его авторство» [141, т. 2, 152], основано на недоразумении — стихотворное «Вручение» подписано Медведевым [161, 383 — 388].
прежде всего с негативной программой запрещения или существенного ограничения в учебных заведениях латинского языка и литературы в целях ограждения России от проникновения западноевропейской научной и общественной мысли. В позитивных предложениях «мудроборцев» выделяют два направления. Первое, имевшее официальную поддержку в лице патриарха, сводило проблему просвещения к основанию вместо академии достаточно примитивного духовного училища. Второе предусматривало организацию университета для изучения духовных и светских наук по античным классикам, чтобы противопоставить «огню западного зломысленнаго мудрования» «ученый» барьер.
Борьба между сторонниками просвещения и «мудроборцами» была важным этапом в развитии русской общественно-политической мысли [26, 177 — 209].
В начале 1680-х гг. борьба сторонников и противников высшего образования в России развернулась с новой силой. Создание «Привилея Московской академии», сформулировавшего основные принципы государственного учебного заведения для подготовки высококвалифицированных светских и духовных кадров, и организация в противовес ему церковного среднего Типографского училища стали крупными шагами двух противоборствующих группировок, а именно сторонников и противников высшей школы современного западноевропейского уровня. Вопрос об исходе этой борьбы оставался до последнего времени дискуссионным. Одни исследователи придерживались мнения, что вплоть до первой четверти XVIII в., до реформ Петра I, высшее образование в России было ограничено рамками церковного учебного заведения, программа которого более или менее соответствовала идеям «Привилея». Другое, более распространенное мнение сводилось к тому, что столь необходимое России высшее учебное заведение было создано уже во второй половине 1680-х гг. на основе «Привилея» 1682 г.
«Привилей Московской академии» является важнейшим источником изучения передовой педагогической мысли последней четверти XVII в. Историки долго спорили о том, имел ли этот документ официальное значение, т. е. был ли он подписан царем с приложением государственной печати, как указывалось в тексте сохранившегося его списка [ 136]1. Большинство считали, что, поскольку после смерти Федора Алексеевича Медведеву пришлось обращаться с тем же документом к царевне Софье, «Привилей» не был утвержден царем [43, 52]. А. В. Горский обнаружил разницу между «Привилеем» и упоминаемым в нем «Уставом академии», который должен был быть «приложен особо» [51, 180]. В свою очередь С. К. Смирнов и Н. Ф. Каптерев предположили, что «Привилей» был подписан царем, смерть которого, наступившая после продолжительной болезни 27 апреля 1682 г., помешала появлению указа об организации академии и ее устава [194, 16; 86, 638].
В «Привилее» неоднократно говорится о «Чине академическом». В частности, «Чин» должен был содержать текст присяги, принимаемой блюстителем и учителями академии (§ 4), правила академического суда (§8). В «Привилее» совершенно ясно сказано, что конкретное решение вопроса об организации академии будет связано именно с созданием ее «Чина»: «Сему дому... при совершенном «Чине» академии, иже от нас... востановится и утвердится, отныне во вся последующие веки быти непременно, без всякаго препятия и поруше-ния» (§ 18).
Утверждение «Привилея» не означало, следовательно, основания высшего учебного заведения. Он лишь содержал основные принципы его организации. Это объясняет, почему после смерти царя Федора Алексеевича осуществление его планов было задержано и почему Медведев во «Вручении» «Привилея»
Он принадлежал Сильвестру Медведеву и имеет правку его рукой.
царевне Софье (которая, безусловно, была в курсе дела) определенно говорил об утверждении этого документа царем: «Академии Привилей вручаю, ЦИже любезным ти братом создан есть,|| Повелением чинно написан есть».
Это заявление подтверждает другой современник — чудовский иеромонах Боголеп Адамов. Царь Федор, по его словам, «о научении свободных мудростей российскаго народа присно помышляше, и монастырь Спаский, иже во граде Китае, на то учение наменив, и чюдную и веема похвалы достойную свою царьскую утвердителную грамоту со всяким опасным веры охранением на то учение написа» [171, 42 — 42 об.]. Именно так, утвердительной грамотой идей, положенных в основу первого русского вуза, следует считать «Привилей».
Какие же принципы сторонники просвещения хотели положить в основу российской академии? Прежде всего, в «Привилее» формулировалось значение образования в системе государственной политики. Царь Федор Алексеевич обратился к проблеме организации училищ постольку, поскольку он выразил намерение «врученное нам... Российское царствие право правити и должности царския совершати». Образование же является ключом к решению двух главнейших задач государственного управления: «От них же есть первая и величайшая должность — охранение восточный православныя веры и тоя о разшире-нии промышление. Та же той подобная — о благочинном государства управлении и о защищении имети тщание. Знающе же убо едину оных и прочих царских должностей родителницу, и всяких благ изобретателницу и совершител-ницу быти — мудрость». Только мудрость может быть науководительницей «во вещех гражданских и духовных», — высказывает Медведев свою излюбленную идею. Поэтому просвещение России является главной задачей государственной власти.
Сознание государственной необходимости просвещения подсказывало идею создания высшего учебного заведения широкого профиля с изучением как гражданских, так и духовных наук. Поскольку академией в России XVII в. устойчиво называли крупнейшие западноевропейские университеты (дипломы которых требовали и тщательно проверяли у принимаемых на царскую службу иноземных специалистов), речь в преамбуле к «Привилею» шла о создании весьма крупного учебного центра с изучением наук гуманитарного профиля (включая философию), математического цикла, богословия, юриспруденции, весьма вероятно, медицины и, возможно, ряда других отраслей знания. По крайней мере, Карион Истомин, преподававший в славяно-латинской гимназии Медведева и активно выступавший в 1682 — 1683 гг. за организацию такого университета, обещал правительству с его основанием невиданные успехи «россов» в государственном управлении и юриспруденции, дипломатии и военном деле, естествознании и медицине, астрономии и мореплавании, философии и промышленности [25, 49 — 92, 132 — 133, 204 — 206 и др.].
В 18 параграфах «Привилея» формулировались организационные принципы академии. Прежде всего, она виделась как преимущественно государственное учреждение, что вытекало уже из определения места научных знаний среди государственных задач. Основным источником финансирования были царская казна и приписные дворцовые волости. Затем следовали приписные монастыри и вклады «всякаго чина людей», которые училищному Заиконоспас-скому монастырю в отличие от других дозволялось принимать без ограничений (§ 1 — 2). Значительное место среди учителей должны были составить люди «чина мирска», которых без письменного разрешения академического совета не разрешалось принимать на другую службу, а в старости они должны были обеспечиваться царской пенсией (§ 9). Особая статья определяла место выпускников академии на последующей государственной службе. Успешно осво-
ившим «из различных диалектов писаний, наипчае же славенскаго, еллино-греческаго, польскаго и латинскаго... за свидетельством училищ блюстителя и учителей, от нас, великаго государя, — обещала грамота, — имать быти достойное мздовоздаяние». Выпусникам гарантировалось преимущественное право на занятия государственных должностей, которыми царь намеревался жаловать помимо них только представителей знатнейших родов и лиц, особо отличившихся на практической дипломатической и военной службе (§ 10). В ведение академии должна была перейти государственная библиотека; строительство и ремонт зданий должны были производиться на казенный счет (§ 17, 18).
Особое внимание Сильвестр Медведев уделил автономии первого русского университета. Его студенты, «паче же наипрележно учащиеся», освобождались во время обучения от преследования по родительским долгам и уголовным преступлениям (исключая убийство), чтобы не было «препятия науке» (§ 7). Блюстители, учителей и студентов должен был судить как по церковным, так и по светским делам академический совет. При слушании дела блюстителя обязательно было присутствие представителей царя и патриарха. Даже при обвинении в убийстве или «ином великом деле» арест студента должен был совершаться с разрешения блюстителя (§ 8).
Уже упоминание среди изучаемых в академии иностранных языков на первом месте греческого, а не латыни наводило историков на мысль о компромис-сности содержания «Привилея», противоречивом отражении в нем «грекофильских» и «латинствующих» взглядов. Реального противоречия здесь нет, поскольку Медведев, как и Полоцкий и другие сторонники просвещения, считал полезным изучение не только латыни и живых европейских языков, но и греческого в отличие от «мудроборцев», считавших греческий единственно «благочестивым». Другой повод для суждения о компромиссности «Привилея» давало толкование в нем кадровой политики, прежде всего в отношении преподавателей. Параграф 3 гласил, что блюститель и преподаватели необходимо должны быть благочестивы, «рождены и воспитаны во православной христианской восточной вере». С боязнью проникновения в Россию ересей связано запрещение принимать на преподавательскую работу «новокрещенных» из других вер; выходцы из Белоруссии и Украины должны были подтверждать подлинность веры письменным исповеданием и «достоверными благочестивых людей свидетельствами». Подозревая особое пристрастие московских сторонников просвещения к малороссиянам, историки видели в этих требованиях их дискриминацию по сравнению с греками, хотя получение рекомендаций «благочестивых людей» было очевидно необходимым условием устройства на преподавательскую работу в столь привилегированный университет и вряд ли представляло больше затруднений, чем оформление грамоты от вселенских патриархов, необходимое для греков. Кроме того, обвинения Медведева и его сторонников в ереси, выдвинутые «мудроборцами» во второй половине 1680-х — начале 1690-х гг. и перекочевавшие на страницы трудов церковных историков, не соответствовали действительности. Весьма жесткую позицию в деле защиты православия Медведев проявил незадолго до утверждения «Привилея» в полемике с Яном (Андреем) Белобоцким [161, 198 — 204; и др.]. Позже Сильвестр пояснил свое отношение к иностранцам на примере Ликурга, который, писал Сильвестр, «постановил, чтобы дум (или советов) государства Лакедемонского людей от иноземцов не приимати. И то не для того делал, чтобы у иноземцов чести унимати или чтобы их ненавидети, но чтобы для их, иноземцов, по своей стране во всем совета, во обычаях и делах не была бы премена» [162, 39, ср. 37 — 38]. Стремление использовать современные научные знания для Медведева и его сторонников не означало преклонения перед западноевропейскими специалистами и обычаями. Карион Истомин в своих обращениях к правительству утверждал, что «искушенные» преподаватели желанной академии есть и в России [138, 47 об.; и др.].
Защита православия рассматривалась Медведевым как дело первостепенной важности. Изложенные в «Привилее» церковные права и обязанности академического совета вполне соответствуют этой позиции. Блюститель и учителя должны были приносить особую присягу «в лучшую же крепость и вящшее утверждение православия», нарушение которой каралось сожжением (§ 4); такая же казнь предусматривалась для занимающихся «магией» и «волхованием» (§ 5, 14). Совет приобретал значительные контрольные функции над научной квалификацией, чистотой вероучения и другими вероисповеданиями. Без его согласия запрещалось назначать на государственные должности иноверных «ученых свободных наук», а знати — держать таковых в домах (§ 11). Совет должен был следить за «противно святыя нашея православныя веры мудрствующими» и быть высшим судьей в таких вопросах, надзирать за новокрещеными и иноземцами других вер (§ 12, 16). Это существенно ограничивало функции патриарха и, несмотря на суровость формулировок «Привилея», должно было обеспечить более компетентное рассмотрение обвинений в ереси. Не свидетельствует о «компромиссности» сочинения Сильвестра Медведева и сформулированное в нем запрещение: «...неученым людям свободных учений никому польских, и латинских, и немецких, и лютерских, и калвинских, и прочих еретических книг у себе в домех не держати и их за неимением доволь-наго разсуждения и ради в вере нашей усомнения не читати». С церковной точки зрения это было справедливо по существу (а размышления Сильвестра всегда отличались логичностью). Кроме того, речь шла, скорее всего, о специально-богословской литературе (иначе «лютерские и калвинские» книги не выделялись бы из «немецких»).
Таким образом, «Привилей» формулировал основные принципы организации в России государственного высшего учебного заведения с обширной программой, правами и прерогативами для подготовки высококвалифицированных светских (в первую очередь) и духовных кадров. Однако предложенная Сильвестром Медведевым и утвержденная царем Федором Алексеевичем программа в XVII в. осуществлена не была. В 1682 — 1683 гг. Карион Истомин создал 4 редакции «Книги, желательно приветство мудрости», с которой обращался к правительству, указывая на отсутствие в России высшего учебного заведения и необходимость «об учении промысл сотворити, мудрость в России святу вко-ренити», имея в виду именно проект Медведева [25, 274 — 278; и др.]. Однако неустойчивое положение правительства Софьи не позволяло ему даже при наличии желания рисковать обострением отношений с патриархом, выдвигая явно анти-«мудроборческую» программу. В Москве продолжали действовать Типографская и Заиконоспасская школы, но вопрос о желанном «училище свободных мудростей» был законсервирован.
Наконец, очевидно, после длительной подготовки Медведев вновь обратился к властям. 21 января 1685 г. он вручил утвердившейся у власти царевне Софье Алексеевне переписанный набело экземпляр «Привилея», в стихотворном «Вручении» призвав ее завершить начатое царем Федором Алексеевичем дело.
Вопрос о необходимости высшего образования в России был на этот раз поставлен со всей резкостью.
Т(ь)ма, мрак без солнца, Тобою ону без мудрости тоже: утверди в нас, боже! мудрости сияти.
Дабы в России Имя ти всюду И понос от нас Яко Россия в мире прославляти. хощеши отъяти, не весть наук знати!
Государственная необходимость требовала, по словам Медведева, немедленной реализации проекта академии. Заставляла спешить и наметившаяся активизация «мудроборцев», готовившихся подменить академию собственными учебными заведениями [86, 666].
В январе 1685 г. посланные из Константинополя еще в 1683 г. учителя для Иоакима приехали в Киев. 6 марта они были в Москве, а уже в сентябре «святейший патриарх ходил в Богоявленский монастырь... для досмотру, где строить школу для учения учеником греческому книжному писанию» [192, 64 — 65]. Но начавшая вскоре работать греческая Богоявленская школа была лишь вре менным училищем. Для Иоакима и его сторонников важно было не столько завести собственную школу, сколько ликвидировать опасность возникновения действительной академии. С этой целью патриарх решил занять предназначенный для нее Заиконоспасский монастырь и по возможности закрыть школу Медведева. Уже 3 июля 1685 г. патриарх «ходил в Спасов монастырь для досмотру места, где строить каменные палаты для учения учеником греческаго книжна-го писания». Осенью 1687 г. этот план осуществился: вместо школы Медведева и Типографской школы в Заиконоспасском монастыре открылось учебное заведение Лихудов [192, 68 — 69].
Автор первого монографического исследования Заиконоспасских школ, утверждая их право называться академией, признавал в то же время, что «в бумагах того времени академией назывались греческие школы, еллино-славян-ские схолы» [194, 38, 39 — 43]. Действительно, название академии и вообще иные определения, кроме «школ, схол», не применяются к заведению Лихудов во всех известных к настоящему времени документальных и повествовательных источниках XVII в. С. К. Смирнов отметил, что источники финансирования этого учреждения были иными, чем намечалось в проекте академии. Специальное исследование М. Н. Сменцовского показало, что как строительство, так и содержание школ Лихудов производилось на средства Патриаршего казенного приказа (и дополнялось отдельными вкладами частных лиц) [192, 65 — 70]. Ни вотчины, ни монастыри не были к ним приписаны, как обещалось в «При-вилее». В источниках нет и следа наличия у школ предполагавшихся церковных и светских прав и обязанностей академического совета (который, впрочем, отсутствовал), а также и следов автономии академии. Таким образом, с юриди: ческой стороны между проектом российской академии 1682 г. и школами, открывшимися в 1687 г., нет никакой связи, кроме географического
расположения. Не больше связи было между ними и в учебной программе. Вплоть до смерти патриарха Иоакима в 1690 г. преподавание в старших классах школы велось исключительно на греческом языке. Учение ограничивалось грамматикой и риторикой. Кончина главного «мудроборца» позволила Лиху-дам, в свое время изучавшим преподававшиеся ими предметы только на латыни, ввести преподавание этого языка и начать курсы логики, основ метафизики, а к 1693 г. — поэтики. Это дало историкам основание предположить, что «постепенное» освоение курса высшего учебного заведения было запланировано с начала создания школ. В пользу этого предположения приведено одно свидетельство. «И велено им, — писал Поликарпов, — учителям, подавать все свободный науки на греческом и латинском языках постепенно» [151, 298]. Однако это противоречит прямому указанию единомышленника Иоакима — иерусалимского патриарха Досифея, отправившего Лихудов в Москву. В 1693 г., узнав о «нововведениях» Лихудов в программе их школ, Досифей послал грамоты царям и патриарху Адриану, утверждая, что «мы, и св. констан-тинополский патриарх, и весь собор приказали им (Лихудам. — А. Б.), чтоб не учили в школе латинского языка и учения, опричь еллинскаго, а они, приехав тамо, творили и чинят все противно. В толикие лета, что живут (в Москве. — А. Б.), довелось бы им иметь учеников многих и учити б грамматику и иные учения, а они забавляются около физики и философии...». «Довольно есть, — заключал патриарх, — чтоб толкователи (переводчики. — А. Б.) были латин-скаго языка для единой только службы пречестнаго престола царскаго; а чтоб в школе латинского языка не учити, ниже прочитати, — такой указ учинити». Именно этот и другие энергичные протесты Досифея заставили московского патриарха Адриана отстранить Лихудов от преподавания в «еллино-греческих схолах» [192, 285 — 331; 87; 88].
О том, что школы Лихудов не давали высшего образования, свидетельствует пример Палладия Роговского, поступившего туда с надеждой «доступити» такового, но вскоре разочаровавшегося и выехавшего «ради совершеннаго учения» за границу [61, т. XVIII, с. 148 — 197]. В греко-славянских школах Заиконоспасского монастыря начали преподавать недоучившиеся ученики Лихудов, которые «учение давали, сколько сами прияли», вплоть до 1700 г. Тот же Поликарпов на три года ошибся в определении времени отстранения Лихудов от преподавания (он называет 1690-й год вместо 1694-го), утверждая, что преподавание велось «на едином токмо еллино-греческом диалекте». Другого и не могло быть, поскольку латыни ученики Заиконоспасской школы освоить не успели.
Единственным аргументом в пользу если не признания по существу, то названия школ Лихудов академией является преемственность этого учреждения с будущей Славяно-греко-латинской академией XVIII в. Но и это допущение имеет мнимый характер. Программа и формы преподавания уже в начале XVIII в. были полностью пересмотрены, когда учреждение возглавил ученик Виленского, Ниского, Оломуцкого университетов и Римской коллегии Палладий Роговский, а затем по прямому указу Петра I за перестройку школы в училище взялся известный общественный деятель Стефан Яворский. Даже помещения школ пришлось перестроить в период реформ, поскольку в строении патриарха Иоакима потолки обрушились и печи рассыпались.
Отказавшись от накопившихся в литературе легенд о «грекофилах», и «латинствующих», от искусственного «удревнения» Московской славяно-греколатинской академии, мы можем реально оценить остроту борьбы носителей передовой педагогической мысли за просвещение в переломный момент истории нашей страны. В XVII в. упорство просветителей не было вознаграждено открытием в Москве университета. Более того, наиболее активные из них пострадали от преследований «мудроборцев». И Полоцкий, и Медведев лишились своих училищ. Первый посмертно был обвинен в «ереси», второй подвергнут зверскому истязанию и после жестокого заточения с указанием «бумаги и чернил отнюдь, не давати!» казнен «главоотсечением».
Но именно просветители, а не светские или духовные власти сумели внести решающий вклад в создание системы образования в России. Они со всей ясностью сформулировали и широко распространили идеи государственной необходимости просвещения, всесословного высшего (равно светского и духовного) образования, автономии вуза и арбитражных функций его ученого совета, внедрили в сознание общества мысль о том, что развитие национальной науки является важнейшим условием процветания России.
Просветители XVII в. не смогли увидеть реальных плодов своего труда, но уже в первой четверти XVIII в. государственная власть по требованию времени вынуждена была — пусть с оговорками и ограничениями — приступить к реализации их программы, претворение которой в жизнь затянулось на многие десятилетия.
Глава IV ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ И СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ В ДРЕВНЕЙ РУСИ
1. МЕСТО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В ОБЩЕЙ СИСТЕМЕ ДРЕВНЕРУССКОГО ВОСПИТАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ
Профессиональное обучение направлено на воспроизводство квалифицированной рабочей силы. Такая задача стояла и стоит перед человечеством постоянно. Общее решение задачи и конкретная система подготовки кадров зависят от сложности применяемых орудий, от масштабов самого производства, от способов производства и типа социальной системы, от уровня знаний и степени их обобщения. Решение этой задачи, следовательно, историческое по своему характеру и значению. Независимо от способа производства (первобытнообщинный, рабовладельческий или феодальный) или типа социальной системы (деспотия, демократия, республика или монархия) вплоть до появления мануфактур на заре нового времени орудия труда оставались простыми, а масштаб производства — малым. В силу этого в докапиталистических обществах в системе подготовки кадров было много общего. И тем не менее все составляющие этого процесса находятся в постоянном движении.
Производство является условием и основой всех иных видов человеческой деятельности. Его становление и эволюция вплоть до современных форм представляют постоянный процесс, в котором взаимосвязаны дифференциация и интеграция трудовых процессов [31, 10]. В производстве реализуются механические и творческие функции человеческой личности, и всякая новизна в производственной деятельности содержит в своей основе теоретическое обобщение трудового (механического в том числе) опыта [32, 3 — 9].
Качественная дифференциация трудовой деятельности в сочетании с простотой орудий труда привела к обособлению (и сосуществованию) различных видов деятельности и породила специализацию, один из видов разделения труда.
В классовых докапиталистических формациях «средства труда — земля, земледельческие орудия, мастерские, ремесленные инструменты — были средствами труда отдельных лиц, рассчитанными лишь на единоличное употребление... Но потому-то они, как правило, и принадлежали самому производителю... Следовательно, право собственности на продукты покоилось на собственном труде» [2, 211, 213]. На собственном труде вырастала и квалификация ремесленника. Навыки и мастерство, дававшиеся многолетней практикой, сохранялись и передавались наследникам и ученикам. Обучение было основой не только сохранения навыков и мастерства. В ходе обучения мастерство, навыки и умения осмысливались, анализировались и обобщались. Мастерство и обучение становились основой, на которой создавалось знание практическое, прикладное по своему характеру, но оно несло в себе зародыш обобщенного теоретического знания. Это знание организационно было разобщенным и, передаваемое по наследству (вместе с квалификацией), выступало как особого вида собственность, создавая «закрепление социальной деятельности» [53, 159].
«Каждая ступень разделения труда определяет также и отношения индивидов друг к другу соответственно их отношению к материалу, орудиям и продуктам труда» [1, 20]. В системе подготовки кадров отношения индивидов друг к другу детерминированы их положением не менее, чем в общем социальном плане. Непрерывность исторического процесса позволяет рассматривать как непрерывный процесс и профессиональное обучение, являющееся одной из составляющих этого процесса.
В отношении ранней истории профессионального обучения в Древней Руси, когда многие его черты и свойства выражены неполно и неясно, оправданно и целесообразно обращаться к фактам, характеризующим синхронное западноевропейское ремесло (с его цеховой организацией), где интересующие нас явления выражены более четко. Столь же целесообразно оценивать раннюю историю профессионального обучения в ретроспективе, в свете фактов, относящихся к XVI и даже XVII в. Такой подход — следствие отношения к истории профессионального обучения на Руси как целостному и непрерывному эволюционному процессу, отдельные черты и части которого в разных источниках и материалах отразились по-разному.
Правильному пониманию процесса профессионального обучения также помогает знакомство с миром образов, чувств, представлений о вещи, свойственных средневековому мастеру. Западноевропейская литература того времени сохранила и донесла до нас теоретические основы профессиональной подготовки [64, 24 — 39].
Предписания для изготовления вещи начинаются, как правило, с описания материала и его происхождения. Такое вступление было необходимо для мастера, который, создавая вещь, стремился понять, почему вещь именно такая, а не иная. Это предполагало тесную связь самого предмета и знания о нем: чтобы сделать вещь, нужно ее познать, и, наоборот, чтобы познать вещь, ее надо сделать. Ремесленное знание включало в себя знание и о предмете, и о его производстве, и о материале, и о происхождении последнего. Средневековое знание было знанием об умении, оно было рецептурным знанием [17, 57].
Каждая вещь выступает не только как продукт труда, но и как овеществленное знание, хранит в себе это знание. Поскольку готовая вещь принадлежит уже не мастеру, а другому лицу, то и само знание передается другому лицу, другому коллективу. Единение индивидуального и коллективного знания уходит корнями в доклассовое общество, составляя основу народной педагогики, из которой немало можно почерпнуть для воссоздания системы профессионального обучения в Древней Руси.
Вместе с тем в средние века было хорошо известно, что знание дает власть над вещами, поэтому передача знаний была делом строго личным: знание передавалось от человека к человеку, из уст в уста. Средневековый мастер передавал ученику не только знания, но и часть самого себя. Средневековый ремесленник воспроизводил себя в процессе своего труда «во всей своей целостности» [3, 476].
Средневековое знание было особым: оно расценивалось как своего рода качество и свойство личности мастера и выступало общим свойством мастера и его ученика, поскольку мастер и ученик следовали одному и тому же рецепту. Естественно было бы ожидать, что и созданные ими вещи не должны различаться. Но, как известно, все средневековые вещи различны, двух абсолютно одинаковых нет; их различает не только степень владения технологическими приемами, есть и более тонкие различия, которые определяются, возможно, самой личностью мастера, его чисто индивидуальными склонностями, способностями, вкусами и симпатиями. Каждый мастер, создавая новую вещь, совсем немного, едва заметно изменял ее. Эти изменения постоянны и непрерывны.
Очевидно, что и само производство вещей, и знания о вещи развивались таким образом, что связь настоящего с прошлым и будущим была неразрывной в пределах обозримого отрезка времени. Как велик был этот отрезок — вопрос далеко не праздный. Длина обозримого отрезка времени соотносится с продолжительностью человеческой жизни, с бытовой исторической памятью,
со скоростью накопления и роста научно-технических знаний, а в конечном счете и со способами фиксации этих знаний и способами их передачи.
Система профессионально-технического обучения, созданная в недрах общинного строя, подвергалась многократным поправкам, подновлениям и переработкам в дальнейшем. В результате, прежде чем изучать историю профессионального обучения в Древней Руси, нам предстоит «расслоить» дошедшую до нас картину. Среди исторически неизбежных превращений нужно найти некоторый порядок и представить целостную картину отдельно для каждой эпохи. Однако «реставрация» подобного рода невозможна: в одних случаях можно представить лишь отдельные сюжеты, в других — связь некоторых частей, в третьих — лишь самую общую композицию. Более того, фрагменты общей картины обладают еще одним досадным свойством: они статичны. Однако, сравнивая неподвижные фрагменты, относящиеся к разному времени, мы получаем предварительные представления о динамике интересующих нас перемен.
2. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ЭТАПЫ РАЗВИТИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОЬУЧЕНИЯ В ДРЕВНЕЙ РУСИ.
ФОРМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Профессиональное обучение у восточных славян
Изменения в самом производстве, его техническом оснащении и структуре, социальная и культурная государственная политика, внешние связи, культурные, торговые и политические, по-разному, прямо или опосредованно, но все вместе влияли на профессиональный состав населения, специализацию внутри профессий, а в конечном счете и на всю систему подготовки кадров, на структуру и характер профессионально-технического обучения.
Способ организации и ведения хозяйства, замкнутого в пределах семьи или общины, был рационален для своего времени, в догосударственный и раннегосударственный периоды. Столь же рациональна была и система обучения профессиям. Она отличалась универсальностью и, будучи рутинной по своему характеру, содержала в себе тем не менее внутреннюю, скорее, потенциальную, но вполне реальную возможность прогрессивного развития, пусть очень медленного.
Система домашнего обучения и воспитания предусматривала подготовку детей к самостоятельной жизни. Взрослые создавали систему жизнеобеспечения и воспроизводства, знали правила межличностного общения в больших и малых коллективах; на их ответственности лежала передача всего этого знания последующим поколениям. Если принять во внимание полный объем знаний, нужных для ведения самого простого хозяйства, то станет очевидной необходимость специализации. Именно поэтому издревле существовало половозрастное разделение труда. Так, изготовление глиняной посуды велось вручную и было женским делом, которое передавалось по наследству от матери к дочери, вплоть до появления гончарного круга в X в. Дочери, выходя замуж, уносили свое знание и умение в свой новой дом. Археолог надежно устанавливает родство форм и декора посуды по линии мать — дочь. Сравнивая такую родственную посуду по нескольким признакам: по тесту, технике изготовления, форме и декору, можно обнаружить, что форма сосудов меняется в пределах некоторого стандарта, а технология не меняется совсем, более всего меняется декор.
Передача профессиональных знаний по линии мать — дочь была прямой
и предусматривала скорее индивидуальное обучение, чем групповое; объем передаваемых знаний был невелик, но достаточен для дальнейшей работы, сама же степень усвоения знания была также достаточной и допускала некоторую свободу творчества в выборе конкретной формы и конкретных декоративных элементов.
Изготовление посуды — это только одна составляющая домашнего профессионального знания. Мало меняясь, оно удовлетворяло, надо полагать, почти неизменные по своему характеру основные потребности индивида, семьи, небольшой популяции. Так, из 10 признаков, характеризующих керамику, например, борщевских городищ (Верхний Дон, X в.), 7 признаков остаются неизменными на протяжении двух столетий, три признака менее устойчивы, варьируются. Можно сказать, что на протяжении указанного времени 30% информации, профессионального знания, находится в движении, 70% остается стабильным, неизменным.
Профессиональное знание внутри небольшой популяции является качественно единым на протяжении обозримого отрезка времени, основная и существенная часть знания остается неизменной, меняется менее существенная его часть. Знание является достоянием популяции, оно внутренне едино, но внешне разобщено. Очевидно, что и форма передачи такого знания может быть устойчивой и неизменной на протяжении большого отрезка времени (в наших примерах — от полустолетия до двухсот лет).
Внутренних стимулов для расширения и углубления производственных навыков и знаний в домашней системе обучения нет, хотя она и предусматривала обучение порядку действий, последовательности операций, самоконтролю и т. д. В рассмотренном выше случае передача знаний осуществляется от поколения к поколению. Фольклор фиксирует систему передачи знаний через поколение: от бабок и дедов — к внукам. Беседы «старцев» с детьми были своего рода школой, в которой знания передавались внукам в устной форме, а иногда и практически — на примере трудоемких и, возможно, необязательных работ. Эти знания и сама система их передачи были разными: от поколения к поколению — знания рациональные, практические, через поколение, — скорее, теоретические. Внутри поколения знания не только передавались, но и закреплялись: производился обмен информацией, ее обсуждение, сравнение, оценка.
Новое поколение не имеет ни серьезного трудового опыта, ни серьезных трудовых навыков. В процессе обучения приобретаются знания, существенно опережающие собственный опыт поколения. В этом принципиальная суть обучения: собственный опыт поколения накладывается на знания, полученные от поколения предшествующего. В процессе обучения создается образ будущего труда. Созданию такого образа и было подчинено домашнее профессионально-техническое обучение.
В домашней системе обучения приобщение к труду начиналось с самого раннего детства, настоящее обучение труду — с семи, может быть с шести, лет. К 16 — 18 годам люди становились взрослыми, и к этому времени кончалось, вероятно, первоначальное их обучение в пределах семьи. Дальнейшее обучение, если оно было необходимо, осуществлялось в иной связи и в ином коллективе. Знания и опыт, которые накапливались к этому времени у человека, живущего в замкнутых рамках домашнего хозяйства, были разнообразными. Известно, например, что русский крестьянин владел примерно 200 различными профессиональными навыками, оставаясь профессионалом-земледельцем.
Наряду с универсальным домашним производством в рамках общины существовали профессионалы: гончары и кузнецы. Занятие этими ремеслами предполагало владение специальными знаниями: умением управлять пламенем и температурой, знанием свойств материалов и т. д. Несмотря на сложность и объем необходимых профессиональных знаний, система их передачи, а следовательно, и подготовки кадров была, несомненно, патриархальной, во многом определявшейся обычаями, традициями.
Педагогика была несложной: личный пример и индивидуальный опыт, общение старших и младших, а также сверстников в детском коллективе были той школой, которая сообщала знания, перерабатывала и закрепляла их, превращая в практическое умение и навык. Навыки нужны были самые разные и, будучи универсальными, содержали в себе потенциальную возможность превращения в специализированные профессиональные навыки.
Профессиональное обучение в X — XVI вв.
Появление новых форм обучения
Переход восточнославянских племен на стадию государственности явился результатом сложных изменений в производственноэкономических и социальных процессах, внешним выражением которых выступили новые потребности. Часть новых потребностей легко удовлетворялась за счет количественного увеличения объема выпуска продукции, другие можно было удовлетворить за счет неглубоких количественно-качественных преобразований традиционных производств или путем увеличения ввоза, удовлетворение третьих требовало создания новых производств, обработки новых материалов, освоения новых видов труда.*
Общинное ремесло и домашние промыслы не могли справиться со всеми новыми задачами, новые потребности диктовали необходимость изменений и в производственной структуре, и в системе подготовки кадров. Ремесло, будучи по своему масштабу производством мелким, было тесно связано с потребителем, поэтому соответствие рангу потребителя стало его характерной чертой. В новых условиях существовали смерды и горожане, тиуны и бояре, церковники, монахи, воины, дружинники и князь; рядом с общинным ремеслом сложилось ремесло городское, вотчинное и монастырское, особняком стояла группа ремесел, сосредоточенная при дворе великого князя.
Потребитель, разный по своему социальному положению, определял не только номенклатуру изделий, но и материал, качество работы, а в конечном счете и квалификацию ремесленника, которая в свою очередь зависела прежде всего от системы профессионального обучения.
Новая структура ремесла в основном сформировалась к середине X в. Поскольку подобные преобразования связаны с изменениями социальной и политической структуры восточного славянства и образованием государства, то начало преобразований, по-видимому, нужно отнести к середине IX в. Иными словами, за одно столетие, в течение которого сменилось 4 — 5 поколений, на базе домашних промыслов и общинного ремесла сложилось производство, организованное на основе применения ручного труда. Этого срока оказалось достаточно, чтобы общинная система, в основе своей замкнутая и закрытая, не только раскрылась, но и реализовала скрытые в ней потенции развития, создав рядом с собою городское ремесло (в разных его вариантах). Произошла крупная технологическая революция, которая преобразовала почти все составляющие производства и создала новую систему обучения. Эта система обучения в более развитой форме приближалась к системе корпоративного обучения, но на ранней стадии развития системы корпоративные начала выражены очень слабо.
Становление городского ремесла сопровождалось невиданной ранее концентрацией трудовых ресурсов, производственного опыта и знаний. Объем совокупных универсальных знаний был, вероятно, огромен, достигая временами
предела человеческих возможностей. В такой ситуации есть два пути дальнейшего совершенствования знания: один путь предполагает укрупнение единиц познания без потери приобретенных знаний, другой — создание разграниченных сфер знания и практики. Первый путь ведет к сложению некоторого теоретического знания, которое может стать и становится основой профессии (при наличии определенных навыков и опыта), второй — к сложению тонких и сложных знаний, скорее, практического характера, которые при наличии навыков и опыта становятся основой специальности.
На начальном этапе (середина IX — середина X в.) ремесло эволюционировало, следуя преимущественно по второму пути, по пути дифференциации знаний и навыков. Именно так: общинный кузнец-универсал дал жизнь и оружейникам, ковавшим кольчуги, шлемы, стрелы, копья, мечи, боевые топоры, и кузнецам, ковавшим серпы, косы, топоры, ножи, прочийтнструмент и орудия труда. Дробная специализация в различных производствах — характерная черта ремесла раннеклассовых обществ [40, 112]. Накопленный опыт и знания были обобщены в единой технологической схеме. На протяжении X — XI вв., вплоть до начала XII в., рубящие и режущие орудия и оружие изготавливались по одной общей и самой сложной технологической схеме (многослойная сварка, или пакет). Единая технология, применявшаяся городскими ремесленниками, пришла на смену нескольким разным, применявшимся ранее кузнецами сельских и городищенских общин. Это очевидная примета практического освоения знаний, получивших теоретическое обобщение. Обобщенные знания, которые легче передать, очевидно, и стали теоретической основой профессионального образования, дополненные опытом, они достаточны для практической деятельности. Специальность же приобреталась путем освоения дополнительных знаний и в процессе обучения, и на практике, путем совершенствования мастерства. Не исключено, что профессиональное обучение уже к этому времени подразделялось на два этапа: первый этап совмещал теоретическую и практическую подготовку, по своему содержанию он мог соответствовать подготовке мастера-универсала (подобного общинному кузнецу), на втором этапе формировался специалист более узкого профиля и более высокого класса.
Профессиональное обучение имело две основы: теоретическую, именно так следовало бы назвать обобщенные знания, которые можно передать словесно, и практическую. Обе эти основы, будучи тесно связанными друг с другом, тем не менее обладают способностью к самостоятельной и независимой эволюции, что становится очевидным в более позднее время.
Коль скоро содержание обучения было разным, продолжительность, место и формы обучения также могли быть разными: в отчем доме или «в людях», индивидуально или в группе, долго и медленно, коротко и быстро. Как бы ни было организовано обучение, каким бы ни было оно по своему характеру и форме, между учителем (мастером) и учеником (учениками) был тесный контакт и, очевидно, архаичные по своему социальному характеру отношения. Переданные знания были достаточными не только для самостоятельной деятельности в дальнейшем, но и для некоторого приращения знаний. Если в догосударственный период на отрезке времени в 100 лет три четверти знаний оставались неизменными, а четверть находилась в движении, то в более позднее время обновление знаний происходило быстрее.
Структура ремесла, знаний и соответственно структура обучения профессиям к концу X в. изменяются. Наряду с традиционными видами материального производства, уходящими корнями в предшествующий период, появились новые виды ремесла: каменное строительство, чеканка монет, сложная ювелирная техника, стенопись и иконопись, стеклоделие и глазурование, изготовление дорогих одежд и т. д. Все эти производства сформировались в очень короткий срок, появившись сразу и почти одновременно, в сложном виде. Замечено, например, что дорический ордер в древнегреческой архитектуре в полной совокупности своих элементов сложился во временных пределах деятельности одного поколения. «Кратковременность сложения ордера указывает не на механический, но на творческий характер этого процесса» [39, 187]. Этот далекий пример помогает понять необыкновенную скорость развития древнерусского ремесла.
Новые производства были теснейшим образом связаны с интересами господствующего класса и государства, которое взяло на себя инициативу создания и функцию организации их, обеспечение их сырьем, заказами и кадрами. С конца X в. характер профессионального обучения на Руси усложняется: приглашаются учителя, мастера из-за границы. Это, по существу, новая система обучения, и она может быть названа государственной. Обучение новым профессиям могло быть скорым и эффективным только в том случае, если ученик был достаточно образован и уже профессионально обучен в близком по характеру ремесле. И таким образом, возникла еще одна система обучения, система «переподготовки кадров». Эта система обучения была, вероятно, организована по типу обучения в государственных мастерских Византии. Иностранные учителя являли собой достаточные по значению и силе «каналы связи» древнерусского ремесла с уже накопленным производственным опытом и техническими знаниями других стран и народов. Новая система, возможно, включала в себя изучение иностранного языка (грамотность и необходимая математическая подготовка, очевидно, подразумевались).
Владимир Святославич, создавая свой двор и государственное хозяйство, следовал самому лучшему образцу: на его взгляд, таковым являлся двор византийского басилевса. Организационные структуры некоторых производств были перенесены на Русь в неизменном виде с помощью византийских мастеров, что можно расценивать как своего рода экспорт ремесла и технических знаний. Это дает нам основание обратиться к византийскому правовому памятнику «Книга эпарха» (официальный свод уставов константинопольских ремесленных и торговых корпораций), к особенностям ремесла и торговли в Константинополе IX — X вв. [20].
Византийский императорский двор и государство сводили к минимуму свои закупки на частном рынке. Многочисленные государственные мастерские, занятые производством предметов роскоши, находились в помещении императорского дворца. В них трудились потомственные ремесленники, от которых требовалась высокая квалификация и знание традиций. В случае необходимости временно привлекались свободные ремесленники.
Система обучения ремесленников была только индивидуальной. Производственной основой являлась небольшая мастерская, в которой работали мастер и один, редко два помощника. Все работы жестко регламентировались в целях обеспечения высокого качества продукции, поэтому нельзя было расширять мастерскую, скапливать запасы сырья, самим его запасать и продавать готовую продукцию. Товарность этого производства особая. Система государственных мастерских в Византии была организована по типу соответствующих мастерских римской эпохи. Их главной особенностью было высокое качество работы, которое обеспечивалось чрезвычайно дробной специализацией, доходившей до того, что нанизывание бус на нитку было особой специальностью, а порядок их расположения в ожерелье определял другой специалист [46; 56 — 58].
Древняя Русь не располагала собственным организационным опытом такого рода, она целиком заимствовала его из Византии, придав ему свои особенности. В домонгольское время на Русь были привнесены в готовом виде новые ремёсла. Для освоения этих ремесел потребовался исторически очень короткий срок — всего около 30 — 40 лет, время активной жизни 1 — 2 поколений: специалистами высокого класса стали внуки тех, кто осваивал новые ремесла и профессии.
Русь времен Владимира I и Ярослава Мудрого приняла многих мастеров «от грек». Отношения мастеров и учеников складывались непросто: активность учеников нередко вызывала у мастеров сопротивление, нежелание обучать во всех деталях. В качестве примера могут служить взаимоотношения византийских и древнерусских стеклоделов, которые можно реконструировать на основании археологических данных, препарированных с помощью естественнонаучных методов. Как выясняется, отношения эти были весьма своеобразными: византийские учителя обучили своих древнерусских помощников и учеников лишь отдельным элементам ремесла, самым простым и рутинным. Все успехи, которых достигло древнерусское стеклоделие, нужно отнести на счет ума, изобретательности, образованности, осознанного желания понять, постичь и освоить изготовление неизвестного, но очень нужного в ту пору материала, каковым было стекло [87, 182 — 187].
К концу X в. в Древней Руси существовало несколько систем профессионального обучения. Две системы существовали издревле: домашнее обучение и профессиональное обучение в рамках сельской общины, которые М. Н. Громов называет бытовой и групповой системами обучения [23, 37 — 38]. Эти системы были дополнены двумя качественно новыми. Одна из них, система государственного обучения, оформилась почти сразу с учетом зарубежного опыта. Другая существовала в кругу ремесленных профессий, связанных с удовлетворением основных материальных и духовных потребностей общества в целом. М. Н. Громов эту разновидность обучения именует профессиональной подготовкой. Спустя столетие, в последней четверти XI в., появилась еще одна система профессионального обучения — монастырская. Эта система подготовки кадров складывалась в христианском мире в течение столетий и в готовом виде была перенесена на Русь вместе с самими монастырями.
Все эти системы, сформировавшись почти одновременно, развивались по-разному, в силу различия потенциалов, заложенных в них. Системы обучения: государственная, монастырская, домашняя и общинная — были хорошо приспособлены к решению задач, частных по своему характеру и значению — обслуживанию (и самообслуживанию) отдельных, иногда замкнутых социальных групп. В новой системе обучения осуществлялась подготовка кадров для всех без исключения производственных профессий. Городское ремесло и связанное с ним профессионально-техническое обучение делали свои первые шаги. Эта система сложилась как новое социально-экономическое явление.
Развитие Древнерусского государства на раннем этапе сопровождалось возникновением новых и активным ростом уже существующих городов, что способствовало распространению вширь однажды найденных организационных форм и структур ремесленного обучения. Специфика экстенсивного развития исключает необходимость глубоких внутренних преобразований. На протяжении всей домонгольской эпохи серьезных преобразований в изучаемой системе, казалось бы, не должно было быть. Однако установлено, что технология в кузнечном деле изменялась неоднократно на протяжении X — XV вв.: технология многослойного пакета уступила место торцовой наварке в начале XII в., которую в свою очередь сменила косая наварка на рубеже XIII — XIV вв., серьезные технологические перемены произошли в начале XVI и XVII вв. [30; 51; 49; 26]. Совокупность изменений в технологии производства, в данном случае кузнечного, принято называть сменой технологических поколений. В наше время на памяти одного поколения происходит смена двух-трех поколений технологических. Смена технологических поколений происходила в средневековье в ином темпе: около ПОО-х гг., в интервале 1250 — 1300 гг., около 1500-х гг. и после 1600-х гг., последовательно через 200 — 100 лет.
Очевидно, что перемены в системе профессионального обучения нужно искать около этих дат. Технологическая периодизация существенно влияет на оценку фактов из истории профессионально-технического обучения, которых пока еще недостаточно.
Археологический материал позволяет охарактеризовать направление развития ремесла, которое сопровождается соединением видов деятельности и технологий, характерных для разных профессий. Так, например, новгородские стеклоделы передают свои знания не только ювелирам, но и гончарам: появляются мастера, изготовляющие глиняные игрушки, покрытые блестящей зеленой поливой, и перстни с эмалью. Эти наблюдения иллюстрируют одну очень интересную особенность в развитии ремесла: инновации разного рода наиболее чутко воспринимаются в городском ремесле. Это и естественно: придворные мастера, составлявшие элиту в отрасли, не зависят от рынка, они обеспечены и заказами, и материалами, и лучшими инструментами, и наиболее квалифицированными консультациями. Придворные мастера имеют наилучшие условия для работы и творчества. Общинный, деревенский мастер ограничен в своих возможностях и инициативе, его связь с рынком невелика. Городские же ремесленники, не только свободные, но и вотчинные, составляют ту часть ремесла, где инициатива и творческий подход — столь же важное условие процветания, как и высокое мастерство. Зависимость от рынка заставляет расширять мастерские и искать новые формы обучения: в большой мастерской можно иметь не только одного, а нескольких учеников.
Первоначальная подготовка специалистов, очевидно, была единой во всех звеньях средневекового ремесла: индивидуальное обучение, непосредственный контакт учителя и ученика, последовательное освоение операций от простого к сложному. На этой стадии обучения ученик получал универсальные профессиональные знания (достаточные для работы с разными материалами). Получение специальных профессиональных знаний составляло второй этап обучения. Для одних он сопровождался переходом в новый коллектив и в новое состояние (очевидно, младшего мастера), для других он заключался только в совершенствовании известных и освоении новых видов труда без каких-либо изменений в социальном положении. Нам представляется, что во многих традиционных производственных ремеслах институт ученичества не был ярко выражен в домонгольское время, хотя безусловно существовал, но скрыто, в форме патриархальных отношений, регулировавшихся обычаями и традицией.
Большие по площади мастерские XIII — XIV вв. допускали возможность иметь нескольких помощников, младших мастеров и учеников. В таких мастерских осуществлялось расширенное воспроизводство рабочей силы. Избыток рабочей силы быстро рассасывался: вновь возникавшие на Руси города предоставляли много рабочих мест. Новые ремесла, такие, как стеклоделие и изготовление поливной керамики, сформировавшиеся в Киеве, перемешались в Новгород, Полоцк, Смоленск, Рязань.
В древнерусском ремесле XII в. изменилось очень многое. Начавшаяся на рубеже XI — XII вв. смена технологического поколения повлекла за собой, и другие изменения, среди которых распространение грамотности среди ремесленников можно считать главным [13, 196 — 199]. Если грамотность ремесленников была желательна на рубеже X — XI вв., то их умение читать и писать неоспоримо для XII — XIII вв. Грамотность была нужна, чтобы записать: «Господи, помози рабу своему», чтобы подписать свою продукцию (русский ремесленник
делал это гораздо чаще, чем его западноевропейский собрат, который сохранял анонимность своей продукции вплоть до Ренессанса), пометить свой инвентарь: литейные формы, аршин, поплавки; снабдить этикеткой товар: «вино», «масло», «гороухща», «миро», «мень», проставить имя заказчика и владельца, перенумеровать бревна сруба. Грамотность требовалась резчику литейных форм для изготовления печатей, крестов, иконок, складней. Человек, снабжавший надписями кресты и иконки, княжеский золотой убор, должен был разбирать кроме русского и греческий алфавит. Мог ли ремесленник использовать грамоту для приобретения специальных знаний? В домонгольское время, скорее, нет, в XVII в., безусловно, да.
Ремесленник мог бы записать правила соединения исходных материалов (для получения нужного сплава или керамического теста) в виде ряда цифр: 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 2:1, 2:3 и т. д. Знания, зафиксированные письменно, отделяются от знающего их и начинают собственную жизнь по своим законам. Освоить такое «отчужденное» знание можно по книгам, с учителем или в порядке самообразования. Однако столь простые соотношения легко знать наизусть и так же, устно, научить другого, поэтому запись и была необязательна. Такое соотношение было своего рода модулем. Модулем руководствовались не только древнерусские архитекторы, живописцы и колокольных дел мастера. Эмальеры применяли модульный метод для расчета фигурок святых, в качестве модуля принимался диаметр нимба [5, 7].
Освоение модульного метода могло быть важной составляющей при обучении ремеслу. Химический состав искусственных материалов (стекла) и сплавов (правда, это скорее догадка, чем факт), расчет основных конструкций, пропорций и декоративных элементов выражены определенным модулем. В модульном методе, вероятно, была реализована главная идея средневекового обучения: максимум знаний — из минимума знаний.
Особенности профессионально-технического обучения в известной мере определены организацией труда. В русском домонгольском ремесле существовало разделение труда по предметному принципу: лучники, пуговичники, ножевники и т. д. Археологи открыли и другую форму разделения труда — по операциям: в одной мастерской используются приемы только горячей обработки (литье в разных вариантах), в другой, где делают бубенчики, пуговицы и цепочки, применяются приемы только холодной обработки (ковка, тиснение). Подобная специализация наследуется. Профессиональная подготовка различалась по видам специализации, была разной и по объему сообщаемых знаний, и по степени их усвоения. Деревенское, общинное ремесло включало в себя лишь некоторые профессии; также далеко не все специалисты находили место в монастырских, вотчинных и придворных мастерских. Полное разнообразие специалистов всех возможных уровней квалификации сосредоточивалось в городах, эта особенность городского ремесла определяла его особую роль не только в экономическом развитии Руси, но и в развитии профессионально-технического обучения рассматриваемой эпохи.
Профессиональные знания, получаемые учеником, являлись основой самодеятельного приращения навыков. В древнерусском ремесле разграничения сфер производственной деятельности и ее регламентация были менее жесткими, чем в ремеслах других стран, и прежде всего Византии.
За счет городского ремесленничества росла сеть и великокняжеских, вотчинных, а отчасти и монастырских мастерских (у монастырей был еще один источник — деревенские мастера, которые вместе с землями, полученными в качестве дарений, оказывались под монастырской эгидой).
Предметное разделение труда и обучения дополнялось разделением труда и обучения по операциям; индивидуальная подготовка мастера дополнялась возможностью группового обучения. Но характер профессионально-технического обучения, присущего домонгольской Руси, определялся индивидуальным обучением в небольших мастерских.
Особенности профессионально-технической подготовки кадров в последующие эпохи, вплоть до середины XVII в., восстанавливаются с трудом — не хватает ни документов, ни археологических данных. Система подготовки кадров сохраняла свою зависимость от уровня социального и экономического развития страны. Наряду с индивидуальным обучением более широко распространяется обучение групповое. Естественным результатом эволюции этой формы должно было стать образование профессионально-технических школ (училищ, классов). Процесс становления системы подготовки кадров растянулся почти на 200 лет и завершился в Петровскую эпоху. Все увеличивающийся спрос на ремесленную продукцию менял «кадровую структуру» мастерской: мастер имел нескольких учеников одновременно, появились работники без квалификации.
Подразделение работников в больших мастерских по месту в технологическом цикле и по уровню квалификации, а следовательно, и по отношению к совокупному знанию приобрело социальный характер: руководство и организация работ перешли в руки господствующих классов, проведение основных и вспомогательных работ оказалось в руках лично свободных граждан, черные работы легли на плечи крепостного крестьянства и городской бедноты. Новая организация производства определила социальную стратификацию производственно-технического обучения.
В XVII в. в условиях развивающегося товарного производства мастер, стремясь сохранить самостоятельность, вел свое производство на началах товарности. Новые экономические условия заставляли мастера удлинять рабочий день, нанимать работника и подмастерья, прибегать сначала скрытно, а затем и явно к разным формам эксплуатации учеников и подмастерьев. Мелкое ремесленное производство, присущие ему патриархальные отношения мастера и ученика теряли свою основу в новых условиях, а вместе с этим и возможную перспективу развития. Индивидуальное обучение — передача ученику только собственного опыта — обнаруживало в новых условиях многие недостатки, среди которых застойность, косность и консерватизм можно назвать первыми. Индивидуальное обучение сохраняло свое значение долгое время, вплоть до нашего, и на известном этапе овладения мастерством является неизбежной и необходимой формой. К XVII в. оно утратило свое первостепенное значение, свою ведущую и определяющую роль. Уступив место массовым формам профессионального обучения, оно сохранило за собой главенствующее положение в подготовке некоторых редких специалистов, в большинстве других случаев став вспомогательной формой обучения.
Ремесленное ученичество в XVII в.
Особенности организации обучения ремеслу в XVII в. определяются ростом ремесленного производства, превращением его в мелкотоварное и углублением специализации.
Об институте ремесленного ученичества в XVII в. мы можем судить на основании договоров на обучение; отдельных дел, касающихся побегов учеников и злоупотреблений мастеров; материалов центральных приказов, относящихся в основном к правительственному учету и контролю за обучением. Однако особенности учебного процесса не получили достаточного отражения в данных документах.
В целом весь институт ремесленного ученичества можно разделить на два
вида обучения: частное (у мастера-ремесленника) и государственное (обучение при приказах). Эти два вида иногда как бы пересекались, так как жалованные государевы мастера могли брать учеников из посадской среды, но обучали их у себя дома, на своем материале [14, 103; 54, 44 — 45]. В положении учеников, взаимоотношениях их с мастером, оформлении договоров на обучение и, вероятно, в самом процессе обучения между этими двумя видами существовало некоторое различие, поэтому рассмотрим их отдельно.
Частное обучение. В XVII в. ученики поступали в обучение различным ремеслам: ткацкому, скорняжному, кузнечному, колокольному и многим другим. Детей отдавали также в «научение торговле», грамоте и письму (скорописи) . Девочек обучали шитью, в частности золотошвейному делу.
Что касается социального состава учеников, то подавляющая часть их происходила из семей посадских людей. Но бывали случаи, когда в ученики поступали дети из служилых семей, придворных кругов, а также дети служилых иноземцев. Иногда отдавали в учение дворовых ребят для подготовки мастеров из среды зависимых людей. Возраст учеников был различным, но большинство поступали в обучение 12 — 13 лет, иногда и позже — в 16 — 20 лет [14, 112].
Обучение ремеслам в большинстве случаев (если обучение не проходило в семье) сопровождалось «жилыми» («учебными») записями на ученичество, которые являлись актами юридического характера, определяющими взаимные обязательства мастера и ученика.
Родители отдавали сына или дочь в обучение на определенный срок, в течение которого ученик должен был «жить во дворе [мастера] и всякую домашнюю работу работать», повиноваться хозяину и членам его семьи. Также в запись вносились обязательства не причинять убытков мастеру, не воровать, не уходить от него до истечения срока и т. п. Мастер со своей стороны обязан был обучать принимаемого им ученика «чему сам горазд», кормить и одевать. Факт составления учебной записи обязательно регистрировался в книгах Приказа холопьего суда или съезжей избы Новомещанской слободы, без чего запись теряла силу [14; 105]. Жилые записи скреплялись поручительствами. В числе порутчиков могли быть родители ученика, лица, отдавшие ребенка в обучение, или посторонние люди, но все они несли ответственность за выполнение учеником своих обязанностей, в случае нарушения которых поручители платили довольно крупную неустойку. Но поручители также являлись защитниками интересов ученика и его попечителями до окончания срока учебы.
В жилой записи, во-первых, определялся срок ученичества. Обычный срок обучения составлял 5 лет (иногда он был короче — до одного года или длиннее — до 15 лет). Но необходимо отметить, что свыше пятилетнего срока ученик обязан был жить у мастера в возмещение «за учение», за одежду и т. д., а также «из найму». Так, вдова Федора Иванова отдала сына своего в обучение «грамоте и писать» и кружевному промыслу на 5 лет, «...а за ученье того мастерства жить еще 5 лет, а третью 5 лет жить из найму... А найму по договору на ту 5 лет... по 3 рубли денег на год» [59, 69]. Из приведенного документа видно, что, закончив учение и став уже подмастерьем, ученик иногда получал компенсацию за свой труд, но, как правило, работал даром, в уплату за учение. Срок обучения в 5 лет устанавливался, вероятно, в том случае, когда за обучение ученика платили деньги (например, когда отдавали учиться дворовых людей); срок менее 5 лет, видимо, встречался в том случае, когда первоначальное обучение ученик получал в семье и лишь для овладения более высокой, чем у отца, квалификацией поступал в ученики к другому мастеру [55, 151].
В течение указанного срока обучения мастер должен был обучать ученика своему мастерству «безо всяких хитростей», т. е. ничего не скрывая от ученика. Этот основной пункт договора излагается в записях в общей форме, но из материалов судебных дел известно, что небрежное исполнение мастером своей обязанности служило самым серьезным мотивом для разрыва договора. Так, Егор Никитин был отдан отцом в обучение котельному мастеру на 5 лет. Сверх этого, ученик был обязан отработать 2 года за учение, а мастер — выплатить 14 руб. и выдать одежду и обувь. Из следуемых ученику денег его отец при заключении договора получил 5 руб. Поскольку ученик прожил у мастера 5 лет и тот его ремеслу не выучил, отец ученика просил не только о досрочном отпуске сына, но и о выдаче 9 руб. как оплаты за работу. В результате судебного разбирательства спор был решен в пользу ученика [14, 111]. Также поводом для расторжения договора на обучение могло служить дурное обращение мастера с учеником.
Закончив обучение, мастер часто был обязан выдать ученику одежду, обувь и необходимое ремесленное оборудование — «снасти» для начала самостоятельной работы (эти требования также оговаривались в жилой записи).
В редких случаях обучение ремеслам проводилось без жилых записей, когда ученик являлся пришлым человеком, не имевшим или средств для уплаты за обучение, илн поручителей. Чаще всего без жилых записей ученики обучались у нескольких мастеров [59, 75 — 76].
Государственное обучение. В то время как на Западе организующее начало ремесленного производства было сосредоточено в цехах, в России в XVII в. в роли организатора ремесленного обучения часто выступало само правительство. Первая половина XVII в. отмечена становлением системы дворцовых мастерских палат. Подготовка квалифицированных ремесленников путем обучения учеников мастерами Оружейной, Золотой и Серебряной палат, Пушкарского и других приказов приобрела широкие масштабы. Центром ремесленного ученичества была Оружейная палата, где изготавливалось парадное и строевое оружие, работали самые известные иконописцы и живописцы. В начале XVII в. дворцовые мастерские черпали кадры из городской ремесленной среды: городские ремесленники привлекались к исполнению царских заказов, для особенно крупных работ вызывались мастера из разных городов, часть мастеров по завершении работы оставалась в Москве. В 20 — 30-е гг. XVII в. правительство часто приглашало зарубежных мастеров, особенно золотого и алмазного дела, рудознатцев. Назначая мастерам большие оклады, администрация дворцовых палат строго оценивала их профессиональные качества, часто устраивала при приеме особое испытание. Всем мастерам-иноземцам, принятым на русскую службу, вменялось в обязанность обучать своему делу учеников, передавать им свои профессиональные навыки и секреты [54, 37 — 38]. Русские мастера дворцовых палат должны были передавать свой опыт и навыки в первую очередь братьям и сыновьям. Семейная, закрепленная в поколениях преемственность мастерства поощрялась в дворцовых мастерских, способствуя формированию русской художественной школы.
Если частное обучение было связано с составлением жилой записи, то при поступлении в дворцовые палаты и приказы ученики должны были иметь поручные записи, сходные с жилыми записями в части обязанностей учеников. Обязанности мастера в них не оговаривались, так как контроль за процессом обучения осуществляла администрация палат. Поэтому даже весьма общие слова «учить, чему сам горазд» оказывались лишними, потому что и мастер и ученик состояли на государственной службе. Дети и племянники жалованных мастеров, владеющие той же специальностью, принимались без поручных записей.
Четко определенного срока ученичества в государственных мастерских не было. По решению администрации ученик мог быть передан для обучения
другому мастеру, мог быть переведен через 1 — 2 года в мастера или оставлен в учениках на 7 — 8 лет. Если перевод ученика к другому мастеру определялся изменяющимися запросами двора на ту или иную специальность, то срок ученичества определялся не только степенью приобретенной квалификации, но и тем, что в дворцовых палатах как на учеников, так и на мастеров были штатные места. Поэтому перевод в мастера часто был возможен только на «убылые» места1.
Мастера в дворцовых палатах, как правило, имели по нескольку учеников, находившихся на разных ступенях постижения мастерства. Все мастера получали плату за обучение учеников, которая выражалась деньгами и пожалованиями сукна, мехов и т. п. Оплата была почти одинакова во всех мастерских Кремля. Так, А. Вяткин за обучение двух учеников получил по 10 руб. в год за каждого, Н. Давыдов за обучение ученика получил прибавку к окладу в 10 руб. [54, 42].
Учеников государственных мастерских палат можно разделить на две части — получавшие кормовое жалованье и не получавшие. Вероятно, обучавшихся в палатах было несколько больше, чем штатных мест учеников. Получать кормовое жалованье мог только достаточно обученный ученик, принимавший участие в исполнении государственных заказов. Поэтому в начале обучения ученик (особенно не владевший специальностью) не мог рассчитывать на выдачу ему «кормовых», хотя иногда время, в течение которого ученик не получал денег, было явно больше срока, необходимого для получения достаточно высокой квалификации. Так, Федор Простой в челобитной 1679 г. пишет: «Работаю я в Серебряной палате в учениках 4 года без жалованья и без корму, беспрестанно денно и нощно» [54, 43]. В среднем «поденный корм» ученика был 6 денег в день, но были и так называемые «старые» ученики, получавшие 2 алтына в день, и «жалованные» ученики, которым платили 5 руб. в год. Необходимо отметить, что использование учеников, как получавших «корм», так и не получавших, было выгодно администрации палат.
Перевод ученика в мастера осуществлялся по челобитной мастера или ученика. Определяя квалификацию ученика, мастера прибегали к сравнению его е другим учеником, ранее переведенным в мастера. Но четких правил перевода в мастера не существовало. Например, Федор Федоров — ученик Серебряной палаты просил перевести его в мастера, перечисляя свои чеканные работы, т. е. демонстрируя таким образом свое мастерство. Положительное решение последовало, вероятно, после осмотра работ.
В некоторых случаях ученики по окончании обучения должны были изготовить вещь «на образец». Ее оценивали не только учителя, но и другие мастера с целью дать более объективную оценку. После этого ученика переводили, при наличии свободных мест, в мастера, определяя ему оклад.
Практика проведения испытаний при приеме в число мастеров почти всегда соблюдалась, но были и исключения. Так, Иван Артемьев, обучавшийся у своего дяди, мастера Серебряной палаты Ивана Григорьева, просил принять его на место умершего дяди. Его просьба была удовлетворена без испытаний — он был принят жалованным мастером с окладом Ивана Григорьева. Так же, без испытаний, в Серебряную палату на место отца был принят Иван Степанов, обучавшийся серебряному делу у отца, а золотому — у мастера-иноземца. Это говорит о том, что получить звание мастера «за работу» отца или дяди было принято и рассматривалось и самим учеником, и администрацией палат как «пожалование в чин» [54, 41].
Государство осуществляло контроль не только за обучением в дворцовых
1 О существовании штатных мест для учеников в Оружейной палате пишет Е. М. Тальман [59, 78], ио, вероятно, так было и в других государственных мастерских.
мастерских и центральных приказах, но и за частным обучением. Именно в сфере профессионального (ремесленного) обучения государство впервые проявляет свою особую заинтересованность, причем намного раньше, чем в других областях, контролируя и поддерживая практику привлечения большого количества учеников в государственные мастерские палаты. О заинтересованности государства в подготовке большого числа ремесленников свидетельствует не только то, что оно брало на себя функции контроля за частным обучением (об этом говорит факт занесения жилой записи в книги некоторых государственных учреждений), но и то, что главным и весьма весомым поводом для расторжения договора (иногда с уплатой денег ученику) было невыполнение мастером своей обязанности учить. Отдача в обучение (частное) была средством обеспечить ребенка на более или менее длительный срок и дать ему в будущем верный заработок, так как обычно денег за обучение не платили, а за «ученье» ученик был обязан отработать несколько лет у мастера. Обучение в государственных мастерских было более «элитарным». Вероятно, большая часть учеников проходила первоначальное обучение до поступления в мастерские, в палаты же принимались уже обладающие некоторой квалификацией. В процессе обучения они частично содержались за счет государства.
Обучение при Посольском и Поместном приказах
Особым видом профессионального образования, сочетавшегося одновременно с начальным, было для XVII в. обучение детей при центральных и местных учреждениях (приказах и приказных, или съезжих, избах). Основной его целью была подготовка грамотных и специально образованных подьячих для нужд государственного аппарата.
Для выяснения путей приказного обучения остановимся на тех кратких сведениях, по истории приказных школ XVII в., которые предоставляют нам делопроизводственные документы приказов. Несомненно, подготовка подьячих к ведению приказных дел в стенах самого учреждения могла иметь место и в предшествующий период и осуществлялась в основном в процессе самой работы. Организация систематической и планомерной подготовки их началась только в XVII в. — в период расцвета приказной системы управления, требовавшей все большего количества обслуживавших ее подьяческих кадров. Достаточно сказать, что если в 20-х гг. в московских приказах работало всего 585 подьячих, то к концу века количество их достигло уже двух с половиной тысяч [24, 124]. В результате этого на повестку дня выдвигается вопрос о подготовке одновременно большого количества подьячих. Понятно, что если в конце XVI — начале XVII в. система частного, а скорее всего домашнего, образования в основном обеспечивала потребность центральных, а отчасти и местных учреждений с их немногочисленным штатом, то уже во второй четверти века старые способы подготовки подьячих становятся явно недостаточными. У нас нет данных, чтобы говорить о том, что вопрос о подготовке грамотных подьячих был поставлен по инициативе правительства. Скорее, можно считать, что первоначально он решался в стенах приказов на уровне их руководства. При этом систематическое и организованное обучение приказных кадров внутри учреждений было начато первоначально в Москве и только к концу века перенесено в другие места.
Для приказного обучения на протяжении всего XVII века характерна своеобразная форма школ, которые могут быть названы так только условно. Эта форма в какой-то мере по своему внешнему виду приближалась к ремесленному ученичеству, но резко отличалась от него по содержанию. Она складывалась постепенно и по-разному для различных учреждений. Однако для всех них было характерно вплоть до начала XVIII в. вычленение школы из общего штата учреждений и оформление положения учащихся в ней в качестве низшего разряда подьячих, а именно как неверстанных (т. е. не получавших жалованья).
Первые имеющиеся у нас сведения об учащихся при приказах относятся к Посольскому приказу, что понятно, так как работа в нем требовала особенно высокой квалификации и разнообразных знаний. Уже в 1621 г. в приказе находилось двое подьячих — И. Непоставов и И. Кукменев, называвшихся в документах «робятишками» [65, 1]. В данном случае мы можем только предположить, что оба мальчика являлись учениками. Более подробные данные по этому поводу имеются только для 1669 г., когда в штате приказа числилось уже четыре человека, о которых в списке приказных служителей было прямо сказано, что «они вновь по челобитью для ученья сидят» [69; 6; 70, 90]. В 1672 г. по распоряжению приказных дьяков число учащихся было дополнено Е. Андреевым и Г. Гавриловым, которому предписывалось «быть для ученья в Посольском приказе в подьячих у Василия Бобинина» [70, 36 об.]. Важно, что в данном случае назван специальный подьячий приказа, отвечавший за обучение молодых людей. Старый подьячий В. И. Бабинин, который вскоре после этого был произведен в дьяки, один из опытнейших служащих приказа, неоднократно принимал участие в посольствах в иностранные государства (главным образом в Швецию) и, конечно, в совершенстве был знаком с особенностями дипломатической службы и делопроизводства [19, 54]. Выбор подобного человека в качестве учителя свидетельствовал о том, что подготовке молодых специалистов в приказе уделялось большое внимание.
В 1689 г. состоялся специальный приговор Боярской Думы, определивший новые штаты Посольского приказа, а также узаконивший существование при приказе особой школы. Указ разрешил набор в нее пяти учащихся «для ученья и признания дел» [72, 1 об.]. В начале XVIII в. посольская школа оформилась окончательно. В 1701 г. в ней уже училось шесть «вновь учиненных учеников», получавших особое денежное содержание [71; 9]. При общем небольшом штате приказа, не превышавшем 20 — 25 человек, ученики составляли в нем около четвертой части.
Назначение посольской школы достаточно ясно. В нее набиралось сравнительно небольшое количество детей, которые должны были пополнить ряды посольских подьячих. Определенная замкнутость и корпоративность наблюдались и в принципах комплектования учащихся, которые поступали в основном из приказных семей и в значительной степени из числа детей посольских подьячих.
Срок обучения в посольской школе составлял примерно два года.Так, с 1702 по 1704 г. находился при приказе в качестве ученика А. Андреев [74, 2 — 3]. Нельзя утверждать, что здесь имело место начальное обучение в полном смысле слова. Вероятно, можно говорить, скорее, о совершенствовании грамотности, полученной от отцов — подьячих, о приобретении высокой техники письма (скорописного и полууставного), а также об освоении особенностей дипломатической документации. Однако какие-то начальные навыки учащимся преподавались и здесь. О последнем свидетельствует отзыв, данный в 1692 г. старым подьячим А. Алексеевым о подчиненном ему ученике С. Иванове, в котором старый подьячий сообщал, что Иванов, «хотя в приказ ходит и дневанье свое хранит, только писать мало умеет» [16, 164]. Речь, несомненно, идет о слабых успехах одного из учащихся в навыке письма, чему в работе приказа уделялось большое внимание. Особенно ценилось при этом умение «писать в лист», т. е. писать грамоты в иностранные государства, которые обязательно, вне зависимости от их размеров, должно было умещать на одном листе. Техника написания таких грамот предусматривала наличие красивого и мелкого почерка. Поэтому посольские подьячие особенно славились высоким уровнем каллиграфии, достижение которого, по-видимому, должно было явиться результатом обучения в посольской школе. Прибавим к этому, что именно из подьячих Посольского приказа вербовались учителя для «научения скорописному письму» царских сыновей. Это отмечал в середине XVII в. подьячий того же приказа Г. К. Котошихин, который писал в своей книге: «А как приспеет время учить того царевича ...писать учить выбирают из посольских людей» [33, 19]. И действительно, учителем царевича Алексея Михайловича был посольский подьячий Г. В. Львов, царевича Федора Алексеевича — посольский подьячий П. Т. Белянинов и т. д. [27, 613]. Таким образом как бы признавался опыт и умение учителей посольской школы.
Изучение языков в программу школы при Посольском приказе явно не входило, так как в этом не было необходимости при существовании в штатах приказа особой группы переводчиков и толмачей, в подавляющем числе иностранцев или представителей народов, входивших в состав России (татар, калмыков и др.). Только в середине XVII в., когда была сделана попытка освободиться в ведении дипломатических связей от посредничества переводчиков-иностран-цев, проводится ряд мероприятий по индивидуальной подготовке русских специалистов, владевших каким-либо западным или восточным языком. В 1643 г. польскому языку обучался подьячий И. Максимов, в 1652 г. — А. Лихвинцев [73, 1 — 2]. Примерно в это же время «для научения татарскому языку и грамоте» был послан в Астрахань подьячий П. Зверев [66, 55 — 59; 67, 77]. Однако массового характера подобное обучение не приобрело и происходило всегда не в стенах посольской школы.
Несколько по-иному была организована учеба при самом крупном учреждении XVII в. — Поместном приказе, где она получила значительно больший размах. Мы располагаем сведениями о школе при приказе только с 70-х гг., однако вероятно, что школа существовала и несколько ранее. В списках подьячих 1671 г. в конце группы молодых неверстанных подьячих была выделена особая часть их, против которой на полях было указано: «Сидят для науки малые робятки» [80, 214 — 215]. Подобные примечания есть и в списках последующих годов, где такая группа называется просто «малые» [78, 73; 81; 1 — 14]. Благодаря этим кратким свидетельствам мы можем установить количество и состав учеников поместной школы примерно за пять лет: в 1671 г. их было 35 человек, в 1672 г., по-видимому, приблизительно столько же, в 1673 г. — 33, в 1674 г. — 94, в 1675 г. — 54 человека. Всего за период с 1671 по 1675 г. обучение при Поместном приказе прошли 128 учеников. Как удалось установить, 24 из них являются выходцами из приказных семей. Происхождение остальных неизвестно, но можно предположить, что среди них наряду с детьми подьячих были представители более широких, чем это имело место в составе посольской школы, социальных слоев городского населения.
По имеющимся документам можно составить некоторое представление об организации поместной школы. Учащиеся были разделены между разными столами приказа и прикреплены к стоявшим во главе их старым подьячим. В 1673 г. в Рязанском столе было 17 учеников, во Владимирском — 8, в Псковском и Московском — по 5 [77, 1937]. Таким образом, наибольшая группа учащихся была сосредоточена в Рязанском столе, который возглавлял старый опытный подьячий Е. Остриков, очевидно и руководивший обучением [82, 1].
Подавляющее большинство учеников поместной школы находились в ней два-три года. Реже обучение продолжалось четыре года или ограничивалось одним годом. Разница в сроках была связана, вероятно, с различной степенью предыдущей подготовки учеников. Те из них, которые такую подготовку имели уже до поступления в приказ, учились от одного до двух лет; те же, которые поступали в приказ неграмотными, проходили более длительный срок учебы.
Исходя из самого назначения школы при Поместном приказе — подготовка кадров для работы в самом приказе, можно представить, что обучение кроме выработки навыков в чтении и письме отражало специфику именно этого приказа. Следует сказать, что сама манера письма поместных подьячих заметно отличалась от существовавшей в Посольском приказе. Для нее был характерен более крупный, чем у посольских подьячих, почерк, мало декорированный и размашистый. Силами подьячих Поместного приказа осуществлялись крупные общегосударственные и многочисленные частные работы по описанию, межеванию и отводу в пользование земельных владений на большей части государственной территории. Составлялось большое количество списков и выписок, неоднократно переписывались документы. При этом весьма ценилась быстрота исполнения и значительно меньшую роль играл внешний вид письменной продукции. Во всех этих работах необходимы были немалые специальные знания и навыки — знание арифметики, сошного письма (т. е. землемерного дела, техники оценки качества земель, расчета площадей в трех полях), наконец, в случае земельных споров умение составлять простейшие планы местности. Несомненно, начатки знаний во всех этих областях должны были даваться ученикам поместной школы. О том, что вопросы, связанные с усвоением техники сошного письма, входили в программу школьного обучения, свидетельствует, например, тот факт, что поступивший в 1671 г. в школу Д. Иванов уже в 1673 г. был командирован из приказа для работы в качестве подьячего в одну из писцовых комиссий [78, 73 — 73 об.].
Для понимания характера и значения деятельности школы при Поместном приказе важно выяснение дальнейшей судьбы ее учеников. Менее половины поступивших в школу (60 человек) остались работать в приказе в качестве подьячих. Их служебная карьера свидетельствует о том, что обучение не являлось подготовкой работников высшей квалификации. Напротив, большинство прошедших подготовку в приказной школе включались первоначально в состав молодых подьячих, дальнейшие же повышения их шли одновременно и на равных условиях с остальной массой молодых подьячих. Еще 17 учеников перешли на работу в другие приказы, 2 — в приказные избы. Остальные 49 человек выбыли из круга ведения приказных учреждений. Даже если допустить, что часть их отсеялась в связи, например, с болезнью или просто бросила учебу, то значительные размеры этой группы позволяют предположить, что для ряда учеников с самого начала их обучения речь шла не столько о стремлении поступить на государственную службу, сколько о получении начального образования как такового.
С достоверностью можно предположить наличие подобных же школ при других крупных приказах, в том числе при Разрядном и Сибирском, являвшихся центрами рисуночной картографии XVII в. и несомненно готовивших в своих стенах подьячих-картографов.
В конце XVII в. близкую к приказам практику обучения находим и на местах, в частности в Сибири. Центром ее делается столица Сибири — Тобольск, где располагалась приказная изба с большим штатом подьячих. В 90-х гг. обучение при сибирских приказных избах было санкционировано из центра. В особом определении Сибирского приказа, подготовленном дьяком А. А. Виниу-сом, по этому поводу говорилось следующее: «Которые подьяческие и иных людей дети похотят для ученья письма и привыкания приказных дел с отцами и сродниками своими в съезжих избах сидеть, и тем быть без окладов» [84, I]. Таким образом, здесь мы снова находим ту же систему оформления учеников в качестве неверстанных подьячих, сложившуюся ранее в Москве и перенесенную оттуда на места. Следует сказать несколько слов о тех учебных пособиях, которыми пользовались для обучения старые подьячие приказов и приказных изб. Насколько можно судить, основным пособием, как и в частных школах грамотности, являлась учебная псалтырь, о чем свидетельствует большая доля подьячих (13% от общего числа) среди покупателей печатного издания этой книги в 1663 г. [38, 9]. Показательно при этом, что, как фиксируют документы, подьячие покупали по нескольку экземпляров книги, что могло быть связано с нуждами обучения [38, 18; 68, 3]. Сведения о библиотеках отдельных подьячих позволяют несколько расширить наше представление о составе возможных учебных пособий. Так, в числе книг разрядного подьячего М. К. Носова в 90-х гг. находим «Азбуку учебную» [79, 24], а у подьячего Сибирского приказа И. А. Петелина — «Алфавит письменной и книжку письменную цыфирную» [84, 4].
Как видно из приведенных данных, обучение при приказах являлось особым видом образования, предусматривавшего получение как навыков в чтении и письме, так и особых знаний (арифметических, землемерных, картографических и т. д.) в соответствии с профилем учреждения.
Обучение при Аптекарском приказе
Первые дающие медицинское образование школы были созданы в XVII в.: в 1654 г. в Москве открылась «лекарская школа», учениками которой были стрельцы, стрелецкие дети и «иные чины» [22, 16; 35, 44]. Сведений о деятельности первой медицинской школы не сохранилось. Распространенным было обучение медицине по системе индивидуального ученичества.
Возраставшая потребность в медиках привела к появлению в 50-х гг. XVII в.1 в Аптекарском приказе лекарских учеников, которые считались состоявшими на службе и получали жалованье. В 1655 г. их было не менее 28, в 1656 — 1657 гг. — 34 или 36, в 1658 г. — не менее 38, в 1682 г. — не менее 27 [41, 184 — 186; 42, 658, 704; 43, 1291].
Как возраст, так и социальный состав лекарских учеников достаточно разнообразны, но чаще ими были стрельцы и стрелецкие дети, а также дети и родственники медиков. Складываются потомственные семейные профессии. Так, в 1679 г. был принят в лекарские ученики по просьбе отца, лекаря Степана Алексеева, Андрей Степанов; Иван и Яков Тихоновы становятся учениками собственного отца — алхимиста Тихона Ананьина, прежде также бывшего «алхимиским учеником»; в 1682 г. костоправным учеником вместо погибшего брата стал Григорий Исаков (Исаев), сын костоправа Исака Павлова, тоже прошедшего ученичество [43, 1064, 1095 — 1096, 1270].
Большую часть учеников составляли выходцы из стрельцов. В 1654 г. были взяты в Аптекарский приказ «для учения лекарского дела из стрельцов и из стрелецких детей 30 человек». Одни из первых учеников — Федот Васильев и Андрей Федотов были стрельцами. Поступают в 1657 г. в лекарские ученики стрелец Федот Васильев и стрелецкий сын Герасим Микифоров, в костоправ-
1 Есть основания полагать, что одни из первых учеников появились в 1652 — 1653 гг., однако это могло произойти и несколькими годами раньше (41, 434 — 435].
ные ученики — стрелецкий сын Дмитрий Обросимов и т. п. [41, 434; 42, 699, 728].
Род прежних занятий обучавшихся медицине мог оказать существенное влияние на их занятия и даже дальнейшую судьбу: по государеву указу многие из них прерывали учебу и вновь становились стрельцами. Из взятых в 1654 г. в ученики 30 стрельцов и стрелецких детей через пять лет после начала обучения были вновь возвращены на стрелецкую службу, в разные приказы 13 человек. Не всегда ученики подчинялись приказу. Один из них, Иван Федоров, изучая медицину в течение четырех лет (1654 — 1658) и не пожелав быть стрельцом, сбежал и до 1669 г. жил сначала в Соловецком монастыре, а потом в Москве, после чего вновь стал лекарским учеником. К принудительному несению службы могли быть привлечены и бывшие ученики, уже ставшие лекарями.
Перерывы в занятиях или полное прекращение учебы («отставка») могли быть вызваны и другими причинами, например недостаточной грамотностью ученика или «многолюдством», когда количество учеников оказывалось больше, чем нужно.
Со временем ученики в Аптекарском приказе стали подразделяться на «старших учеников» и «учеников меньшей статьи», что выражалось, в частности, в размере поденного корма и годового жалованья. Время обучения не определяло принадлежности к той или иной категории учеников: так, среди «учеников меньшей статьи» числятся и такой, который учится пять лет, и вновь поступившие. Если ученик работал в полку, что свидетельствовало об определенном уровне его подготовки, то он чаще всего числился «старшим учеником» [43, 923, 957]. «Ученики меньшей статьи» только учились, тогда как «старшие» уже могли применять свои знания на практике.
Продолжительность ученичества не была ограничена. Один из аптекарских учеников — бывший сторож Василий Шилов учился около девяти лет, после чего подал прошение о звании «дестилятора», написав, что «...в Новой Оптеке лекарства, масла, и вотки, и спирты, и сахары, и сыропи, и пластыри, и мази, и всякие аптекарския и дестилатерския дела по научению оптекаря Рамана Бинияна да Ивана Гутменша делаю вместе с оптекари; и который лекарства привозят на запасы Новыя Оптеки из-за моря — принимаю и росписы-ваюсь в Старой Оптеке в тех лекарствах я ж холоп твой; да я ж холоп твой для собрания трав полевых в Новую Оптеку с травниками езжу и збираю, и огород — что за Мясницкими вороты про Новую Оптеку всяким строеньем ведать приказано мне ж...» [43, 1082 — 1083].
Основным занятием «старших учеников» и квалифицированных медиков разных специальностей была служба в полках, отказ от которой сурово наказывался. Одного из учеников за отказ велено было «бить батоги нещадно и по тому же выслать на ...службу с приставом или с кем пригоже» [42, 639].
В перерывах или до начала службы в полках ученики должны были помимо учебы «дневать и ночевать» в приказе, что подразумевало множество самых разнообразных занятий. Они лечили больных, были посыльными, разнося документы Аптекарского приказа, сопровождали новых учеников к их учителям и даже выполняли поручения по «сыску» своих скрывавшихся товарищей. Вместе с докторами ученики должны были сопровождать в походах царя. Будущие медики принимали участие в формировании фонда лекарств, отправляясь собирать и закупать травы и ягоды в разные концы государства (Казань, Киев, Измайлово и др.), свидетельствовали поступившие в Аптекарский приказ лекарственные растения. Ученики способствовали распространению лекарств на Руси через продажу их на ярмарке и расширению ассортимента, выезжая для «покупки всяких аптекарских запасов» в Англию и другие страны мира.
Лекарские ученики могли заниматься и другой деятельностью, более далекой от их специальности, например толмачеством.
Со временем требования к уровню общей и специальной подготовки возрастают. Грамотность становится непременным условием ученичества: «...Андрюшке Степанову быть в Оптекарском приказе в лекарских учениках, буде он грамоте умеет» [43, 1096]. Повышается уровень общей подготовки лекарских учеников. Это видно по прошению Андрея Буксевдена, «недоросля», сына погибшего ротмистра. Андрей специально оговаривает свою грамотность и знание нескольких языков: «...А полскому языку и немецкому малую часть разумею, и по руски читать и писать умею» [43, 1187].
Знание иностранных языков, в первую очередь латинского и «цесарского» (немецкого), соответствует более высокой подготовке ученика и является необходимым прежде всего для будущих «алхимистов», аптекарей: «...Тихонову сыну Ананьина Левке быть в Оптекарском приказе аптекарского и алхимискаго дела в учениках, а для совершеннаго ученья велели ево отдать латинскаго языку в наученье, чтоб ему латинскаго языка научится столько, сколько аптекарю и алхимисту будет надобно» [43, 1065].
Для обучения языкам ученики из Аптекарского приказа направлялись в школу в Новонемецкую слободу, где их учил «школьной науки мастер» Яган Понсюс (Понциюс), получавший за это плату по 1 руб. с человека в месяц. В 1678 г. таких учеников было трое (все из семей медиков): сын лекаря Семен Семенов, один из сыновей «алхимиста» Тихона Ананьина — Левка Тихонов и сын доктора Степана Фунгаданова (Стефана фон Гадена), который уже обучался языкам у Симеона Полоцкого. В 1679 г. появляются еще два ученика — Пронька и Тишка, дети чепучинного лекаря Митрофана Петрова. «Школьному мастеру», как и докторам, давался наказ о добросовестном обучении: «А учить ему тех учеников со всяким прилежанием и радением; а буде они учнут ленится или ослушатся, ученить наказанье, как в школах... по вине смотря» [43, 1066].
Поступать в лекарские ученики могли люди, уже имевшие некоторые представления о медицине и даже некоторый практический опыт. Костоправным учеником стал Иван Овдокимов (Авдокимов), который до этого уже учился неофициально у своего брата — медика. Был зачислен в лекарские ученики Иван Семенов, который ранее вместе с братом, лекарем Семеном, поехал на обязательную для последнего службу и, помогая ему в лечении раненых, овладел некоторыми первичными знаниями.
Учителями будущих медиков, как видно из приведенных примеров, могли быть их ближайшие родственники. Обычно же это были посторонние, русские или чаще иноземные лекари и доктора различных специальностей, которые, поступая на службу, давали обещание обучать учеников.
В XVII в. будущие медики могли специализироваться в определенной области медицины: в Аптекарском приказе были ученики аптекарские, алхимист-ские, чепучинные, костоправные, лекарские, гортанного дела, очного дела (окулисты). Самую большую группу составляли будущие лекари, аптекари и алхимисты. Они имели более низкую квалификацию, чем доктора, которые получали образование за границей.
Исходя из целей и задач, предъявленных к данной ступени обучения, можно определить его содержание. О том, что должны были знать и уметь лекарь и аптекарь, можно судить на основе медицинского экзамена, проходившего в 1631 г. Аптекарь должен был «...знать и ведать всякие травы, и цветы, и кореня, и гумы всякие, и по дохтурскому приказу лекарство всякое, составы составливать про здоровье всяких людей... водок из надобных трав и из цветов перепускать и варить, и порошки всякие делать, и из корения всякие силы и остракты делать...» [63, 202]. Образование лекаря было сложнее не только в профессиональном плане, оно включало еще и нравственно-этический момент, так как ему предстояло общение с людьми. Лекарь должен был «...очима востро глядеть, сердцем смело, а неторопливо, рука легкая, а не дрожала б, в руках сила держать левою и правою рукою...»; лечить приходилось «...всякие раны, удары, и всякие раны гнилыя, и костяной перелом, и составы вправливать, всякие вереды и чирьи, и все измятые места, и все что к тому делу доведется...» [63, 205]. Таким образом, если аптекарю необходимо было знать ботанику, лечебные свойства растений, фармакологию, фармацевтику, то лекарь обязан владеть анатомией, сведениями по хирургии, акушерству и т. п.
Будущие медики получали наказ и давали обещание добросовестно изучать все, что они должны были знать, за неисполнение которых следовало наказание: «...а лекарского дела учеником Ондрюшке Федотову с товарыщи велели сказать, чтоб они лекаря Василья Ульфова слушали и лекарскому делу учились с великим радением и воровства бы от них никакова не было; а будет они лекаря... в лекарском деле слушать не учнут, и им за то быть в наказанье без пощады».
Поступавших в ученики «приводили к вере» по чиновной книге. Кроме того, давалась поручная запись: «...все мы порутчики за един человек, поручились есьми того ж Оптекарского приказу... лекарского дела по ученике... Исаеве... будучи ему у государского дела, не пить, не бражничать и с воровскими людьми не водитца, и с своею братьею поочередно дневать и ночевать безотходно, и всяких... чиновных людей на Москве и на службах с великим радением лечить безхитростно; а буде чего он Григорий Исаев не может в чем разуметь — того ему у разумеющих мастеров спрашиваться лекарей иноземцов и русских людей, и что ему Григорью будет чтено в крестоприводных новых статьях, и про то про все памятовать и сполнять против государского указу...» [43, 1271]. Помимо общеслужебных в данном поручительстве содержатся также профессиональные и «ученические» обязательства.
Состоявшие в Аптекарском приказе ученики находились в полном его подчинении: «...лекари и лекарского дела ученики ведомы судом и расправою в Оптекарском приказе и отвечать в иных приказех без твоего государева указу не велено» [43, 1255].
Быть учеником в Аптекарском приказе — практически единственный путь получения медицинского образования для русских в этот период. Отправление для учебы за границу — явление редкое, и чаще этого удостаивались дети докторов-иностранцев. Время обучения в таком случае было длительным: Генрих Келлерман, сын доктора Томаса Келлермана, учился в течение 17 лет. Звание лекаря в европейских странах, как и на Руси, можно было получить и значительно раньше — через 3 — 9 лет учебы. Организация обучения в Аптекарском приказе во второй половине XVII в. значительно пополнила ряды медиков в России. На протяжении трех десятилетий она совершенствовалась, повышался уровень подготовки лекарских учеников как в профессиональном, так и в общеобразовательном плане, создавая базу для появления в XVIII в. медицинских школ при госпиталях.
Обучение при Пушкарском приказе
Колокольное ремесло — одно из самых сложных ремесел. Колокольного мастера в Древней Руси считали мастером из мастеров, ставя его искусство выше искусства зодчего. Русская национальная литейная традиция достигла наивысшей точки развития в XVII в., когда были созданы редкостные по красоте звучания колокола весом в 8 — 9 тыс. пудов (128 — 144 т), а замечательные колокола в 1 — 2 тыс. пудов насчитывались десятками. Высокий общий уровень ремесла был обеспечен устойчивой и эффективной системой обучения, позволившей русским мастерам в XVII — начале XVIII в. прочно занять первое место в мире в области колокольного литья.
Главной школой, готовившей кадры русских литейщиков — пушечных и колокольных мастеров, а также их учеников, был Московский Пушечный двор, находившийся в ведении Пушкарского приказа. Система обучения ремеслу на Пушечном дворе носила государственный характер: именно государство в лице приказа полностью взяло на себя заботу о формировании кадров мастеровых людей, обеспечив довольно четкую систему ученичества.
Учеников имели практически все ведущие специалисты приказа: пушечные, колокольные, паникадильные, зелейные, селитренные, гранатные, оружейные, татаурные (готовившие ременные крепления для подвески колоколов) и другие мастера (всего во второй половине XVII в. в приказе обучали 26 специальностям) [9, 15 об.].
Пушечный двор — крупнейшее в то время в России производство — по количеству занятых людей, организации их труда и его детальному разделению представлял собой мануфактуру централизованного типа [21, 94 — 95]. Находился он в самом центре столицы, а в непосредственной близости лежала Пушкарская слобода, в которой жили мастеровые и московские пушкари. По описи 1638 г., в ней было 372 двора «московских пушкарей и пушкарскому чину людей» [7, 3].
Тесная связь слободы с производством, в том числе и территориальная, имела принципиальное значение в организации ученичества, начальная стадия которого (точнее — предученичество) проходила в Пушкарской слободе, где мальчики постигали азы ремесла и грамоты. Именно обитатели Пушкарской слободы были основным резервом пополнения кадров Пушечного двора. Поскольку ученичество было единственным способом подготовки специалистов, приказ закреплял за каждым мастером учеников, выплачивая за обучение каждого из них определенную плату [52, 56] и поддерживая таким образом заинтересованность мастера в приобретении возможно большего их числа. Решение вопроса о количестве учеников находилось в компетенции приказа.
Система обучения колокольному ремеслу опиралась на традицию, вершиной которой было творчество выдающегося литейщика Андрея Чохова [47]. Работа была основной и, вероятно, единственной формой обучения ремеслу. Производственный процесс и обучение были неразрывны. Отсюда идет и выражение, часто встречающееся в документах того времени, — «работать в учениках».
Основной категорией населения, из которого набирали колокольных учеников, были дети «пушкарского чина людей», состоявших в ведении приказа. Пушкари и мастеровые представляли сословие «младших государевых служилых людей», получавших за службу кроме жалованья наделы земли под дворовое и хоромное строение под условие службы во временное пользование. Люди «пушкарского чина», стараясь сохранить свои дворовые места, неохотно отпускали детей служить в другое ведомство [7]. Эта семейная заинтересованность поддерживалась заинтересованностью правительства в закреплении кадров литейщиков. Для подготовки высококвалифицированного литейщика, хорошо знающего производственный процесс, владеющего основами математики, металловедения, способного самостоятельно решать задачи художественного оформления колоколов, нужны были многие годы. Срок ученичества мог быть чрезвычайно продолжительным. Правительство, чтобы ускорить процесс обучения ремеслу, пыталось прежде всего закрепить семейную традицию.
Если во многих других ремеслах семейная традиция поощрялась, то здесь она была узаконена специальным царским указом. В одной из грамот, посланной из Сытного двора в Пушкарский приказ, говорится со ссылкой на указ царя Алексея Михайловича: «Которые пушкарские и пушечные и колокольных мастеров и у иных мастеров людей Пушкарского приказу дети, и братья, и племянники и тем пушкарским и мастеровым детям, и братьям, и племянникам мимо Пушкарского приказа в иные приказы ни в какой чин в службу ставит-ца не велено» [12, 148]. Поступление в ученики оформлялось поручной записью. Она предусматривала определенные обязательства ученика по отношению к приказу, а также фиксировала нормы его поведения в Пушкарской слободе, существенно отличаясь от «учебных» или «жилых» записей на обучение ремеслу у частного мастера, где обычными условиями были обязанность повиновения мастеру, право хозяина «смирять» ученика, «нечинение» убытков хозяину и «неуход» от него до срока.
Ничего подобного мы не находим в поручной записи на ученика Пушечного двора, который адресует все свои обязательства администрации приказа. Они касаются прежде всего сохранности государственного имущества. Колокольные ученики имели дело с дорогостоящим металлом, его потеря дорого стоила государственной казне. Вероятно, в задачи мастера входило научить ученика экономно обращаться с материалами. Во всяком случае, само производство было построено так, что экономилась каждая гривенка металла. Материалы со складов приказа выдавались строго на основании расчетов мастера и оформлялись расписками. Металлы отпускали, предварительно взвесив их на весах [6, 1 — 1 об.].
Обращает на себя внимание еще одна особенность обучения на Пушечном дворе. Учеником здесь становится не мальчик, приведенный родителями за руку в дом мастера, а юноша, сознательно выбравший себе профессию: само ремесло предполагало, что новоявленный ученик придет к мастеру с каким-то определенным запасом трудовых навыков и знаний. Обучение практическим навыкам ремесла в семье начиналось с самого раннего детства. Тогда же, вероятно, мальчик постигал и азы грамоты, необходимые для мастерового.
В документах есть свидетельства о существовании в конце XVII в. школы «цифирного учения» для пушкарских детей [10]. Все расходы по обучению нес приказ, он оплачивал работу учителя — «цифирного дела мастера» Ивана Зерцалова. Государево жалованье выплачивалось не только учителю, но и ученикам, «Пушкаревым детям, которые учатца цифири» (по полтине — ученику). В одной из записок встречается упоминание о числе учеников — 9 человек. Записи в расходных книгах свидетельствуют и об учебных пособиях: фиксируются расходы на приобретение клея, левкаса, чернил и щетинных кистей для изготовления 10 досок «к цифирному учению» и на покупку «цифирной книги», переведенной на русский язык, «ценою 4 рубли с полтиною». «И та книга отдана учителю Ивану Зерцалову для научения цифири пушкарских детей. И тое книгу ему беречь. А как пушкарских детей выучит и тое книгу объевить ему в Пушкарском приказе» [10, 4 — 5].
Среди администрации и мастеровых приказа было немало образованных людей, знакомых с западноевропейскими техническими руководствами. В приказе была своя библиотека В 1637 г. по указу боярина Б. И. Морозова из нее взяли 29 иностранных книг для обучения царевича Алексея Михайловича, среди которых были книги по геометрии, арифметике, астрономии, градостроению [18, 384 — 385].
Высокий уровень владения ремеслом не стоял в прямой зависимости от уровня книжной образованности мастера. В средневековой Руси устная традиция с успехом заменяла письменные рецепты и руководства. «При существовании института ученичества почти во всех ремесленных специальностях и при практике изустной передачи опыта и секретов мастерства письменные рецепты были не нужны» [34, 20]. Однако это не означает, что русские мастера не были с ними знакомы.
Примечательна судьба мастера Александра Григорьева. Он был автором самого большого в мире колокола XVII в. (8 тыс. пудов). Его имя стояло и на других знаменитых колоколах, голоса которых звучали, выделяясь красотой и силой в колокольном многоголосии России. Но этот мастер не мог даже расписаться, по его поручению на документах ставил свою подпись один из его учеников [8, 6]. Однако не подлежит никакому сомнению то, что он в совершенстве владел колокольными и пушечными рецептами, а следовательно, знаниями в области математики, металловедения и во многих других областях, которые он приобрел на практике и перенял от других мастеров. Основные закономерности колокольного литья передавались изустно. Мастер учил ученика, что существует два основных слагаемых, от которых зависит звучание колокола, — это чистота колокольного сплава, известного с глубокой древности и составлявшего около 80% меди и 20% олова, и правильно построенная форма, при создании которой учитывался вес и основной тон звучания будущего колокола. Рецепт колокольного сплава передавался в форме соотношений между весами колоколов и весами исходных материалов (меди и олова), при этом учитывалось поведение металла при плавке, например то, что наибольшему угару подвергалось олово.
Важным секретом колокольного ремесла было знание принципов построения формы колокола, так называемой колокольной геометрии. Результатом многолетнего опыта русских литейщиков явилось правильно найденное соотношение между диаметром, высотой и толщиной стенок в ударном поясе, которое представляло собой важнейшее условие звучности, полноты и высоты тона колокола. Исходя из заданного заказчиком веса будущего колокола, исчисляли его наибольший диаметр и наибольшую толщину стенок. Этих двух величин было достаточно для геометрического построения профиля стенок — наиболее сложной части «колокольной геометрии». Здесь были найдены свои правила и каноны, передававшиеся из поколения в поколение.
Сам собой напрашивается вопрос о методе этих построений, который был настолько отточенным и опирался на столь прочный фундамент, что даже мастер, не умевший читать и писать, мог, пользуясь им, создавать выдающиеся произведения искусства. Таким фундаментом был, вероятно, модуль — найденная практическим путем определенная величина, которую брали за единицу геометрических построений. Практика колокольного литья XVII в., когда создавалось множество больших колоколов, требовавших индивидуальных расчетов, убеждает нас в том, что колокольные мастера владели модульным методом. В противном случае вычисление формы каждого колокола превратилось бы в неразрешимую головоломку. Величину модуля, который применяли русские мастера XVII в., мы не знаем. Однако традиция колокольного литья обладает относительной устойчивостью. Русские же литейщики XIX в. принимали за модуль одну шестнадцатую часть наибольшего диаметра колокола [29, 220].
«Колокольная геометрия» имела и вполне материальное воплощение в виде шаблонов, при помощи которых производили формовку по способу вольной глиняной обмазки. Шаблон представлял собой доску из какой-либо твердой породы дерева, на ней мастер вычерчивал профиль боковой стенки колокола.
Но форма колокола и колокольный сплав далеко не все секреты, которые мастер должен был передать ученикам. Мастер высшей квалификации, несмотря на высокий уровень разделения труда на Пушечном дворе, обладал известной универсальностью. Он был одновременно и плавильщиком, и формовщиком, и специалистом по кладке печей и подыскиванию формовочных материалов. Мастера высокой квалификации сами решали и задачи художественного оформления колоколов — умели «положить травы и слова» [11, 50].
Дифференциация по уровню владения ремеслом существовала и среди учеников. Все ученики вместе с мастером принимали участие в формовке колокола и в подготовительных работах. Форма обучения ремеслу была коллективной. Мастер выделял среди учеников самого опытного, своего непосредственного помощника, и новичков. Промежуточными звеньями между ними были две рабочие группы, состоявшие из нескольких человек. Это деление учеников прослеживается на протяжении всего XVII века, оно было закреплено в приказе размерами получаемых ими денежных и хлебных окладов. В периоды проведения больших колокольных работ правительство удовлетворяло требования учеников о выплате им поденного корма — ежедневного заработка. После успешного выполнения государственных заказов ученики так же, как и мастера, получали вознаграждение. Обычно это было сукно на кафтан. Были случаи, когда ученики отмечались «особыми наградами». Так при отливке Большого Успенского колокола патриарх Никон велел наградить колокольного ученика Петра Степанова за то, что «лили большой колокол и он перед своею братьею работал лишнюю работу» [11, 57]. Освоив ремесло и почувствовав, что может работать самостоятельно, ученик подавал челобитную в приказ и на ее основании допускался к испытаниям — самостоятельному выполнению работы. К этим «экзаменам» допускались ученики, хорошо зарекомендовавшие себя в деле. Например, отличившийся при отливке кремлевского колокола П. Степанов через год был допущен к испытаниям и стал мастером.
Какого-то строго регламентированного срока ученичества на Пушечном дворе, вероятно, не существовало. Исследователи, называя разные сроки — 5 — 20 лет, полагают, что обучение колокольной специальности было более продолжительным, чем во многих других ремеслах [21, 94]. Вопрос о продолжительности ученичества ставился, очевидно, очень индивидуально. Замечательные мастера Емельян Данилов и Александр Григорьев делали свои лучшие отливки совсем юными, двадцатилетними. Продолжительность ученичества зависела как от способностей ученика, так и от множества других обстоятельств. Немалую роль играла личность мастера. Известны случаи, когда мастера умышленно затягивали ученичество. Но подобные случаи не были нормой. В многочисленных документах о двадцатипятилетней деятельности мастера А. Григорьева мы не находим ни одного подобного случая. Он был щедро наделен талантом учителя. Известны имена 23 его учеников, многие из которых сами стали прекрасными мастерами.
Для Пушечного двора характерно, что мастер и его ученики не представляли собой замкнутую корпорацию, строго оберегавшую «свои» секреты от собратьев по ремеслу. Начинающих мастеров и их учеников приказ часто объединял в единую литейную артель. Подтверждением тому могут служить многие примеры: совместная работа в Новгороде в 1677 г. трех братьев — Якова, Федора и Василия Леонтьевых [48, 32], отливка набатных колоколов опытным мастером Иваном Ивановым совместно с начинающим Петром Степановым. Вместе с мастерами работали и их ученики, а значит, коллективный опыт собирался, множился и прорастал в новых поколениях. «Московские мастера постигли тайны гармонии и выработали свои целесообразные формы и профили колоколов, удовлетворяющие музыкальным требованиям в условиях технической рациональности» [62, 253].
Обучение военному делу
Военное образование — это двуединый процесс, предполагающий обучение людей знаниям и навыкам, требующимся для ведения вооруженной борьбы с применением технических средств, и одновременно воспитание в них морально-психологических и волевых качеств, необходимых для боевой деятельности. В Древнерусском раннефеодальном государстве обучение военному делу имело свои особенности. Большую роль играла социальная группа людей, профессионально занимавшихся военным делом, — княжеской дружины. Высокий уровень военной подготовки был их привилегией. Если в эпоху военной демократии воин являлся защитником всего племени, то в раннефеодальном обществе он воспитывался в духе преданности князю и был призван защищать его интересы.
В период междоусобных войн, в условиях борьбы с завоевателями, постепенно расширялась сфера военных знаний, которыми должны были обладать как военачальники, так и рядовые ратники. Большое значение приобретал боевой порядок, и соответственно повышалась роль строевой подготовки воина, его знаний о своих обязанностях в строю, умения правильно исполнять команды, осуществлять взаимодействие с другими воинами. Следует отметить, что «строй войска и его основные тактические и технические приемы были унаследованы от домонгольского периода» [28, 11]. Вместе с тем XIII — XIV века отмечены появлением новых боевых технических средств. Эффективное использование боевой осадной техники, возведение сложных и мощных оборонительных сооружений требовали математических знаний, точных инженерных расчетов. Применение огнестрельного оружия (с конца XIV в.) обусловило появление качественно новых военных знаний. Возникли и новые военные специальности — пушкари, пИщальники, «огненные» стрельцы.
Образование централизованного государства, борьба за его независимость привели к перестройке в системе организации и управления вооруженными силами страны: появилась и стала развиваться поместная система комплектования армии, было создано общерусское дворянское войско. Учреждения, ведавшие вопросами комплектования и обучения войск, приказы военного профиля, стали выполнять роль своеобразных центров по распространению знаний, необходимых для освоения военных специальностей. Ведущим военным учреждением в XVI — XVII вв. являлся Разрядный приказ, в ведении которого находилось дворянское войско, составлявшее основу вооруженных сил.
Обучение велось главным образом непосредственно в ходе боевых действий. Наиболее подготовленными к боевым действиям были так называемые «городовые войска» — гарнизоны пограничных крепостей, которые находились в постоянной боевой готовности, так как были вынуждены отражать, особенно на юго-восточной границе, набеги врагов. Они также проводили разведку, подготавливали опорные базы для наступления русского войска на вражескую территорию. В 1571 г. для городовых войск был создан специальный «Устав сторожевой и станичной службы», упорядочивший оборону юго-восточных границ и одновременно проводивший в определенную систему знания, полученные долголетним опытом военных действий. Соответственно этому уставу строилась и подготовка войск. Введение устава связано с именем выдающегося русского полководца XVI в. М. И. Воротынского.
Серьезную роль в распространении военных знаний играл Пушкарский приказ, ведавший изготовлением артиллерийских орудий, возведением и починкой укреплений. Для выполнения этих сложных работ были необходимы мастера, имевшие специальные технические познания. Так, в штат Пушкарского приказа входили чертежники. Изготовление чертежей фортификационных укреплений возлагалось на приказ еще в XVI в. [18]. По сохранившимся документам мы знаем, что в 1580 — 1581 гг. по заданию Пушкарского приказа К- А. Наумов «учинил» чертеж г. Брянска [76, 194 об.]. В приказе имелось собрание специальной литературы, которой пользовались в учебных целях [37, 209]. В 1670-е гг. некто Исачка получил печатные немецкие книги «для учения огнестрельных и гранатных дел и для всяких тайных промыслов». Еще раньше библиотекой приказа пользовались при обучении царевича Алексея Михайловича [18, 384 — 385]. Однако в целом обучение пушкарскому делу велось по ремесленным обычаям. Мастер — опытный пушкарь — передавал свои знания, умения и навыки немногим ученикам, часто родственникам. Их боевая подготовка продолжалась в условиях полковой службы. Кроме навыков в стрельбе они обучались инженерному и подкопному делу [36, 177]. Во второй половине XVII в. в ведении Пушкарского приказа находились иностранные офицеры — специалисты в области инженерного искусства [75, 1].
С конца XVI в. в России стала остро ощущаться потребность в расширении военных знаний и освоении опыта, накопленного армиями иностранных государств, наиболее развитых в военном и техническом отношении. Неудачи на заключительном этапе Ливонской войны (1558 — 1583), события Смутного времени заставили обратиться к изучению военного искусства Западной Европы. Так, в 1607 г. в России появляется перевод первой части «Устава ратных, пушечных и других дел, касающихся до воинской науки», сделанный А. М. Радишевским, печатных и «пушкарских дел» мастером, известным под именем Онисима Михайлова [60]. В основу «Устава», который в большей степени являлся учебным пособием, чем нормативным актом, был положен перевод сочинения немецкого ученого Леонарда Фронспергера «Книга о войне», вышедшего в 1566 — 1573 гг. [86, 21]. Однако Радищевский внес в перевод значительное число сведений об устройстве войска Речи Поспо-литой, использовав при написании и русский военный опыт [86, 21 — 22; 45, 219].
Сложные военные задачи, вставшие перед Россией после тяжелых лет Смуты (укрепление границ, возвращение потерянных территорий), развитие военного дела в соседних государствах вели к необходимости создания вооруженных сил, постоянно находившихся в боевой готовности. В 30-е гг. XVII в. правительство приступило к формированию полков так называемого нового строя (солдатских, драгунских, рейтарских). Вводились новые принципы комплектования и обучения этой категории войск. В течение нескольких месяцев они должны были освоить приемы владения оружием н строевую службу [85, 135]. Осуществить намеченную цель можно было только при наличии опытных командиров. Отсутствие собственных кадров вынудило правительство прибегнуть к найму иностранных офицеров. Особенно активно прием иностранцев на русскую военную службу начался с середины XVII в. Правда, многие из них оказывались недостаточно подготовленными, а некоторые не обладали даже элементарными познаниями в военном деле. Видимо, поэтому военные власти в Москве устраивали для прибывших офицеров несложные смотры, на которых последние (не исключая даже полковников) должны были демонстрировать свое умение владеть различными видами оружия [25, 7]. Иностранные офицеры, служившие в России, в целом внесли значительный вклад в формирование и обучение зарождающейся русской регулярной армии, в распространение европейского военного опыта в армии. К числу наиболее известных военачальников иностранного происхождения относятся А. Лесли, П. Гордон, Ф. Лефорт и другие. Власти начинают заботиться о подготовке собственных офицерских кадров для службы в полках нового строя. В результате к началу 80-х гг. XVII в. иностранцы составляли лишь 10 — 15% всех «начальных людей» в русских регулярных войсках [85, 150].
Для обучения ратных людей нового строя требовались специальные руководства. С этой целью в 1647 г. в Москве была издана книга «Учение и хитрость ратного строения пехотных людей» [61]. Этот перевод сочинения капитана датской службы Вильгаузена, близкий не к военному уставу, а к учебному пособию. Его содержание охватывает круг вопросов, связанных с боевой подготовкой пехоты. Большое внимание уделялось индивидуальной подготовке мушкетера, пикинера, в рисунках по элементам показываются приемы заряжания и изготовки для стрельбы, даются рисунки предметов вооружения и снаряжения, объясняется боевой и походный порядок пехотной роты и полка, дается краткая характеристика их должностных лиц, порядок организации полевого лагеря и т. д. Материалы исследований о военных действиях русских войск во второй половине XVII в. показывают, что тактические построения пехоты, обязанности должностных лиц и названия чинов примерно соответствуют данным, изложенным в «Учении...» [61, 6]. Встречаются и прямые указания на использование этой книги в обучении войск нового строя. В декабре 1661 г. Матвей Кровков, став полковником солдатского выборного полка, получил от боярина С. Л. Стрешнева книгу «ратного ополчения, почему ему разумети и строити пешей солдатский строй» [15, 120]. В библиотеке царя Федора Алексеевича было несколько экземпляров книги «Учение и хитрость ратного строения...». Предназначалась она для раздачи в качестве царских подарков [37, 116]. Наибольшим спросом данная книга пользовалась у представителей знатных дворянских фамилий, некоторые из них занимали высшие командные посты в армии. Однако представители стрелецкого войска не проявили внимания к этому изданию [37, 92 — 93], что объясняется отрицательным отношением стрельцов к внедряемым в России элементам западноевропейской организации и обучения армии.
Распространение военных знаний в России во второй половине XVII в. активно шло через Посольский приказ. Среди переводных книг, подготовленных посольскими служащими, встречается немало сочинений военного характера. В связи с развитием военной техники в России проявляли особый интерес к новым видам огнестрельных орудий и инженерных сооружений. Показательно, что большинство «научно-технических книг, черновики переводов которых дошли до нашего времени, являются сочинениями по артиллерии» [44, 113]. Среди них можно назвать переводы трудов Казимира Симеоновича «Совершенное пушкарское огнеметательное и пищальное художество», Иосифа Фуртенфаха «Пушкарской хитрости школа...», Эрнста Брауна «Новейшее основание и дельное искусство большого наряда...» и др., относившиеся к концу XVII в. Кроме того, в 1685 г. в Посольском приказе были «построены какие-то две огнестрельные книги» [44, 109, 118 — 119]. Причем одна из них была иллюстрирована («в лицах»)1.
Широкому распространению военной литературы во второй половине XVII в. способствовали и внешнеполитические факторы — воссоединение Украины с Россией, борьба с усиливающейся крымской агрессией. К военной тематике обращались видные деятели культуры. Так, Симеон Полоцкий выдвинул целую теорию происхождения и значения войн, имевшую отчетливо выраженную общественно-политическую окраску. Карион Истомин в 1692 г. подготовил с польского экземпляра перевод «Книги о хитростях» Юлия Фронтина [50, 212 — 215] с собственным предисловием. В нем, касаясь причин неудач русской армии во время крымских походов 1687 — 1689 гг., Истомин обращал внимание на плохое обучение стрелецкого войска и невежественность его начальников. Вопросы организации вооруженных сил России затра-
Перевод предназначался для Петра 1.
гивались в сочинении стольника А. И. Лызлова «Скифская история».
Годы, непосредственно предшествовавшие Северной войне, явились периодом подготовки к созданию первых русских военно-учебных заведений. Правительство Петра I пыталось решить проблему военных кадров тремя путями. Два из них были традиционны: приглашение иностранных специалистов и посылка русских людей для обучения за рубеж. Третий путь решения проблемы был качественно новым: он предусматривал создание отечественных учебных заведений. Вербовка иноземцев и обучение за границей были призваны не только восполнить недостаток специалистов, но и сформировать контингент преподавателей для будущих российских военноучебных заведений.
Первые опыты по организации обучения военному, в частности артиллерийскому, делу были предприняты в 1698 — 1699 гг., когда в Россию стали прибывать завербованные иноземцы и закончившие курс обучения русские «волонтеры». Два «волонтера» были отправлены в бомбардирскую роту Преображенского полка и приступили к обучению. Основными предметами были арифметика, геометрия, фортификация и артиллерия. Таким образом, бомбардирская рота стала играть роль учебного центра, который готовил артиллерийские кадры для русской армии и флота. В эти же годы были предприняты попытки создать стационарные школы Ивана Зерцалова, Адама Вейде и Азовскую мореходную школу. В школе И. Зерцалова дети пушкарей и гранатчиков обучались чтению, письму, арифметике с элементами алгебры и геометрии. В целом эта школа давала неплохое по тем временам математическое образование. Школа А. Вейде готовила прапорщиков из числа дворянских недорослей. Азовская мореходная школа — матросов Азовского галерного флота.
Однако эти попытки организации военных школ были только экспериментом, опыт которого (как положительный, так и отрицательный) учли при создании крупных школ, появившихся в первые годы XVIII в.
Итак, в рассмотренный нами период обучение военному делу и воспитание воинов в России проходило без специально созданных для этого учебных заведений. На протяжении длительного времени военное образование носило в основном чисто практический характер и осуществлялось, главным образом, при непосредственном участии в военных учениях и боевых действиях. Другим источником приобретения военных знаний, умений и навыков для определенных категорий служилых людей было домашнее обучение и воспитание, предполагавшее наследственное занятие военным делом всех членов семьи — мужчин. Знания же по общеобразовательным предметам широкого распространения в среде военных не имели. Однако развитие военного дела, появление и совершенствование различных видов вооружения, в первую очередь огнестрельного, внедрение новых принципов комплектования войск и управления ими требовали постоянного расширения и углубления специальных военных знаний, знакомства с наиболее значительными достижениями в области военного искусства. В России появляется и получает распространение переводная западноевропейская военная литература, использовавшаяся в учебных целях. Своеобразными центрами военных знаний становятся центральные органы управления — приказы военного и дипломатического профиля. Лишь в начале XVIII в. наступает качественно новый этап развития военного образования в России, отмеченный созданием системы военного обучения на основе специальных военно-учебных заведений.
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
МЫСЛЬ
ДРЕВНЕЙ РУСИ
ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ ДРЕВНЕЙ РУСИ
Педагогическая мысль Древней Руси дошла до нас в памятниках литературы и письменности, не носящих собственно педагогического характера. Это ставит нас перед необходимостью наметить некоторые особые методологические подходы к ее исследованию, разработать «познавательные средства для расшифровки имеющихся источников» [19, 13]. При определении общеметодологических подходов к решению проблемы необходимо прежде всего отказаться от прямого перенесения современных представлений о целях, методах, принципах воспитания и обучения на педагогическую мысль Древней Руси, понять неплодотворность и принципиальную несостоятельность «пути, на котором исследователь ищет в средневековой культуре некие «зачатки» науки, некую неразвитую «пранауку» ...вырывая отдельные нужные ему факты из культурного контекста средневековья и на основании внешнего сходства идентифицируя их с соответствующими явлениями современной культуры. ...подобный исследователь сходит с позиций историзма и по сути дела отказывается понять средневековую культуру как некую специфическую целостность» [35, 41]. Плодотворным является иной способ рассмотрения культурного феномена прошлого, когда в поле зрения находится то «общее освещение» эпохи, «в котором исчезают все другие цвета и которое модифицирует их в их особенностях» [2, 733]. При таком подходе культурные явления прошлого предстают в своем реальном значении.
Чтобы получить адекватное представление о педагогической мысли Древней Руси, следует рассматривать ее в контексте всей культуры и идеологии того времени, в широком плане образов и понятий средневекового мышления, привлекая самые разнообразные источники в их совокупности и сопоставлении. Особенность древнерусской педагогической мысли заключалась в том, что педагогика не выделилась в специальную область знания, не стала теоретической дисциплиной; не было специальных педагогических трактатов; способы и средства выражения педагогических идей были весьма далеки от современных. Подобно тому как этические, эстетические, естественнонаучные взгляды средневековья существовали в нерасчлененном виде, педагогические по своей сути идеи (цели воспитания, воспитательный идеал, задачи, характер и содержание обучения и т. д.) можно обнаружить в самых разнообразных источниках: памятниках литературы различных жанров, произведениях изобразительного искусства, а также в устных проповедях, церковной и бытовой практике и пр.
По средневековым представлениям, исходившим из христианской догматики и идеологии, весь мир, имевший божественное устройство, рассматривался как школа, где человеку предстояло всю жизнь учиться. Церковно-учительная литература (самый обширный раздел древнерусской литературы) прямо ставила перед собой воспитательные задачи, носила откровенно дидактический характер. Произведения и других жанров несли в значительной степени внелитературные функции, отличались практической целенаправленностью, в первую очередь воспитательного, дидактического характера.
Надо иметь в виду, что религия в средние века являлась основой всех форм идеологии и древнерусская общественная мысль (в том числе и педагогическая), отраженная в литературе и искусстве, носила религиозный характер. Вседовлеющее влияние христианской идеологии утверждалось церковью: «.верховное господство богословия во всех областях умственной деятельности было в то же время необходимым следствием того положения, которое занимала церковь в качестве наиболее общего синтеза и наиболее общей санкции существующего феодального строя» [1, 360 — 361].
В домонгольской Руси христианское мировоззрение долгое время сосуществовало с языческими представлениями, создав такой феномен, как двоеверие. Роль церкви, ее значение в выработке народного самосознания и развитии культуры нельзя игнорировать или приуменьшать. Пока знания не подрывали основ религиозной идеологии, церковь могла сосуществовать с ними и использовать в своих интересах. Так, «история научной мысли и русская церковь до известного времени идут «рядом». Будучи обладательницей громадного числа всевозможных трактатов, церковь в то же время обобщила опыт, знание многих поколений (и язычества) и умело ими пользовалась...» [39, 10].
Для изучения истории педагогических воззрений Древней Руси необходимо нетолько их вычленение из самых разнообразных источников, но и учет способов и средств выражения педагогических идей в памятниках древнерусской культуры.
Для Древней Руси (как и для всего средневековья вообще) наиболее характерным является символический метод отражения действительности и познания мира. Такой способ постижения мира отражал двойственность, амбивалентность средневекового мировоззрения. В глазах средневекового человека второй, символический план казался истиннее материального, ибо имел вневременной, высший, непреходящий смысл. Анализируя памятники древнерусской культуры, историк педагогики должен иметь в виду этот всепроникающий символизм.
Для древнерусской педагогической мысли характерны «парадоксы», т. е. глубокие противоречия, исходящие из реальных антагонизмов общественной и культурной жизни, условий воспитания и обучения различных групп и слоев населения [15]. Выработка методологических подходов к изучению древнерусской педагогической мысли требует выявления этих противоречий, рассмотрения их в борьбе и единстве, в многообразных связях и взаимозависимостях на широком фоне развития общественной жизни и культуры. Иными словами, необходимо вскрыть диалектику развития педагогической мысли Древней Руси, для которой наиболее характерными являются следующие противоречия.
В Древней Руси педагогическая мысль не выделялась в специальную область знания, но в то же время вся литература носила учительный, воспитательный, дидактический характер; существовала развитая и глубокая педагогическая мысль в отношении вопросов воспитания, носившая и теоретический, и более частный, прикладной характер. Проблемы же обучения затрагивались в литературе мало.
Педагогическая мысль литературных памятников в основном отражала господствующую государственно-церковную идеологию, но в этой идеологии можно увидеть и отражение общенародных чаяний (патриотизм, идеал человека, общие цели воспитания и т. д.).
Древнерусская культура включалась в систему европейской (главным образом, византийской и южнославянской) культуры. Педагогические идеи общеэтического характера перешли из Византии, были усвоены на Руси и превратились в важный фактор русской культуры. В то же время древнерусская педагогическая мысль носила печать большого национального своеобразия, основанного на глубинных пластах славянской языческой архаики. Долгое время существовавшее на Руси двоеверие в значительной мере отражало суть древнерусской народной культуры. Господствующая христианско-феодальная идеология вступала и во взаимодействие, и в противоборство с языческими мифологическими представлениями. Отсюда сосуществование двух мировоззренческих подходов — символизма и народного эмпирического пантеизма (57]. В педагогическом аспекте это приводило к совмещению в сознании языческих представлений о воспитании и обучении с представлениями, свойственными христианству.
Книжное обучение, распространение грамотности оставалось не связанным со специальным обучением; специальные (ремесленные, сельскохозяйственные) знания и навыки передавались, как правило, вне грамотности.
Существовало несколько различных типов педагогической практической деятельности, которые, с одной стороны, были резко разграничены, но, с другой, находились в постоянных и многосторонних связях. М. Н. Громов выделяет 8 разновидностей педагогической практической деятельности: училищная, профессиональная, церковноприходская, монастырская, сословная, групповая, бытовая, индивидуальная [18, 37 — 38]. Многообразие форм воспитательной деятельности, осуществлявшейся различными феодальными институтами, сословиями, профессиональными группами, семьей и др., создавало между ними сложные отношения и могло ориентировать человека на разные этические и социальные ценности.
В связи с многообразием и известной противоречивостью форм и типов воспитательного воздействия следует обратить внимание не только на содержание, но и на реальное практическое значение литературных произведений, содержащих педагогические идеи. Так, при всей уникальной ценности «Поучения» Владимира Мономаха оно не имело широкого распространения. А Псалтырь, например, пользовалась исключительной популярностью, ее знали абсолютно все не только на Руси, но и в других христианских странах. То же с известными ограничениями относится и к другим библейским книгам, церковно-учительной литературе этико-педагогического содержания.
Уже в домонгольской Руси ярко проявилось противоречие между воспитательным, нравственным идеалом, декларируемым в церковно-учительной литературе, устных проповедях, являвшихся как бы идеологической установкой феодального общества, и реальной жизнью. Установки должны были противостоять грубой действительности, с ее «кулачным правом», культом силы и т. п., что можно проследить на примере многочисленных житий святых, которые приобщали читателя к «святости», удовлетворяли массовую потребность мечты, но отнюдь не заключали в себе конкретных норм обыденной жизни [9, 168]. Однако это ни в коей мере не умаляет аксиологического значения этико-педагогических идей и воззрений Древней Руси.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ЛИТЕРАТУРНЫХ ПАМЯТНИКАХ ДОМОНГОЛЬСКОЙ РУСИ
I. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Начальный этап развития педагогической мысли на Руси можно отнести к XI — первой трети XIII в. В период татаро-монгольского нашествия «...злосчастного времени, длившегося около двух столетий, — писал А. И. Герцен, — Россия и позволила Европе обогнать себя» [16, 317].
Однако то, что было создано в предшествующие столетия, несмотря на ордынское иго, оказалось неистребимым. Оно не только дало возможность народу устоять и сохранить основные духовно-нравственные и эстетические ценности, но и в определенной степени способствовало объединению Руси, свержению двухвекового ига и созданию централизованного государства.
На мощном фундаменте культуры домонгольского времени в последующие столетия достраивалось монументальное здание великой и своеобразной культуры Древней Руси. В эту культуру включается как составная и важная часть педагогика, т. е. как само воспитание, образование и обучение на разных уровнях и в различных формах и видах, так и педагогическая мысль, педагогические воззрения, которые формировала напряженная и интенсивная социальная и духовная жизнь в домонгольской Руси. Оговорим еще раз условность термина «педагогическая мысль» в данном контексте. Для домонгольского периода это моделируемая нами конструкция на основе литературных произведений Древней Руси. В ней нельзя выделить такие разделы, как дидактика, методика и т. п., но возможно наметить основные воспитательные идеи, вносимые в общество Древней Руси художественным словом. Они рассматриваются нами как на примере выдающихся произведений отечественных авторов, так и на основе некоторых, наиболее характерных переводных сочинений.
Важнейшей особенностью древнерусской духовной культуры является монументальность, эпичность. Герои произведений ведут себя не по законам индивидуального характера, а по законам литературного этикета [48, 80 — 102]; поведение их определяется положением в обществе, местом в общественной иерархии (святой, правитель, военачальник, дружинник, смерд и т. п.), этическими нормами общества в целом или его отдельных сословий [50]. Этикетность, символизм порождали известную условность, действительность была лишь фоном, на котором развертывались события глобального, космического, вневременного значения.
В центре внимания древнерусского писателя, мыслителя — мир и человек, мировая история (представлявшаяся как «священная история») и место человека в ней. Человек — это микромир, микровселенная. Но в то же время Вселенная — это макрочеловек. «...Вселенная и человек! Все взаимосвязано, все значительно, все напоминает человеку о смысле его существования, о величии мира и значительности в нем судьбы человека» [49, 10].
Оригинальные отечественные сочинения, возникшие уже в середине XI в., ориентированы на то, чтобы показать место Руси, русского народа в мировой истории, создать образ идеального человека, несущего и общечеловеческие, и ярко выраженные национальные черты. Вся древнерусская литература — это эпос, повествующий об истории Вселенной, истории Руси, истории человека и человечества. В этом истоки философских, этико-педагогических воззрений, определяющих основную направленность древнерусской культуры — ее учительный, воспитательный характер.
Древняя Русь быстро включалась в поток развития мировой культуры. Большая часть древнерусских произведений создавалась на церковнославянском языке, общем литературном языке восточных и южных славян. А сами их создатели часто не были привязаны к одному месту, к одному княжеству или даже к одной стране. Это вообще характерная особенность средневековья — перемещение ученых, образованных людей (как правило, монахов) из монастыря в монастырь, из княжества в княжество, из страны в страну. «Ни мир литературы, ни мир политического кругозора не мог замкнуться пределами княжества. В этом было одно из трагических противоречий эпохи: экономическая общность охватывала узкие границы местности, связи были слабы, а идейно человек стремился охватить весь мир» [49, 22]. Это сказывалось и на характере древнерусской педагогической мысли. В некоторых аспектах она обладала чертами, присущими средневековой европейской педагогической мысли вообще. Ведь древнерусская культура, европейская по своему типу и в значительной степени по происхождению, близка к византийской культуре. Многие произведения, хорошо известные на Западе и Востоке («Физиолог», «Александрия», «Шестоднев», отдельные апокрифы, жития и др.), стали значительным фактором культурной жизни Древней Руси.
Однако развитие общественной мысли, становление национального самосознания потребовали выявления места и значения Древнерусского государства во всемирной истории, и во второй половине XI и особенно в XII в. возникли собственно русские произведения, оригинальные жанры: «Слово о законе и благодати» Илариона, «Повесть временных лет», сочинения Владимира Мономаха, «Моление» Даниила Заточника, наконец, «Слово о полку Игореве» и др.
Характерной чертой оригинальных древнерусских произведений стало то, что «тексты XI — XIII веков донесли до нас не только традиционные для христианского мировоззрения взгляды, но и дохристианские представления славян, уходящие корнями в глубокую древность». Так, воспевание «русской земли», «родной земли» генетически находится вне связи с греко-византийским воздействием и восходит к языческому почитанию «матери-земли»; идея гостеприимства, коренившаяся «в особенностях родо-племенного жизненного уклада», представлена во многих произведениях, например в «Поучении» Владимира Мономаха, гармонически накладываясь на идею христианского «стран-нолюбия» [74, 54 — 56].
Уже на заре русской культуры и просвещения в различных памятниках отразились две особенности, которые потом в неповторимом сочетании сохранялись вплоть до XIX в.: первая — пристальное внимание к нравственным вопросам, общим проблемам этики, преобладание учительного начала, особое чувство ответственности писателя перед народом, страной; вторая — интерес к человеку, к личности, к каждому. «Непосредственное сочувствие человеку, простое сострадание ему, сопереживание с ним автора оказывались самыми сильными революционными началами в литературе... Все отступало на задний план перед самой личностью, индивидуальностью человека» [49, 27].
И это вопреки тому, что в самой системе феодального мировоззрения отдельный человек был лишь частью иерархии общества и мира. Древнерусской общественной мысли присущи не только символизм, монументальность, эпичность, но и своеобразный реализм, обобщение конкретного опыта.
Педагогическая мысль развивалась в сочетании и борении этих двух контрастных особенностей, которые иногда сосуществовали в одном произведении (например, в «Повести временных лет»), но чаще разводились по произведениям различных жанров, отражавших как противоположные идеологические установки, так и различные стороны одной и той же идеологии. Один из характерных примеров — представление о подвиге «истинной святости». В многочисленных житиях святых святой — тот, кто полностью покоряется божьей воле в действии или воздержании. Дела милосердия, например, ценны не сами по себе, а исключительно для богоугождения. Любой обет, данный богу, неизмеримо выше любых пристрастий, человеческих чувств и переживаний. Истинные гуманистические ценности чужды житию. Так, Алексей, Человек Божий, излюбленный персонаж средневековья, особенно популярный на Руси, не думает о страданиях, которые он причиняет своим близким, — он дал обет богу. Все помыслы и поступки святого — для бога, а не для людей. Этой по сути антигуманистической позиции противостоит иная, действенная, человечная, также черпающая свое идеологическое оправдание в религиозных христианских текстах, в частности в Новом завете: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы» (I послание к коринфянам. Гл. 13, ст. 1 — 3) [9, 176, 183]. Из такого рода текстов черпали лучшие люди Древней Руси идеи и нравственные основы своей общественной и просветительской деятельности (так, Владимир Мономах писал: «Всего же более убогих не забывайте, но, насколько можете, по силам кормите, и подавайте сироте, и вдовицу оправдывайте сами, а не давайте сильным губить человека. Ни правого, ни виновного не убивайте и не повелевайте убить его: если и будет повинен смерти, то не губите никакой христианской души» [69, 399]).
«Начиная с конца X — XI в. в мировоззренчески неоднозначном идейнофилософском наследии Киевской Руси отражены полюсные точки зрения. Они представлены, с одной стороны, греко-православной религиозной концепцией, с другой — взглядами, тяготеющими к автохтонной мыслительной традиции» [26. ч. 2, 27]. Важнейшим для формирования педагогической мысли стало наличие различных точек зрения на мудрость и разум, на проблему познания. Иррационалистические тенденции культивировались в монашеской среде, особенно в Киево-Печерском монастыре, и сводились к идее о том, что философская мудрость не может привести к познанию бога, а опора на разум губит веру. В то же время в произведениях митрополита Илариона была заложена мысль о высоких познавательных возможностях человека и отмечена склонность к рационализации веры. Положительное отношение к знаниям высказывал в своих сочинениях Владимир Мономах. Не отвергая роли чувств и рассудка, высоко ценя книгу, Кирилл Туровский в то же время крайне отрицательно относился к светской мудрости, отождествляя ее с ересью. Один из наиболее оригинальных древнерусских мыслителей — Климент Смолятич рассматривал мир как цель и объект познания, не ставя резкой границы между мирским и божественным [26, ч. 2, 27 — 40; 80]. Эти различные тенденции получили развитие и находились в постоянном противоборстве и в последующие века, хотя иррационалистическая линия оказалась сильнее и была взята на вооружение ортодоксальной церковью с ее опорой на Византию.
Произведения учительного и торжественного красноречия («Слово о законе и благодати» Илариона, произведения Климента Смолятича и Кирилла Туровского)
Одним из первых русских оригинальных произведений нравственно-патриотического содержания стало «Слово о законе и благодати» митрополита Илариона. «Слово» создано в середине XI в., во времена правления князя Ярослава Мудрого. Иларион обращается с ним к эрудированной аудитории, очевидно, к кругу «Ярославовых книжников», говоря: «Не невеждам ведь пишем, а обильно насытившимся книжной сладостью». Его основная идея — равноправность народов, отрицание богоизбранничества какого-либо одного народа, прославление Руси. Иларион дает собственную патриотическую концепцию всемирной истории, в которой блестяще сочетаются философская (богословская) и политическая мысль. Согласно этой концепции, переход от ветхозаветного закона к христианству есть переход от рабства к свободе. Русь равноправна со всеми странами, они не нуждается в чьей-либо опеке, она свободно, без принуждения сделала свой выбор — приняла христианство. Иларион был первым русским по национальности митрополитом, он боролся за самостоятельность древнерусской церкви, ее независимость от Византии. Это придавало особый пафос патриотической государственно-церковной идее и политике, которую проводили Ярослав Мудрый и Иларион.
В «Слове» выражена вера в высокую миссию русского народа: «...и събыться о насъ в языцехъ реченое: открыеть господь мышцу свою святую предо всеми языки и узрять все конци земля спасение еже от Бога нашего». Русь не какая-то неведомая земля; о ней знает весь мир («яже ведома и слышима есть всеми четырьми конци земля»), а Киев — столица Руси — один из самых величественных городов мира («град величеством сияющъ»). Заканчивается «Слово» обращением к богу — хранить величие Руси: «И пока стоит мир, не посылай на нас напастей искушения, не предай нас в руки чужеземцев, и пусть не назовется город твой городом пленным, и стадо твое — пришельцами в несвою землю» (26, ч. 1, 61]. Эту молитву о сохранении независимости Руси повторяли русские люди в страшные годы вражеских нашествий и разорений; она поднимала на битву ратников Александра Невского и Дмитрия Донского.
«Слово о законе и благодати», как и другие классические произведения древнерусской культуры, формировало самосознание народа, выражало общенародные идеи и чаяния, воспитывало веру в силу народа, поднимало значение человека. В этом его этическое и педагогическое значение. Заканчивается «Слово» «Похвалой» князю Владимиру, в которого вошел «разум выше разума земных мудрецов»; идея принятия христианства пришла к нему «по благому пониманию и остроте ума». «Отсюда следует, что божественный дар разумности получает тот, в ком развились высокие умственные способности» [26, ч. 2, 25].
К выдающимся памятникам отечественной средневековой мысли относятся произведения Климента Смолятича (ум. после 1164 г.) и Кирилла Туровского. Климент Смолятич был одним из немногих после Илариона митрополитов, русским по национальности (родом из Смоленской земли), стремившихся к независимости древнерусской церкви от Константинополя. По свидетельству летописца, он был книжником и философом таким, какого на Русской земле не бывало, имел дар учительства, обладал большими знаниями и написал
много произведений. В его полемическом послании (между 1147 и 1154 гг.) смоленскому священнику Фоме в символической форме раскрываются две важнейшие идеи — обличение «неправды мира сего» и прославление знаний, начитанности, образования. Климент противопоставляет себя «славолюбцам», которые грабят народ, «присоединяют дом к дому, и села к селам, изгоев и общинников, и борти, и пожни, и поля, и пустоши». Он же, «грешный Клим», от этого свободен, нет у него ничего, кроме четырех локтей земли для могилы [70, 283 — 285] (даже как «риторическая фигура» подобное заявление со стороны высшего церковного иерарха весьма смело).
Климент укоряет своего оппонента в невежестве, призывает его к учению и размышлению, утверждает право на самостоятельное существование литературы помимо Священного писания, право на изучение античной философии, знание Гомера, Аристотеля и Платона, «которые среди греческих столпов славнейшими были» [70, 283]. В непосредственно педагогическом плане послание Климента Смолятича — свидетельство высокой образованности, веры в силу знания, в необходимость постоянной работы мысли.
Кирилл Туровский (ок. ИЗО — 1182) [22] — один из самых ярких проповедников и писателей домонгольского времени, оригинальный мыслитель и художник. Все его творчество проникнуто высоким этическим началом. Исследователь древнерусской литературы В. В. Колесов утверждает: «Пожалуй, вплоть до Державина в русской литературе не появлялся писатель такой силы, значительности и высоты нравственного чувства, как Кирилл — совесть своего нелегкого и бурного времени» [70, 661]. Это несколько преувеличенная оценка, так как сочинения Владимира Мономаха, многие фрагменты из «Повести временных лет», наконец, «Слово о полку Игореве» едва ли уступают в этом плане произведениям Кирилла. И все же оригинальность его очевидна. Он вносит новое начало в литературу и в этику.
У Кирилла сосуществуют в неразрывном единстве высокий и житейский планы, отражая извечную борьбу добра со злом. И другая особенность: он ориентируется на человека, на его психологию, показывает разнообразие человеческого поведения. Произведения Кирилла Туровского, особенно его «Притча о человеческой душе и теле» (которая имеет и другое название — «Повесть о слепце и хромце»), дают представления о быте, морали, устремлениях русских людей XII в. Подобно Клименту Смолятичу, он утверждает что следует творчески, «с разумением» читать священные книги, искать в них разъяснение современных событий и поведения людей. В символической форме выражены моральные и педагогические идеи: величие человека, его не только духовного, но и телесного бытия.
Кирилл утверждает силу божественного знания. С исключительной образностью раскрывает он известное ветхозаветное изречение: «Не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из божьих уст». Как христианский проповедник, Кирилл внушает пастве, что путь спасения — любовь, послушание, нищелюбие. Но в эти понятия он вкладывает живое содержание: высокий моральный закон, человеколюбие, просветительство.
В древнерусской литературе мало произведений, где с такой художественной силой и неподдельной искренностью, поразительным эмоциональным накалом изображались бы страдания матери над телом убитого сына, как в «Слове о снятии тела Христова с креста» Кирилла Туровского. Только человек, остро чувствующий трагическое в жизни, сопереживающий страданиям людей и обладающий высоким даром художественного творчества, мог создать такое произведение, по силе и выразительности стоящее вровень с прославленными шедеврами мирового искусства, раскрывающими этот же сюжет.
«Повесть временных лет»
Народное патриотическое самосознание, понимание места Руси в истории человечества и места человека в мироздании нашли отражение в одном из самых значительных произведений Древней Руси — «Повести временных лет». Оно создавалось в течение десятилетий (конец XI — начало XII в.), в эпоху, когда феодальный строй одержал победу над дофеодальными отношениями, когда феодальная культура была явлением прогрессивным. Противоречия, связанные с началом феодальной раздробленности и междукняжескими усобицами, еще сильнее заставляли авторов «Повести» осознавать необходимость единства Руси, видеть общерусские и всемирные масштабы происходящих событий. «Да никто не дерзнет говорить, что ненавидимы мы богом! Пусть этого не будет! Ибо кого так любит бог, как нас возлюбил он? Кого так почтил он, как нас прославил и превознес? Никого!» [77, 348].
В «Повести временных лет» отношение к прошлому становится поучительным по отношению к современности. Учительное, воспитательное, морализующее (в лучшем смысле) начало пронизывает всю летопись. Каждое из исторических событий, из поступков исторических лиц сопровождается моральной оценкой, исходящей из общей этической концепции произведения. В «Повести» дается одна из первых в древнерусской литературе, в истории русской философской и общественной мысли трактовка темы добра и зла в космических, общемировых масштабах. Всемирная история — это извечная борьба добра и зла (борьба бога с дьяволом, сатаной). Дьявол, воплощение мирового зла, — причина раздоров, свар, междоусобиц.
Но человек (и это очень важно для понимания этико-педагогической концепции «Повести») имеет возможность выбора между добром и злом и несет личную ответственность за свои деяния. Поэтому так важно личное сознательное участие каждого в борьбе со злом. Каждый человек должен вести эту борьбу на своем месте, в соответствии со своим общественным положением (князья — жить в мире, вместе управлять, добровольно подчиняться старшему в роде, оборонять землю от врагов, соблюдать «честь», которая есть честь всей Руси; монахи — бороться с дьяволом праведной жизнью, аскезой; «книжные люди» — просвещать, обучать, воспитывать других людей).
Добро и зло в глазах летописца не абстрактные понятия. Добро — это благо родной земли, зло — все, что наносит ей ущерб, разорение. Поэтому носители зла — князья, затевающие усобицы, наводящие врагов на Русь (братоубийца Святополк Окаянный; князья Борис и Олег, которые привели «поганых» на Русь и великое зло причинили, пролив кровь христианскую, «за которую взыщет с них бог», и др.). Напротив, те, кто способствует славе, благополучию и миру на Руси, — носители добра (Владимир Святославич, Ярослав Мудрый, Владимир Мономах и даже первые русские князья, хотя они еще и не приняли христианства, — Олег, Игорь, Святослав). Великое добро Руси — христианское просвещение, поэтому такое значение придает летописец книжному учению, моральной проповеди, летописанию.
«Повесть временных лет» сыграла исключительную роль в становлении древнерусской культуры.
«Слово некоего калугера о почитании книжном»
«Словом», составленным древнерусским «грешным Иоанном» «изъ мъногъ книгъ княжихъ», начинается наиболее ранний из сохранившихся учительных сборников — Изборник 1076 года. Он включает в себя также «Слово некоего отца к сыну», «Наказание богатым», «Стословец» патриарха Геннадия, отрывки из житий Ксенофонта и Феодоры, «Афанасиевы ответы» и «Сбор от мног отец и апостол и пророк...», содержащий в себе отрывки из сочинений Иоанна Златоуста, Василия Великого, Нила Синайского и произведений других авторов, посвященных рассмотрению самых разных сторон жизни христианина, — о воздержании, о посте, о пьянстве, о скверне душевной, о молитве и т. д.
Обращает на себя внимание прежде всего своеобразный подбор статей исключительно дидактического содержания (даже из житий Ксенофонта и Феодоры в сборник попали лишь их назидательные беседы со своими детьми). Довольно часто встречаемое в тексте словосочетание «отец — сын», а также тяготение к подаче материала в форме императива объясняется предназначением Изборника 1076 года для чтения молодому человеку, «сыну духовному».
Представляет интерес как собственно русский памятник педагогической мысли (хотя и связанный с известным «Стословцем» патриарха Геннадия) «Слово некоего отца к сыну, словеса душеполезная». Это монолог отца, дающего своему сыну советы, как жить: «Простри сердечный съсуд (сосуд) да накаплют ти паче (слаще) меду словеса, могущая тя оживити и бесмертна явити тя» [68, 32]. Дальнейшее изложение представляет собой последовательное объяснение добродетелей.
Весьма показательно, что Изборник 1076 года открывается одним из древнейших памятников русской дидактической мысли — «Словом некоего калугера (монаха) о почитании книжном». Это похвала книжному чтению и одновременно наставление, как с пользой подобает читать книги. Н. Н. Розов справедливо назвал «Слово» «первым в истории русской книги сочинением о пользе, методах и целях чтения» [85, 45]. «Некий калугер» пишет о пользе чтения книжного для всякого христианина. Книга содержит необходимые для человека сведения, она позволяет «испытать» их «тем, кто всем сердцем взыскует их». Но не следует торопиться, не должно читать книгу быстро от одной главы до другой. Чтобы уразуметь, глубоко понять, вникнуть в смысл прочитанного, следует трижды обращаться к одной и той же главе (таким образом, дается весьма важное дидактическое указание). Повторное чтение позволит, считает автор, глубже понять смысл книги, призванной «управлять», т. е. нравственно наставлять человека. «Некий калугер» подчеркивает, что прочитанное не должно быть только «произнесено устами». Читатель должен его «сокрыть в сердце своем». Еще одно интересное методическое указание: читать книгу нужно обязательно вслух, так как только такое чтение помогает усвоению прочитанного. «Как не составляется (строится) корабль без гвоздей, так и праведник без почитания книжнаго», «Красота воину — оружие и кораблю — ветрила (паруса). Тако и праведнику — почитание книжное». Такими афоризмами завершает автор первый раздел своего «Слова» [27, 153 — 154].
Далее автор хулит, порицает «ненаучающихся». Он ставит вопрос о ценности книжного разумного слова. Оно слаще меда и дороже золота и серебра. Книжные словеса — главное духовное богатство человека. Чтобы приобрести его, нужно понять смысл книжных словес, внимая им «разумными ушами». Только тогда поймет человек силу и поучение книг.
В заключение калугер говорит о значении воспитательного примера, ссылаясь на Жития Иоанна Златоуста, Кирилла Философа, герои которых с малых лет прилежно читали книги, и чтение подвигло их на свершение добрых дел. Это и позволяет калугеру сделать итоговый вывод: «Начаток добрым делом — поучение святых книг».
Таким образом, уже на заре развития русской образованности был поставлен важнейший вопрос о неразрывной связи воспитания и образования, вопрос о единстве слова и дела, сохраняющий свою актуальность до настоящего времени.
«Поучение детям»Владимира Мономаха
Сочинение князя Владимира Всеволодовича Монома-ха (1053 — 1125), именуемое «Поучение детям», включает три относительно самостоятельных произведения (собственно поучение, автобиографию и письмо князю Олегу Черниговскому). Чтобы выделить этические и педагогические идеи из этого удивительного и в высшей степени оригинального произведения, следует кратко остановиться на его содержании.
Хотя «Поучение» в Лаврентьевской летописи стоит под 1096 г., написано оно значительно позже, явно к концу жизни его автора. Мономах уже несколько лет занимал великокняжеский киевский стол, позади было более полувека изнурительных трудов, боев, походов. Настала пора подвести итоги, передать наследникам свой опыт правителя и военачальника. Он адресует свое «Поучение» не только родным детям, но всем, кто захочет воспользоваться его советами, опытом длительной и многотрудной жизни: «Дети мои или иной кто, слушая эту грамотку, не посмейтесь, но к кому из детей моих она будет люба, пусть примет ее в сердце свое» [69, 393]. Имеются в виду в первую очередь, конечно, князья, правители. Итак, Мономах, «сидя на санях, помыслил в душе своей...»1, вспомнил о событиях своей жизни и решил рассказать об этом. Но едва ли так просто все было на самом деле. Князь пишет морально-политический трактат, в котором все подчинено общей идее — удержать на моральной основе распадающееся политическое единство Руси, объединить усилия всех князей по укреплению могущества Русской земли, опираясь на авторитет церкви и христианского вероучения, дать идеологическое обоснование такому порядку вещей, при котором феодальная раздробленность не приводила бы к гибельным для государства последствиям. Мономах, как реальный политик, понимал, насколько трудно объединить противоречивые, эгоистические устремления князей. Он был инициатором политической системы, провозглашенной на Любечском съезде 1097 г.: «...да отныне объединимся единым сердцем и будем блюсти Русскую землю, и пусть каждый владеет отчиной своей...» («Повесть временных лет»), и утопично считал, что моральная сила может заменить силу политическую и государственную.
Поводом к написанию «Поучения», как рассказывает сам Мономах, послужило следующее: к нему пришли послы от его братьев и предложили объединиться и выгнать князей Ростиславичей из их наследственных владений, нарушив тем самым торжественные клятвы и крестоцелование. Мономах отказался: «Хоть вы и гневаетесь, не могу я ни с вами пойти, ни крестоцелование преступить». Опечаленный непрекращающимися раздорами князей и новой попыткой нарушить провозглашенный им порядок, Мономах ищет утешения в Псалтыри. «Поучение» содержит выписки из нее, выдержки из «Поучения» Василия Великого, из «Шестоднева» Иоанна экзарха Болгарского,
1 Эта фраза требует пояснения. Н. М. Карамзин перевел так: «приближаясь к гробу». Однако можно предположить, что здесь имеется в виду и прямой смысл: «отправляясь в путь, находясь в пути». Известно, что Мономах до конца своих дней много ездил по Руси. В пользу последнего предположения свидетельствует дальнейший текст «Поучения», где автор предупреждает тех, кому не понравится его «грамотица», чтобы они не посмеялись над ней, а сказали бы: «...на дальнем пути, да на санях сидя, безлепицу молвил» [69, 393].
реминисценции из «Октавия» (раннехристианского апологета Минуция Феликса) и др. [21]. Все это свидетельствует о большой начитанности Мономаха, о знании им литературы своего времени. В «Поучении» обращение к церковным авторитетам как бы слито с автобиографическими моментами, проникнуто сильным личным чувством. Это не набор комментированных цитат, не бесстрастное морализирование, а выстраданное автором убеждение, темпераментное, лирическое, с элементом трагизма. (Мономах в глубине души понимает недостижимость рисуемого им идеала не только в политической системе, но и в собственном личном поведении, нарушающем проповедуемую им же мораль, о котором он повествует с пронзительной скорбью и сокрушением.)
Какой же идеал правителя и человека рисует Мономах? Какими качествами должен обладать правитель? Автор «Поучения» не оторванный от жизни мечтатель, не религиозный проповедник, он сознает свою ответственность за подданных, за оборону родной земли. Три добрых дела, говорит Мономах, дают победу над врагом и избавление от грехов: покаяние, слезы и милосердие. Эти три добрых дела очень ясно и поэтично раскрываются автором, подкрепляются многочисленными примерами из собственной биографии Мономаха, а также из жизни его отца Всеволода Ярославича. Покаяние — это осознание своих поступков, сознательное поведение, стремление избежать ошибок, честность перед собой и людьми. Слезы — сокрушение о своих неблаговидных делах, честное признание своих недостатков с тем, чтобы исправиться, понимание помыслов и деяний других людей, понимание бренности человеческой жизни, признание неизмеримого превосходства ценностей духовных перед материальными (все это, конечно, выражено языком христианского средневековья). При этом проповедь Мономаха в общем оптимистична и гуманистична, в ней содержится настоящий гимн человеку и Вселенной. Она написана, как утверждают исследователи, под влиянием «Шестоднева». «Что есть человек как подумаешь о нем?» — спрашивает Мономах и отвечает: «Велик ты, господи, и чудны дела твои, разум человеческий не может постигнуть чудеса твои ...Ибо кто не восхвалит и не прославит силу твою и твоих великих чудес и благ, устроенных на этом свете: как небо устроено, или как солнце, или как луна, или как звезды, и тьма, и свет, и земля на водах положена, господи, твоим промыслом! Звери различные, и птицы, и рыбы украшены твоим промыслом, господи! И этому чуду подивимся, как из праха создал человека, как разнообразил человеческие лица; если и всех людей собрать, не у всех один облик, но каждый имеет свой облик лица...» [69, 397 — 399]. Мономах восхищается разнообразием, неповторимостью человеческих лиц, т. е. принимает и признает ценность каждого человека. Правитель, глава государства, обладающий очень большой властью, он признает право человека на индивидуальность, право быть самим собой, утверждает ценность человеческой личности. Мономах призывает не потворствовать злоупотреблениям властителей. Князь, властитель, распоряжавшийся жизнью и смертью многих тысяч людей, прекрасно знал, как трудно устоять перед тщеславием и лестью. Нужна большая мудрость и критическая самооценка, чтобы выступить против увлечения властью.
Пафос морально-педагогической проповеди Мономаха — труд и человечность. Труд постоянный, без отдыха, — труд на войне, дома, на охоте (княжеские «ловы» — дело серьезное и опасное, а вовсе не забава). Все автобиографические примеры должны были, по мысли Мономаха, внушить главное — не ленитесь, трудитесь неустанно, честно и достойно, исполняйте свое главное мужское дело: защищайте родную землю, не жалея сил и жизни, защищайте, не давайте в обиду тех, кто доверен вам, зависит от вас: «Смерти ведь, дети, не боясь, ни войны, ни зверя, дело исполняйте мужское, как вам бог пошлет» [69, 409].
В педагогическую систему (если можно употребить это слово) Мономаха входило как органическая составная часть книжное учение, обязательное для правителя. Мономах приводит в пример своего отца Всеволода Ярославича, который, «сидя дома» (т. е. не бывая за границей), самостоятельно изучил пять языков, «...оттого и честь от других стран имел» [69, 401]. Книжное обучение связано с почитанием церкви, уважением к духовенству. Мономах пытался с помощью церкви укрепить создаваемую им политическую систему.
«Поучение» — это прежде всего политический трактат, и его педагогические идеи могут быть поняты только в контексте средневековой христианской этики, церковной идеологии и политики. Морально-педагогические идеи Мономаха имели ярко выраженный социально-политический смысл. Но, стремясь укрепить феодальный порядок, Мономах вносил в свою политическую деятельность сильное этическое начало. Он готов был потерпеть ущерб как князь и правитель во имя поддержания высокого морального престижа, хотя не подчеркивает своей безупречности, не утверждает все свои деяния как незыблемый и абсолютный образец. Он далеко не всегда был безупречен, нередко вынужден был поступаться своими принципами, вести феодальные войны со своими родичами. Но Мономах, что удивительно для эпохи феодальных свар и усобиц, не только признается в этом, но и пытается на практике осуществить свои этические идеи. В автобиографии Мономаха есть эпизод, когда он, непобежденный, уступил своему постоянному врагу Олегу Святославичу Чернигов, «...пожалел я хрестьянских душ и сел горящих и монастырей» [69, 405].
Еще более поразительно примыкающее к «Поучению» письмо Владимира Мономаха тому же Олегу Святославичу. Вкратце суть дела в следующем. В феодальной междоусобице от руки воинов Олега близ Мурома был убит сын Мономаха — Изяслав. Вдову Изяслава захватил Олег. И вот Мономах, обладая властью и силой, потеряв родного сына, пишет письмо своему заклятому врагу: «Ни враг я тебе, ни мститель. Не хотел ведь я видеть крови твоей у Стародуба, но не дай мне бог видеть кровь от руки твоей» [69, 413]. Первоначально Мономах жаждет отомстить врагу, как мстили его язычники-предки, однако он заставляет себя обратиться к христианским нормам поведения. Мономах предлагает прятавшемуся в муромских лесах Олегу вернуться и править в наследственной вотчине. Во имя единства Руси, во имя человечности Мономах отказывается от мести и вражды, просит прощения за то, что когда-либо сделал дурное Олегу, потому что он тоже человек и мог оступиться. «Преодолевая в себе желание мести, он преподносит своим решением пример соблюдения принципов христианской морали своим родственникам, современникам и потомкам с целью воспитания их в духе христианства» [98, 95].
Не сила, не принуждение заставляют Мономаха писать это письмо и мириться с врагом, а высокие моральные требования: «Не от нужды я говорю это, ни от беды какой-нибудь, посланной богом, сам поймешь, но душа своя мне дороже всего света сего. На страшном суде без обвинителей сам себя обличаю». Так заканчивается это удивительное письмо.
Итак, особенности педагогической мысли домонгольского периода определялись пониманием человека как обладающего свободой воли, возможностью выбора между добром и злом. Предметом воспитания является человек как таковой, как совмещение телесного и духовного начал. Духовное надо развивать и совершенствовать воспитанием, обучением, телесное же может быть «небрегомо». Человек должен активно противостоять мировому злу (дьяволу), он несет ответственность за свои дела — «деяния», они — главный критерий ценности человеческой личности. Но человек должен совершать деяния в соответствии со своим положением в мире и обществе, сообразно своему назначению. Сословная принадлежность закреплена наследственно. Исключение представляют только монахи, принявшие постриг. В этико-педагогических воззрениях отражается государственный, церковный и сословноклассовый интерес, т. е. характер реальных общественных отношений.
Целью воспитания для древнерусской педагогической мысли является требование «привести человека к богу». Религиозное мировоззрение выдвигало перед человеком высокие нормы морали — надо воспитывать человека мыслящего, добродетельного, милосердного, совестливого, способного к постижению прекрасного, верящего в возможность совершенствования мира и людей, стремящегося личным участием содействовать этому. Таков воспитательный идеал. В этот идеал как важнейшая составная часть его включается патриотическое начало. Более того, оно доминирует. Добро — это родная земля, зло — это то, что ей вредит. Родина — одна из высших этических (и эстетических) ценностей. Следовательно, цель воспитания — формировать человека, для которого борьба за благо родной земли, Руси, совпадает с его стремлением к праведной жизни, к богу. Отсюда исключительное значение приобретает такая этическая категория, как честь, слава (личная честь и слава родной земли). Патриотический характер воспитательного идеала не исключает сочувствия и доброжелательности к другим народам. Историческое мышление и исторические представления включаются в этический идеал (еще раз повторим, в Древней Руси, как и в средние века вообще, история мыслилась как священная история в образах Ветхого и Нового заветов). Патриотизм включал представление о месте и значении родной земли в мировой истории в космических, вселенских масштабах.
Средствами воспитания объявлялись труд и книжное учение. Труд — основа жизни. Книга — предмет священный, в ней открывается истина, она укрепляет и развивает разум, волю, дает понимание места человека в мире, содержит нравственные истины и указывает нормы поведения. Обучение не только просвещает, но и открывает путь к праведной жизни.
В своих высших достижениях педагогическая мысль домонгольской Руси несла глубокое общечеловеческое содержание и вошла как фундамент в основание русской педагогики и русской культуры вообще. 2
2. ПЕДАГОГИИ ЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ПЕРЕВОДНЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПАМЯТНИКАХ
Изборники 1073 и 1076 годов
Изборник Святослава 1073 года — старейший из дошедших до нас древнерусских сборников, включает в себя 383 статьи из известных сочинений патристической литературы. Он был составлен, вероятно, по заказу киевского князя Изяслава (1024 — 1078), но в дальнейшем был переадресован князю Святославу Ярославичу. Как рукопись список Изборника 1073 г. возник на древнерусской почве, но как памятник принадлежит Византии, о чем свидетельствуют десятки его древних списков на греческом языке [24, 55]. Исследователи пока не имеют единой точки зрения по вопросу о том, как и в связи с какими событиями осуществлялся перевод Изборника на киевской земле.
По содержанию в большинстве своем статьи сборника носят философско-богословский характер. Большую часть рукописи занимают «Ответы Анастасия Синаита» — свод выписок из библейских книг и сочинений авторитетнейших христианских богословов и проповедников. Среди этих статей содержатся материалы не только по вопросам догматического богословия, нравственности и морали, но и по грамматике, риторике, логике, поэтике, истории, географии, астрономии, медицине и пр., а также некоторые притчи и загадки. Подборка памятников патристики имела определенную дидактическую цель: дать разъяснение читателю, практически еще не искушенному в тонкостях догматики и богословия, материал для расширения своих познаний о христианском вероучении, растолковать непонятные места в библейских книгах. Сведение текстов Изборника в форму вопросов и ответов дает ранний пример использования в древнерусской книжности наиболее удобной формы подачи сложного материала.
Для истории педагогики значение Изборника заключается в том, что он явился первой попыткой, хотя и в несистематизированном виде, изложить основы тех наук, которые составляли содержание византийской образованности. Знания, предлагаемые Изборником, являли антитезу космологическим представлениям славян о мире.
Примечательны в Изборнике 1073 г. календарно-хронологические статьи, содержащие краткие сведения о солнечном и лунном календарях, о различных системах солнечного календаря (египетский, александрийский, римский и греческий календари), эрах летосчисления (иудейской и антиохийской). В одной из таких статей, приписываемой Иоанну Дамаскину (ок. 675 — до 753), изложены краткие сведения об астрономической системе Птолемея и движении Солнца и Луны относительно Земли. В статье «Месяци по македономь» греческие названия зодиакальных созвездий записаны славянскими буквами. В статьях этого цикла приводятся и различные датировки событий Священной истории.
Статья Георгия Хировоска «Об образех» — наиболее ранний в отечественной истории перевод труда по поэтике и риторике, являвшийся своеобразным учебным пособием. Он состоит из 27 пунктов, содержащих определение терминов и примеры их употребления.
Сведения по истории в Изборнике содержатся в тексте, озаглавленном «Летописец вкратце...», который заключает в себе краткие хронологические заметки со времен правления римского императора Августа (27 г. до н. э. — 14 г. н. э.) до времени совместного правления византийского императора Константина VII Багрянородного и его матери Зои (913 — 919) [75, 317].
В Изборнике помещен философский трактат Феодора Раитуисского, в котором изложены некоторые идеи аристотелевских «Категорий» и «Вступления к «Категориям» Аристотеля», принадлежащего перу Порфирия — представителя школы неоплатоников. Благодаря этим текстам в Изборнике древнерусский читатель познакомился с толкованием таких основополагающих философских категорий, как «сущность», «естество», «случайность», «количество», «качество», «отношение» и др., и, несмотря на традиционно негативную христианскую позицию по отношению к античной философской мысли в целом, получил возможность узнать, хоть и в христианском толковании, некоторые идеи античных мыслителей [29, 60].
К естественнонаучным текстам в Изборнике [43] можно отнести статью Епифания «О 12 камнях», рассказывающую о фантастических свойствах драгоценных камней, их символике и якобы лечебных свойствах. Это фактически первый на Руси «минералогический»трактат. Он способствовал развитию мистических представлений о природном мире, характерных для средневековья.
Круг чтения древнерусского книжника строго ограничивался: церковь боялась проникновения и распространения различных еретических произведений. Поэтому не случайно в Изборнике помещен так называемый индекс запрещенных для чтения произведений.
Изборник 1073 года — уникальный памятник, который можно назвать своеобразной антологией, рассчитанной на представителей как церковной, так и княжеско-боярской верхушки.
Если Изборник 1073 г. содержал в себе комплекс различных знаний, необходимых для усвоения новопросвещенному христианину, то Изборник 1076 г. являлся собранием текстов воспитательной, а не познавательной направленности. Подборка «слов» и «поучений», отрывки из житийной литературы сделаны монахом и книжником Иоанном, возможно, по рукописям из киевской великокняжеской библиотеки. (О вступительной статье Иоанна к Изборнику см. разд. II, гл. I. 1.) Древнерусский книжник подвергал включенные в сборник тексты языковой правке, адаптируя язык, вводя в текст слова и выражения, отражавшие древнерусский киевский быт [93, 196 — 198].
Тематика статей Изборника 1076 г. преимущественно морально-нравственного содержания, причем по форме это поучения, часто обращенные к детям, например: «Слово некоего отца к сыну своему, словеса душеполезные»; поучения Ксенофонта «Еже глагола к сынома своима»; поучение сыну из Жития св. Феодоры и т. д. [91, 41]. Поучения в различных вариантах, часто в виде притч и небольших житийных рассказов, повторяют одни и те же моральные заповеди. Многократный повтор — один из методов средневековой педагогики. По своему типу Изборник 1076 г. это учительная четья книга для домашнего чтения в воспитательных целях.
Важность Изборников в истории педагогической мысли Древней Руси заключается в том, что они — единственные дошедшие до нас рукописи, явно предназначавшиеся для повышенного книжного образования. Эти книги «требовали большой подготовки для их понимания» [107, 230 — 232]. Как осуществлялась эта подготовка, мы не знаем. Изборники дают приблизительное представление о том круге знаний, который в очень несистематизированном виде мог получить древнерусский книжник, стремившийся приблизиться к византийской образованности.
Сборники афоризмов.
«Пчела» и «Мудрость Менандра»
Сборники афоризмов, или гномологии1, пришли на Русь из Византии [97], где они в первую очередь предназначались для обучения детей в школе, продолжая, по-видимому, традицию школ античности. Закрепляя навыки чтения, ученики греческих школ одновременно усваивали основные морально-этические нормы, заключенные в образную форму, а также знакомились с идеями и именами античных и христианских писателей. С детства сохранившиеся в памяти изречения в дальнейшем помогали подкрепить свою мысль в ученом диспуте, проповеди или политическом послании цитатой из авторитетного источника (что особенно ценилось в эпоху средневековья).
Сборники афоризмов и кратких поучений приобретали большую популярность и, несмотря на свой переводной характер, стали неотъемлемой частью древнерусской книжности. Из огромного количества произведений византийской литературы для перевода избирались книги, наиболее интересные для древнерусского читателя. Первые переводы учительных сборников, включавших в себя гномологии, появились на Руси в домонгольский период, очевидно через Балканские страны, и продолжали переписываться вплоть до XVIII в., когда русская литература уже отошла от традиций средневековья.
Нет источников, указывающих на то, что гномологии использовались на Руси
Гномы — краткие афористические изречения философско-морализирующего типа.
для книжного обучения, но они входили наряду с другими учительными произведениями в круг «домашнего чтения». Изречения, притчи и афоризмы хорошо запоминались на слух, и многие из них вошли в народную разговорную речь. Мы и сегодня часто употребляем сентенции церковно-учительных сборников, говоря, например, «Кто не работает, тот не ест» (Апостол: «Праздный да не яст»), «Не место красит человека, а человек — место» (Иоанн Златоуст: «Не место добродетель, но добродетель место может украсить»), «Не рой другому яму — сам в нее попадешь» (Соломон: «Копаяй яму под ближним своим, впадется в ню») и т. д.
О том, что сборники изречений использовались для воспитания юношества, говорят сделанные на Руси подборки извлечений из таких сборников под названием «Наказание (наставление) отца к сыну». Один из наиболее популярных еще в домонгольское время сборников учительных сентенций — «Стословец» патриарха константинопольского Геннадия был полностью включен в Букварь Симеона Полоцкого. Гномологий «Пчела» в XVII в. соседствует в рукописных сборниках с трактатом о воспитании «Гражданство обычаев детских». К сборникам изречений обращались в своем творчестве и Владимир Мономах, использовавший в своем «Поучении» «Стословец» Геннадия, и Даниил Заточник, «Моление» которого в некоторых частях является вольным подражанием сборникам поучений и афоризмов, и многие другие средневековые авторы, в том числе и летописцы [4, 55 — 60].
Круг тем, рассматривавшихся в афористических сборниках, имел целью наставить читателя в том, «како жить христианину». Морально-этические проблемы, поставленные в них, по существу были «вечными», интересовавшими человечество во все исторические эпохи, — это размышления о человеческой жизни, о ее радостях и горе, об отношениях с окружающими, о лени, зависти, о доблести и храбрости, о славе и богатстве и многом другом. Есть в сборниках и разделы о книжном учении, воспитании детей, об отношении к учителю и т. д.
Афоризмы весьма разносторонне освещали многие морально-этические темы и давали читателям и слушателям, особенно юным, возможность для размышления, а не навязчивые указания должного поведения. Таким образом, сборники играли роль мудрого и тонкого воспитателя. Они являлись не только назидательным, но и познавательным чтением, расширяли кругозор читателей, давая рядом высказывания христианских писателей и «еллинских мудрецов». В сборниках, например, помещались небольшие рассказы, знакомившие русских людей с занимательными эпизодами из истории Греции и Рима, с остроумными высказываниями философов, полководцев, поэтов и других знаменитых людей древности и таким образом в какой-то степени дававшие представление об античной культуре. Правда, следует отметить, что многие изречения являлись «псевдоэпиграфами» или передавались в весьма неточной формулировке. Необходимой частью большинства таких сборников были выборки из ветхозаветных книг — «Притчей Соломона», «Премудрости Соломона» и «Премудрости Иисуса сына Сирахова», состоявшие из коротких изречений, заключавших в себе не только религиозно-догматическое содержание, но и практическую житейскую мудрость. В книге Иисуса Сираха, имевшей выраженную дидактическую направленность, содержалось большое количество высказываний по поводу обучения и воспитания.
Греко-византийский сборник XI в. «Пчела» (по-гречески — «Мелисса») был переведен в Киевской Руси не позднее XII — XIII вв. (93, 382 — 387]. Пространная редакция состоит из 71 раздела (главы). В каждой главе — две части. В первую входят изречения христианских авторов: «Речи и мудрости от Евангелия и от Апостола и от Святых муж». Вторая часть состоит из
«Разума внешних философов», т. е. античных авторов и нехристианских писателей более позднего времени.
С «Пчелой» часто соседствует в рукописных сборниках подборка изречений греческого драматурга Менандра (ок. 343 — ок. 291 до н. э.) под названием «Мудрость Менандра». В Византийском государстве комедии Менандра относились к кругу учебных пособий. Во всех перечнях писателей, которых надо было знать ученику, обязательно числился Менандр. Всего насчитывается до 15 текстов различных редакций «Мудрости Менандра», все они, за исключением старейшей, русские по происхождению [97, 400]. Изречения Менандра входят и в состав «Пчелы».
Афоризмы в сборнике Менандра никак не объединены по содержанию, что обусловливало подвижность состава сборника. В XIV в. русские «списа-тели книг» сами сгруппировали несколько сборников, родственных между собою, включавших не только гномы, но и «слова», и «поучения». Среди этих сборников наибольшей полнотой и систематичностью отличался «Измарагд» (т. е. «изумруд»), который был распространен в сотне списков.
Сборники «Пчела» и «Измарагд» включали в себя специальные подборки высказываний на педагогическую тематику. В «Пчеле» они составили главы «О учении и беседе», «О наказании», «О любомудрии и учении детей», «О чести (почитании) родителей», «О старости и юности», «О памяти». В «Измарагде» подобрана группа «слов» «о почитании книжном», заключающаяся Словом Кирилла Туровского, порицавшего тех, кто забывает своих учителей [108].
Многие изречения этих сборников посвящены прославлению мудрости: «Яко же злато везде честно, тако же и муж научен», «Всегды благо и более всего в человецех мудрость», «Мудрость надо всеми добродетелями царствует», «На все убо лепо есть быти мудру» [59, 515], «Не будьте детьми умом, на зло же будьте как младенцы, а по уму как зрелые люди»1.
Мудрые люди, утверждают афоризмы, достойны подражания: «Ревнуй добру и мудру мужу», «От мудра мужа приим совет», «Не отступай от жены премудры и благи, ибо благодать ея паче злата». Истинная мудрость обязательно должна сочетаться с добродетелью: «Ум иже (что) есть в тебе никоего же зла не хощет», «Не мудр иже много умеет, но иже много блага творит» [59, 79, 14, 16], «Учи нравом, а не словом: иже словом мудр, а дела его несовершенны, то хром есть».
Существовало много изречений, славивших ум, однако ум понимался как природная смекалка, а знание и глубокое понимание сущности вещей — как мудрость. То, что «ум» и «мудрость» различны, видно, например, из следующего изречения: «Ум и мудрость, аще ся обое случить в человеце, та аки обе очи в челе, совершено глядание имуще» («Ум и мудрость, если оба есть в человеке, так он, как имеющий два глаза, будет обладать совершенным зрением») [28, 16]. Мудрость, согласно изречениям, не приходит сама: чтобы стать мудрым, необходимо учиться. «Чадо, в уности (юности) твоей избери себе наказание (учение) и якоже делая и сея, приступи к нему и жди благих плод его», «Ненаказанный (необученный) токмо разно суть от зверей образом единем», «Смешно есть, иже глаголеть яко мудрость без учения есть».
В учении помогают книги: «Книги учити добро и, учившеся, ум имети» [59, 7]. «Муж мудр без книг подобен есть оплоту без подпор: егда без ветра, то он стоит, а ветру пахнувшю на нь (на него), то падаеться, не имый подъпора книжных словес» [28, 16].
1 Изречения из «Пчелы» в тексте даны по рукописи XIV в., опубликованной В. Семеновым [911.
Небольшой раздел в «Пчеле» посвящен обучению и воспитанию детей. Изречения этого раздела прославляют книжное обучение и «силу книги», отмечают, что учение оказывает благотворное воздействие на молодежь: «Земледельцы, видя колосья к земле склоняющиеся, радуются, зная, что наполнены зернами; если же колосья прямо стоят, тревожатся земледельцы, зная, что пусты они. Так же и юноши, тягости от отсутствия знаний не ощущая, живут в колебанье, и даже походка и лица их заносчивы, и вражды исполнены, и никого не щадят они. Начав же осматриваться и плоды собирать от учения, от суровых попреков они избавляются. Как сосуд пустой, воздухом наполненный, наливаясь водой или вином или иным чем наполняясь, воздух изгоняет, так же и люди, исполнившись истинного блага, изгоняют тщеславие». Учение, как и во всей древнерусской литературе, представлено в «Пчеле» в качестве тяжелого труда. Зато плоды этого труда — подлинная ценность. Приводится принадлежащее Демосфену высказывание: «Этот спрошенный, как учился ораторскому искусству, ответил: «Истратил масла больше, чем вина» (речь идет о масле, которым заправляли светильники), т. е. проводил дни и ночи в занятиях, а не в кутежах.
Составители «Пчелы» знали, насколько тяжела педагогическая деятельность, как трудно обучать и воспитывать. «Что человеку умному тяжелее делать? Ответ. А тяжелее всего человеку умному глупого и упрямого учить человека».
Бесполезна деятельность учителя, воспитателя, если сам он не следует нормам высокой нравственности, лицемерит, фальшивит, нарушает правила, которым учит. «Иные люди других учат, а сами поучениям не следуют; подобны они гуслям, которые людям красивые звуки издают, а сами не слышат» (здесь совершенно очевидна древнерусская редакция текста: ведь гусли чисто русский музыкальный инструмент).
Велика в учении и роль наставника, учителя. Своих учителей надо помнить всю жизнь, поминать их «не токмо в дневных, но и в нощных мольбах»; «ведый от кого навыкл (научился) еси, яко из млада и святыя писания веси (узнал), могощая тя умудрить во спасение. Иже бо кто не помнит откуда, что добро при-им, то подобии суть голодному псу зимою измерзшу и яко бысть согрет и накормлен, начал лаяти на согревшего и накормившего» (108, 48 — 49]. Основная заповедь учителя: «Уча, учи нравом, а не словом», «Тогда учитель свершен и верен бывает, уча, егда деянием учит», «Учитель нравом да покорит ученика, а не словом», «Не тако можеши словом учити и привлещи к себе слушающих, аки нравом благим». С этой мыслью тесно связаны и различные рассуждения о слове. С одной стороны, словом можно обмануть, поэтому учитель должен подкреплять его делом: «Житие слова не требует, само бо ся являет, слово более требует жития, аще и не само смеренья держится». С другой стороны, слово — это «образ души»: «Слово, аки благим житием одевает душу образом», «Личины образ видится в зеркале, душевный же — беседами является» [59, 16, 13].
Слово заключает в себе большую силу, которая может быть использована как на благо, так и во зло: с одной стороны, «Умеет слово мудро печаль врачева-ти», с другой — «Меч язвит тело, а слово зло ум» [59, 11 — 12]. Поэтому, говорит «Пчела», «Бывает другоицы (в другой раз) молчание лучше глаголания», «Не срам молчати, но глаголати безумно», «Следует дважды слушать, а один раз сказать».
Обучать учитель может не всех и не всегда: «Казателем (учителям) подобает первое испытати наказаемых (обучаемых), каци суть (какие они), да ж будут стыдливо послушати учения, аще ли не стыдятся, то не сыпать бисера перед свиньями», «Якоже мертвеца не излечити, тако и старого не можеши наказати (обучить)», «Егда тщание слушающих на пущее клонится, то все учение всуе (напрасно), зане ум его супротивится учащим».
Учитель должен сам испытать потребность в учении, в самоусовершенствовании: «Иже нудят (принуждают) учитися иных, сами же не хотят учитися, то подобии суть кадилному светилнику усякивающим (иссякающему), а масла не приливающим». От степени подготовленности учащихся зависит и характер обучения: «Невоз можно есть велика учения начати, мало учився».
Методы обучения должны исключить всякое насилие над человеком. Авторы-составители «Пчелы» подчеркивали, что «насильно учение не может твердо быти, с радостью же и веселием входя, твердо прилежит к душам внимающих».
Проводя мысль о различных способностях учеников, «Пчела» иллюстрирует ее историческим анекдотом из Плутарха: «Сей глаголаше, яко Клеанфий и Ксенократий тупа суща паче инех ученик поношена быста. Оне же отвещаста: ве подобна сосудом тонкожерлым, яже едва приемля леемая, твердо и добре хранять й» («Говорили, что Клеанфия и Ксенократия называли тупыми по сравнению с другими учениками. Они же отвечали: мы подобны сосудам с тонким горлом, в которое содержимое еле вливается, но хорошо и долго хранится»). Путь к знаниям лежит через желание учиться и труд: «Ни учение без естества (характера) и без труда свершити возможно, ни естество искончева-еться (достигает совершенства) без учения и без труда, ни тружение утверждается аще не преже основано будет естеством и утвержением».
Еще одно непременное условие успешного обучения — чувство меры в отношениях между учителем и учеником, основанное на сочетании требовательности и доброжелательности: «Достойно ученикам яко родителя имети истиннаго учителя и трепетать аки князя, да быша (дабы) ни любовию отгнали страха, ни страхом омрачили любви».
Много внимания в «Пчеле» уделено и вопросам воспитания. В разделе «О жизненной добродетели и злобе» явное предпочтение отдается текстам, рисующим христианский идеал поведения (несмотря на то что они приписываются античным мудрецам). За этим христианским идеалом кроется глубокий этический общечеловеческий смысл. Так, многие поучения содержат требования приложить немало усилий для достижения добродетели. Эти усилия необходимо направлять и вовнутрь, преодолевая свои собственные греховные побуждения и стремления, и вовне, так как добродетельная жизнь может вызвать злобу и вражду у завистливых людей. Но зато добродетельный человек — свет и надежда мира: «Пусть не прельстят тебя мужи нечестивые, не ходи с ними по пути, но отклони ноги свои от дорог, ибо ноги их на злое бегут и скоры они на пролитие крови»; «Всякий, кто держится добродетели, не может не иметь многих врагов»; «Не место делает добродетельным, но добродетели место украшают».
В «Пчеле» содержатся рекомендации по самовоспитанию, идущие от стоической философии. Так, Эпиктету приписывается мысль о том, что истинная свобода — внутренняя и человек в любом положении может быть (вернее, чувствовать себя) свободным: «Если хочешь вне рабства быть, освободись от рабства, будешь свободен, если освободишься от желаний».
«Пчела» дает советы правителям, которые должны в идеале быть мудрыми и справедливыми, внушать подданным любовь, а не страх. «Пословица говорит: детям ножа не давай; я же добавлю: ни детям богатства, ни людям невежественным силы и власти доверить нельзя». Как видно из этого высказывания, оно направлено и против весьма распространенной в Древней Руси практики, когда дети богатых родителей, не получив настоящего воспитания, не умели пользоваться своим богатством и властью (педагогическая проблема), и против неумных, злых, жестоких правителей, которых, увы, больше, чем мудрых и праведных (нравственно-политическая проблема). Приводятся слова Диона Римского: «Все, что велишь подчиненным своим — как быть и что делать, — сначала выполни сам, потом же учи. Тем самым ты лучше научишь, чем наказаньем согласно закону: там ведь идет подражанье, здесь — страх, а лучше всегда с подражаньем, чем со с.трахом, идти к совершенствованию». Это чисто «педагогическое» высказывание относится не только к правителям, но и к воспитателям. При этом подражание понимается не как бездумное, механическое копирование, но как следование высокому образцу.
Превосходную рекомендацию не только для правителей, но и для имеющего хоть какую-то власть над людьми, в том числе власть учителя над воспитанниками, дает Демокрит: «Пожелай быть любимым при жизни, а не страшным: ибо кого все боятся, тот сам всех боится». Демокриту же приписывается изречение: «Царь короной ума не получит, ибо царствует ум». Это критическое отношение к власти во времена становления феодальной монархии является отзвуком демократических учений античной политической мысли. Для сословного общества, где происхождение и знатность рода считались главными достоинствами человека, поразительно звучит высказывание, приписываемое Демосфену: «Не та пшеница хорошей считается, что на хорошем поле сжата, но чисто собранная и в пищу пригодная; так же и человека примем не по знатности рода, но по характеру».
Некоторые изречения «Пчелы» о мужестве, чести, которая дороже жизни, об истинных общечеловеческих ценностях перекликаются с такими же идеями, выраженными в глубоко поэтической форме в классических произведениях древнерусской литературы. Сравним. В «Пчеле» помещено изречение Сократа: «Лучше мужественно умереть, чем жить в позоре». В «Повести временных лет» (под 971 г.): «...рече Святослав: «Да не посрамим земли Русской, но ляжем костьми тут, мертвый бо срама не имам...» В «Слове о полку Игореве»: «И рече Игорь к дружине своей: «Братия и дружино! Луце бы потяту быти, неже полоне-ну быти...» Понимание высших этических ценностей, вера в конечную победу добра над злом закрепились на Руси в формуле: «Не в силе бог, но в правде». Эти слова, согласно «Житию Александра Невского», произнес полководец, выступая с малочисленной дружиной против врагов.
Целый (правда, небольшой) раздел «Пчелы» посвящен почитанию родителей, уважению старости, значению родительского воздействия на детей: «Таким будь для родителей своих, каким хотел бы видеть детей своих», «Как и члены телесные наших детей в час рождения повиваются, чтобы крепче, прямее были и тверже, так изначала следует нам и детский характер направлять».
В середине XV в. из сборников изречений домонгольского времени русским составителем была сделана самостоятельная подборка, получившая форму законченного произведения и названная: «Наказание (поучение) отца к сыну». Она примыкает к средневековому жанру отеческих поучений, носящему дидактический характер, и имеет четкую светскую направленность. Сын должен усвоить основные нормы поведения, присущие верхам феодального общества, а также общеэтические заповеди. Сыну предлагается подборка афоризмов о дружбе, мудрости, богатстве, лени, скупости, печали и др. В заключение же дается универсальный совет Иисуса Сираха, известный еще по Изборникам 1073 и 1076 годов и по «Пчеле», которым может руководствоваться человек «ненаказанный» (т. е. неученый, невоспитанный) в любой ситуации и всегда поступит верно: «Человече, если ты не знаешь, как спастись, и книг не умеешь читать, то не делай другому того, что самому не любо, и спасешься» [72, 499].
«Повесть об Акире Премудром»
Большой популярностью пользовалась «Повесть об Акире Премудром» [70, 247 — 281], попавшая на Русь, по-видимому, еще в XI в. Прототипом этой повести служит «Повесть об Акихаре», возникшая еще в VII в. до н. э. в Ассиро-Вавилонии. Вкратце содержание повести (в ее древнейшем русском варианте) сводится к следующему. Акир, не имея детей, взял себе на воспитание и сделал своим наследником племянника Анадана. Акир учит Анадана мудрости, готовя его в советники царю после своей смерти. Далее следуют поучения Акира Анадану, которые по объему составляют примерно треть всей повести. Однако Анадан не внял советам приемного отца и оклеветал Акира перед царем. В конце концов клеветник разоблачен, справедливость торжествует. Акир наказывает племянника и продолжает свои наставления.
Читателя привлекал в повести не столько сюжет, сколько нравоучительность содержания, точно, афористически сформулированные правила и нормы жизни, рецепты житейской мудрости. Именно эта сторона особенно выделена в древней русской редакции повести. В более поздних переработках дидактическая часть сокращается, на первое место выдвигается занимательность, движение самого сюжета и пр., сближающие их с народной сказкой.
Сентенции и поучения Акира не содержат глубоких философских идей, а представляют собой обобщение некоторых наблюдений и жизненного опыта. Эти суждения рассчитаны на рядового читателя, заинтересованного в устройстве частной жизни, в «домостроительстве». Основной пафос поучений Акира — воспитание человека, который сумел бы в бурные и сложные времена счастливо избежать острых ситуаций, человека, в меру эгоистического, осторожного. В повести содержится немало похвал уму, мудрости и т. п., но это ум, направленный на то, чтобы благополучно прожить в противоречивом мире. Ум этот сродни осторожности. Отсюда бесконечно повторяющиеся призывы к некоей «середин-ности»: «Чадо мое, не будь черствым, как тверда кость человеческая, но не будь мягким, словно боб»; «Не будь сладок чрезмерно, не то съедят тебя, но не будь и чрезмерно горек, чтобы не отшатнулся от тебя друг твой»; «С тем, кто сильнее тебя, не ссорься, ты же не знаешь, что замыслит он против тебя». Даются житейские советы, как надо удерживать и сохранять накопленное, страшась бедности: «Сын мой, денег своих без свидетеля не отдавай понапрасну, а не то потеряешь их» и т. д.
В повести явно содержатся отголоски родовой, патриархальной психологии. Патриархальная большая семья, родственные связи делают человека более защищенным в мире. Именно поэтому так важно иметь крепкий дом, детей, которым можно оставить богатство и передать жизненный опыт. Акир потому и пострадал, что доверился неродному сыну: «Сын мой, для женщины лучше, чтобы ее сын умер, чем чужого кормить, ибо если она ему добро сделает, он ей злом воздаст».
Забота о семье, о потомстве, о доме определяет характер педагогических советов в поучениях Акира. Говоря о роли жены в доме, наставник впадает в некоторое противоречие. Это, с одной стороны, негативное отношение к женщине, советы избегать женщины, не быть с ней на равных, не раскрывать ей своих мыслей, своего сердца: «...не прельщайся красотой женщины и в сердце своем не возжелай ее. Если и все богатства отдашь ей, и тогда никакого блага от нее не обретешь, только еще больше согрешишь перед богом». Однако жена — необходимое лицо в семье, без хозяйки невозможно создать крепкий дом. Поэтому в поучениях Акира содержится похвала доброй жене. «Чадо, люби жену свою всей душой, ибо она — мать детей твоих и услада жизни твоей». Впрочем, это единственная похвала женщине во всей повести.
В воспитании детей Акир советует прибегать к наказанию: «...не воздерживайся от наказания сына своего, ибо побои сыну словно дождь, орошающий сад. Сын ведь от побоев не умрет, а если станешь пренебрегать воспитанием его, то какое-нибудь горе навлечет на тебя», «...сына своего с детских лет смиряй, если же не укротишь нрава его, то раньше времени он состарится».
Несчастья Акира явились следствием того, что он был добр, ограничивался советами, а не наказывал племянника, не вколачивал в него мудрость силой. Мысль о том, что учение без наказания до добра не доведет, — одна из главных в повести.
Акир предупреждает о необходимости почитания родителей: «...отца своего почитай, ибо все богатство свое он тебе оставляет...Бойся, чтобы не прокляли тебя отец и мать, а то ты и от своих детей не узнаешь радости». Молодежь должна внимательно слушать советы и поучения старших, не прекословить, не считать себя умнее: «Сын мой, не говори: господин мой глуп (имеется в виду отец), а я умен», «Послушай советы господина своего и милости его удостоишься, а на свой ум не надейся».
Педагогические советы и поучения Акира не выходят за рамки обыденной практики. Причина их живучести и широкой распространенности в их доступности, простоте, соответствии обыденному сознанию, общественной бытовой психологии и практике.
Глава II ПРОБЛЕМА ВОСПИТАНИЯ В ФОЛЬКЛОРЕ И ЛИТЕРАТУРЕ ДРЕВНЕЙ РУСИ
I. НАРОДНАЯ ПЕДАГОГИКА В ФОЛЬКЛОРНЫХ ПАМЯТНИКАХ ФЕОДАЛЬНОЙ РУСИ
В эпоху феодализма на Руси наряду с педагогикой господствовавших классов развивалась, взаимодействуя и в значительной степени противостоя ей, народная педагогика1. Ее содержание составлял опыт трудящихся масс в области воспитания подрастающих поколений. Народная педагогика существовала на уровне обыденного сознания, являясь результатом коллективного педагогического творчества народа, она складывалась и развивалась под воздействием логики самого воспитательного действия.
Степень сознания трудящимися массами своего педагогического опыта была различна — от достаточно четкой его рефлексии в пословицах и поговорках, дающих в ряде случаев конкретные рекомендации воспитателям, до почти механического повторения стереотипных воспитательных действий, диктуемых общепринятой традицией, освященной религией или памятью предков. Однако в любом случае речь идет о педагогическом опыте, именно педагогическом, т. е. связанном с воспитанием, с таким социализирующим влиянием на ребенка, которое носит целенаправленный характер. Эта целенаправленность всегда выражается в конечном счете в стремлении воспитателя внести определенные изменения в психику и поведение воспитуемого. Причем возникновение необходимости этих изменений может быть связано и с непосредственными потребностями сиюминутной практической жизни, и с требованиями общепризнанных установлений, и с влиянием более отдаленных, оторванных от обыденности высоких идеалов, воплощенных, например, в некоторых образах сказочных народных героев.
Отсутствие широкой грамотности, особенно среди сельского населения, и преимущественная связь господствующих социальных слоев с народной педагогической традицией русского феодального общества, идеологией и культурой сводили до минимума роль письменности как средства накопления и передачи опыта народного воспитания. Накопление и передача педагогического опыта трудящихся опирались главным образом на два социокультурных механизма (хотя к ним не сводились) — на воспроизведение в определенных условиях повторявшихся комплексов воспитывающих действий и на традиции устного народного творчества (фольклора)1.
От отца к сыну, от матери к дочери из поколения в поколение передавались способы приобщения детей к различным видам хозяйственной и иной, например культовой, деятельности. Неразрывно связанные с сельскохозяйственным и ремесленным трудом, с домашними работами, с повседневной жизнедеятельностью, они применялись по мере возникновения соответствующих потребностей. Став взрослым и обзаведясь семьей, человек начинал приобщать своих детей к тем видам деятельности, к которым приобщали когда-то и его самого, с помощью устоявшихся приемов.
Мощное социализирующее влияние на детей оказывали многие обряды и ритуальные действия, воспитательное значение которых, как правило, не осознавалось.
Педагогический опыт закреплялся не только в комплексах действий, вплетенных в повседневную жизнедеятельность или ритуализированных, но и в произведениях устного народного творчества2.
Педагогические функции фольклора были многообразны. Во-первых, в нем находило свое выражение опирающееся на многовековой опыт трудящихся отношение народа к воспитанию и его возможностям, задачам, целям и средствам. Во-вторых, в фольклоре содержались конкретные педагогические рекомендации, а также он сам мог использоваться в качестве средства воспитания.
Трудность изучения народной педагогики по наиболее информативным фольклорным источникам, сохранившимся в своей основной массе в записях XIX — XX вв., во многом определяется сложностью их датировки, наличием в них нескольких исторических пластов, древнейшие из которых уходят в доклассовое общество [17; 81; 96]. Однако, основываясь на упоминании в фольклоре некоторых исторических реалий, учитывая специфику общественных отношений и культуры феодального общества, в произведениях устного народного творчества можно вычленить опыт воспитания, который отражал реальную педагогическую практику трудящихся масс той эпохи, составлял основу их представлений о воспитании.
В устном народном творчестве обобщенный педагогический опыт фиксировался в образной форме, передающей как бы конкретный эмпирический факт. Этот факт, будучи типическим, пробуждал в сознании представление о многих других сходных фактах, подавал зафиксированное в нем отношение как существенное и глубокое. Именно в фольклоре народная мудрость была способна дать образное обобщение педагогического опыта, которое, будучи широким и емким, было в то же время осязаемо, конкретно и потому очень доходчиво. Оно не только передавало опыт воспитания, но и как бы указывало на пути его практического применения [106, 55].
В фольклоре отразился факт понимания народом того, что именно в детях заключается бессмертие родителей, их радость и заботы, счастье и горе. «Дети радость — дети горе», «Без деток — тоскливо, с детками — вередливо», «Тот не умирает, кто детей не покидает», — гласят пословицы русского народа [40, 2 — 3; 78, 386].
Воспитание, огромная роль которого в становлении человеческой личности
1 О современных взглядах на механизм накопления и передачи социокультурного опыта см.: [11; 33; 83].
2 Об особенностях фольклора как средства накопления и передачи социокультурного опыта см.: [105].
глубоко осознавалась трудящимися массами, рассматривалось как сложный процесс, как важнейший долг родителей по отношению к детям: «Не от отец и мать, кто родил, а тот, кто вспоил, вскормил да добру научил», «Умел дитя родить, умей и научить» [40, 19, 8, 12].
Народная мудрость, признавая высокую ценность учения, призывала учиться всю жизнь, преодолевая встречающиеся на пути к знанию трудности: «Учение — свет, а неучение — тьма, «Учение — лучшее богатство», «Красна птица перьем, а человек ученьем», «Век жить — век учиться», «Не учись до старости, а учись до смерти» [92, 3, 6; 89, 54, 55].
Трудное и самоотверженное учение, дающее человеку знания и умения, рассматривалось в русских народных сказках как важнейшее средство облегчения его труда. «Роль знания в сказке вообще очень велика; многие сказки рассказывают о том, как героя отдали «в науку» и как он, выучившись, достигает высокой степени мастерства, что и дает ему возможность успешно выполнить все задания и добиться в жизни успеха. Учение направлено на службу человеку, предназначено для облегчения его трудовой жизни»» [82, 143]. Анализируя устное народное творчество, И. Сенигов показал, что, согласно народным представлениям, учение давало знания, развивало ум, вырабатывало умение держать себя в соответствии с принятыми правилами поведения, освобождало человека от суеверий, являлось источником нравственного совершенствования [92,7, 15].
Народная педагогика, признавая эффективность воспитания, в то же время отражала осознание трудящимися его ограниченных возможностей. Хотя воспитание и необходимо, оно не всесильно, как бы предупреждала народная мудрость: «Глупому сыну отец ума не пришьет», «В семье не без урода» [40, 19].
В фольклоре опосредованно фиксировались конечные «идеальные» цели народного воспитания, с трудом достижимые в реальной жизни, но служившие как бы высшим ориентиром в деятельности воспитателей. Эти цели обычно формулировались косвенно, через характеристику положительных качеств личности.
В русских народных песнях и сказках, пословицах и поговорках прославлялись трудолюбие и высокие нравственные качества (доброта, честность), ум и физическая сила.
Г. Н. Волков, говоря о степени детализации целей воспитания в сознании русского народа, отмечает, что они ориентировались на более чем восемьсот конкретных черт личности, которые нашли свое отражение в устном народном творчестве. Он показал, что цели воспитания в педагогике трудящихся масс усложнялись по мере взросления детей. С пробуждением и развитием сознания ребенка цель его воспитания, известная ранее только его воспитателям, доводилась до его сведения. Народной педагогике было присуще стремление обеспечить совпадение целей воспитателя и воспитуемого, воспитания и самовоспитания, что рассматривалось в качестве важного условия успеха педагогической деятельности.
Цели народного воспитания ориентировались на представления об идеале совершенного человека, выработанные народными массами [13]. Этот идеал на Руси уже с XI — XIII вв. носил ярко выраженный сословный характер, отражавший реальное положение трудящихся масс в феодальном обществе. Воспевая в качестве своих героев Ивана-Крестьянского сына и Никиту Кожемяку, народ главным человеческим качеством считал трудолюбие. «Работа да руки — надежные в людях поруки», «Маленькое дело лучше большого безделья», — гласили русские народные пословицы [8, 33].
Обязанности воспитателей народная педагогика закрепляла прежде всего за ближайшими родственниками ребенка — отцом и матерью. Д. С. Лихачев отмечал, что в XIV — XV вв. сформировался семейный быт русского народа с сильной властью отца и высоким нравственным авторитетом матери [46, 154]. Необходимость почитать и беспрекословно слушаться родителей проповедовала церковь. Это требование, отражавшее патриархальный быт трудящихся масс феодальной Руси, прочно вошло в народное сознание. В сказках непослушные дети подвергались всяческим опасностям (вспомним сказку «Сестрица Аленушка, братец Иванушка» [60, 260 — 263]). Пословицы требовали: «Отца бойся, мать уважай», «Коли живы родители — почитай, умрут — поминай», «Кто родителей не почитает, тот вовеки погибает» [40, 9].
Утверждая власть родителей над детьми, народная педагогика рекомендовала широко применять наказания, в том числе физические, видя в них эффективное средство воспитания. Эти педагогические рекомендации, освященные библейской традицией1, были представлены в фольклоре, особенно в пословицах и поговорках: «Родительские побои дают здоровье», «Кулаком в спину — поучение сыну», «Дитыну люби як душу, а тряси як грушу», «Бьют не ради мученья, а ради ученья», «За одного битого двух небитых дают, да и то не берут» [40, 8, 13, 15]. Требование послушания содержалось уже в некоторых колыбельных песнях. Оно принимало, как правило, форму запрета — не вертись, не ложись на край, не поднимай голову и т. д. Иногда в этих песнях звучала угроза наказания [53, 105].
Физическим наказаниям в фольклоре противопоставлялись как наиболее эффективные наказания стыдом: «Детей наказывай стыдом, а не кнутом» [89, 52; 87, 356]. Важной предпосылкой распространения данного вида наказаний была большая роль общественного мнения в формировании и регулировании поведения представителей трудящихся масс феодальной Руси.
Педагогический опыт народа позволял представить все возможные издержки широкого применения наказаний, особенно физических. Наказания порождали страх, мешали установлению нормальных отношений между родителями и детьми, воспитывали жестокость: «Где страх, там принужденье», «Он забит и смолоду запуган», «Не груби молодому, не вспомянет старому», «Малый вырастет, все выместит», «Не бей, батька, сына, побереги свою спину», «Кулаком ума не вобьешь, а выбьешь» [40, 15, 18].
Народная педагогика отражала реальные противоречия процесса воспитания. Пропагандируя наказания, она предупреждала о тех негативных последствиях, к которым они могли привести, и противопоставляла им методы воспитания, основанные на ласковом обращении с детьми, рассматривая их как самые эффективные: «Не все таской, ино и лаской», «Бить добро, а не бить пуще того», «Ласково слово что весенний день», «Ласково слово и ласковый вид и свирепого зверя к рукам приманивает», «Умный ребенок боится грозы, а глупый — лозы» [40, 15, 18, 56, 26].
В фольклоре со всей определенностью был сформулирован важнейший педагогический вывод — залог успешного воспитания во взаимной любви: «Кого не любят, того не слушаются», «Где любовь, там и угожденье» [40, 17]. В то же время пословицы и поговорки предостерегали от чрезмерных ласк и забот, видя в них причину многих издержек воспитания: «Гладенькая головушка — отцу-матери не кормилец», «Несчастны те детки, которых не журят ни батьки, ни матки», «Баловство доводит до воровства», «Засиженное яичко всегда болтун», «Матушкин сынок — легонький умок» (40, 18, 21].
Педагогический опыт народа подсказывал необходимость начинать воспитание с раннего возраста: «Не кайся рано вставати, а молодо учити», «Ломи дерево, пока молодо», «Чему с молодости не научишься, того в старости не будешь знать» [40, 13; 56, 36].
Опыт, накопленный трудящимися массами в области воспитания подрастающих поколений, по необходимости заставлял учитывать возрастные особенности детей. Существовали специальные произведения устного народного творчества, адресованные непосредственно детям, — так называемый детский фольклор. Эти произведения использовались в качестве средства формирования ценностных ориентиров, развития речи и т. п. И хотя их воспитательные функции осознавались взрослыми далеко не всегда, потенциальные педагогические возможности детского фольклора, конденсация в нем народного опыта воспитания предполагают его рассмотрение в контексте народной педагогики.
Детский фольклор отражал потребность ребенка в смехе и веселье, учитывал его склонность к игре, фантастике и героике, интерес к животному миру. Язык этого фольклора учитывал особенности детского мышления: в нем преобладали существительные и глаголы, употреблялись значительно реже прилагательные и другие части речи [44, 97].
Ярким проявлением педагогического чутья русского народа, свидетельством глубокого понимания психики ребенка была коротенькая колыбельная песенка о буке, известная в 80 вариантах. Несмотря на широкое распространение в крестьянском быту устрашения непослушного ребенка букой, колыбельные песни не пугают ребенка страшилищем, а ограждают его от «буки», которого отгоняют от колыбели, внушая маленькому слушателю чувство безопасности и защищенности [54, 131 — 132].
Для развития устной речи детей широко применялись кумулятивные сказки типа «Терем мухи», «Колобок», построенные на одинаково оформленных и строго повторяющихся синтаксических звеньях и образах. Детям предлагались скороговорки, основанные на трудности произношения («Тур туп, тупогуб», «У быка губа тупа») [30, 173].
Небылицы-перевертыши, адресованные детям, помогали им в занимательной, веселой, образной форме увидеть подлинные связи реального мира, будили активность детей, учили их думать и сопоставлять различные явления между собой. В небылицах изображение мира давалось перевернутым. Животным приписывались человеческие качества («Кошка на окошке ширинку шьет»). Иногда на одних животных переносили свойства других («Свинья на дубе гнездо свила, гнездо свила, поросяточек вывела»). Животные могли наделяться человеческими именами («Утка — Ненила, селезень — Гаврила»), Предметы заменялись людьми, а люди предметами («Ехала деревня мимо мужика») [45, 62].
Воспитательная функция была одним из жанровых признаков сказки, дидактизм которой пронизывал всю сказочную структуру, достигая особого эффекта резким противопоставлением положительного и отрицательного [89, 136]. В сказках детям преподавалось торжество нравственной и социальной правды. Они содержали в себе выраженные в конкретной форме моральные императивы трудового народа.
Жизнь должна быть основана на труде, и, как бы человек ни был слаб, он должен трудиться: может быть, именно этой крохотной силы недостает для завершения общего дела (сказка «Репка»). С людьми надо жить в мире: коллективная дружба — основа благополучия («Теремок», «Зимовье зверей»). Послушание старшим избавляет от многих бед («Волк и коза»). Надо быть чест- 1
1 Слово «бука» имеет своим прообразом татарское имя Бука. Некоторые исследователи высказывают предположение, что обычай пугать детей букой имеет давнюю традицию и восходит ко времени татаро-монгольского ига. См.: [55, 37|.
ным, не лгать, не причинять людям зла, не оставлять слабого в беде («Коза купленная», «Старая хлеб-соль не забывается») и т. д. [55, 117 — 118].
Детский фольклор отличается четко выраженной возрастной направленностью. Расширение тематики, усложнение идейного содержания произведений фольклора, обслуживавшего детскую аудиторию, происходили по мере накопления жизненного опыта ребенка. Детский фольклор помогал решению конкретных воспитательных задач, способствуя духовному развитию ребенка (байки, потешки, песенки), сообщая ему элементарные сведения об окружающем мире (загадки, сказки, песенки-перевертыши), прививая определенные воззрения на труд, общественную жизнь (сказки, пословицы и поговорки, исторический эпос). «Воспитательная действенность этих произведений возрастала благодаря тому, что они могли преподноситься ребенку в естественной, окружающей его обстановке, в зависимости от конкретных обстоятельств и событий самой жизни» [44, 97].
В фольклоре нашел свое выражение «педагогический гений русского народа» (К. Д. Ушинский). Опыт воспитания, накопленный трудящимися массами, был неразрывно связан с их жизнедеятельностью, органически вплетался в нее. Именно это прежде всего обусловливало высокую эффективность народной педагогики, традиции которой составляли источник развития прогрессивных педагогических идей.
2. ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ В ПАМЯТНИКАХ ДРЕВНЕРУССКОЙ УЧИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Средневековая литература дидактична в своей основе. Христианская догматика не признавала за искусством и литературой никаких других функций, кроме дидактических. Дидактизм является, по определению ученых, одним из ведущих принципов средневековой литературы, направленной на «ученье, на обличенье, на управленье, на наказанье». Прочтение древних сочинений предписывалось как своего рода «душеполезное лекарство», необходимое всем — малым и великим, богатым и убогим, молодым и старым. Прагматические цели в той или иной мере преследовали все произведения литературы Древней Руси независимо от их тематики и жанра [48, 62 — 68]. Иначе и быть не могло: по выражению одного из авторитетных ораторов IV в. — Василия Великого, «все, что предпринимается не ради потребности, но для прикрасы, подлежит обвинению в суетности».
Среди множества сочинений, бытовавших на Руси в XIII — XVII вв., прямым дидактизмом, стремлением воспитать определенные качества в человеке, избавить его от «греха» отличались так называемые учительные «слова» или «поучения» — памятники ораторского искусства. Они вошли в многочисленные литературные сборники и в своей совокупности являются замечательным памятником педагогической мысли Древней Руси1.
Дошедшие до нас произведения учительного красноречия во многом были обусловлены потребностью распространения новой государственной идеологии — христианства. Надо было объяснить «новообращенным» их «обязанности» по отношению к богу, правила поведения в церкви и в быту и т. д. Важно было также воспитать в людях беспрекословное подчинение властям и духовенству. В этих ранних сочинениях иногда в религиозной, а иногда и в светской форме содержались требования трудолюбия, скромности, заботы о родителях, детях, семье, стремления к знаниям. Уже в киевский период книжники и ораторы ставят перед собой серьезные задачи воспитания высоких моральных качеств, идеалов 1
1 Цитируемые памятники опубликованы [38; 73, 54 — 69].
гражданского служения Родине, постепенного нравственного совершенствования души человека.
В предельно кратком, конспективном виде эти дидактические цели сформулированы в первом собственно русском памятнике учительной литературы — «Поучении к братии» Луки Жидяты, обращенном в XI в. к новгородцам. Сразу за наставлением в «азах» новой веры Лука просто и искренне говорит о необходимости доброго отношения людей друг к другу («Любовь имейте ко всякому человеку...», «Прощайте брат брату и всякому человеку»), о правдивости («Будь правдив так, чтобы и не каяться»), о милосердии («Помните и заботьтесь о странниках, и убогих, и узниках...»). Лука осуждает лицемерие, вражду, злопамятство, заносчивость, сквернословие, языческие привычки, прелюбодейство, пьянство. «Почитайте старых людей и родителей своих... судите по правде, не берите мзды», «Не убей, не укради, не солги... не ненавидь, не завидуй, не клевещи...» — эти положения и в дальнейшем будут определять идейное содержание учительных сочинений. Другой оратор XI в. — Феодосий Печерский считает главным условием нравственной жизни трудолюбие; свое призывное слово он обращает и к сильным мира сего, осуждая политику княжеского раздора.
Ранние памятники отечественной литературы, подробно рассмотренные выше, имели в первую очередь нравственную, учительную, а затем уже философско-богословскую направленность.
Таким образом, уже в Киевской Руси в учительной литературе были сформулированы главные принципы педагогических устремлений русского средневековья. Более глубокое осмысление, художественное, социальное и философское развитие они получат в XIV — XVI и XVII вв.
В этот период учительные сочинения распространяются в основном в составе четьих сборников. В них входят «слова» и «поучения», которые по своему жанру могут быть отнесены к произведениям ораторской прозы. При коллективном уставном чтении они носили характер поучительной речи, проповеди.
Действенным средством воспитания, как известно, является положительный пример, которым широко пользовались авторы исторических и агиографических сочинений. Не отказываясь совсем от этого приема, авторы учительных произведений предпочитают все же другие методы, такие, как критика, показ отрицательных сторон явления или лица, часто прибегают они и к убеждению. Не особенно полагаясь на логику суждений, ораторы стремятся к нарочитому повторению одних и тех же мыслей, стилистически незначительно варьируя их изложение. Эти повторы имели целью и психологическое воздействие на человека, который должен был не просто убедиться, а прочувствовать справедливость тех истин, которые предлагались учительной литературой. Соблюдалось здесь и требование постепенности в выполнении наставлений: «Возьми себе за правило: заставь себя не согрешить ни в чем один только день; вытерпев первый, и другой прибавь к нему, потом третий, и мало-помалу обычным это станет — не грешить и, уклоняясь, бежать от греха, как убегают от змеи» (Слово 12-е митрополита Даниила, оратора и писателя XVI в.). Средневековые авторы считали, что для воспитания человека необходимо его сознательное, разумное отношение к самому себе, к своему поведению. «Внимай же себе, познай себя, познай свою силу и свою слабость... — призывает Даниил, — тогда и других увидишь и пользу от них получишь, тогда... от всякого вреда душа отвратится...». Одно из утверждений русского средневековья гласило: «Люди самовластны» — сами вольны выбирать путь добра или зла. Поэтому учительные сочинения в первую очередь обращены к тем, кто сам хочет победить «злыя помыслы». Резкая критика, обличение зла должны были приумножить число этих сознательных людей, послужить стимулом к самовоспитанию.
Анализ содержания четьих сборников и памятников дидактического красноречия Руси дает возможность выделить несколько направлений в развитии педагогических воззрений XIV — XVII вв.
Воспитание любви к книге и знаниям. Еще в киевский период формирование духовно богатой (в средневековом смысле) человеческой личности ставилось в зависимость от распространения просвещения, «почитания книжного». Напомним о рассмотренном выше слове «О почитании книжном», открывающем Изборник 1076 г.
В Новгородской 1-й летописи есть сравнение человека, не знающего книг, с «оплотом — без подпор стоящу, аще будет ветр, то падется». Пространственные панегирики душеполезному чтению содержатся в сборниках «Изма-рагд» и «Златая Матица», авторы которых советуют чаще обращаться к книге: «Вода бо, часто каплющая, и камень удаляет, тако и книги, часто чтомы, наведут на истинный путь и разрешают греховные соузы». В предисловии к «Измарагду» составитель наставляет: «Егда убо чтеши книги, прилежно чти, всем сердцем внимай и двократы прочитай словеса...» Но и чрезмерное чтение представляется вредным для человека. Составитель «Измарагда» осторожно предостерегает от увлечения разными книгами, которое может привести к ненужному мудрствованию и ереси: «Почто, человече, требуеши многих книг...»
Мысли о книжной премудрости подхватывает и князь Иван Хворостинин — аристократ и книжник XVII в. В «Словесном наставлении к читателям, содержащем нечто к родителям о воспитании детей» он доказывает необходимость образования. Во времена Ярослава Мудрого впервые было использовано сравнение невежественного человека с конем, не имеющим узды. Это же сравнение почти через 600 лет повторяет Иван Хворостинин. Образованность он понимает достаточно широко. Это не только чтение книг, размышление, «любомудрие», т. е. созерцание, но также мастерство и умение, т. е. добрые дела, на которые способен только просвещенный и нравственный человек. Для Хворостини-на неоспоримо преимущество просвещения над богатством. «Не оставляй богатство, лучше оставь после себя ремесло», — поучает писатель родителей и говорит, как опасно допускать к воспитанию детей тех, кто «в худых делах навык имеет». Одновременно «совершенствовать душу и направлять мысль юного» — долг истинного учителя. И еще один важный вывод делает Иван Хворостинин из размышлений о пользе просвещения: благо государства, по его мнению, будет зависеть от того, «украсят» ли себя мудростью люди, стоящие у власти.
Воспитание идеалов гражданского служения. Гражданственность и патриотизм — неотъемлемые качества древнерусской литературы. Авторам дидактических сочинений в не меньшей степени, чем летописцам или создателям исторических, воинских повестей, свойственно чувство высокой общественной ответственности, стремление оценивать свой труд как труд служения Родине. Утверждение гражданских идеалов, критика социальных пороков и призывы исправить их в учительных «словах» обращены в первую очередь к сильным мира сего — князьям и боярам, так как именно от них зависит судьба страны, всего народа, а также к духовенству, призванному выступать заступником за людей перед «владыкой небесным». Писатели активно вмешивались в общественную жизнь, поучали властителей — мирских и церковных, главным средством воспитания выступала правда — смелое, невзирая на лица, осуждение несправедливой политики.
Обостренное чувство национального самосознания, желание помочь стране заставляют духовного писателя и оратора XIII в. Серапиона Владимирского искать причины бедствий не только в нашествии ордынцев на Русь, но и во внутренних неурядицах своей земли. Серапион прямо указывает, что «вражда осилила», «злоба преможе в людях». Свою миссию в эти тяжелые годы
татарского ига он видит в том, чтобы не скрывать от людей правды. Призывы к покаянию в словах Серапиона сливаются с гневным осуждением, зовут к борьбе, к сплочению сил, к освобождению. «Отстаньте от зла! Начните делать добро!» — призывает Серапион.
Символический образ многострадального государства, терзаемого дикими зверями — «славолюбцами» и «властолюбцами», «сребролюбцами» и «лихоимцами», воплощен в одном из самых ярких сочинений писателя XVI в. Максима Грека «Слове печальном, пространно излагающем несогласия и бесчинства царей и властей...». Как бы от имени самого государства писатель говорит правду, раскрывая причины великих «нестроений» Московского княжества во время правления Елены Глинской. Здесь же прямо сформулирован вопрос, волнующий человечество с древнейших времен, — вопрос соотношения государственности и морали, власти и справедливости. В этой связи интересно осмысление Максимом Греком слова «самодержец». Писатель толкует его как способность человека управлять собой, самому держать себя в руках, обуздывать свои страсти. Так наставляет он Ивана IV, вступившего на престол в 1549 г. Критикуя духовенство, Максим Грек рассматривает грехи не сами по себе, а как социальное зло, ведь прочный человек, да еще наделенный саном, развращает души прихожан, своим дурным примером он подрывает устои государства.
Эта же мысль проводится в «Наставлении князьям, которые дают власть и право суда неблагочестивым и коварным мужам». Безымянный автор XVI в. формулирует главный принцип, который должен лежать в основе государственного управления: «Властитель мира сего — правда». Но на самом деле он видит, что вместо царства справедливости «грабители и мздоимцы, вознесшиеся в гордыне и тщеславии, раздают приказания, правый человек осужден ими бывает, а когда обращается он к князю, то князь не слушает его. Как судить душу князя?» — задает риторический вопрос писатель. Он напоминает, что «один волк все стадо испортит, один вор на все стороны смердит, а у царя неправедного и слуги закону не следуют».
Таким образом, в памятниках учительной литературы Древней Руси мы видим более глубокое понимание гражданского идеала, чем то, которое сложилось в повествовательной литературе: не только воин, но прежде всего нравственный, просвещенный человек, судящий по законам справедливости, достоин высокого положения правителя. А утверждение и художественное воплощение этого идеала в коротких, но ярких, страстных словах, вероятно, действительно заставляли народ задумываться.
Отвращение человека от порока, воспитание добрых привычек. К концу XV в. писатель и просветитель Нил Сорский, опираясь на собственные наблюдения и предшествующий опыт византийской и южнославянской литератур, обращается к психологии страстей человека. Восемь «помыслов», считает Нил Сорский, лежат в их основе: чревообъедение, блуд (любовная страсть), сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие, гордость. Обязанность человека, по мысли писателя, состоит в том, чтобы всякие «нечестивые помыслы» на «благая прелага-ти», т. е. давать им нужное направление, обращать к добру. Образ нравственного человека в учительной литературе дается чаще всего методом «от противного», показом дурных наклонностей и отрицательных последствий пороков.
«Больше других три страсти губительны для человека: сребролюбие, сластолюбие и тщеславие, но никакая из них не опасна так, как пьянство», — обобщается в литературе. Слова «Како подобает воздержатися от пьянства», «О подвиге душевном и о пьянстве», «О объедении и о пьянстве», «О пьянстве» входят во все четьи сборники Древней Руси. Пьянство в «Поучении мудреца, епископа Белгородского» объявляется источником всех других зол: зависти, лжи, чревоугодия, жадности, бесстыдства, сквернословия, лени, ссор и брани. «Нет человека несчастнее пьяницы», — восклицает автор, но не к жалости, а к строгому осуждению призывает он, ибо «пьяница и лихоимец, ростовщик, грабитель и убийца — родные братья». Частые напоминания о расплате — смерти «от несчастного объядения и облишепития» и адских мучениях имели целью отвратить человека от пьянства и, вероятно, были неплохим средством воспитания. Писатель XVII в. Антоний Подольский создал «Слово о многопогибель-ности и соблазнительном пьянстве». «Если так губительно вино, то будем избегать его, чтобы не дать ему воли над собой, чтобы не до конца погибнуть от него!» Человек должен владеть собой, подчинять желания плоти воле, уму, заботиться о предохранении души своей от порока пьянства, укрепляя «затворы сердца» — мужество, мудрость, правдолюбие и целомудрие.
Строго осуждается средневековым автором болтливость. «В какие только грехи не вводишь ты людей, о язык... враг мой, друг сатаны, советник дьявола, подданный беса», — пишет некий черноризец в слове «О молчании и воздержании языка». Празднословие, суета, хвастовство приносят зло не только душе человека, они разжигают войны, сеют раздоры между странами, поднимают народ на народ. «Сквернословие богу мерзко, греху причастно», — утверждает автор конца XV — начала XVI в. Фотий и молит «смиренную» братию не ругаться «матерной бранью», ибо «каков источник, такова и вода в нем, каков человек, таковы и его речи». Этому пороку были подвержены даже сами наставники душ человеческих. Именно их призывает к воздержанию языка, овладению своими чувствами слово «Еже учителем не ругатися».
Серьезным пороком считалась и лень. «Леность всем делом злым мати есть» — утверждение, весьма распространенное в учительных памятниках Древней Руси. В «Поучении к ленивым и не хотящим делати» безвестный автор призывает отказаться от этого порока: «Друзи и братия моя любимая!... Не долго спите, не долго лежити, вставайте рано, ложитеся поздно...» Писатель горько сетует о человеке, который из-за своей лени «и в дому не господин, жене не муж и детям не отец, в деревне жить он ленится, а на посаде не годится, в село его не пустят, а в городе ему и места нет».
Критикуя ленивых, средневековые ораторы возвеличивают трудолюбие. Это противопоставление лежит в основе «Поучения к ленивым, иже не делают, и похвалы делателям», «Поучения о трудах», слова «Яко от лености злоба и от по-спешания благонравие» и др. По мнению средневековых авторов, «труды бо рождают благи нравы». Трудолюбие искупает многие человеческие слабости, оно не дает развиваться порокам, поэтому воспитание этого качества осознается как одна из самых важных задач. Деятельность человека может быть направлена не только вовне, но и внутрь самого себя. Этот вид деятельности — по преобразованию самого себя — высоко ценился древнерусскими книжниками.
Тяжелым грехом составители учительных сборников считают стяжательство и сребролюбие. Слова «О богатых и убогих», «О богатом и скупом», «О богатых и немилостливых» и многие другие посвящены обличению этого порока. Авторы осуждают богатство, добытое неправедным путем — ростовщичеством, грабежом. Чтобы «управить душу», учительная литература советует «нищелюбие», щедрую и каждодневную милостыню, отказ от неправедно нажитого богатства. Составители четьих сборников осуждают сребролюбие и самих церковников. Русские публицисты XVI в. Максим Грек, Вассиан Патрикеев весьма резко выступают с осуждением этого порока церковнослужителей, а безвестный автор «Валаамской беседы» писал от имени обитателей монастыря: «Сидит в нас черт лукавый... строим каменные ограды с палатами и украшаем свои кельи, как царские чертоги, позолоченными узорами с травами многоцветными, все лучшее ... забираем себе и ублажаем себя пьянством и яствами, которые приносят те, кто трудится на нас, и миряне...»
Средневековыми дидактами осуждаются и многие другие отрицательные черты характера, которые прямо названы в заглавиях их произведений: чрезмерная гордость и высокомерие («О гордости и тщеславии», «О величавых и возносящихся гордостию»), разврат («Слово о оставлении блуда и о видении его», «О прелюбодействе», «О некоем блуднике, иже милостыню творяще, а блуда не остася», «Слово о женитьбе и о любодеянии» и др.), лицемерие и чинопочитание («Слово о творящих милостыню от неправды», «О человекоугодии и лицемерии», «Слово, яко не зазрети внешнима очима на сан и на лице человека, но внутреннима очима и внутренняя духовная зрети»), зависть и клевета («Слово, яко не подобает веры яти о клеветающих», «О зависти», «О клеветании и всяком досажении», «О клятве и различных лжах»), злоба, гнев («Слово о незлобии и бесстрастии», «О ненависти и о вражде», «О беззлобии и злопомина-нии», «О различии гнева и ярости», «Слово, еже не осуждати»).
Своеобразное художественное обобщение рассуждения о пороках и грехах человека получили в дидактическом сборнике митрополита Даниила, состоящем из 16 «Слов». Наставления Даниила были широко известны. Обличение порочных пристрастий приобретало у него порой гротесковую форму. Он создал целую галерею литературных портретов: щеголя, мота, пьяницы, обжоры («чрево-работника»), «женоугодника», лицемера...
Но Даниил, как истинный учитель, верит в человека, в его духовные возможности. Он обращается к молодым: «О юннии, к вам ми слово!.. Возлюбите чистоту... тихое и смиренное житие в целомудрии и чистоте... любомудр-ствуйте, юннии, в хитростех (ремесле) трудящеся, елико по силу: или в писател-нем художествии, или в учении книжнем, или в коем рукоделии... Точию не будете праздни... да не злу обычаю навыкнете!» Эпиграфом ко всем учительным сочинениям Древней Руси могут послужить слова Даниила: «Никтоже буди тунеядец, никтоже буди праздней, праздность всем злым хода-тайствена есть».
Педагогика семейных отношений. Педагогика семьи занимает большое место в учительных сочинениях Руси. Поведение мужа, жены, детей, слуг и других «домочадцев» — постоянный объект внимания четьих сборников XIV — XVII вв.
Строгий уклад семейной жизни средневековья, при котором муж являлся главой семьи, «владыкой и игуменом дома своего», определил и идеал женщины — жены и матери, скромной, трудолюбивой, бережливой хозяйки, не противящейся мужу. «Жена бо покорлива и послушлива — честь и дар от бога», «драгоценное сокровище в доме». Доброй жене учительная литература противопоставляет «злонравную», создавая отталкивающий образ блудной, лицемерной, жадной, жестокой жены. Но в то же время не «злая жена» — первопричина семейных неурядиц, а порочный муж, ибо «злая жена мужу за грехи дается».
Особое внимание в древнерусской дидактике уделено вопросу об отношении детей и родителей. Если сын не заботится об отце с матерью, то не будет он добрым и с другими людьми. В «Слове о вскормлении дитяти» родителям предписывается заботиться о своих детях, а «Слово святых отец к христианам, иже кто оставляет жену и дети и отходит в монастырь» осуждает нерадивых и безответственных отцов. Но не просто «вскормить» своих детей должны родители. Их долг — воспитать в детях уважение к старшим, почтение к религии, дать им знания и ремесло. Эти мысли развиваются в Словах «Како дети учити и страхом спасати», «К родителям о наказании — научении детей», «Слове от притчей к родителям и к чадом», «Слове некоего отца к сыну своему, слове душеполезном» и др. Как действенное средство воспитания человека предлагается
телесное воспитание: «Наказуяй сына своего от юности его и он тя покоит во старости твоей и даст красоту души твоей... Аще ли имаше дщери, положи на них грозу твою... да не посрамится лице твое...» Впрочем, древнерусские дидакты допускали и другие методы воспитания и обучения. Вот, например, какие советы дает «Степенная книга»: «...благочиние учити юныя дети, якоже словесем книжнаго разума, такожде и благонравию и в правде, и в любви... Учите же их ни яростию, ни жестокостию, ни гневом, но радостновидным страхом и любовным обычаем, и слатким проучением, и ласковым разсужде-нием...»
С XVI в. вопросы воспитания и образования молодого поколения начинают связываться с вопросами государственного строительства и поэтому становятся социально значимыми. Эта тема неизбежно присутствует в сочинениях русских публицистов XVI в. (Максима Грека, митрополита Даниила, Ермолая-Еразма, Ивана Грозного и Андрея Курбского), в таких произведениях, как «Домострой», «Степенная книга», «Великие минеи четьи», а в XVII в. — в наставлениях Ивана Хворостинина, Симеона Полоцкого и других писателей.
з. «ДОМОСТРОЙ»
К произведениям учительной литературы, затрагивающим вопросы воспитания, можно отнести и выдающийся памятник культуры XVI в. «Домострой». Название его нередко служило символом сугубо патриархального, косного уклада жизни и господства варварских отношений в семье и обществе. Моральные нормы и житейские предписания «Домостроя» действительно во многом заимствованы из уже хорошо знакомых русскому читателю религиозно-дидактических сборников: «Пчела», «Златоуст», «Златая цепь», «Стослов». Но «Домострой» отразил и определенные сдвиги в общественно-политическом сознании периода завершения складывания Российского централизованного государства. Укрепившееся «самодержавство» пыталось подчинить себе, централизовать развитие культуры и литературы на основе официальных идеологических установок о богоизбранности Руси и ее царей. Основные нормы церковной обрядности и «благочиния» были сосредоточены в Стоглаве (1551), официальная история России излагалась в Лицевом летописном своде и Степенной книге, повседневный круг чтения русского человека определялся «Великими минеями четьями» митрополита Макария. В ряду этих памятников свое место занимает и «Домострой», который также предписывает подданным систему нравственных и юридических норм, определявших всю домашнюю жизнь человека, в том числе порядки и обычаи в семье.
«Домострой» известен в трех редакциях, представленных несколькими списками. В советское время памятник подвергался в основном филологическим исследованиям, подтвердившим выводы выдающегося исследователя древнерусской литературы А. С. Орлова о новгородском происхождении наиболее ранней редакции и переработке «Домостроя» в Москве при деятельном участии известного государственного деятеля и писателя XVI в. Сильвестра (начало XVI в. до 1568 г.) [63].
Занимая должность священника кремлевского Благовещенского собора, Сильвестр был весьма образованным публицистом, его широкая государственная и культурная деятельность не укладывается в образ фанатичного и косного приверженца старины, утвердившийся в дореволюционной литературе. На протяжении ряда лет (конца 40 — 50-х гг. XVI в.) Сильвестр в качестве духовника и ближайшего советника царя Ивана IV занимал высокое положение в правящих кругах и оказывал влияние не только на внутреннюю, но и на внешнюю политику правительства. Особого внимания заслуживает культурная деятельность Сильвестра. В его сочинениях и памятниках искусства, созданных под его руководством (росписях кремлевской Золотой палаты), нашел отражение характерный для эпохи поворот в идеологии — формирование теоретических основ абсолютной власти монарха на базе новых, светских концепций о происхождении царской власти на Руси [42]. Не менее деятельно Сильвестр участвовал в грандиозных литературных предприятиях митрополита Макария и сумел собрать богатую для своего времени библиотеку [25, 58 — 59 ; 84, 191 — 205].
По-видимому, именно Сильвестр дополнил и переработал первоначальную редакцию «Домостроя» в середине XVI в. В новую редакцию в качестве 64-й главы было вставлено авторское произведение Сильвестра — поучение его сыну Анфиму, которое дает представление о домашнем укладе Сильвестра, а также о «педагогических приемах» и принципах воспитания, принятых в его доме. Это поучение рисует нам облик весьма зажиточного представителя белого городского духовенства, близкого скорее к посадским верхам, чем к феодальной церковной иерархии. Новгородец по происхождению, Сильвестр и его сын Ан-фим имели мастерскую по изготовлению икон и рукописных книг для продажи. Но в ней находилось место и для других «рукоделий». Сильвестр, очевидно, использовал в мастерской труд наемных работников. Он научил своих домочадцев и работников «грамоте и писати и пети, иных иконного писма, инех книжного рукоделия, овех серебреново мастерства и инех всяких многих рукоделей». Пройдя такую «школу», некоторые из них впоследствии оказались в «свещенническом и во дьяконьском чину, и в дьяцех, и в подьячих и во всяких чинех» [73, 166].
Сильвестр напоминал сыну, чтоб тот учился не только «страху божию», но и «божественному писанию изучену, и всякому закону християньскому, и промыслу доброму во всяких торговлех и во всяких товарех наказану; и святительское благословение на себе имеешь, и царское государево жалование... и з добрыми людми водишися, и со многими иноземцы великая торговля и дружба есть» [73, 158, 160]. Последнее обстоятельство подтверждается документально: Сильвестр и его сын вели торговые операции с литовскими купцами, а один из их главных контрагентов был бургомистр ливонского города Нарвы И. Крумхаузен [41, 37].
Наряду с этими, несколько необычными для традиционного жанра древнерусских поучений наставлениями, Сильвестр уже вполне в духе «Домостроя» рекомендовал сыну твердо придерживаться обязательных для каждого христианина моральных норм поведения и обрядов. Особо подчеркивалась необходимость безупречного исполнения своих обязанностей на «государеве службе»: «Служи верою да правдою безо всякия хитрости...» Руководствуясь подобными наставлениями, сын Сильвестра сумел не только упрочить свои торговые дела, но и сделать характерную для торгово-посадской верхушки административную карьеру и стать государственным «большим дьяком» в ведомстве казначея.
Основные идеологические установки поучения Сильвестра характерны и для всего «Домостроя» — небольшой по объему книги, представляющей собой краткую энциклопедию по домоводству. «Домострой» содержит около 70 глав, которые можно сгруппировать по трем большим разделам: о почитании духовных и светских властей («Поучение и наказание отцев духовных, како веровати богу»); об устройстве домашнего хозяйства, воспитании детей, обращении со слугами («Наказ ... о мирском строении»); описание торговых и административных отношений главы дома и практические советы по домоводству.
В центре внимания «Домостроя» — отдельное, замкнутое хозяйство зажиточного горожанина — заботливого хозяина, домовитого человека, имеющего зависимых домочадцев и слуг. Этот хозяин безусловно послушен церкви, царю и «всем властителям», чья власть «от бога учинена суть». Всякую «скорбь и тесноту» он терпит с «благодарением» и не пытается мстить или как-то иначе «воздать за зло» — эта позиция весьма характерна для сочинений Сильвестра, проповедующих классовый мир. Своих детей он воспитывает также в духе полной преданности царю как наместнику бога на земле: «Царя бойся и служи ему верою... яко самому богу и во всем повинуйся ему». Хозяин дома ревностно исполняет все предписания христианской морали и церковные обряды.
Сильвестр устранил из «Домостроя» первой редакции наиболее яркие бытовые сцены и усилил основную тему: строгость внутреннего быта, беспрекословную власть домохозяина, бережливость, стремление отгородиться от внешнего мира. Однако горожанин хотя и с оглядкой, но уже связан с рынком, где он приобретает большую часть необходимых ему «припасов», включая сюда и «заморский товар». Он хорошо знает рыночную конъюнктуру и стремится получить прибыль от своих «праведных стяжаний». Несмотря на пропаганду христианских представлений о «тленности» всего земного, хозяин в «Домострое» полностью подчиняет себя заботам именно о «тленном» накоплении богатства. Заборы, запоры, слуги и собаки охраняют его имущество. Он избегает долгов и жизни не по средствам. «Праведной прибылью» для него уже является и доход от выгодной продажи закупленного впрок по дешевой цене товара («лишнее в пору продаст, коли дорого»). Здесь наблюдается заметный разрыв между моральными требованиями христианского учения и житейской практикой оборотистого купца [5, 29].
Немаловажное место занимают в «Домострое» и высказывания по проблемам воспитания, сосредоточенные в основном в главах 15 («Како детей своих воспитати во всяком наказании и страсе божии»), 16 («Како чад воспита-ти, с наделком замуж выдати») и 17 («Како дети учити и страхом спасати»). Давно подмеченные исследователями консервативность политических устоев «Домостроя», грубость нравов и требования жестоких наказаний в семье долгое время в литературе выступали на первом месте при характеристике этого памятника. В «Домострое» встречаются призывы «страхом спасати» детей от неразумных поступков, а в качестве допустимых методов педагогического воздействия рекомендуется «положить грозу», «уча и наказуя, и разсужая, раны возлогати», «ино плетью постегати по вине смотря». Подобные высказывания опирались и на характерные для средневекового сознания представления об особой ответственности родителей за правильное религиозно-нравственное воспитание («душевное спасение») своих детей; а суровые методы воздействия в определенной степени могли диктоваться стремлением справиться с психологией ребенка: в средневековую эпоху на детей смотрели как на маленьких взрослых, игнорируя их возрастные особенности [20, 316 — 318]. Ктому же «прославившие» «Домострой» советы «сокрушать ребра» восходят (через посредство церковно-учительных сборников) еще к ветхозаветной традиции, и их воспроизведение еще не означало, что на Руси не существовало иных представлений о воспитании. В «Домострое» заметны и иные тенденции. Требования «казнить сына своего от юности» остаются в силе, но уже вступают в противоречие с рекомендациями воздействовать «наказующе не нужею, не ранами, не робо-тою тяжкою». «Домострой» дает советы воспитывать детей не только в «страсе божии», но и в «добре наказании» (т. е. в поучении), и в «благоразсудном учении всякому разуму и вештву, и промыслу и рукоделию». Под таким «учением» подразумевается уже обучение «вежству, и всякому благочинию, и по времени и детем смотря и по возрасту», т. е. с учетом возраста детей и их способностей. Особое внимание в русле древнерусской учительной традиции придавалось трудовому воспитанию: «Учити рукоделию матери дщери, а отцу сынове, кто чево достоин, каков кому просуг» [73, 84]. В целом круг вопросов
воспитания в «Домострое» и указанные тенденции их решения были общими для целого ряда памятников педагогической мысли XVI в. [66, 258 — 260].
Л. В. Черепниным был поставлен вопрос о том, отразил ли «Домострой» «процесс первоначального накопления в зародышевых формах или замкнутое натуральное хозяйство феодального общества. Может быть, и то и другое» [86, 285]. Такая постановка проблемы, как кажется, намечает верный подход к оценке «Домостроя» как памятника экономической, социально-политической и педагогической мысли своей эпохи, которую выдающийся советский историк А. А. Зимин определил как «порог» нового времени». «Домострой», как и другие официально санкционированные монументальные литературные произведения XVI в., во многом отражал «охранительную» политику правящих кругов Российского государства и церкви, направленную на ограничение круга тем, мыслей и образов, допускаемых для чтения и рассмотрения, надлежащее их оформление в качестве образца и примера для подражания [47, 133 — 135]. Но одновременно в «Домострой» проникают иные взгляды и представления, не предусмотренные ни официальной идеологией, ни литературной традицией. Исследователи уже обратили внимание на типологическое сходство «Домостроя» с подобными сочинениями, вышедшими из бюргерской среды в Италии, Франции и Чехии в XIV — XVI вв. (61, 32; и др.]. Сейчас наука располагает новыми сведениями об источниках «Домостроя» и его связи не только с древнерусскими церковно-учительными произведениями, но и с трудом современного ему польского мыслителя XVI в. Миколая Рея «Zywot czfowieka pocziwego» [79; 108].
Вопрос о степени распространения «Домостроя» в XVI — XVIII вв. и соответствия его предписаний действительным нормам и обычаям общежития еще предстоит исследовать. Но замедленное развитие русского города приводило к определенной консервации культурно-бытовых традиций, определяя устойчивость существования в XVIII — XIX вв. многих отмеченных в «Домострое» черт — неограниченного влияния главы дома, замкнутости домашнего быта, неравноправного положения женщины и в том числе отмеченных выше педагогических воззрений.
4. «ГРАЖДАНСТВО ОБЫЧАЕВ ДЕТСКИХ»
Появление в русской книжности «Гражданства обычаев детских» — трактата о детском воспитании — стало значительным явлением культуры XVII в. «Гражданство» — перевод на русский язык сочинения немецкого гуманиста Эразма Роттердамского «De civilitate morum puerilium» в одной из его поздних польских переделок [34; 104; 37]. По традиции считается, что он был выполнен Епифанием Славинецким [7, 295 — 296]. Работа над переводом, скорее всего, была правительственным заказом, а не собственной инициативой переводчика. Славинецким постоянно исполнялись подобные заказы царя и патриарха. Следует отметить, что в Москве в это время для перевода западноевропейских авторов выбирались, как правило, лучшие классические сочинения (такие, например, как «Космография» И. Блеу, «Анатомический атлас» А. Везалия, «Описание четвероногих животных» У. Альдрованди, «Селенография» Я. Гевелия и многие другие). К ним, безусловно, принадлежало и популярнейшее в Европе сочинение Эразма Роттердамского.
Выбор для перевода именно этой книги не был случаен — он диктовался возникшим интересом к «цивилизованным», европейским манерам поведения и необходимостью обучить им детей представителей высших слоев общества. Усилившиеся в XVII в. контакты с западными странами оказали влияние в первую очередь на сферу быта, домашний обиход, моду, манеры поведения
знати и горожан. Несмотря на сопротивление церкви, запрещавшей, например, боярам одевать слуг в европейские ливреи и заводить западные музыкальные инструменты [62, 164, 175], в стране уже складывались условия для развития собственной светской, гуманистической культуры.
В то же время до русского правительства доходили постоянные насмешки иностранцев над обычаями и образом жизни «московитов», которые считались «варварскими». Многочисленными примерами русского «невежества» переполнены записки посещавших Россию европейцев. Действительно, нравы москвичей во многом отличались от европейских. Например, употребление вилки и ножа во время еды было редким исключением, обычно пользовались только ложкой; спали не на кроватях, а на лавках, без постельных принадлежностей, обращение друг с другом было самым простым и по европейским понятиям невежливым [67, 8, 9, 18]. Даже среди знати наблюдалось пренебрежение к гигиене. Подобные явления не были свойственны именно русским, аналогичный строй бытового поведения был характерен и для европейцев на соответствующем этапе исторического развития. Как для западноевропейского, так и для русского средневековья грубость нравов, отсутствие понятия о светских приличиях были типичными. Постепенное оформление комплекса правил поведения, которым должен был следовать человек в обществе, характерно для переходного периода от феодализма к капиталистической формации и связано в определенной степени с возникновением нового понимания индивидуальной личности, оторванной от своих родовых начал.
Значительные изменения произошли в психологии человеческой личности на этапе перехода от средневековья к новому времени, появились новые нормы бытового поведения, в частности застольные ма-неры, способы одеваться, нормы совершения физиологических отправлений и т. д. Такие чувства, как стыдливость, внимание к восприятию себя со стороны, не всегда были свойственны человеку и являются исторически обусловленными. Стандарты поведения средневековья сильно отличались от стандартов других эпох. «Понадобились длительные усилия, чтобы отучить знатных юношей от привычки плевать и сморкаться за столом, чавкать и чесать свое тело тою же рукой, какой брали пищу из общей тарелки, класть в нее недоеденные куски или обглоданные кости и пить из общего кубка, не вытерев перед тем губ, спать во время трапезы или же слишком много разговаривать и проявлять жадность в еде» [20, 319]. Изменения в сложившихся нормах поведения свидетельствовали о возросшем психологизме и усилении самоконтроля человека за своими действиями. Новый стиль поведения пропагандировался гуманистами, именовавшими его «цивилизованным». К произведениям, учившим «благопристойным» и «цивилизованным» манерам, зависящим от общественных условностей, и относился гуманистический трактат Эразма Роттердамского.
Текст сочинения Эразма в русском переводе разделен на вопросы и ответы, которых в полных списках насчитывается 164 [12] . Вопросы 4 — 68 посвящены мимике лица, жестикуляции, осанке ребенка. Автор последовательно останавливается на каждой части лица и тела (лоб, нос, глаза, рот, волосы, шея, плечи и т. д.) и объясняет, в каком гигиеническом состоянии они должны содержаться, а также рассказывает, каким образом прилично, а каким неприлично чихать, зевать, сморкаться, смеяться, плакать, плевать, кашлять, глотать слюну, чесаться и т. д. Непривычным для русского читателя было отношение к смеху. Официальная русская церковь порицала смех и боролась с народной смеховой культурой. Митрополит Даниил, например, в своих посланиях специально останавливался на вопросе о смехе как поведении, недостойном благочестивого
В тексте дается ссылка на номер вопроса.
человека и совершенно недопустимом для инока. В «Гражданстве» же говорилось, что неприлично «детищу от смеха полегати или трястися» (27), а также «ржати» (28) или «скверным словесем ... усмехатися» (26), но смех не почитался чем-то греховным, и можно было, «егда случится нечто толико смешно, яко же от смеха не можно удержатися ... платенцом или рукою закрыти уста и смеятися мерно, а не неискусно» (31).
Вопросы 69 — 78 относились ко всему, связанному с одеждой. Этот раздел начинается с утверждения о необходимости иметь «прилежное радение о красоте одежд», так как через одежду может быть познана «мысль человеческая». Далее говорится о покроях одежды, «приличествующей» «детищу» и отроку, о манере носить одежду. Интересно рассуждение о том, что у разных народов приняты разные виды одежды, «понеже не у всех человек едино есть довольство и достоинство и не у всех народов подобно равны суть приличности и неприличности» (70). Из этого следует невозможность единых и общих рекомендаций для всех в отношении одежды.
Всего три вопроса (79 — 81) дают рекомендации о поведении детей в церкви, столь же кратко говорится и о поведении в «училище» (143 — 145): о порядке в классе и при возвращении из училища домой.
Вопросы 82 — 125 — о поведении за столом и во время еды. Подробно рассказывается о том, как следует ребенку самостоятельно накрывать и убирать стол, как нужно пить и есть различные блюда (например, мясо, яйцо) и как себя вести за столом: не набивать пищей рот, не жадничать во время еды, не держать локти на столе, не развязывать пояс на одежде, не крошить и не ронять хлеб, «понеже хлеб есть святое знамение любви и мира», ни в коем случае не пить спиртного и т. д. Автор говорит и о том, что ребенок не должен быть чрезмерно упитан, «понеже... известно есть, яко дети ащи излишнего ядения и спания употребляти будут, тупого смысла бывают» (99). Поэтому есть надо «без довольного об/ъ/ядения и лучше часто помалу, неже единощи много, дабы детище чрез меру не об/ъ/ядалось» (98). В гостях за столом ребенок должен быть скромен в беседе. Приглашенный на пир не должен «поздно приходити, но в час уроченный прити, не подобает с собою привести пса или гостя незваного, аще каковую печаль имать на сердце да оставит тую»; если хозяин предложит сесть на почетное место, отказаться, когда же он станет настаивать, уважив хозяина, согласиться, вымыть руки, обрезать ногти и сесть за стол (87).
Вопросы 126 — 142 учат тому, как здороваться и вести себя при встрече с родителями, учителем, сверстником, язычником, незнакомым человеком и т. д. Здесь снова речь идет об умении ребенка вести беседу со взрослым, объясняется, какими должны быть при этом взгляд, голос, жесты, а также содержание беседы.
Вопросы 146 — 158 посвящены играм. Игры необходимы детям «утешения ради» и отдыха от учения (147). Но не все из них могут быть рекомендованы: не подобают занятия азартными играми (кости, карты), а также опасно купание в воде (149). Детям хорошо играть в игрушки (кубарь, мячик, пики), прыгать и скакать (150). Самое главное в игре — «самого себя победити» (151), не ссориться с друзьями во время игр (153) и не радоваться, победив не умеющего играть, а дать ему возможность победить (153 — 154). К играм отнесена и музыка, о которой сказано: «Любите мусикию, сладкопением и игра-нием на органах всяких остроту ума обучати» (155). Следует заметить, что игры, как и смех, безо всякого их различия порицались церковью и против них выступал тот же митрополит Даниил.
Последний раздел «Гражданства» (вопросы 159 — 164) — о правилах поведения и гигиены, относящихся ко сну ребенка. Перед сном необходимо помолиться и вспомнить все, что было сделано в течение дня (159); спать следует на правом боку, сложив руки на груди, встать надо рано, умыться, причесаться и сотворить молитву.
«Гражданство обычаев детских» — книга, непосредственно адресованная детям. И по форме изложения, и по содержанию она была рассчитана на детское восприятие. Разъяснения необходимости тех или иных правил поведения сопровождаются образными примерами, написанными в большинстве случаев с легким юмором. Часто Эразм Роттердамский в подтверждение той или иной мысли приводит высказывания писателей и философов античности. Светский характер его сочинения ярко проявился в чисто мирской мотивации обязательности соблюдения различных норм поведения: одни поступки могут повредить здоровью, другие — неэстетичны и более соответствуют поведению животных, третьи — не совместимы с детским возрастом.
Все эти нетипичные для воспитательной литературы Древней Руси черты были внове русским читателям «Гражданства». Церковно-учительные сочинения, на которых они ранее воспитывались, никогда не бывали рассчитаны на детей: имелось в виду воспитание человека вообще, как взрослого, так и ребенка. Недопустим был и юмор, свойственный народной, но не церковной литературе. Диктуемые человеку нормы поведения своей целью имели «богоугодность», «богопочитательство», а не «человекопочитательство», как это было сказано в «Гражданстве», и опирались на Священное писание и сочинения отцов церкви. Но основным отличием «Гражданства» от поучительных русских сочинений явилось то, что оно было полностью посвящено той области воспитания, которую игнорировала древнерусская средневековая традиция, противопоставляющая «внутреннее» воспитание «внешнему», а именно обучение детей «нравам благим» — культуре поведения.
Чтобы понять значение русского перевода «Гражданства», необходимо сравнить его содержание с сочинениями воспитательной направленности, имевшими распространение в Древней Руси, например с «Беседой Василия Великого с юными учениками» — редким произведением, поучающим именно внешним манерам поведения. «Василей... собра юныя и начаша: душевную чистоту имети и безстрастие телесное, ступание кротко, глас умерен, слово благочинно, пищу и питие немятежну, при старейших — молчание, пред мудрейших — послушание, к преимущим — повиновение, к равным себе и меньшим — любовь нелицемерную; от злых плотских и любоплотных отлучитесь; мало вещати, множайшая — разумевати, не предерзовати слово, неизбытословити беседу, не дерзым быти на смеху, стыдением украшатися, женам нечистым не беседовати, долу зрение имать, горе (вверх) ж — душу. Бегати супротивословия, ... ничтож вменяти, еж от всех в чести» [65, 413 — 413 об.]. Близкие к этим советы содержатся и в поучениях митрополита Даниила, которые посвящены вопросам нравственности и нравственного воспитания. Даниил выступает против лени, разврата, чревоугодия, пьянства, не рекомендует увлекаться играми, скоморошеством, охотой, порицает роскошь в одежде. Главной чертой поведения должна быть скромность во всем. В 12-м послании, говоря о моральных качествах «благочестивого» человека, Даниил останавливается и на его внешнем виде: он должен отличаться бледностью лица, сухостью тела, всегда опущенным и тихим взором, смиренной походкой, скромной одеждой и т. д. (23, 553, 676 и др.].
Помимо норм церковной морали древнерусская учительная литература содержала и правила общежитейской мудрости, домостроительства, норм семейного общежития. Наиболее типичным памятником такого характера является «Домострой» — сочинение, рассчитанное в первую очередь на светского читателя, горожанина. Но и рекомендации «Домостроя», имевшие как религиозно-нравственное, так и хозяйственно-бытовое содержание, почти не касались норм общественного поведения. Несмотря на то что в «Домострое» есть замечания о том, как вести себя в гостях и принимать гостей (гл. 10, 11, 34, 36), как одеваться (гл. 22, 37) [73], как держать себя слугам, посланным с поручением, он по своей тематике принципиально отличается от «Гражданства обычаев детских»: все эти замечания носят частный характер, относятся к «благочестивому» поведению жен и слуг, а не к воспитанию детей. В наставлении отца к сыну, заключающем произведение, кратко повторены все основные советы «Домостроя», но совета иметь хорошие манеры и соблюдать этикет поведения среди них нет.
Таким образом, содержание «Гражданства» практически не имело аналогов в древнерусской литературе, что было обусловлено исторически определенным уровнем быта и мышления. Поэтому для русских читателей важным было объяснение необходимости «стяжания» детьми «нравов благих», которое имелось в виршах, предваряющих текст «Гражданства». В них утверждалось единство трех компонентов в воспитании юношества — добродетели, мудрости и благонравия.
В начале первой главы трактата разъясняется незнакомый москвичам смысл термина «гражданство» — как «обычаев добросклонность и человеко-почитательство». В книге впервые было четко определено, из каких частей должен состоять курс детского воспитания: 1. Овладение нормами христианской морали. 2. Обучение свободным мудростям. 3. Овладение нормами культурного поведения («Чин наказания (обучения) детского колико часть имать? Три наипаче, первая есть еже младому уму семя благочествия христианского пояти, вторая — еже учения свободная любити и их учитися, последняя — еже о первых жизни своея начатков благолепным обычаем обучатися»). Четвертая часть, имевшаяся в тексте Эразма, — исполнение «житейского долга» — не включена в русский перевод [7, 315].
Отмеченные выше второй и третий пункты были новыми для традиций древнерусского воспитания. По вопросу о необходимости обучения семи «свободным мудростям» в этот период в русском обществе шла полемика. Сведений же о каких-либо дискуссиях по вопросам об обучении светским манерам не сохранилось, но представляется, что «традиционалисты» и в этих вопросах считали главным «в простоте богу угождати», а не заботиться о своей внешности и манерах, почитаемых суетой и тщеславием. Такой подход объяснялся тем, что идеологическое осмысление проблем воспитания, как и их практическое осуществление, всегда было на Руси прерогативой церкви. Церковно-учительная литература, с одной стороны, в своих лучших образцах сосредоточивала основное внимание на духовном развитии личности, подчиняя ему внешнее поведение, с другой — придавала большое значение внешней, церковной обрядности. Светские тенденции в области воспитания оказывались поглощенными церковными традициями, и продолжительное время не возникало независимой от церкви концепции воспитания светской личности. В то же время монашеская строгость воспитания далеко не всегда могла быть приемлема для светских лиц, поведение в светском обществе подчинялось своим законам, остававшимся неписанными.
Становление в XVII в. абсолютизма в России вызвало усложнение придворного быта и этикета и обусловило политическую необходимость для России как равноправной европейской державы приблизить свой этикет к европейским нормам, что в дальнейшем и было осуществлено Петром I. «Русское дворянство после Петра I пережило изменение, значительно более глубокое, чем простая смена бытового уклада: та область, которая обычно отводится бессознательному, «естественному» поведению, сделалась сферой обучения. Возникли постановления, касающиеся норм бытового поведения, поскольку весь сложившийся в этой области уклад был отвергнут как неправильный и заменен «правильным» — европейским» [51, 66]. Перевод сочинения Эразма Роттердамского показывает, что еще до начала петровских реформ в Москве были сторонники европейских обычаев и того «политеса», которому Петр насильственно обучал русское высшее общество.
Появление в русской культуре «Гражданства обычаев детских» положило начало новому, своеобразному литературно-педагогическому жанру в русской книжности — сводам правил «житейского обхождения» (так именовалось «Юности честное зерцало»). В 1695 г. было создано небольшое произведение в виршах, подражавшее «Гражданству». Его автором являлся Карион Истомин. В некоторых местах (например, там, где речь идет об играх) вирши Истомина настолько близки к тексту «Гражданства», что сделали возможным предположение о стихотворном переложении «Гражданства», выполненном Истоминым [3].
«Гражданство обычаев детских» генетически связано и с составленным по указу Петра I сборником «Юности честное зерцало». Его создатели, без сомнения, обильно использовали текст «Гражданства» в своей работе. В художественном отношении сочинение Эразма стоит неизмеримо выше «Зерцала».
«Гражданство обычаев детских» читалось и переписывалось наряду с «Зерцалом», о чем говорят его рукописные списки начала XVIII в. Всего в настоящее время известно 11 рукописных списков «Гражданства» (наиболее ранний датируется 1685 г.) [7, 283 — 286]. Один из них принадлежал Кариону Истомину, три других были выполнены для холмогорского архиепископа Афанасия, организовавшего в своей епархии школы и собиравшего литературу педагогического направления [14]. Таким образом, «Гражданством» в основном интересовались лица, занимавшиеся вопросами просвещения, образования. Новое медленно проникало в сознание масс и далеко не сразу завоевывало популярность.
Итак, сам факт появления и восприятия памятника на русской почве говорит о начавшейся ломке средневекового сознания, постепенном переходе к мировоззрению нового времени. Этот процесс наблюдается и в области педагогических воззрений, причем не только в вопросах обучения, по которым в XVII в. велась полемика, но и в более «консервативной» сфере — в вопросах воспитания.
«Гражданство обычаев детских» — первый западноевропейский переводной памятник «чисто» педагогического характера, появившийся в русской книжности. Это также и первый в русской культуре памятник, посвященный вопросам светского воспитания детей, который положил начало новому направлению в педагогике — обучению этике поведения и личной гигиене. Такое обучение в новых исторических условиях было необходимо для социализации детей в первую очередь высших слоев общества. Правила поведения, содержащиеся в «Гражданстве», за самыми незначительными исключениями остаются общепринятыми и сегодня.
В то же время необходимо иметь в виду направленность «Гражданства» именно на «внешние проявления» жизни ребенка, не затрагивающие основ нравственного воспитания. Характернейшей чертой древнерусской культуры являлась ее высокая духовность, доходившая подчас до полной оторванности от реальной жизни, концентрация ее на абстрактных проблемах высокой морали. В культуре же нового времени ярко выступил интерес к реальной, земной жизни, к конкретной, индивидуальной личности, уважение к человеку. Каждая из этих тенденций была исторически обусловлена и имела как положительные, так и — в своем крайнем воплощении — отрицательные
стороны. Сравнивая новые педагогические принципы воспитания, заложенные в «Гражданстве», с традициями древнерусского воспитания, невозможно оценить их однозначно: педагогическая культура каждой из эпох ценна и интересна сама по себе и не в состоянии заслонить одна другую.
5. НОВЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О РАЗУМЕ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ В РУССКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ XVII В
Историко-философские представления о человеке, его душе, разуме, о том, каким должен быть человек как личность, имеют большое значение для педагогики, оказывая непосредственное воздействие на цели, пути и средства воспитания личности. Эти представления играют ведущую роль в процессе социализации — вовлечения человеческого индивида через воспитание и образование в систему знаний, норм и ценностей, функционирующих в определенном обществе.
Представления о человеке в русской средневековой культуре были во многом обусловлены канонами религиозного мировоззрения. Человек определяется как создание божье, «животное и словесное», наделенное «образом и подобием» своего создателя. По своей сущности, выраженной через понятие «естество», он объявлялся безгрешным. Склонность же к греху была заложена в его свободной воле, «в произволении», «самовластии». По этой схеме, с большими или меньшими отклонениями, рассматривали человека большинство русских писателей средневековья. Разум — «царь человеческого естества» — дан был человеку по этой схеме для «познания бога», для удержания его от греха. В «Слове о разуме и о крепости и о помысле, в коем месте в человеце лежат и кака погибат» указывалось, что «разум живет у человека в мождя-ных хлевинах служебных (в мозговых извилинах), а престол его между мозгом и лбом ему вверху, занеже царь есть всему, да и той душе, понеже добрый разум душу спасает и вси удове (члены) радуются о нем, а безумий — души пагуба и телу» [101, 140 — 142].
В древнерусской литературе устойчиво бытовало суждение о том, что разум «царь есть всему, и душе и телу». Почерпнутое у христианских богословов (например, у Иоанна Дамаскина), это выражение звучало в различных произведениях церковно-учительного характера. Но церковь признавала, да и то далеко не всегда, только разум-мудрость, проявлявшуюся исключительно в познании божественных истин, ставя выше мудрости простоту и кротость: «Не ищи, человече, мудрости, ищи кротости», «Не тот мудр, кто много грамоте умеет, а тот мудр, кто много добра творит» и т. д. Мудрость считалась божественным даром, который получали избранные в качестве благодати. Отсюда сложилось представление, что и все позитивные знания — дар, благодать, получаемые от бога. «Дар грамоты и учения» следовало вымаливать у определенных святых — Иоанна Богослова, Козьмы и Дамиана, пророка Наума [58, 23]. Сила человеческого разума измерялась силой божественной благодати, а это делало ненужным какое-либо «просвещение», кроме «просвещения божественным писанием». Отсюда с закономерностью вытекало, что конкретные познания человека в математике, истории, географии и других областях знания, для бога «ничто же есть ...» и человек сам по себе, своими силами не способен приобрести знания. Древнерусские книжники уверяли своих читателей в том, что писали они «не по своему разуму», а от божественных писаний, «продиктованных» якобы святым духом [32, 423].
Такой подход к человеческому разуму и к возможности его развития через знание доминировал в официальной церковной литературе. Но в практи-
Новые представления о разуме и человеческой личности в русской педагогической мысли XVII в.
ческой жизни далеко не всегда мудрость понималась как знания, полученные через божественную благодать и направленные на постижение божества. В учениях еретиков, например, мудрость следовало приобретать через грамоту. В «Написании о грамоте» (не позднее первой трети XVI в.) грамота объявлена порождением человеческого ума и одновременно «путем к изяществу», она дает «умного вольное разумение и разлучение добродетели и злобы» [31, 343]. В народной культуре разум и мудрость издавна считались основными достоинствами человека и воспринимались как смышленость, находчивость, смекалка. В фольклоре высоко оценивалась мудрость-хитрость, направленная на достижение определенных практических земных целей.
В предисловии к Азбуке 1634 г. говорится, что «грамотное учение» необходимо человеку «на просвещение ума его и смысла и на прославление своего имени» (действительно, грамотные, знающие люди оцень высоко ценились современниками). Но само «грамотное чтение» — это «великий дар» божий человеку [6, 7 об.].
При таком подходе не возникало противопоставления разума вере, поскольку утверждалось, что разум приобретается через истинную веру и во многом сводится к ней. Так, в предисловии «К читателю» в рукописном сборнике XVII в. говорилось: «Аще кто от вас лишен есть премудрости, да просит просто у бога, дающего всем и не поношающа. И дасться ему. Да просит же верою, ничтоже сумняся» [102, 100].
Вопрос о соотношении разума и веры (знания и веры) встал перед русской педагогической и общественной мыслью со всей остротой во второй половине XVII в., когда начали распространяться «свободные науки», возникла необходимость создания светской школы, усилился поток переводной литературы светского характера. Выступления против светского — «внешнего», по терминологии того времени, — знания в середине XVII в. были столь сильны, что приехавший в Россию серб Юрий Крижанич назвал их «мудроборской ересью». В сочинении, направленном на проведение реформ в Русском государстве, он отвел большой раздел для обоснования необходимости знания как «духовного», так и «мирского». «Мирская мудрость» у него включает философию, математику, механику. В философии он вычленяет этику — «нравное учение», «како всякий человек сам у себя имать благонравию жить», тем самым подчиняя нравственность не религиозному, а светскому обоснованию. Знание, по его мнению, есть «познание вещей по причинам». При разъяснении этого положения он приходит к рационалистическому выводу об истоках суеверий, возникающих от «неразумения причин» тех или иных явлений [88, 113 — 114, 121].
Резко отрицательную позицию по вопросу допустимости светского знания занимали расколоучители, в особенности протопоп Аввакум: «Лучше... быть с сею простотою, да почиет в тебе Христос, нежели от риторства ангелом слыть без Христа» [76, 389]. Против мирской мудрости, содержавшейся в латинских и польских переводных книгах, выступали многие, в особенности грекофилы братья Лихуды, инок Чудова монастыря Евфимий и другие. Светские знания «повреждают» христианскую веру. Для них не существовало сферы знания, не принадлежавшей религии. Отсюда противопоставление «свободных наук» и «простоты веры» в сочинении о вреде латинского языка, приписываемом иноку Евфимию: «Учитися ли нам полезнее грамматике, риторики, философии и фёоло-гии и стихотворному художеству ... или не учася сим хитростем в простоте богу угождати...» [94, прил. VI — XX]. О недопустимости «внешних лжей» говорил и патриарх Никон, причем аргументацию не от «святых книг», а от «физик» и других светских произведений он приравнивал к аргументации от естествен-
ного разума: «от себе, своим притворением», «собою что смыслил, то и ткет» [64, 153, 161, 183 об., 206 об.].
Иную позицию заняли Симеон Полоцкий, Карион Истомин, Сильвестр Медведев. С их точки зрения, светская мудрость, «свободные науки» не идут вразрез с мудростью духовной, так как призваны служить последней. Для обоснования своей позиции авторы прибегали к доводу, что «мнози от святых и богословец умели не токмо грамматику и философию и. мусикию, но и о небесном движении и о звездном обношении, и землемерствие, и всю извыкли внешнюю премудрость, а никогда же повредишася, но и паче просветишася» [95, 173 — 174]. Разум, обогащенный знаниями, будет лучше постигать бога. Об этом писал, например, Карион Истомин: «Умная душа почиет во Христе, егда поучится в мудрости, наук знанством просветится» [10, 246]. Затем был выдвинут тезис о том, что светским наукам должны обучаться только «имущие знания во святом писании крепка» и «утверждении в разумениях» [10, 249]. Иеродьякон Дамаскин в конце XVII в. писал: «Мы хвалим свободные науки но чрез такового человека действуемые, иже сам со страхом слушает и делает веления божественные, а иже в бесстрашии пребывает и в сластех, таковаго не токмо не пользуют науки схоластические, но и вреждают весьма, таковый бо схоластик по преизлиху бывает пакостник церковный и ересеизобретатель, нежели неученый» [109, 14].
Естественный разум, обогащенный науками, может отказаться от бога как цели познания в целом. Об этом предупреждал Симеон Полоцкий в одной из своих проповедей. Повторив слова апостола Павла: «премудрость людская — буйство есть у бога», Симеон уточнял, что этими словами осуждаются не сами свободные науки (грамматика, риторика, философия и т. д.), а человек, использующий их для отрицания божественных истин. С одной стороны, Симеон Полоцкий защищает разум и знания, утверждая, что «свободныя художества... очень полезны в гражданском быту и споспешествуют духовной премудрости», с другой, осуждает «непокорство божьим словам естественного разума, изощренного хитростью этих художеств, если кто, опираясь на естественные причины, ие хочет повиноваться божиему слову — вот мудрость мира сего! Вот буйство перед богом!» [36, 408]. Симеон осуждает тех, кто противопоставляет свои знания, свои научные представления церковным догматам. Но тем самым Симеон Полоцкий свидетельствует, что среди людей его времени уже были люди, доверяющие своему естественному разуму и научным знаниям более, чем религии.
Представление о необходимости совершенствования человеческого разума через светские науки коренным образом повлияло на дальнейшее развитие русской педагогики. Оно обусловило начавшуюся в московском обществе идейную борьбу за организацию системы светского образования, вызвало необходимость теоретической разработки комплекса проблем, призванных выработать методику преподавания светских знаний, а также новый подход к проблемам светского воспитания. Все это способствовало отходу от педагогических представлений средневековья и формированию педагогики как научной дисциплины. Таким образом, к концу XVII в. в области педагогической мысли, как и во многих других областях культуры, ясно обозначился переход от средневекового образа мышления к сознанию нового времени.
Признание возможностей человека в постижении окружающего мира сопровождалось расширением сфер его деятельности. Раздвигаются границы, расширяется круг сфер проявления человеком своей личности, изменяются критерии ее оценки. В русской общественной мысли стала активно поощряться умственная деятельность: «любознательность», «любомудрие», «любопытство» и т. п. [103].
Стремление к деятельной жизни связано с усилением личностного начала в человеке, с освобождением личности от сковывавших ее религиозных норм бытия. Деятельность — это основное проявление человека как личности. В начале XVIII в. она признается смыслом человеческой жизни и пропагандируется через понятия «общей народной пользы» и служения Отечеству. Появляются попытки через систему образования привить подрастающему поколению вкус к практической деятельности, к науке.
Во второй половине XVII в. намечаются и цели человеческой деятельности, лежащие во «внешней», т. е. нерелигиозной, сфере: поиски «чести мира сего», т. е. земной славы, признание обществом личных заслуг и талантов, а также умеренного достатка — «богатства», «довольства нужных». Все эти идеи только начали зарождаться в общественной мысли XVII в. Авторы еще часто противоречат себе, пытаясь увязать традиционные средневековые представления с новым взглядом на человека. Но движение вперед все же происходит, и наилучший показатель его — понимание человека, изложенное в самом начале XVIII в. (1703) в предисловии к знаменитой «Арифметике» Леонтия Магницкого. Он разделил человеческую деятельность на две сферы: «внутреннюю», по-прежнему связанную с религией, и «внешнюю» (светскую). Человек, по его мнению, должен стремиться к «украшению» внешней сферы, а именно обогащать свой разум науками (в особенности математикой), добиваться заслуженной славы и чести в реальной земной жизни, материально обеспечивать жизнь, «по достоинству человеческому» [52, 5 — 7].
Понимание человека как личности, признание за ним способности самостоятельного познания мира имели колоссальное значение для русской культуры в целом и для развития педагогической мысли в частности. Формировалась новая система ценностей, опирающаяся на новые представления о человеке как природном и общественном существе. Происходило осознание того, что человек наделен от природы определенными возможностями и должен реализовать их в общественной жизни. Качества, которые по понятиям того времени в совокупности составляли личность, далеко не во всем совпадали с традиционными средневековыми представлениями. Такие качества необходимо было воспитывать. Этой цели служили школы с преподаванием «семи свободных художеств», домашнее обучение (в особенности иностранным языкам).
Разработка нового идеала человека-личности, по которому надлежало воспитывать подрастающее поколение, была поставлена в качестве общегосударственной задачи при Петре I. Тогда же начали пересматриваться методы воспитания детей, среди которых предпочтение стало отдаваться убеждению, а не наказанию. По словам известного дипломата А. А. Матвеева, детей следовало воспитывать «в прямой воле и смелости».
Новое понимание человеческой личности — явление историческое, во многом определившее развитие русской педагогики. Зародившись в XVII в., оно принесло великие «плоды просвещения» в XVIII в.
Глава III ДРЕВНЕРУССКАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА
I. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
В богатом древнерусском книжном наследии далеко не сразу сложился тип книги, которую можно было бы назвать учебной книгой, учебником, несмотря на общий учительный характер всей древнерусской литературы.
Чтобы осмыслить понятие «учебная книга» в применении к реальности Руси, необходимо прежде всего отказаться от представлений о том, что книги, по которым учились в то время, являлись начальным и, следовательно, примитивным этапом существования учебной литературы, из которой постепенно развился современный тип учебника. Литература, использовавшаяся для обучения в рассматриваемую эпоху, была иной по своей сути, чем современная учебная книга, хотя между ними безусловно можно найти и некоторые точки соприкосновения. Причина принципиального отличия заключается в том, что цели обучения, его содержание и методы, обусловленные характером культуры христианского средневековья, были совершенно отличны от целей, содержания и методов, сложившихся в эпоху нового времени и заложивших основы современной педагогики. А именно они являются основными факторами, формирующими тот или иной тип учебной книги.
Основная цель, как бы мы теперь сказали, «общеобразовательного» обучения на Руси была одна — воспитание христианина. Содержание обучения на начальном уровне предполагало изучение основ христианского вероучения (по Часовнику, Псалтыри, Апостолу), а обучение на более высоком уровне — изучение текстов Священного писания, творений отцов церкви и произведений церковно-учительной литературы. Получаемые знания ценились не сами по себе, а только в приложении к основной вышеуказанной цели обучения и по сути стояли на втором плане по сравнению с задачами воспитательными, решавшимися в процессе обучения в первую очередь. Все книги, применявшиеся для обучения, всегда должны были иметь воспитательное воздействие.
Учебная книга начала свое существование с созданием славянской письменности. Когда появились первые русские рукописные азбуки, сказать трудно, но, очевидно, задолго до первой дошедшей до нас Азбуки Ивана Федорова. Скорее всего, первоначально учебные пособия для детей не являлись книгами. Они могли писаться на бересте (такие примеры встречаются среди новгородских берестяных грамот), на листе пергамена или бумаги, которые после окончания обучения оказывались ненужными. Даже печатных азбук, издававшихся значительным тиражом, до нашего времени дошло ничтожно мало. При начальном обучении после освоения азбуки и элементарных навыков чтения изучались Часовник и Псалтырь. Использование этих предназначенных для богослужения книг в процессе обучения не было случайностью — они давали комплекс элементарных знаний, необходимых христианину для того, чтобы он мог понимать церковную службу, самостоятельно совершать молитвы. Эти книги имели также большое воспитательное значение. В рамках средневекового церковного образования Часовник и Псалтырь учебная являлись книгами, полностью удовлетворявшими задачам начального обучения. Обучение по ним, начавшееся еще в доордынские времена, продолжалось в течение всего феодального периода, а в приходских провинциальных школах и у староверов — вплоть до XX в. Обязательным предметом начального обучения являлось церковное пение, которому учили по богослужебному Октоиху.
При отсутствии Часовника и Псалтыри для чтения использовались другие богослужебные книги, которые всегда имелись в церквах и монастырях, даже самых бедных, и были хорошо знакомы духовенству, выступавшему в учительской роли.
По материалам XVII в., набор учебных книг для начального обучения в его наиболее полном виде (для царских детей и знати) представлял собой Азбуку, Прописи, Часовник, Псалтырь учебную, Апостол, Октоих, гравированные печатные листы с картинками (звери, птицы, травы, «потешные» иллюстрированные книги).
Основной формой всех видов обучения было обучение индивидуальное (учитель мог иметь небольшую группу учеников). Основной метод книжного обучения являлся начетческим, сводившимся к многократному пропитыванию предложенных учителем текстов.
Вторая половина XVI и особенно XVII в. явились новым этапом в развитии учебной литературы в области как начального, так и повышенного обучения. При доминировании прежних целей, содержания, методов и форм обучения это время внесло в них особые черты, повлиявшие на литературу, используемую для обучения. Во-первых, это знаменующий переход России к культуре нового времени, рост интереса к светским знаниям и наукам. Во-вторых, в связи с экономическим и политическим укреплением централизованного государства правительство стало внимательнее относиться к вопросам образования, как начального, так и специального. В-третьих, нельзя отрицать влияние на отдельные аспекты образования в России возросших культурных контактов с другими славянскими землями и со странами Западной Европы. Все это привело к расширению круга учебной литературы: появился такой новый жанр учебной книги, как грамматика, учебная и справочная книга нового лексикологического жанра — азбуковник, новый тип букваря, созданный Иваном Федоровым, аналитическая литература по математике и др. Появление грамматик в школьном обучении знаменовало собой начало перехода от текстового, начетческого пути обучения, соответствовавшего закрытому, традиционному типу культур, к аналитическому пути обучения языку [44, 29].
Безусловно, значительным фактором в развитии литературы для обучения явилось начало книгопечатания во второй половине XVI в. Недаром первые книги, сошедшие с печатного стана, носили учебный характер, а первопечатники Франциск Скорина, Иван Федоров и другие вложили много труда и таланта, чтобы сделать их удобными для «скорейшего младенческого научения».
И в дальнейшем работники Московского Печатного двора уделяли много внимания учебной литературе, что говорит, во-первых, о большом на нее спросе, а во-вторых, о желании правительства путем выпуска печатной учебной литературы частично разрешить вопрос о подготовке грамотных кадров, нехватка которых постоянно ощущалась в Русском государстве. Печатные учебные книги были самыми дешевыми и имели большие тиражи.
Над улучшением состава и содержания печатных букварей и азбук после Ивана Федорова в Москве работали Василий Бурцов, Симеон Полоцкий, Карион Истомин, Федор Поликарпов. В 1648 г. была напечатана первая книга для повышенного обучения — «Грамматика» Мелетия Смотрицкого.
Подготовка печатных изданий являлась делом государственным и ответственным, содержание и оформление книги тщательно продумывали, составляли послесловие. Каждое новое печатное издание отличалось от своего предшественника: его стремились сделать лучше. Таким образом, книгопечатание дало эффективный толчок для методической работы над книгами для начального обучения.
Азбуки и буквари продолжали согласно традиции содержать в себе помимо грамматического раздела тексты нравоучительные и изложение основ христианской веры. Например, в Букваре Симеона Полоцкого было помещено стихотворное предисловие «К юношам, учитися хотящим», статья «Благословение отроков, в училище учитися священным писанием идущим», символ веры, исповедание веры, статья катехизического типа «Беседы о православной вере, краткие вопросы и ответы, удобнейшего ради познания детем христианским», несколько статей нравоучительного характера и важнейшие повседневные молитвы. «Букварь в те времена, — «пишет Л. Н. Пушкарев, — был не просто учебником для того, чтобы научить человека читать и писать, он одновременно с этим был и средством воспитания у ученика гражданских чувств, моральных правил, нравственных основ» [73, 165].
Традиционно на Руси знания, превышающие объем начального обучения, приобретались через книги путем самообразования. В чтении и постижении книг, безусловно, оказывали помощь «книжники», в первую очередь монастырские старцы, всегда имевшие учеников и воспитанников. Собрания книг — личные, церковные, монастырские — являлись тем центром, вокруг которого собирались люди, желавшие получить «книжное» образование. При индивидуальном обучении надобность в книгах чисто учебного характера была невелика, они заменялись устными объяснениями учителя и работой вместе с учителем над текстом. С появлением в XVII в. школ повышенного типа, в которых преподавались языки и некоторые из «семи свободных мудростей», с переходом в некоторых случаях к аналитическим методам преподавания обнаруживалась надобность и в специальной учебной литературе.
Преподаватель латинского языка в Спасской школе Сильвестр Медведев четко осознавал, что грамматику можно выучить только путем правильных занятий в училище по учебнику и с учителем, а не по «лексикону» и путем обыденной разговорной практики. Это видно из его не совсем справедливых слов в адрес чудовского монаха, справщика Печатного двора Евфимия — знатока греческого языка: «Евфимий грамматики совершенно не точию гречес-кия, но и славянския не разумеет; точию нечто греческих речений памят-ствует. И тому нача учитися не во училище, но в монастыре за медом, за пивом и вином и с лексиконов — некая словеса» [74, 7].
Такой подход Медведева отражает возникшее в XVII в. у некоторых преподавателей новое мнение, что обучение успешнее всего проходит в школе по специально предназначенной для этого литературе. Постоянно возникала потребность в помощи учебной литературы при изучении иностранных языков, интерес к которым в XVII в. очень возрос. Практическое изучение языка, необходимое, например, купцам, происходило на слух и путем записей в словарик отдельных слов русскими буквами. Но для чтения литературы на иностранных языках необходимы были совершенно иные методы его изучения и специальные учебные пособия.
Когда юный Федор Романов (будущий патриарх Филарет) захотел выучиться латинскому языку, он упросил англичанина Горсея написать ему русскими буквами нечто вроде латинской грамматики [13, 258 — 259]. Арсений Грек «для облегчения учеников... изобрел особый почерк или азбуку греческого и латинского языка» [31, 88]. Преподаватели братья Лихуды также составили самостоятельно для своих учеников грамматики латинскую и греческую.
Математические знания, необходимые при ведении торговли и хозяйства, передавались без каких-либо письменных пособий, путем практической работы со счетным инструментом — абаком (см. раздел «Учебная литература по математике»). В XVI — XVII вв. появились первые учебные пособия по математике — «Цифирная счетная мудрость», «Считание удобное», «Геометрия» Альбер-туса Долмацкого.
Самостоятельное творчество учителей в создании учебной литературы для своих учеников является одной из особенностей XVII в. Наиболее выдающиеся книги для обучения (Симеона Полоцкого, Николая Спафария, Кариона Истомина) были созданы для обучения царских детей. В дальнейшем они получили более широкое распространение. Именно эти учебные книги сохрани-
лись в архивах до наших дней. А Букварь Кариона Истомина, при жизни автора не получивший достойной оценки, был переиздан в начале XIX в.
Особым видом «школьной» книги стали появившиеся в XVII в. азбуковники, только по названию схожие с азбуковниками-словарями. Они также носили на себе следы творчества учителей и представляли собой собрание различных школьных правил поведения, нравоучительные наставления учащимся, методические указания для учителей, собранные из разных книг. Материал большей частью излагался в стихотворной форме.
В XVII в. серьезной дискуссии подвергся вопрос о том, стоит ли вводить в обучение тривиум — грамматику, риторику, диалектику. Следует полагать, что и до XVII в., несмотря на отсутствие школ повышенного обучения, эти науки были известны русским «книжникам»: их знание прослеживается в произведениях русских авторов домонгольского периода, а с XVI в. известно уже о существовании самих рукописных списков этих «художеств». До XVII в. (а в большинстве случаев и в XVII в.) тривиумом овладевали самостоятельно, путем книжного чтения, несмотря на стойкую традицию в определенных кругах русских церковников считать эти науки «внешней мудростью», вредной для христианина.
Средневековые грамматики, риторики, диалектики иногда встречаются вместе в составе одного рукописного сборника. Сами по себе эти сочинения представляют тип одновременно и научной и учебной книги. Наиболее часто употребляемый прием с целью более простого усвоения содержания, характерный как для этих сочинений, так и вообще для древнерусской назидательной литературы, — это вопросо-ответная форма изложения. Причем, например, в «Грамматике» Доната вопросы даны от имени учителя, а ответы — от имени ученика.
По рукописным спискам грамматик, риторик, диалектик заметно, как переписчики стараются упростить сложный для понимания читателей материал путем упорядочения изложения, введения оглавлений, пояснительных предисловий и глосс. В XVII в. в рукописях встречаются и некоторые прямые методические указания как для учителя, так и для самостоятельной работы ученика с текстом.
Следует отметить, что при рассмотрении древнерусской литературы, используемой для обучения любой из наук, будь то грамматика, математика или история, в первую очередь необходимо получить верное представление о сущности самого научного предмета, поскольку средневековые «науки» во многом принципиально отличались от современных. К примеру, грамматика имела такие разделы (скажем, просодии), которые в современной грамматике отсутствуют; большое влияние на строй и содержание грамматик оказывала свойственная для средневековья точка зрения на универсальность и одинаковость строения языков всех народов. Отсутствие учета этой особенности привело, например, А. И. Соболевского к оценке знаменитой греческой грамматики «Адельфотис» как «курьезной». Между тем «такого рода «курьезы» — отождествление грамматических структур разных языков — представляют собой характерную черту всей европейской грамматической традиции до XVIII в.» [44, 41].
Следует также иметь в виду при оценке роли книги в обучении, что само восприятие феномена книги имело большие отличительные особенности по сравнению с современным. К книге и заключенному в ней тексту относились не просто с уважением, а с преклонением. «Книга, — справедливо пишет А. М. Панченко, — подобна иконе — это духовный авторитет и духовный руководитель» [62, 167]. Чтение книг приравнивается к богоугодным делам, это нравственная обязанность и нравственная заслуга. Книга — вместилище
вечных идей, а не суетных помыслов. Человек, пишущий книгу, должен быть чист душой так же, как и иконописец. Суть книги — ее «душеполезная», а не познавательная функция. И Азбука в первую очередь воспринималась как книга для душеполезного воспитания, а затем уже как книга для обучения чтению. Ее особое значение заключалось в том, что процесс изучения букв и письма был приобщением к некоему божественному таинству. Графический знак буквы считался аналогией тех «первоэлементов», из которых создан мир, таким образом, через постижение грамоты осуществлялось некое постижение космоса. Сам Христос характеризовался как «альфа и омега» мира. «В способности человека записать и прочитать текст виделась волнующая тайна, раскрывающая человеческую сущность. В звуковом составе слова, в особенностях начертания, во внутреннем смысле составляющих слово морфем искали отражение сущности вещей» [44, 18]. Таким образом, Азбука являлась книгой с сакральной значимостью.
Отсутствие утилитарного подхода к тексту, к книге определенным образом затрудняло формирование литературы чисто «учебного» типа. В этом смысле путь формирования учебной литературы для специального и профессионального обучения складывался иначе. Система передачи традиционных народных знаний о мире, природе, космосе, человеке, восходящая к язычеству, оказалась подавленной церковью, но частично продолжала существовать в народной педагогике.
Древние народные методы обучения были рассчитаны на обучение без книги: сумма необходимых знаний передавалась в устной форме, часто специально приспособленной для лучшего запоминания (загадки, обрядовые песни и т. д.). При обучении ремеслу передача теоретических знаний также была в основном устной; в таких знаниях заключался секрет ремесла, а их запись легко могла попасть в чужие руки. Теоретический материал, необходимый для запоминания, организовывался таким образом, что его усвоение было легким (см. разд. I, гл. IV). Устная передача знаний вырабатывалась веками и имела глубокие народные традиции.
Специальные знания, такие, например, как медицина, астрономия, астрология, химия и пр., преследовались церковью. Появлявшаяся по ним переводная литература если и не попадала в разряд «отреченных» (т. е. запрещавшихся церковью) книг, то не должна была заслуживать внимания «книжника»-христианина. Травники, лечебники, справочники для торговцев были направлены на «земное» дело, а не на «строение души» — это были книги меньшей значимости, к ним не относились как к Книге с большой буквы. Но именно в этой сфере книжности начала формироваться учебная книга, наиболее близкая к современной.
Поток специальной научно-технической и естественнонаучной литературы, использовавшейся как учебная, хлынул в Россию из-за границы во второй половине XVII в. в связи с заинтересованностью государства. в подобных книгах для подготовки грамотных инженерно-технических, военных и других кадров. Сфера специального и профессионального образования, становившаяся в XVII в. на новый, отличный от средневековой бесписьменной традиции уровень, находилась в руках государства и не зависела от церкви. О быстром отечественном развитии учебников негуманитарного профиля говорит появление замечательного учебника математики Леонтия Магницкого (1703).
В целом учебная литература рассматриваемой эпохи, так и не сформировавшаяся окончательно в особый тип книги, накопила значительный внутренний потенциал, который реализовался в дальнейшем, при образовании развитой сети школ Русского государства.
2. ИЗДАНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В XVII В.
Московский Печатный двор
Изучая вопросы народного образования, и в частности учебной книги XVII в., мы прежде всего обращаемся к продукции Московского Государева Печатного двора — основной русской типографии, выпускавшей в XVII в. больше книг, чем все остальные типографии этого времени, печатавшие книги кириллического шрифта, которые становились частью культуры России и славянских стран Балканского полуострова, Украины, Белоруссии, Литвы и даже далекого Афона.
Первая половина XVII в. — время, когда в России печатная книга завоевывает наконец сначала равноправное положение с рукописной книгой, а затем постепенно начинает вытеснять последнюю. Но процесс этот захватывает лишь важнейшие с точки зрения государства и церкви области, в руках которых полностью было сосредоточено русское раннее книгопечатание. Очевидно, что на первом месте по своей идеологической значимости (и практической потребности) в течение всего «бунташного», принесшего крупнейший церковный раскол XVII века была книга литургическая. Именно ее тексты содержали основы догматического, социального, политического, правового и этического учения православной церкви, ставшего сущностью государственной идеологии средневековой Руси. Каждый вышедший из стен Государева Печатного двора экземпляр этих книг становился политическим явлением, так как обычно включал развернутое послесловие, содержащее хвалу Русскому государству, правящей династии, царю и православию. Два основных древнейших типа литургической книги и стали книгами для первоначального обучения всех слоев русского средневекового общества вплоть до XVIII в.
Освоив Азбуку (позднее получившую вид Букваря), все, кто обучался грамоте, от царевича до крестьянского сына, учились по Часовнику (с середины XVII в. — Часослову), а затем — по Псалтыри. Выше уже говорилось о совершенно особенном значении этих книг, первая из которых содержала большинство литургических текстов, повторявшихся ежедневно и связанных с суточным кругом служб. В них заключались самые общие и важные, отобранные и отшлифованные веками для произнесения вслух и запоминания тексты. Ряд текстов Часовника во время службы произносились самыми низшими чинами клира, не имевшими никакого церковного сана, — чтецами и певцами. Следующей книгой для обучения, изучение которой являлось фактически завершением образования для громадного большинства грамотных людей всех слоев русского общества, была Псалтырь — «царь-книга», «книга книг». Текст песен Псалтыри создавался народом в течение многих веков, и в ней в предельно точной, присущей народному творчеству образной форме передано бесконечное разнообразие общечеловеческих чувств, тонких оттенков эмоциональной и духовной жизни, хотя все это и подано в «перевернутом» виде, «опрокинуто» в сферу взаимоотношений человека с некоей высшей силой. Поразительная красота поэтических текстов Псалтыри, их вполне реальная, земная значимость много веков служили принципиально противоречивую службу человечеству. С одной стороны, она знакомила каждого с глубочайшим произведением человеческой мысли, заставлявшим любого пристально взглянуть на свои душевные переживания и ощутить их общую значимость; и недаром тексты Псалтыри, ее образы и идеи вошли во все виды христианского искусства и литературы, стали поговорками и крылатыми выражениями — частью национальной культуры всех европейских, в том числе и славянских, народов. С другой стороны, Псалтырь именно
в результате своей художественной формы была идеальным, интимным и ненавязчивым проповедником идеологии христианства. Если, говоря о Часовнике и Псалтыри, попытаться применить к ним, с одной стороны, наши представления об учебных книгах, а с другой, вспомнить об основной цели средневекового обучения — подготовка грамотного христианина, законопослушного члена сословного государства, то станут вполне очевидны причины, обусловившие их выбор в качестве двух основных книг для первоначального обучения и столь длительное традиционное сохранение ими этих функций даже в XVIII и XIX вв. Именно эти, самые основные, главные для обучения книги и издает в XVII в. Государев Печатный двор.
Материалы архива Приказа книг печатного дела позволяют утверждать, что в первой половине XVII в. издание книг для обучения было важнейшей частью деятельности государственной типографии. Очевидно, уже в 1614 г. Печатный двор был восстановлен после разгрома во время польской интервенции и в 1615 г. выпустил первые после перерыва книги — это были Псалтырь (1.1.1615) и Часовник (8.X.1615). Изучение находящихся в Центральном государственном архиве древних актов приходо-расходных книг Печатного двора и ряда других материалов дает возможность расширить список известных нам ранее изданий 1615 — 1652 гг. на несколько десятков единиц. Таким образом, сегодня нам известны 222 издания Печатного двора за 1614 — 1652 гг. (кроме 17 книг, напечатанных в 1633 — 1642 гг. в типографии Василия Федорова Бурцо-ва). 70 изданий из 222, т. е. почти третья часть всех выпущенных в свет книг, были книгами для обучения. Среди них известно 5 изданий Азбуки, 33 — Часов-ника, 24 — Псалтыри; позднее (с 1636 г.) появляется новый тип печатной книги, сразу же ставшей и книгой для обучения, — Канонник (до 1652 г. вышло в свет 5 изданий). В 1648 г. Печатный двор выпустил книгу для более высокого уровня образования — знаменитую «Грамматику» Мелетия Смотрицкого. Еще ранее, в 1647 г., была издана книга для обучения искусствам военным (перевод работы Иоганна Якоба фон Вальхаузена) — «Учение и хитрость ратного строения пехотных людей»1. В 1649 г. было предпринято еще одно издание, предназначенное, как говорится в его послесловии, «наипаче же детям учащимся», названное «Собрание краткий науки об артикулах веры» или Малый катехизис.
Очевидно, что процент учебных изданий был еще значительнее, так как Азбуки Печатного двора фактически погибли все2, а Псалтыри, Часовники и Канонники являются самыми редкими среди имеющихся в наших хранилищах книг XVII в. По крайней мере, среди вновь выявленных изданий большая часть приходится на книги учебные (7 неизвестных изданий Часовника, 1 — Псалтыри, 5 — Азбуки, 1 — Канонника). Замечательно, что еще до Азбуки Василия Бурцо-ва, которая вышла 20 августа 1634 г. уже в его самостоятельной типографии и всегда считалась первым московским изданием этой учебной книги, на Московском Печатном дворе вышли и были распроданы два более ранних издания Азбуки.
Эти данные, хотя и достаточно красноречивые, требуют для правильного понимания дополнительных сведений, во-первых, о том, видели ли сами печатники в Псалтыри и Часовнике учебные книги; во-вторых, каковы были тиражи этих изданий, т. е. насколько серьезно было их историко-культурное значение; в-третьих, каковы были цены на книги Печатного двора и в чьи руки они преимущественно попадали. На все эти вопросы позволяют ответить материалы архива Печатного двора.
1 Издатели сами сформулировали цели этого издания следующим образом: «Во осмотреиие и во обдержание великого Российского царствия... В соблюдение мирное и безмятежное».
2 Сохранилась из московских изданий первой половины XVII в. только Азбука Василия Бурцова.
Сами издатели прекрасно понимали значение и функции Псалтыри и Часов-ника. Если мы, и то не часто, называем учебной Псалтырью только те книги, в которых имеются специальные предисловия и послесловия, то на Печатном дворе учебной называли фактически любую Псалтырь («Малую», или келейную — в отличие от Псалтыри следованной). Начиная с издания 1622 г. это двойное название применяется в приходо-расходных книгах Печатного двора систематически. По отношению к Часовнику дополнение «учебный» применяется гораздо реже, но, очевидно, только из-за всеобщности представления об этой книге как важнейшей в учебном процессе. Недаром уже в 1631 г. именно в Часовник добавляется краткий букварь или «Краткое учение человеком...». Когда же появляется новый, более расширенный тип Часовника — Часослов, очевидно, из-за новизны названия в материалах Печатного двора появляется словосочетание «учебный часослов».
Архив Печатного двора позволяет установить точную цифру тиражей 153 изданий из 222 и доказать, что эта цифра никогда не была произвольной. Так, с 1620 по 1632 г. обычный тираж не превышал 1100 экземпляров и колебался от 1063 до 1100. Начиная с изданной 29.XII.1632 г. цифра тиража Псалтыри учебной всегда превышает 1100 экземпляров и колеблется от 1120 до 1175. В 1634 г. появляется стандартный тираж — 1150 экземпляров, отклонений от которого мы не знаем до 1640 г. Окончательно единый общий тираж устанавливается с издания Часовника 21.V.1640 г. — 1200 экземпляров. Когда цифра обычного тиража для издания была мала, книга выпускалась двойным тиражом, т. е. в два «завода».
Если говорить о политике тиражей на Печатном дворе первой половины XVII в., то нам известно 19 изданий, выпущенных двойным, тройным и даже в 5 раз больше обычного тиражом, — в 14 случаях речь идет об издании книг учебных и в 5 — книг для чтения.
Если учесть реальные тиражи изданий именно этих книг, то учебная литература в первой половине XVII в. составляет более трети всей печатной продукции Московской типографии. В абсолютных цифрах (вся без исключения статистика выполнена по принципу документально и математически точно доказываемого минимума, т. е. точно доказывается, что издано было не менее приведенных нами цифр) деятельность Печатного двора по снабжению страны книгами, выполняющими функцию основной учебной литературы, выглядит в 1615 — 1652 гг. следующим образом:
Азбука («первоначальное учение детям») — 5 изданий — 13 100 экз.
Часовники — 33 издания — 49 503 экз.
Псалтыри учебные — 24 издания — 28 575 экз.
Канонники — 5 изданий — 5950 экз.
Грамматика — 1 издание — 1200 экз.
Вальхаузен и Катехизис — по 1 изданию — 2400 экз.
Итого: 70 изданий — более чем 101 тыс. экземпляров.
Мы не знаем тиражей изданий Василия Бурцова. Но количество сохранившихся экземпляров этих книг не позволяет считать, что их тиражи были меньше, чем на Печатном дворе. Бурцов издал в 1633 — 1642 гг. не менее 9 книг для обучения (известны 4 Псалтыри, 2 Часовника, 1 Канонник и 2 букваря) в количестве не менее 10 700 экз. Таким образом, в 1615 — 1652 гг. в Москве было издано не менее 79 книг для обучения общим тиражом около 111 тыс. экземпляров.
Просветительскую функцию деятельности Печатного двора — учреждения сточки зрения государства идеологического, а не финансового — ярко характеризует и политика цен на его издания. Из 222 изданий типографии мы знаем продажную цену (а как правило, и себестоимость) 176 книг, т. е. почти 80% всей
продукции. Первые 20 лет после восстановления Печатного двора — с 1615 по 1634 г. все книги по указам царя продавались «без прибыли, а во сколько в деле стали», т. е. по себестоимости «продажных» экземпляров, так как в нее включались и стоимость нескольких книг «подносных» и розданных «безденежно» согласно именным челобитьям, а также стоимость доставки книг в уезды, пока ее осуществляли работники самой типографии. После 1634 г., когда Печатный двор очень сильно пострадал от пожара, в себестоимость книги стали сначала включать расходы на «дворовое и палатное строение», т. е. ремонт помещений и оборудования, а потом и систематическую немотивированную наценку. С этого времени появляется так называемая «указная» цена, в разной степени превышающая себестоимость. Однако, по крайней мере, до середины века на Печатном дворе не было, как принято считать, многократного (в 3 и 4 раза) увеличения себестоимости при продаже готовой продукции.
Высокие наценки были на учебные книги, кроме Грамматики, которая продавалась с 45%-ным увеличением себестоимости. Часовник, средняя цена которого в 30 — 40-х гг. XVII в. была 17 коп. (при минимальной — 15 коп., максимальной — 20 коп.), продавался в среднем с 77%-ной надбавкой. Псалтырь учебная (средняя цена — приблизительно 59,8 коп., при минимальной — 40 коп. и максимальной — 75 коп.) продавалась с 55%-ной надбавкой, а новый тип печатной книги — учебной, литургической и для чтения — Канонник — даже фактически со 100%-ной надбавкой (96,6%).
В чьи же руки попадали эти книги, каким целям служили? Сегодня на этот вопрос можно ответить достаточно точно, воспользовавшись материалом, находящимся в приходо-расходных книгах Московского Печатного двора. Дело в том, что с 1632 г. (а не с 1650, как полагали ранее) в документах типографии фиксировалась продажа фактически всех книг (к сожалению, не все архивные материалы сохранились). При этом, как правило, указывалось имя покупателя, место его жительства, социальное положение, количество купленных книг и уплаченная цена. Работа с этими списками (ведь речь идет о многих сотнях покупателей каждого издания) очень сложна и потребовала разработки специальной трудоемкой методики. Можно утверждать, что книги, служившие для обучения, в десятках тысяч экземпляров поступали в руки демократической части населения. Например, тиражи (1200 экз.) часовников, изданных в 1644 и 1645 гг., расходятся: первый — за 12 дней продажи, а второй — за 7 дней. Мы имеем сведения о покупателях 2316 экземпляров Часовника. Их купили в результате 135 покупок; в 34 случаях купившие книги люди были не из Москвы. Среднее число приобретенных каждым покупателем книг — 17 экз.; реальное наименьшее количество купленных часовников — 3 книги (и то всего в 4 случаях) . Из 2316 книг только 32 экз. (1,4%) покупают представители высших светских кругов (4 человека); 26% всех книг (606 экз.) купили служители церквей и монастырей. 586 часовников (25% тиража) купили работники Печатного двора, а остальные 1092 книги — представители торговых кругов и низов населения. Таким образом, 76,6% всех книг, издаваемых, как говорилось в послесловии к ним, «в начальное человеком научение» (издание 25.V.1632 г.), сразу же оказались в руках светских демократических кругов русского общества; а большинство книг, купленных для церкви, очевидно, поступили в церковные школы.
Еще более показательны цифры, полученные нами в результате обработки данных о продаже 6 изданий учебных Псалтырей, вышедших на Московском Печатном дворе в 1645 — 1649 гг. Все они вышли тиражом по 1200 экз. и продавались: первые два издания — по 70 коп.; третьи — по 54 коп.; четвертое — по 60 коп. и два последних — по полтине. Из 7200 напечатанных книг известны покупатели 5667 экз. — 549 человек. 4036 Псалтырей учебных, т. е. 71%, куплены москвичами.
Из московских покупателей 113 торговых людей и жителей посада приобрели 589 книг (при этом один и тот же покупатель приобрел книги четырех изданий из шести; 3 человека купили книги трех, а 20 — приобрели книги двух изданий). 342 экз. учебной Псалтыри купили 120 москвичей из приказных, служилых или военных людей. Среди них 3 покупателя приобрели книги четырех изданий, а 22 человека — двух. Монастыри, церкви и их служители купили чуть более четверти всего отпечатанного количества книг. Значительная часть книг, приобретенных представителями церкви, также шла на продажу или для нужд церковных и монастырских школ. Например, ключарь церкви Благовещения купил 49 книг четырех из шести изданий Псалтыри, а дьякон церкви Климента — 129 экз. Представители высших светских кругов приобрели уже не 1,4% тиража, как было с Часовником, а 8%; для 4% лиц, покупавших книги, социальная принадлежность не указана; 8% книг купили приказные и военные люди, 15% — торговые. Большая часть (38%) снова оказывается в руках (для перепродажи) работников Печатного двора. 1 % тиража был приобретен крепостными крестьянами. 1631 книга, т. е. около 23% тиража, была куплена в ближайшие после выхода книги месяцы жителями 67 городов и сел буквально всей территории России. На первом месте по количеству покупок оказывается Кострома — костромичи 32 раза покупали учебные Псалтыри и в общей сложности приобрели 185 книг; новгородцы совершили 9 покупок — 122 книги. Десятки книг купили представители других северных городов — Вологды (15 покупок, 71 книга), Устюга Великого (124 книги). Судя по росписям продаж непосредственно в ближайшие к выходу книги время, печатные учебные Псалтыри попадали в руки жителей десятков русских городов.
Очевидно, широко торговал книгами, и прежде всего книгами для обучения, богатый московский «гость» Андрей Никитников — он купил четыре издания Псалтыри: в 1645 г. — 12, в 1647 — 15, в 1648 — 20, а в 1649 г. — даже 30 экз. книги. Гостиной сотни люди Исаак Ревякин и Андрей Спиридонов купили разных изданий Псалтыри: первый — 50, а второй — 35 книг. Книги для обучения покупают люди из самых разных торговых рядов Москвы — Овощного ряду, где обычно и продавались книги: Андрей Микифоров — 8 книг, Павел Медынцев и Василий Григорьев — по 16, переплетчик Федька Володимеров — 4; были покупатели из Ветошного ряду, Сурожского, Москательного, Пушного, Рыбного, Седельного, Сапожного и Суконного, Иконного, Ножевого, Хлебного и др. Многочисленные записи на учебных книгах XVII в. подтверждают, что они чрезвычайно быстро расходились по Руси и реально стоили, покупались и продавались всегда дороже первоначальной цены Печатного двора. Записей «учебного» характера — прописей букв и слогов, неумелых копий учебных текстов, текстов «посланий», обращенных к «государю, батюшке» или «государыне, матушке», больше всего именно на учебных Псалтырях.
Насколько широко необходимы были Часовник и Псалтырь, говорит и соотношение их с важнейшими литургическими изданиями Печатного двора. Вот каким оно было, например, в 1615 — 1652 гг.
Итак, львиную долю продукции Печатного двора в XVII в. составляла
Названия кннг Кол-во изданий
Часовник и Канонник 38
Псалтырь учебная 24
Служебник 11
Псалтырь следованная 10
Евангелие 9
Апостол 9
Требник 8
Триоди, Минеи, Шестодиевы 5
учебная литература, начиная с «первоучебней... малей» книжицы, «азбуце... первоначальный учению грамоте книги ... малым детем в научение и познание божественного писания», по которой «всяк благоверен учится и да навыкает».
С точки зрения истории русской учебной книги важнейшим событием было издание Часовника 1643 г. и учебной Псалтыри 1645 г. В них впервые появляется специальная статья «Наказание ко учителям, како учити детей грамоте и како детям учитися божественному писанию и разумению» — развернутые методические указания» не только чему, но и как учить детей. Цель «Наказания» сформулирована ее составителями следующим образом: «Учителем, иже учат младых отрочат грамоте, како им подобает искусство имети в словесех и в речех и в пословицах, чтобы учеником их было в научение, и во извещение разума...» Точно сформулирована в «Наказании» и последовательность использования при обучении детей различных книг: учить «подобает убо ... младых детей первое убо в начале буквам, сиречь азбуце, потом же часовники и псалтыри». Читателям рекомендуется «паче всего» «наказати и изучити учеником: азбука чисто и прямо по существу, како которое слово речию зовется, и неспешно».
Гораздо больше, с точки зрения составителей «Наказания», необходимо знать и уметь самому учителю. «А и самим бы вам знати же естество словес, — говорится в нем, — и силу их разумети, и где говорится дебело и тоностно, и где с пригибением уст, и где с раздвижением, и где просто...» Перед нами разработанная программа, учитывающая многие основные стороны преподавания. Сформулирован и результат, который может быть достигнут при ее правильном применении: «И учеником будет крепость в языце, и в смысле — разум, и в речении словес языка — чистость». Достаточно продумать эту последнюю фразу, чтобы увидеть, что задачи обучения были осмыслены и теоретически, и с точки зрения практического решения.
Совершенно по-новому раскрывается при анализе продукции Печатного двора многократно уже повторявшаяся мысль об учительном характере средневековой христианской культуры. Для самих издателей все тексты, которые они печатали, могли быть текстами для обучения, но отнюдь не первоначального. И едва ли можно убедительно доказать, что Апостол или Златоуст использовались при первоначальном обучении. В послесловии почти к каждому типу печатной книги XVII в. мы находим мысли и идеи, характерные для специальных или прямо функциональных изданий. Одна из частых тем печатных послесловий — гимн, славословие русскому язь!ку. Вот как он сформулирован в «Книге о вере единой» (Москва, Печатный двор, 8.V.1648 г.): возмущаясь теми, кто «языком словенским гнушаются», автор пишет, что язык этот «широк есть и великославен, совокупителен и умилелен и совершен, паче простаго и лятского (польского) обретается, и имеет в себе велию похвалу, не токмо от писаний богословских и песен церковных, с греческого им переведенных...». «Богоугодным тем языком, — продолжает автор, — в Великой и Малой Руссии в Сербех и Болгарех и по иным странам действуются; и мнози ныне свой хлеб и сокровища духовная во чтении и поучении изобильных книг словенских... (находят) ».
Представление, что во второй половине XVII в. с переходом Печатного двора в ведение патриарха Никона резко изменилось отношение к изданию учебной литературы, несправедливо. Оно возникло в основном из-за полной утраты экземпляров многих учебных книг. Однако только для периода патриаршества Никона (1652 — 1658) удалось дополнительно выявить 6 изданий книг для обучения помимо 9 известных ранее. В том числе: Азбука 1655 г. (2400 экз.), Букварь 1657 г. (два издания — в июне и августе), Азбука «с прибавкою» 1657 г.
Работа московских печатников над книгами для обучения в XVII в. завершилась изданием знаменитых Букварей Кариона Истомина 1694 и 1696 гг.
В изданиях Московского Печатного двора мы видим не только десятки тысяч книг, предназначенных для первоначального обучения русского народа, не только книги с методическими указаниями учителям, но и четкое понимание важности знания языка и книги для реальной жизни, общения славянских народов, создания «сокровищ духовных», основы великой русской культуры вчерашнего, сегодняшнего и завтрашнего дня.
Верхняя типография Симеона Полоцкого
Потребность в расширении типографского дела и в организации изданий светского характера осознавали во второй половине XVII в. многие деятели русской культуры. О необходимости создать и «предать в типографии» сочинение по истории «своего государства, и начала, и предки...» писал автор предисловия к историческому сочинению Николай Спафарий [54, 6 — 6 об.]. Автор рукописного сборника русских пословиц сообщал, что видел «своима очима» издания народных изречений в других странах, высказывая тем самым желание увидеть изданными и собранные им русские поговорки и пословицы [88, 39 об.]. Симеон Полоцкий также вводил в вирши мысль об издании своих произведений. В «Гусли доброгласной», преподнесенной Федору Алексеевичу по случаю вступления его на престол в 1676 г., поэт убеждал царя в том, что новое типографское дело принесет ему «славу и прибыток», поскольку не одним мечом должна завоевываться слава государства, но и «скоротечным типом, чрез книги сущым многовечным» [78, 159].
Симеону Полоцкому для выпуска своих сочинений необходима была независимость от патриарха Иоакима, под контролем которого находился Печатный двор. Готовя книги к печати, Симеон упомлнал в титульном листе о благословении патриарха на издание данного произведения (как это было принято на Печатном дворе), но на самом деле этого благословения не было и в помине. Впоследствии патриарх открыто обвинил Симеона в обмане. Конфликтные отношения Симеона Полоцкого и Сильвестра Медведева с верховным московским духовенством помешали изданию их книг на Печатном дворе и, возможно, подтолкнули к мысли наладить независимое книгопечатное дело под покровительством монарха.
История формирования Верхней типографии не прослеживается со всей полнотой, поскольку архив типографии не сохранился (во всяком случае, неизвестно, есть ли он). Изготовленные к 1 февраля 1679 г. четыре новых стана, по-видимому, некоторое время находились на Печатном дворе, пока 11 марта не поступил указ «прислать с Печатного двора в приказ Большого дворца книг печатного дела стан с азбукою... и со всеми снастьми, чем книги печатают» [91, 109 об.]. Через два дня поступило распоряжение отправить мастеровых людей, «сколько человек к одному стану пристойно» [91, 110 об., 111]. Первой книгой новой типографии, увидевшей свет 4 декабря 1679 г., был «Букварь языка сла-венска, сиречь начало учения детем, хотящым учитися чтению писаний». Это свидетельствует о стремлении Полоцкого как педагога использовать типографию в первую очередь для просвещения юношества. За первой книгой последовали и другие: январь 1680 г. — «Тестамент, или Завет Василия царя гре-ческаго к сыну его Лву философу», апрель 1680 г. — «Псалтыр художеством риф-мотворным преложенная», сентябрь 1680 г. — «История о Варлааме пустыно-жители и Иоасафе царе Индейстем», октябрь 1681 г. — «Обед душевный», 1682 г. — «Считание удобное, которым всякий человек купующий или продающий зело удобно изыскати может всякие вещи», январь 1683 г. — «Вечеря душевная».
Практически все книги, изданные Верхней типографией, имели педагогическую направленность. В этом отразились и педагогические склонности самого Полоцкого, и насущная необходимость в учебных изданиях, которую не могла полностью удовлетворить деятельность Печатного двора.
«Завет Василия царя греческого к сыну его Лву философу» (или «Теста-мент»), дважды изданный в западнорусских землях (в 1607 и 1638 гг.), относился к традиционному жанру «отеческих поучений» и содержал советы и наставления юношеству. В рукописных русских списках говорилось, что он является «не только царям, но и невеждам наказание» [56, 414], т. е. адресован многим читателям. С одной стороны, он был полезным назидательным чтением для сыновей, с другой — подавал пример отцам в том, как наставлять своих детей. Рукописный «Тестамент» находился в юношеской библиотеке царевича Алексея Михайловича1 [20, 592]. «Тестамент» и Букварь — издания Верхней типографии числятся в описи небольшой библиотеки стольника А. И. Безобразова [46, 96], жившего в своих имениях вдалеке от Москвы. Таким образом, книги Полоцкого распространялись не только в столице, но и в провинции.
«Псалтырь рифмотворная» — третья книга, изданная в Верхней типографии, была создана на основе канонической Псалтыри. Изложив виршами этот знакомый читателям текст, Симеон дал юношеству легко доступное для понимания поэтическое чтение, прививавшее вкус к новым стихотворным формам.
Первой книгой, вышедшей в типографии уже после смерти Полоцкого, явилась имевшая большую популярность и известная на Руси с XI в. «Повесть о Варлааме и Иоасафе царевиче индийском» [68, 42 — 45]. Повесть также относилась к традиционному назидательному чтению для юношества и имела одновременно и поучительный и занимательный характер; наставления мудрого старца Варлаама юному царевичу Иоасафу, которые помогли последнему повернуть свою жизнь на праведный путь, оказывались полезными и для молодых читателей и слушателей повести. Симерн писал в предисловии к этой книге:
Токмо прилежно потщися читати,
А ползу всяко имаши прияти.
Ея же и мы верно ти желаем.
Иже о книгах труды полагаем.
Как учитель и наставник царевичей, Симеон в какой-то степени видел себя в роли Варлаама, что, в частности, нашло отражение на гравюре, иллюстрирующей книгу: в изображении Варлаама и Иоасафа можно узнать самого Симеона и молодого царя Федора Алексеевича, внимающего своему учителю [22, 502].
Два сборника проповедей — «Обед душевный» и «Вечеря душевная» (единственные собственные произведения Полоцкого, напечатанные типографией) — были окончательно подготовлены для печати по уже выправленным Симеоном «беловым» вариантам его учеником Сильвестром Медведевым. Цель сборников — использование их священниками для выступления перед паствой. В своих проповеднических «словах» Симеон также активно развивал педагогическую тематику: если одну проповедь «О достодолжном чад воспитании» Симеон полностью посвятил вопросам педагогики, то и в других он постоянно касался темы взаимоотношений детей и родителей, призывал последних заботиться о воспитании и обучении своих детей. Характерно увещевание Полоцким родителей разрешать детям уезжать за границу для получения образования. На примерах жизни целого ряда святых проповедник показывал необходимость
1 Характерно, что в описи библиотеки «Тестамент» охарактеризован как «главизны нака-зательные в нравоучительстве».
учения, постижения «свободных мудростей», постоянного труда над собой. Таким образом, Симеон Полоцкий и Сильвестр Медведев хотели привлечь внимание к вопросам воспитания и образования не только читателей, но и широкого круга слушателей церковных проповедей.
В 1682 г. типография выпустила первую в России печатную книгу по математике («Считание удобное») [94, 51 — 52], представляющую собой таблицу умножения и математические таблицы. Книга рассчитана не только на купечество, но и на «всякого человека».
К каждой издаваемой книге Симеон подготавливал одно, а иногда и несколько предисловий, часто в стихотворной форме. В них он, как правило, увещевал читателей серьезно отнестись к предлагаемой книге, указывал на ее пользу, проповедовал необходимость учения. Так, Букварь открывался стихотворным предисловием «к юношам, учитися хотящим», а оканчивался «увещеванием» к учащимся. Предисловия имели большое методическое значение, обогащали предлагаемые сочинения педагогическими рекомендациями такого опытного и талантливого учителя, как Полоцкий.
Издания Верхней типографии были прекрасно художественно оформлены, гравюры для них выполнялись лучшими московскими художниками, в том числе Симоном Ушаковым. Все необходимое для издания книг Верхняя типография либо получала с Печатного двора, либо изготавливала на базе Печатнрго двора. Санкцию на отпуск материалов давал архиепископ сибирский и тобольский Симон, поставленный «ведать печатный двор» в 1677 г. [90, 47 — 48].
При Верхней типографии комплектовалась библиотека, также пополнявшаяся из книжных фондов Печатного двора и по характеру собранных книг ненамного отличавшаяся от библиотеки при Печатном дворе. В 1680 или 1681 г. царь Федор Алексеевич отдал в Верхнюю типографию часть своей библиотеки [87, 34] (более 70 книг) — это книги на латинском, греческом, польском языках, среди них — книги по истории, естествознанию, медицине, математике, много словарей, лексиконов, поэтических руководств [6, 75 — 78].
Получая постоянную подмогу с Печатного двора, Верхняя типография тем не менее была самостоятельным учреждением. В оценке ее значения следует учитывать, во-первых, тот факт, что издавались новые книги, не входившие в репертуар Печатного двора: «Псалтырь рифмотворная», «Обед душевный», «Считание удобное» и др. Во-вторых, Верхняя типография постепенно росла, набирала силу и могла в недалеком будущем превратиться в равную Печатному двору. Для нее было сделано 6 новых станов. Верхняя типография имела в своем распоряжении 7 касс, 26 пудов отлитых азбук [93, 62 об.]. Самостоятельную значимость типографии доказывает и организация специального Приказа, который ведал ее делами. Первоначально вся документация новой типографии проходила через Приказ Большого Дворца. С ростом типографии возникла потребность создания при ней своего Приказа, который так и назывался — Приказ Верхней типографии. Произошло это, вероятно, во второй половине 1681 г.
Значение Верхней типографии в культурной жизни Москвы определяется еще одной особенностью: по существу она представляла собой (с известными оговорками) «вольную» типографию со своей программой изданий, предвосхищавшую русское частное книгопечатание XVIII в. Официально она считалась личной печатней царя Федора Алексеевича. Во главе Верхней типографии номинально стоял молодой царь. От его имени издавались распоряжения по типографии: «царь указал», «к ево великого государя книжному печатному делу» отпускались средства [92, 418]. В одном из своих писем Сильвестр Медведев сообщал, что «великий государь все книги издания пречестнаго господина
отца Симеона благоволил печатати у себе в Верхней типографии...» [72, 185 — 186]. Важно выяснить, что стояло за этой привычной формулой «царь указал»: соблюдение формы феодального делопроизводства или личная заинтересованность царя Федора Алексеевича в деле. Из указов, касавшихся Верхней типографии, сделать определенный вывод нельзя. Они не содержат обстоятельной аргументации, какого-либо обоснования или мотивировки. По упоминаниям о типографии в материалах Оружейной палаты установлено предположительное местонахождение ее — «в царских хоромах... против нижней стряпчей избы» [14, 115]. Можно предположить, что царь принимал деятельное участие в книгоиздательском деле в «своей» типографии, противопоставив ее Печатному двору, находившемуся во власти церкви. Федор Алексеевич высоко ценил Симеона Полоцкого, что, безусловно, повлияло на вопрос о создании новой печатни. Если бы Верхняя типография была задумана как развлечение молодого царя, то ее издания носили бы придворно-аристократический характер. Между тем уже первая книга новой типографии — «Букварь языка славенска» — свидетельствует о просветительской направленности ее книгоизданий, о расчете на массового читателя. Из сочинений Симеона Полоцкого были избраны для «печатного тиснения» не панегирические произведения в честь монарха и его окружения (не считая «Приветства брачного», которое причисляют к изданиям Верхней типографии [14, 116]), а произведения, в которых выражены педагогические, этические, политические взгляды поэта. Как очевидно, Симеон Полоцкий имел свою программу изданий, которую и осуществлял.
Симеон Полоцкий осознавал себя незаурядной личностью, способной на большую умственную работу, «литератором» и педагогом. Он стал первым придворным поэтом при царе Алексее Михайловиче. Преподавание в Заиконо-спасской школе он сочетал с большой писательской работой и церковно-административной деятельностью. Этому и способствовало создание Верхней типографии. К концу жизни Симеон осознавал себя не придворным «пиитом», а «мудрым мужем», стремящимся передать свои обширные познания и опыт другим.
Наследником Симеона Полоцкого стал его ученик Сильвестр Медведев: к нему перешли библиотека, рукописи и бумаги учителя, а также забота о Верхней типографии. С усердием взялся Сильвестр за подготовку к печати трудов своего наставника: «Тщуся, да соберутся все (сочинения Симеона. — Авт.) в книги и миру да явятся» [72, 185]. Но «явить миру» все произведения Симеоиа Полоцкого не удалось. Изданные книги Полоцкого были запрещены патриархом Иоакимом на основании того, что выходили без патриаршего благословения. 3
3. ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Методика обучения чтению, письму и счету
Основными источниками для изучения древнерусской методики обучения чтению и письму являются берестяные грамоты, печатные азбуки, буквари и азбуки-прописи, хронологически охватывающие период с XI по XVII в. Анализ всего этого комплекса источников позволяет утверждать, что методика начального обучения, утвердившись достаточно рано, отличалась стабильностью.
Рукописных азбук старше конца XVI в. не сохранилось, но весьма вероятно, что они были достаточно разнообразны по своему составу, который в какой-то мере олределялся автором-составителем книги — учителем. Но в то же время
они не могли не включать в себя общих элементов, так как в основе обучения грамоте лежали одни принципы1.
Обучение грамоте начиналось с алфавита: ученики заучивали название буквы («аз» — а, «буки» — бит. д.), одновременно пытаясь запомнить ее начертание (графему). Обучение шло путем повторения учениками вслух того, что говорил учитель, и поэтому основное внимание учеников сосредоточивалось именно на повторении. Известно, что обучение чтению происходило ранее обучения письму и, значит, запоминание графем сначала было чисто зрительным, не подкрепленным навыком их написания. Вряд ли ученик, даже заучив весь алфавит, мог сразу определить (узнать) ту или иную графему. На этом этапе название буквы воспринималось только в ряду других названий, как элемент в общей цепи разнообразных слов. Следовательно, можно говорить о складывании у ученика определенного звукового стереотипа, состоявшего из названий букв в их прямом порядке. Поэтому для окончательного усвоения графем и названий букв в азбуках и букварях предлагался обратный азбучный ряд. При его изучении разрушался сложившийся звуковой стереотип, происходило более твердое запоминание графем. С этой же целью в печатных азбуках и букварях (например, 1574 и 1578 гг.) помещались дополнительные смешанные буквенные ряды, составленные путем разбивки алфавитного ряда на несколько вертикальных столбцов. Читались они в строку, т. е. не в прямом или обратном порядке, а вразбивку.
Прямой азбучный ряд или его части встречаются в берестяных грамотах XI — XV вв. и на полях древнейших рукописей. Прямой и обратный азбучные ряды присутствуют в трактате южнославянского автора Константина Косте-нечского (первая половина XV в.), Азбуках Ивана Федорова и педагогических статьях анонимного происхождения в сборниках XVI в. [43, 210 — 211]. Смешанные буквенные ряды известны нам в Азбуке 1574 г. и последующих, а также в педагогических руководствах конца XVI — XVII в.
После изучения алфавита переходили к чтению слогов. Мы встречаем сочетания гласных с согласными в составе учебных упражнений новгородского мальчика Онфима (середина XIII в.), двух- и трехбуквенные слоги есть в Азбуках Ивана Федорова и всех остальных азбуках и букварях (кроме Букваря Кариона Истомина 1694 г.). В некоторых рукописных сборниках XVI в. содержится разработанная система слогов от двухбуквенных до девятибуквенных [43,211].
Процесс чтения слогов состоял в «складывании» букв, поэтому и сам метод обучения получил название буквослагательного. При этом большое внимание уделялось (вернее, должно было уделяться) фонетике, так как церковнославянский язык отличался характерной тенденцией выговаривания каждой буквы. Переход к чтению даже двухбуквенных слогов был затруднен тем, что название буквы не совпадало с ее звучанием (фонемой), хотя всегда включало в себя эту фонему, начиналось с нее (Л — «люди», Т — «твердо» и т. д.). Этот переход затрудняло и то, что чтение слогов предполагало произнесение сначала названий букв, а лишь затем слог читался так, как он должен был звучать. Поэтому сразу понять, почему «буки»+«аз» надо читать как «ба», переключиться на такое чтение было трудно. Следовательно, мы можем говорить о разрушении в процессе чтения слогов еще одного сложившегося стереотипа — о переходе от произнесения названия буквы к произнесению ее фонемы. Но «постоянное называние букв, предшествующее слитному произношению каждого слога, не может не мешать восприятию последнего; единственною опорою для памяти
1 Эти единые принципы можно проследить не только в средневековой западноевропейской системе обучения, корни их уходят в методику начального обучения в античности.
ученика является тот неизменный порядок, в котором слоги повторяются» [63, 4]. Заучивание слогов наизусть при этом приобретало еще одно значение: не только научиться их читать, но и воспринимать слог сразу как единое целое, как некий составной иероглиф, имеющий определенное звучание. Таким образом, любая азбука должна была включать два раздела, необходимые для овладения техникой чтения по буквослагательному методу, — алфавит и слоги.
После овладения чтением слогов можно было переходить к чтению полных слов и затем связного текста. Чтение слов, вероятно, включало постепенный переход от чтения по слогам с выговариванием названий букв к чисто звуковому чтению (по верхам). Здесь мы опять видим создание, а затем разрушение определенного стереотипа. Но именно этот стереотип ломался с наибольшим трудом, и чтение по верхам давалось не всем.
В Азбуках Ивана Федорова слова для чтения расположены в порядке алфавита и представляют собой омографы (например, «носите» — «носите»), спряжения различных глаголов, а также слова под титлами (т. е. слова, которые в книгах писались сокращенно, с особым знаком над ними).
Первым связным текстом для чтения в Азбуках Федорова был акростих. Вероятно, не во всех рукописных азбуках встречался акростих, так как он мог быть заменен другим текстом по воле учителя, кроме того, этим первым связным текстом мог быть текст любой книги. Переход к чтению текста означал, что ученик овладел основными навыками, и это дает нам основание условно разделить печатные азбуки и буквари по своему составу на две части: учебную и хрестоматийную. Учебная часть предназначалась для овладения чтением, хрестоматийная — для дальнейшего совершенствования.
Дофедоровская традиция рукописных азбук до сих пор не выявлена: большинство азбук, сохранившихся в различных сборниках, восходят к той или иной печатной книге. И вероятнее всего, состав ранних рукописных азбук более соотносится с дошедшими до нас азбуками-прописями XVII в., включавшими алфавит (только в прямом порядке), слоги, слова и текст для чтения в виде отдельных изречений.
Рассмотренный нами буквослагательный метод критиковался в историкопедагогической литературе, начиная с И. Е. Забелина. Всеми исследователями подчеркивалась (но не объяснялась) трудность овладения чтением по этому методу, а также крайне отрицательно характеризовался сам процесс преподавания. Очевидно, что обучение чтению по буквослагательному методу потому и было трудным и долгим, что каждый новый этап в чем-то отрицал этап предыдущий, ломал уже сложившийся стереотип. В этих условиях основная нагрузка лежала на чисто механическом заучивании материала, что вело к перегрузке памяти и затрудняло применение на практике приобретенных навыков.
После обучения чтению учились писать. В настоящее время мы не можем сказать, было ли такое обучение обязательным, или оно существовало в большей степени как профессиональное, для тех, кому это умение было необходимо в повседневной практике. Обучение проходило по азбукам-прописям. Мы не знаем, когда появились первые азбуки-прописи, так как все сохранившиеся экземпляры относятся к XVII в. Возможно, что в период распространения уставного письма функции прописей могла выполнять все та же рукописная азбука. Но с появлением скорописного письма существование азбуки-прописи стало необходимым. Это обусловлено тем, что уставные и скорописные начерки букв весьма отличались друг от друга; и в деловой повседневной письменности преобладала скоропись. Следовательно, азбуки-прописи несли двойную нагрузку — обучение скорописному письму и приобретение навыков чтения этого письма.
Процесс обучения письму был процессом копирования, так как учились писать «с руки» учителя: учитель писал буквы, а ученик их копировал. В качестве примеров, подтверждающих это, можно привести почерки двух писцов — отца и сына (написали в начале XIV в. Пролог), которые весьма сходны между собой [89, 816]. Почерки дьяков второй половины XVI в. Андрея и Василия Щелкаловых, отличаясь начерками отдельных букв, в целом также сходны, так как, вероятнее всего, письму их учил отец — дьяк Яков Семенович Щелкалов.
Все дошедшие до нас азбуки-прописи разделяются на две части: в первой даются начертания отдельных букв в алфавитном порядке (иногда в уставном, полууставном и скорописном вариантах), слоги и отдельные слова, начинающиеся с этой буквы; во второй — материал для обучения слитному скорописному письму и приобретения навыков чтения этого письма (различные изречения, выписки из книг Священного писания, загадки, пословицы, иногда части литературных произведений).
В большинстве случаев азбуки-прописи сохранились в столбцах, но встречается формат и в обычный лист или в четверть листа. Все известные азбуки-прописи первой половины XVII в. во второй своей части имеют отдельные изречения не в алфавитном порядке, а подобранные произвольно; и лишь во второй половине XVII в. эта часть выстраивается также в порядке алфавита. Прописи, часть из которых имеет имена составителей и дату, в большой степени отражали оригинальные вкусы автора, его индивидуальность. Только к концу XVII в. можно заметить шаблонизацию и упрощение прописей, так как широкий спрос на учебную литературу требовал быстрого ее изготовления, причем в достаточно большом количестве [11, 223].
Только обучением письму значение прописей не исчерпывалось. Они, так же как и азбуки, несли большую воспитательную нагрузку. Прописи были учебниками «житейской мудрости», в которых помещались наставления, советы и правила, относящиеся к вопросам веры и нравственности, рассуждения о важности книжного учения и получаемой от него пользы. Из правил, относящихся к нравственному облику человека, первое место занимали высказывания о пользе молитвы, призывы к милосердию, смирению, скромности: «Не ищи, человече, мудрости, ищи, человече, кротости — аще обрящеши кротость, одолеешь мудрость» [11, 212]. Наряду с этим встречаются правила поведения, адресованные непосредственно ученику: «Чадо, буди скор на послушание, а ленив на глагола-ние, а учителя своего почитай» [11, 212]. Включение в некоторые прописи загадок (иногда без отгадок) не только было занимательно для ученика, но и развивало сообразительность: «Стоит человек в воде по горло, просит пить, напиться не может» [11, 219] (колодезный журавль). Некоторые загадки были составлены на основе книг Священного писания и в такой замысловатой форме излагали основные догматы христианства или отдельные сюжеты из Библии.
В целом азбуки-прописи по составу приводимых изречений стояли на почве древнерусской литературы и имели тесную связь с «Пчелами» и другими весьма распространенными памятниками. Некоторые азбуки-прописи включали также титул царя и формуляры отдельных документов (заемного письма, челобитной и др.), образцы частных писем. Это объяснялось тем, что часто обучение грамоте и скорописному письму проводилось одновременно с обучением торговому промыслу [83, 92], для занятия которым было необходимо умение правильно составить документ.
Во второй половине XVII в. азбуки-прописи уже составлялись с привлечением материала печатных азбук — именно этим можно объяснить включение акростиха во вторую часть прописей. Возможно, именно влиянием печатных учебников, в которых материал отдельных разделов систематизирован в порядке алфавита, можно объяснить то, что в это время второй раздел прописей также
выстраивается в алфавитном порядке. В конце XVII в. появляются азбуки-прописи, содержавшие числа, задачи на четыре арифметических действия и иногда таблицу умножения [11, 221 — 223].
Скорописные азбуки-прописи сохраняли свое значение и служили пособием для обучения письму вплоть до XVIII в.: первая печатная азбука-пропись появилась лишь в начале 60-х гг. XVIII в.
Важным является вопрос о том, как сохранялась и передавалась информация о цифровой системе в Древней Руси. До открытия берестяных грамот данные об обучении нумерации практически отсутствовали. Археологические находки в Новгороде обнаружили аналогичные буквенным, но отличные от них «цифровые алфавиты», характеризующие процесс обучения нумерации. Чтобы правильно понять значение этой находки, следует учесть исторические изменения, происшедшие в арифметике. В наше время под арифметикой понимают совокупность операций сложения, вычитания, умножения и деления. В период средневековья запись чисел (нумерация) считалась самостоятельным арифметическим действием.
Древнерусская нумерация, сложившаяся в XII — XIII вв., в значительной мере соответствовала византийской цифровой системе. В ее основе лежали знаки греческого 24-буквенного алфавита. Они были дополнены тремя цифровыми знаками: 6, 90 и 900. Вместе все эти три знака называют эписемами. Среди знаков древнерусской нумерации имелись символы, которые не были буквенными (средняя эписема — вариант «коппы») или редко употреблялись в качестве букв. Так, например, буквы «кси» и «пси», имеющие также числовое значение, отсутствуют в азбуке, вырезанной на дощечке, по которой новгородцы в XIV в. изучали алфавит. Если также учесть, что цифровых знаков было меньше буквенных и их порядок не совпадал с последовательностью букв в кириллическом алфавите, то будет ясно, что при обучении нумерации приходилось преодолевать трудности, обусловленные указанными различиями. «Цифровые алфавиты» на бересте свидетельствуют об определенном единстве древнерусской методики обучения письму и счету. Так же как при обучении письму, основным учебным пособием в изучении нумерации, по-видимому, служил некий «эталон» состава цифровых знаков. (Такого рода «эталоном» является берестяная грамота № 342.)
Для понимания учебного процесса в Древней Руси необходимо вновь вернуться к дощечке с вырезанной азбукой. Археологами в Новгороде были обнаружены и другие подобные дощечки (но без азбуки), древнейшая из которых датируется концом XI в. Это так называемые церы — приспособления для писания по воску. С учетом редкости цифровых учебных грамот на бересте можно предположить, что и счету в Древней Руси обучали, прибегая в основном к воску.
Древнейшие сохранившиеся «цифровые алфавиты» не содержат пояснительных слов. Это относится не только к берестяным грамотам, но и к цифровым перечням, встречающимся в рукописях XIII — XVII вв. Если основным средством ознакомления и закрепления начальных математических знаний (по нумерации) был воск, то «цифровые алфавиты» на бересте и в книгах, вероятно, появились в известной мере случайно. По-видимому, учебный материал о цифровой символике заносился на церу, необходимые пояснения давались устно, а ученик их усваивал со слов без записи. Иногда, прежде чем разравнивался воск, цифры копировались на кусок бересты или книгу, на свободное от текста место. Поэтому такие копии не содержали словесных пояснений. Впоследствии на основе этих «сгустков» и других сведений могла складываться русская учебная математическая литература со словесными пояснениями, которая с конца XV в. представлена, в частности, «цифровым алфавитом» с обозначениями и наименованиями больших числовых разрядов.
Печатные азбуки и буквари
Букварь — первое пособие для обучения чтению.
В старопечатных изданиях обычно встречаются два названия пособий для обучения грамоте: «азбука» и «букварь». Название «букварь» (т. е. книга букв), кажется, образовано по аналогии с заимствованными названиями богослужебных книг, такими, например, как «стихирарь» — книга стихир, «кондакарь» — книга кондаков. У южных славян встречались еще названия «псалтырь» (в значении «букварь», а не книга псалмов); «табла за дицу» (т. е. таблица для детей), «азбукивидняк». В литературе термины «букварь» и «азбука» употребляют обычно без всякого различия. Ниже мы будем называть букварем пособие для обучения чтению, имеющее форму небольшой книги, а азбукой — подобное же пособие, но меньшего объема и имеющее не книжную форму (листовка, таблица и т. п.). Книгу для обучения грамоте можно назвать и букварем и азбукой, а листовку можно назвать только азбукой, но не букварем.
Печатные славянские буквари появились у южных славян раньше, чем в России [35]. По построению и содержанию они очень близки к русским старопечатным букварям, хотя предназначались для католиков или протестантов и наверняка не были известны в России. Близость эта нисколько не удивительна: ведь принцип обучения грамоте был один и тот же во всей Европе, а наиболее распространенные церковные тексты одни и те же или весьма сходные у христиан разных исповеданий.
Первые восточнославянские буквари издал Иван Федоров. Вероятно, при их подготовке он пользовался какими-то рукописными букварями. Что они собой представляли, можно только гадать, так как все сохранившиеся рукописные буквари относятся к более позднему времени.
Свой первый букварь Иван Федоров выпустил в 1574 г. во Львове. Это третий по счету кирилловский букварь (после тюбингенского букваря 1561 г. и азбуки в венецианском молитвеннике 1571 г.), первый букварь русского происхождения и первый букварь на церковнославянском языке русской редакции. Львовский букварь сохранился только в двух экземплярах: один из них, полный и хорошо сохранившийся, находится в библиотеке колледжа при Гарвардском университете; другой, полный, но сильно обрезанный при переплете, был в 1982 г. приобретен Британским музеем. Лондонский экземпляр в XVII в. принадлежал сэру Джону Гебдону (умер в 1670 г.), выполнявшему дипломатические поручения царя Алексея Михайловича.
Львовский Букварь 1574 г. — небольшая книжка форматом в малую осьмушку (15.7Х 10), на 40 нумерованных листах (78 страниц, не считая двух пустых). Титульного листа или заглавия перед текстом букварь не имеет. В конце помещено послесловие Ивана Федорова: «Сия еже писах вам, не от себе, но от бо-жественых апостол и богоносных святых отец учения, и преподобного отца нашего Иоанъна Дамаскина, от грамматикии, мало нечто ради скораго мла-деньческаго научения въмале съкратив сложих. А аще сии труды моя благоугодны будут ваши любви, приимете сия с любовию...» За послесловием следует герб Львова и типографская марка Ивана Федорова, под ними выходные данные: «Выдруковано во Лвове, року 1574». Никакого названия книги в тексте нет.
От предшествовавших ему южнославянских букварей Букварь 1574 г. отличается большой и довольно сложно организованной учебной частью. В начале букваря — три кирилловские азбуки: в первой буквы расположены в обычном порядке, во второй — в обратном, в третьей — вертикальными столбцами. За азбуками следуют слоги. Вначале идут двухбуквенные слоги, где первая буква согласная, а вторая — гласная («Ба ва га да... Бе ве ге де... Би ви ги ди...» ит. д.). За двухбуквенными слогами идут трехбуквенные, где первая буква
согласная, вторая — всегда «р», третья — гласная («Бра вра гра дра... Бре вре гре дре... Бри ври гри дри...» и т. д.). Далее помещены три статьи грамматического характера. Первая из них — «А сия азбука от книги осмочастныя, сиречь грамъматикии». Это образцы спряжения различных глаголов в алфавитном порядке, по одному глаголу на каждую букву. Следующие две статьи: «Страдална ж суть тако» и «Страдалнаго убо залога времена сице глаголются». В этих статьях для примера взят глагол «бити». Следующая статья — «По прозодии, а еже дващи в единых лежащее, се есть повелителная и сказателная». Раздел составлен из слов (большей частью глаголов), различающихся только ударением (например: «любите, любите», «носите, носите», «просите, просите»). После этих статей — раздел «По ортографии», где в алфавитном порядке помещены различные слова, обычно под титлами. Заключает учебную часть азбучный акростих, где каждая строка начинается с 1-й, 2-й, 3-й и т. д. буквы алфавита. Начинается акростих так:
A. Аз есмь всему миру свет.
Б. Бог есть прежде всех век.
B. Вижу всю тайну человеческую (и т. д.).
Кроме всех этих статей в учебной части есть еще кирилловские цифры; особой статьи они не образуют, но использованы для нумерации (на полях) абзацев и разделов учебной части. В целом учебная часть занимает больше половины букваря (47 страниц из 78).
Как можно видеть из этого перечисления разделов, учебная часть букваря построена довольно логично. Помещенные вначале три азбуки дают понятие о буквах как таковых. Затем слоги постепенно приучают к произношению букв. Раздел «По прозодии» дает ясное понятие об ударениях, «По ортографии» — о сокращениях (титлах). Акростих — пример уже для связного чтения, что является как бы переходом от учебной части к текстовой. О цифрах дает представление нумерация абзацев (прием довольно неудачный, от которого Иван Федоров затем отказался).
Текстовая часть Букваря 1574 г. содержит всего 19 текстов. Библейских текстов — шесть. Из догматических текстов есть Никейско-Константинополь-ский символ веры. Молитв всего 12; порядок их размещения в букваре более или менее соответствует порядку молитв в начале богослужения.
Другой букварь Иван Федоров выпустил в свет 18 июня 1578 г. в Остроге. От львовского издания 1574 г. острожский Букварь 1578 г. отличается тем, что текст в нем двуязычный, на греческом и славянском языках. Предназначался он для учеников Острожской школы, изучавших греческий язык. Грекославянский букварь 1578 г. известен только в двух экземплярах. Один, полный, находится в Готской библиотеке (ГДР), другой — фрагмент в 4 листа — был найден в 1984 г. в Государственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина [40]. Готский экземпляр букваря сплетен со славянским букварем, напечатанным также Иваном Федоровым в Остроге, но несколько позднее, в 1578 — 1580 гг. Элиас Гуттер, которому принадлежал конволют, был профессором восточных языков в Иенском университете, а затем издателем. Известно, что Гуттер намеревался напечатать Новый Завет на 12 языках, в том числе и славянском, и приготовил для себя кирилловский шрифт, копирующий шрифт Острожской Библии [34, 152 — 160].
Острожский букварь — форматом в малую осьмушку, на 8 ненумерованных листах (16 страниц). В начале букваря титульный лист, который встречается здесь впервые в изданиях Ивана Федорова. На титульном листе указано, что букварь напечатан «умышлением и промышлением благочестива го князя Коньстяньтина Коньстяньтиновича княжати Острозъскаго». На обороте титуль-
ного листа помещен герб князя Острожского. Учебная часть букваря занимает всего одну страницу (л. 2), следующие 12 страниц (л. 2 об. — 8) — текстовая часть, которая вся на двух языках: греческом и славянском. На последней странице (л. 8 об.). — типографская марка Ивана Федорова, та же, что и во Львовском Букваре 1574 г. Кирилловский шрифт мелкий, упрощенного рисунка, тот, которым напечатана Острожская Библия.
Учебная часть Букваря 1578 г. состоит из четырех греческих азбук. Первая азбука содержит только заглавные буквы; вторая — строчные буквы и напечатанные кириллицей названия греческих букв; третья — строчные буквы, расположенные попарно: первая и последняя, вторая и предпоследняя, третья и третья от конца и т. д.; четвертая — строчные буквы с различными вариантами начертания. Расположение текстов то же, что и во львовском букваре. В общем текстовая часть следует Львовскому букварю, но со значительными сокращениями и одним только добавлением.
После греко-славянского букваря Иван Федоров напечатал в Остроге еще один букварь, уже одной кириллицей. Букварь этот не имеет выходных данных, и точная дата издания неизвестна; по оформлению он приблизительно датируется 1578 — 1580 гг. Острожский букварь известен в двух экземплярах, более или менее дефектных. Один из них, из библиотеки Гуттера, находится в Готе; в нем недостает 2 листов. Другой экземпляр, еще более дефектный, — в копенгагенской Королевской библиотеке.
По составу и внешнему виду острожский букварь чрезвычайно близок ко львовскому изданию 1574 г. Сходство между букварями настолько велико, что даже разбивка текста на страницах и строки обычно совпадают. Во львовском букваре в конце — послесловие Ивана Федорова и выходные данные; в острож-ском этого нет. Во львовском букваре нет заглавия, в начале острожского оно помещено: «Начало учения детемь хотящим разумети писание». Во львовском букваре есть цифры, примененные для нумерации абзацев и разделов, в острож-ском — цифр нет. В конце острожского букваря помещена статья, которой нет во львовском, — «Сказание о письменах» черноризца Храбра. Всего в острож-ском букваре 48 листов, а не 40, как во львовском.
Самые ранние сохранившиеся московские буквари вышли в свет в 1634 и 1637 гг. Как отмечалось выше, буквари эти подготовил к печати Василий Федорович Бурцов, руководитель существовавшего тогда филиала Московского Печатного двора.
Букварь 1634 г. — это книжка форматом в малую осьмушку, на 90 ненумерованных листах. Титульного листа в книге нет, перед текстом заглавие: «На-чалное учение человеком хотящим разумети божественнаго писания». В конце букваря послесловие, где указано, что книга «начата печатанием» 6 июля, а окончена 20 августа 7142 (1634) г., «труды и тщанием многогрешнаго Василия Федорова сына Бурцова и прочих сработников...».
Учебная часть Букваря 1634 г. начинается с трех кирилловских азбук: в первой из них буквы расположены в обычном порядке, во второй — в обратном, в третьей — вразбивку. За азбуками следуют двух- и трехбуквенные слова; названия кирилловских букв; кирилловские цифры; надстрочные знаки («просодия верхняя»); знаки препинания (их только три: запятая, точка и «подиосто-лия» — точка с запятой). Далее идут грамматические статьи, примеры сокращений и акростих, те же, что и в букварях Ивана Федорова.
Текстовая часть букваря начинается молитвами, теми же, что и в букварях Ивана Федорова. За ними следуют три подборки выдержек из Притчей Соломоновых и Посланий Павла. Далее — три подобные же выдержки из Ветхого Завета. Затем — Сказание черноризца Храбра «О письменах». По сравнению с острожским букварем Ивана Федорова добавлены: в учебной части — азбука
вразбивку, названия букв, цифры, надстрочные знаки и знаки препинания; в текстовой части — три выдержки из Ветхого Завета. После Сказания Храбра следует послесловие (наподобие послесловий в других московских старопечатных книгах).
Второй известный букварь Бурцова вышел в свет 8 февраля 1637 г. Это книга форматом в малую осьмушку, на 108 ненумерованных листах. Титульного листа нет; в начале основного текста (л. 12) заглавие: «Началное учение человеком хотящим разумети божественнаго писания». В конце послесловие, которое безо всяких изменений перепечатано из букваря 1634 г. Разница только в датах.
Букварь начинается предисловием Бурцова: «Предисловие въкратце перво-учебней сей малей книжице азбуце». За этим предисловием следует другое, в стихах:
Сия зримая малая книжица По реченному алфавитица Напечатана бысть по царскому велению Вам младым детем к научению (и т. д.).
Это первые стихи в московской печатной книге. Автор стихов, очевидно, сам Бурцов. После этих прелиминарий следует учебная часть букваря. Перед учебной частью фронтиспис, изображающий училище: на переднем плане учитель сечет розгою провинившегося ученика. Состав учебной части такой же, как и в Букваре 1634 г.
Текстовая часть составлена Бурцовым заново и имеет мало общих текстов с букварями Ивана Федорова и Букварем 1634 г. Она примечательна тем, что здесь вовсе нет молитв и почти все тексты взяты из Библии. В конце Букваря идут библейские чтения, те же, что и в Букваре 1634 г., и Сказание черноризца Храбра. Затем — послесловие.
В 50-е гг. XVII столетия в связи с реформой Никона все силы и средства Печатного двора были обращены на «справы книжные»: предписано в богослужебной практике пользоваться новыми книгами. В атмосфере напряженной борьбы вокруг реформы было необходимо не только исправить уже имевшиеся учебники, но и ввести новые, злободневные материалы, чтобы прочнее утвердить реформу в сознании народа путем воспитания, через школу1.
Начало Букваря 1657 г. заимствовано из Могилевского Букваря Спиридона Соболя 1636 г., но с изменениями, необходимыми вследствие реформы Никона. Здесь по традиции помещены алфавит и слоги, в разделе «Во исправление языка отрочате, слози словес под титлами» в алфавитном порядке перечисляются подтительные слова. Примеры этих слов были помещены и в предшествующих букварях под заголовком «По ортографии», где они изменялись по падежам, т. е. являлись одновременно и образцами склонений. Составители следующего Букваря, 1657 г., не ставили своей целью дать образцы склонений: изменений по падежам здесь нет, наряду с существительными и прилагательными присутствуют и неизменяемые части речи (наречия). Надо отметить, что в рассматриваемом учебнике по сравнению с изданиями 1634 и 1637 гг. вообще отсутствуют сведения о словоизменении: нет здесь и образцов спряжений глаголов, занимавших значительное место в первых букварях. Это объясняется, видимо, тем, что во время появления пособий Бурцова в Москве еще не было печатных грам-
1 В той части русского общества, которая не приняла реформу, букварями Бурцова пользовались, видимо, еще очень долго. Не случайно именно учебник 1637 г. с незначительными изменениями был издан старообрядцами в Супрасльской типографии спустя почти полтора века — в 1781 г.
матик и первые буквари должны были дать достаточно полный объем сведений о «словенском» языке. В 1648 г. была издана «Грамматика» Мелетия Смотриц-кого с ее богатейшей морфологической частью, поэтому новый учебник мог исключить из себя сложный грамматический материал, стать первоначальным пособием для обучения грамоте.
После подтительных слов помещены тексты для чтения. Среди них нет таких интересных с точки зрения воспитания поучительных и занимательных для детей материалов, какими в пособиях Бурцова были притчи, наставления Товия своему сыну и др. Тексты касаются в основном православно-христианских догм — это Катехизис Стефана Зизания из «Науки по чтению и разумению писма словесного» Лаврентия Зизания 1596 г., Символ веры, заповеди, молитвы из Букваря Спиридона Соболя, причем молитвенная часть по сравнению с этим букварем существенно расширена. Тексты, конечно, отредактированы соответственно с филологическим аспектом реформы Никона.
После текстовой части в учебнике даны разделы «Просодия верхняя или ударение гласа» (надстрочные знаки), «Строчная препинания», «Числа». В более ранних букварях текстовая часть помещалась после всего учебного материала. Букварь 1657 г. более удачно следует логике учебного процесса: вначале ребенок учится правильно читать и понимать текст и лишь потом переходит к сложным надстрочным знакам и знакам препинания, смысл и функции которых вне связного текста понять невозможно.
Понимание сущности знаков надстрочных и «строчных» и даже просто их названия, количество, порядок рассмотрения во всех грамматических произведениях того времени, и рукописных и печатных, были различны: русская пунктуация еще не была устойчивой, она только складывалась, а надстрочные знаки как греческое явление, чуждое в основном русскому языку1, с трудом находили основание на новой языковой почве, постоянно приспосабливаясь и изменяясь. При такой неоднородности сведений полное совпадение подхода к надстрочным знакам в Букваре 1657 г. и «Грамматике» Мелетия Смотрицкого 1619 г. доказывает, что был использован именно этот источник. Разделы о знаках в Букваре представляют как бы план аналогичных разделов «Грамматики», сводятся к перечислению знаков, причем из просодий помещены те, которые употребляются при письме; стихотворные же просодии исключены как избыточные для элементарного учебника.
То, что букварь использовал 1-е издание «Грамматики», а не более близкое 2-е, объясняется, видимо, следующим: 2-е издание, вышедшее за несколько лет до реформы Никона, в отличие от 1-го в вопросе о просодиях пошло по пути, предложенному букварями Бурцова, где греческая система знаков предельно русифицирована. Это можно проиллюстрировать на примере знака, обозначавшего в греческом письме один из видов придыхания, — «псили, тонкое». Название «псили, тонкое» не отражало функции этого знака в русском языке, в котором придыханий никогда не было, а так как по примеру греческого письма знак этот ставили над гласными («звательными» — в старинной терминологии) в некоторых позициях, то «псили, тонкое» превратилось в букварях Бурцова (видимо, под влиянием русских грамматических рукописных статей), а затем во 2-м издании «Грамматики» в «звательную», «звательцо». Подобным образом русифицированы и все другие греческие знаки и даже сам порядок их перечисления, который основан здесь не на природе греческих надстрочных знаков, а на особенностях их применения в русском языке.
В 1653 г. Печатный двор был отдан в распоряжение патриарха Никона; с этого времени в московской издательской деятельности в полной мере сказались
1 На собственно русской почве возникли «паерки» — знаки, заменявшие ь и ъ.
взгляды на необходимость исправления русских книг по греческим образцам, что отразилось и в усилении влияния греческой грамматической мысли на русскую. Поэтому Букварь 1657 г. и использовал не 2-е, а 1-е издание «Грамматики» как более правильное с точки зрения греческой теории.
В системе знаков препинания, также ориентированной на 1-е издание «Грамматики», видна попытка с помощью знаков препинания отметить интонационные, логические и синтаксические особенности предложений, что выразилось в большой дробности этих знаков по сравнению со сведениями в первых московских букварях.
Неустойчивым нововведением в московскую школьную орфографию оказался в то время знак переноса — «единитная», который рекомендуется букварем, но встречается в нем нерегулярно и неупорядоченно, а во 2-м издании этого учебника (1664) совсем не употребляется.
Заканчивает учебную часть раздел «Числа», который полностью заимствован из букварей Бурцова. После «Чисел» находится статья о перстосложении при крестном знамении («троеперстие») и при благословении, представляющая из себя часть ответов Никону константинопольского патриарха Паисия, которые в этой же славянской редакции были помещены в Скрижали 1655 г.
Букварь 1657 г. был переиздан в 1664 г.1. Два этих издания оказали большое влияние на последующую учебную литературу в Московском государстве, в том числе на Букварь Симеона Полоцкого 1679 г. Если буквари 1657 и 1664 гг. показывают, что правительство Московского государства того времени отводило школе значительную роль в формировании официального мировоззрения и воспринимало ее как важное звено в своей преобразовательской деятельности, то буквари 1667 и 1669 гг. имеют другой, более частный характер. В них не упоминаются имена царя и патриарха, по повелению и благословению которых обычно составлялись и издавались буквари, что совершенно нетипично для московских учебников XVII в. Эти учебники по содержанию более светские, чем предшествующие буквари. При типичной для средневековья общей религиозновоспитательной направленности этих изданий яснее осознается их общеобразовательное значение. В начале книги помещаются «двуписьменные» и «трехписьменные» слоги и названия букв. Раздел «Слози имен под титлами» построен по тому же принципу, что и в Букваре 1657 г.
Религиозно-богослужебных текстов здесь в отличие от более ранних букварей нет, но помещены образцы приветствий (автор — Симеон Полоцкий) от детей родителям и благодетелям, которые хотя и посвящены религиозным праздникам, но в целом имеют светское назначение — «да навыкают отроки благочинному нраву приветствования». «Приветства» служили еще в одном качестве: в предисловии говорится, что так как «писание» состоит из букв, то и напечатан этот букварь, содержащий «образы» букв, обучающий составлению слогом и «являющий напоследок изображения целых речений», т. е. «Приветства» явно предназначены и для упражнений в чтении.
Компактность букваря (объем у него в 2,5 раза меньше, чем у букварей 1657, 1664 гг.), его доступное, занимательное и практическое светское содержание были по достоинству оценены в то время: книга издавалась, по крайней мере, 3 раза.
Букварь Симеона Полоцкого вышел в 1679 г. В начале Букваря — выходной лист с именами царя Федора Алексеевича и патриарха Иоакима. За ним —
1 Во 2-м издании в отличие от 1-го после слогов помещены названия букв, остальные листы по содержанию совпадают. К одному из экземпляров Букваря 1664 г. были механически приплетены листы из более позднего издания. Это привело Ф. И. Сетина к ошибочному утверждению, что в данном Букваре появились новые материалы, автором которых был Симеон Полоцкий [77, 96|.
стихотворное «Предисловие к юношам учитися хотящим». Затем идет молебен, служившийся перед началом учения: «Чин благословения отроков во училище учитися священным писаниям идущим». После молебна следует начало учебной части; оно содержит три азбуки (напечатанные крупными буквами, обычными буквами и в обратном порядке); двухбуквенные и трехбуквенные слоги; «Слози знаменательнии, триписменнии», т. е. трехбуквенные слова вроде «тма», «где», «кто», «чту» и т. п.; названия кирилловских букв. Катехизис из Азбуки Зизания, раздел подтительных слов, заповеди, молитвы, Символ веры из Букваря Соболя попали в Букварь Полоцкого не непосредственно, а через учебники 1657 и 1664 гг. в редакции, более близкой к этим учебникам, чем к первоисточникам.
Текстовая часть кроме молитв содержит отрывки из Нагорной проповеди. Символы веры (Никейско-Константинопольский и Афанасия Александрийского). Далее следует окончание учебной части: «Просодия верхняя» (надстрочные знаки), «Строчная препинания» (знаки препинания) и цифры. По окончании учебной части — «Приветства», приуроченные к тем же праздникам, что и в учебниках 1667, 1669 гг., но в новой редакции. Затем — стихотворное «Увещание», почти целиком посвященное пользе телесных наказаний.
В самом конце Букваря, на листах с отдельной пагинацией, Симеон поместил известный «Стословец» константинопольского патриарха Геннадия.
В 1692 г. Карионом Истоминым был составлен лицевой букварь, и в том же году его рукописный экземпляр поднесен вдовствующей царице Наталье Кирилловне для ее внука, царевича Алексея; другой подобный рукописный букварь в 1693 г. получили племянницы Петра I, дочери царя Иоанна Алексеевича. К печати этот букварь подготовил гравер Леонтий Бунин, вышел в свет букварь в 1694 г.
Лицевой букварь — издание необычное, непохожее на те буквари, о которых шла речь выше. Букварь большого формата («в лист», или «в дест»), изображения и текст целиком графированы на медных досках, печать только на одной стороне листа. Книгу открывает нечто вроде выходного листа, почти целиком написанного стихами. Внизу выходного листа указан составитель: «Иеромонах счини се Карион»; указана также дата: «Мироздания 7199 г(од) лета, от воплощения же Бога Слова, 1692 г (од) месяца марта в царствующем граде Москве». Далее идет предисловие, где объясняется построение букваря. Основной текст содержит 38 листов, причем каждый лист посвящен одной из букв алфавита. На листе помещаются различные начертания букв, изображения предметов, названия которых начинаются на эту букву, нравоучительные стихи. Начертания букв сначала даются большими инициалами, изображающими человеческие фигуры в разных позах. Костюмы чаще всего условно античные, реже старорусские, иногда западноевропейские (буквы «иже», «рцы», «слово», «еры»). Инициал «еры» изображает человека, курящего трубку, «кси» — гротескную фигуру змея с двумя человеческими туловищами, «ижица» — Юдифь с отрубленной головой Олоферна. Далее следуют обычные инициалы, наподобие принятых в московских старопечатных книгах, а за инициалами — скорописные начертания букв. Кроме кирилловских букв помещаются соответствующие буквы греческие и латинские (по польской орфографии). Ниже, под буквами, помещены изображения — самая интересная для современного читателя тасть букваря. На каждую букву дано около десятка изображений. Так, например, на букву В («веди») помещены изображения: «ветр», «ворон», «виноград», «венец», «ведро» и т. д. Тематика изображений самая разнообразная: предметы )бихода, одежда, церковная утварь, оружие, растения и животные и т. д. В самом низу листа — стихи, где упоминаются предметы, изображенные на рисун-<ах. В конце букваря — лист с тремя молитвами в стихах; внизу — помета: «Сей букварь счини иеромонах Карион, а знаменил и резал Леонтей Бунин.
7202 г (од)». В начале букваря указана дата — март 7199/1692 г. (март 1692 г. в действительности соответствует 7200 г. от сотворения мира); в конце книги — 7202 г. от сотворения мира, что соответствует сентябрю 1693 — августу 1694 г. Это различие в датах объясняется, очевидно, тем, что в начале Букваря указана дата составления, а в конце — дата печатания.
Букварь Кариона Истомина, вышедший в свет в июне 1696 г. тиражом в 25 экз., предназначался для малолетнего царевича Алексея. По своему составу он близок к Букварю 1679 г., составленному Симеоном Полоцким, но по объему больше. В начале Букваря 1696 г. — стихотворное «Предисловие к юношам учи-тися хотящим», принадлежащее Полоцкому; но у Кариона имя царя Федора Алексеевича заменено именем Петра. Учебная часть содержит азбуки, двухбуквенные и трехбуквенные слоги, трехбуквенные слова, названия букв, сокращения, надстрочные знаки, знаки препинания и цифры. Учебная часть в общем следует Букварю 1679 г., но здесь она не разделена. Далее идут молитвы и заимствованные из Букваря 1679 г. «Приветства». Отличительная особенность Букваря — большое число стихотворений (26). Большинство их посвящено праздникам Пасхи, Рождества, Успения; одно стихотворение посвящено Петру, два — царевичу Алексею. За стихами — три поучения отцов церкви: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. За этими поучениями — стихотворение «О учении приветство» — род акростиха, где в начале и конце приведено имя составителя «Карион иеромонах Истомин». Последние две статьи — стихотворное «Увещание» и «Стословец» патриарха Геннадия — заимствованы из Букваря 1679 г. В книге 3 гравюры с 2 досок: поучающий Христос (2 оттиска) и Рождество.
Все рассмотренные буквари, за исключением лицевого Букваря Кариона Истомина (1694), принадлежат, с некоторыми вариациями, к тому традиционному типу старопечатного букваря, который охарактеризован в начале нашего раздела. В чистом, без отклонений виде этот тип представлен в трех букварях Ивана Федорова (львовский 1574 г., острожский греко-славянский 1578 г. и острожский славянский 1578 — 1580 гг.), а также в первом Букваре Бурцова (1634). Несколько отклоняется от традиционного типа второй букварь Бурцова (1637), где в текстовой части вместо обычных молитв помещены библейские тексты, не применявшиеся при богослужении и потому не обязательные для заучивания. Еще более отличается от традиционного типа Букварь Симеона Полоцкого (1679): учебная часть разделена в нем надвое, кроме более или менее обычной текстовой части есть еще род письмовника. Букварь Кариона Истомина (1696) представляет собой как бы значительно расширенный и дополненный букварь Симеона, где устранено разделение надвое учебной части. Первый образец стихов (предисловие) появляется в бурцовском Букваре 1637 г.; примечательно, что это первые стихи в московской старопечатной книге. В Букваре Симеона Полоцкого есть два стихотворения; очень много стихов в карионовом букваре 1696 г. Иллюстрации встречаются редко: одна гравюра — в Букваре 1637 г. и три — в букваре 1696 г.
Лицевой букварь 1694 г. — издание совершенно своеобразное и не принадлежит вовсе к традиционному типу. Он ближе к современным букварям, где каждой букве посвящен особый маленький раздел, а в нем помещаются иллюстрирующие букву изображения. Способ печати (цельногравированная книга вместо обычной наборной), множество иллюстраций, целиком стихотворный текст для чтения, отсутствие традиционных церковных текстов (три стихотворные молитвы, сочиненные самим Карионом, к традиционным текстам не принадлежат), преобладание в иллюстративно-словарном материале светского элемента над церковным — все это делает лицевой Букварь 1694 г. изданием совершенно уникальным среди старопечатных букварей.
4. ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОВЫШЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
Грамматики
При определении круга памятников, составляющих рукописную грамматическую литературу Московской Руси, необходимо учитывать традициональный характер средневековой культуры, ее ориентацию на духовные ценности и авторитеты прошлого, ее внимание к вечному и неизменному, консервативно-реставрационную направленность филологической деятельности. В XV — XVII вв. памятники X — XIV вв. полностью сохраняли свою актуальность — они читались, копировались, включались в новые сборники, при этом древнейшие сочинения воспринимались как самые авторитетные. Таковы два наиболее популярных сочинения в рукописной филологической литературе на Руси: трактат черноризца Храбра о создании славянской письменности «О писменах» (конец IX — начало X в.) и грамматическая статья «Осьмь честии слова» (первая треть XIV в.). Последняя служила руководством по грамматике и в петровскую эпоху. Трактат «О писменах» представлен более чем в 70 списках; его включали азбуковники XVI — XVII вв. и многие печатные буквари. Поздняя копия трактата найдена в рукописной учебной азбуке последней трети XIX в. [27].
Существенная особенность средневековой грамматической литературы состоит в том, что научная литература еще не отделилась от учебной. Важнейшие памятники, вобравшие в себя открытия и достижения филологической мысли своего времени, создавались как учебные книги. Это объединение в одном произведении научного исследования и учебника, характерное для ранних этапов развития науки, сохранялось еще в грамматиках Смотрицкого и Ломоносова.
Рукописная грамматическая литература Московской Руси посвящена церковнославянскому языку. Этот язык был продолжением старославянского языка — древнейшего литературного языка славян IX — XI вв., в котором под воздействием живой народной речи с XI в. складываются местные разновидности (редакции) — болгарская, сербская и русская. Церковнославянский язык был основным литературным языком русского средневековья. На Руси, как и во многих странах Европы и Азии, существовало типичное для феодальной эпохи двуязычие: в книжно-письменной культуре, образовании, религии был принят тот или иной классический неродной язык, а в повседневном обиходе, иногда в отдельных жанрах литературы использовались местные народные языки. Классическим языком православного славянства и был церковнославянский язык, или, как его называли до середины XVIII в., «славенский» («словенский»). Будучи по происхождению южнославянским (древнеболгарским), этот язык не мог быть усвоен восточным славянином так, как усваивается родной (материнский) язык — без специального обучения. Вместе с гем близость «славенского» и русского языков была значительно большей, чем близость других классических языков к народным языкам своего культурного круга (например, латыни к французскому, чешскому или немецкому; классического арабского к иракскому или узбекскому; вэньяня к японскому или корейскому). В сознании русских книжников «славенский» язык не был чужим; он воспринимался как торжественный, «высокий» стиль :воего языка. Поэтому литература на церковнославянском языке была органическим компонентом русской культуры XI — XVII вв. Грамматические статьи и руководства по церковнославянскому языку долгое время воспринимались как грамматики «своего» книжно-письменного языка и, таким образом, выполняли функции грамматик родного языка.
Знание «славенского» языка вырабатывалось путем многократного прочитывания и заучивания канонических текстов, в которых содержались основные религиозно-идеологические и одновременно языковые нормативы, — вначале Псалтыри и Часослова, затем Служебника, Апостола, Евангелия. Но для подготовки людей различных «книжных» профессий («спасателей» и «строителей» книг, «летописателей», «переводчиков», «справщиков», мастеров «печатного художества», наборщиков, «типоблюстителей», а также приказных людей — дьяков, подьячих и пр.) требовались специальные занятия и учебные пособия по грамматике.
Основным источником грамматических знаний на Руси до первых печатных грамматик служила статья «Осьмь честии слова» («Восемь частей речи»). Статья была составлена в Сербии на основе различных греческих грамматических сочинений. Ее первый московский список появился в 1414 г. Восемь частей речи, о которых трактует статья, — это имя, речь (т. е. глагол), причастие, различие (по аналогии с греческой грамматикой к различию были отнесены славянские указательные местоимения, сходные по своим функциям с греческим артиклем, который различал род имен), местоимение, предлог, наречие, союз. В ранних редакциях статьи характеризуются первые четыре части речи, в последующих добавлены описания остальных. После определения каждой части речи указываются ее основные грамматические категории: род, число, падение (падеж), время, изложение (наклонение), залог, лицо. В соответствии с перечисленными категориями систематизирован языковой материал: даны образцы склонения существительных трех родов (человек, жена, существо), примеры глагольных времен, наклонений, залогов, лиц, действительных и страдательных причастий и т. д. Однако в целом объем языкового материала, включенного в статью, невелик. Очевидно, ее назначение было не столько в том, чтобы учить склонять и спрягать, сколько в теоретическом осмыслении языка. Статья содержала целостную, достаточно общую и вместе с тем четкую картину грамматического устройства языка. Последующие грамматики не опровергали, а только уточняли и разъясняли этот общий чертеж.
Статья «Осьмь честии слова» замечательна тем, что впервые открывала славянскому читателю те абстрактные и обобщенные значения, которые содержатся в грамматических формах. О том, какими представлялись эти значения, как их удавалось формулировать, можно судить по нескольким определениям статьи. «Речь же есть честь слову непадающи, сказателна лицу и времени, действу же и страсти и обема вькупе, от коего лица деиствуеть се или страждеть и вь кое време» [96, 331]. (Перевод: «Глагол есть часть речи, неизменяемая по падежам, указывающая на лицо и время, различающая действительный (активный), страдательный (пассивный) и общий (активно-пассивный) характер действия в зависимости от того, кто действует и кто испытывает действие и в какое время».) Еще пример: «Есть же и другое изложение, еже зоветь се необавно, не бо можеть изъявити само о себе лица ли, времене, или залога, ниже иное кое последующих речи» [96, 332]. (Речь идет об инфинитиве, который в грамматиках до XIX в. трактовался как особое наклонение — неопределенное: «Есть и еще одно наклонение, которое называется неопределенным, потому что не может указать само о себе ни лица, ни времени, ни залога или другого подобного значения, присущего глаголу».)
Отдельные пассажи статьи носят обобщенно-философский характер. Таково начало статьи, где речь идет о «душе» и «плоти» в языке (т. е. об идеальном и материальном). Таково философское определение времени (восходящее к византийскому грамматисту Мануилу Мосхопулу), на основе которого объясняются глагольные времена: «Време же есть сьпротезаемо мира оставление, а немже всако мерит се движение, ли звездьь, ли живот, ли что таковых» [96, 333]. («Время есть протяженное составление (заполнение) мира, в котором измеряется всякое движение — звезд ли, животных или другого подобного».)
Теоретическая направленность статьи, ее внимание к грамматической семантике, компактность и логичность — все это объясняет, почему в древнерусской книжности статья имела значимость основополагающего языковедческого сочинения. Традиция связывала греческий первоисточник статьи с именем канонизированного церковью византийского богослова, философа, поэта Иоанна Да-маскина (ок. 650 — до 754). Отношение к статье как к его богословско-догматическому сочинению делало ее грамматическим каноном древнерусской книжности. Ссылка на статью служила непререкаемым доводом в споре.
О популярности статьи «Осьмь честии слова» говорят ее многочисленные списки и переработки в рукописных сборниках XV, XVI и XVII вв., бытовавших в Центральной, Восточной и Северной России. В настоящее время известно около 20 списков статьи, однако, по оценкам специалистов, в книгохранилищах их должны быть сотни [18, 50].
Очевидно влияние понятий и терминов статьи на восточнославянские последующие грамматические сочинения. «Осьмь честии слова» — один из бесспорных источников Букваря Ивана Федорова. В 1586 г. статья была подготовлена к изданию просветителями Острожского ученого кружка и напечатана в Вильне под заглавием «Кграматыка словеньска языка». В переработанных версиях статьи XV — XVII вв. делались определенные новые шаги на пути осмысления грамматического строя языка, совершенствовались также методы изложения. В ряде переработок, изданных И. В. Яги-чем [96], использовалось популярное в средневековой учебной литературе вопросо-ответное изложение материала, имитирующее школьный урок; в других — вводилась табличная запись; в третьих — расширялся иллюстративный материал, например изолированные слова заменялись глагольными словосочетаниями. С трактатом «Осьмь честии слова» связаны также небольшие морфологические статьи об отдельных частях речи или отдельных грамматических категориях: «А се сказание трием частей слова оставшим от осми частей слова», «Написание о падениях с тонкословием. Извитие словес от осмочастного разумениа». Термины и классификации «Осьмь честии слова» оказали влияние на трактовку морфологических тем в статьях, объединяющих фонетико-орфографическое и грамматическое содержание, таких, как «О грамотики инока Максима Грека святогорца обявлено на тонкосло-вие», «О множестве и о единстве», «Сила существу книжнаго писания», «Книга глаголемая буквы», и некоторых других [96, 601 — 605, 719 — 743].
Как указывалось, трактат «Осьмь честии слова» связан с греко-византийской грамматической литературой. Обращение к греческим книжно-письменным традициям отвечало ведущей культурно-идеологической ориентации средневековой Руси. Вместе с тем в XVI в. в результате расширения торговых и политических связей Руси с Западной и Средней Европой в русской книжности становятся известны новые грамматические источники — латинские. В частности, с латинскими учебниками грамматики связан «Донат» Дмитрия Герасимова (1522). Это перевод одной из латинских грамматик, восходящих к знаменитой римской грамматике Элия Доната (середина IV в. н. э ). В средневековой Европе грамматика Доната и ее переработки были исключительно популярны, так что само имя Донат стало нарицательным обозначением любого учебника латинского языка. Дмитрий Герасимов (Толмач) (60-е гг. XV в. — 30 — 40-е гг. XVI в.) был известным книжником, близким к ученому кругу митрополита Макария, одним из русских помощников Максима Грека при исправлении переводов Псалтыри толковой. Он принимал деятельное участие в создании Генна-диевской Библии (1499), перевел Псалтырь толковую Брунона и ряд филологических рассуждений. Герасимов известен также как крупный дипломат (участник посольств в Швецию, Данию, Пруссию, Вену, посол Василия III в Риме). «Русский Эразмиус», «веселый и остроумный посол Дмитрий» — тако нем говорили в Риме,
Грамматику Доната (ее сокращенную версию «Ars minor») Герасимов перевел, как он сам указывает в предисловии, «себе для памяти, насколько понял ее, пребывая в училище и учась двум грамотам и двум языкам, латинскому и немецкому» [96, 820]. Подлинник перевода не сохранился, грамматика известна в двух списках. Из них древнейший — Казанский список — датирован 1562 — 1563 гг. Анализ предисловий, послесловия и языкового материала грамматики привел И. В. Ягича к предположению, что в подлиннике «Донат» Герасимова представлял собой латинскую грамматику для русских, но позднейшие переписчики заменили большую часть латинских форм славянскими переводами. В результате все разделения имен и глаголов по типам склонения и спряжения оказались не адекватны ни латинскому, ни славянскому языку. Однако и в таком виде русский «Донат» оставался важным источником грамматических сведений. Он содержал определения и характеристики восьми частей речи, а также их основных категорий и систематизировал грамматические формы по значению. Сам факт использования перевода учебника латинского языка в качестве пособия по славянской грамматике не представлял собой исключительного случая. Напротив, большинство первых грамматик новых европейских языков (XVI в.) именно так и составлялось — как точные копии латинских грамматик. Считалось, что грамматическое устройство разных языков в принципе одинаково, и задачи грамматики виделись в том, чтобы «открыть» в своем языке все те значения, которые имелись в латыни. Этот универсализм средневекового грамматического мышления приводил к тому, что ранние европейские грамматики включали некоторые «фиктивные» категории — не существовавшие реально в описываемых языках разновидности наклонений, времен, герундии или артикли. В то же время грамматические категории, отсутствовавшие в латыни или греческом, далеко не сразу были увидены в родном языке.
В сравнении с трактатом «Осьмь честии слова» «Донат» Герасимова был очень подробной грамматикой. Так, если в первом имена различались только в зависимости от рода и от принадлежности к собственным или нарицательным, то в «Донате» добавлено разделение имени на сущее и прикладное (т. е. на существительное и прилагательное) и указаны три степени сравнения прилагательных; трактат «Осьмь честии слова» ограничивается тремя образцами именного склонения, в «Донате» же их семь; где трактат иллюстрирует глагольное время или наклонение одной-двумя формами, там «Донат» стремится показать всю парадигму глагола и т. д.
О характере основной терминологии Дм. Герасимова можно судить по пространному заглавию грамматики (после предисловия): «Книга глаголемая Донатус меншей, в ней же беседует о осми частех вешаниа, сиреч о имени, о проимении (местоимение), о слове (глагол), о предлозе слова (наречие), о причастии слова и имени, о союзе, о представлении (предлог) и о различии, еяже учат ученицы новоначалнии после азбуки» [96, 821]. При различии в лексической оболочке ряда терминов содержание определений в «Донате» и в «Осьмь честии слова» в целом совпадает. Ср. определение глагола в «Донате»: «Вопрос. Слово что есть? Ответ. Часть вещаниа с временем и лицем, без падения, или деяти нечто, или страдати и еже есть терпети, или обое знаменуя» [96, 839].
Среди восточнославянских грамматических сочинений XV — XVII вв. (включая печатные грамматики) «Донат» Герасимова выделяется своей активной лингводидактической направленностью. Это сказалось и на характере изложения лингвистического материала, и в рассуждениях автора предисловия о том, как надо учить языку. Вся грамматика написана в форме диалога учителя и ученика; обучающие задачи диалога подчеркнуты в начале грамматики: «...поставлены вопросы аки в лице учителево и отвещаниа аки в лице учени-че» [96, 821]. Текст грамматики разделен на «беседы» по числу частей речи. В конце каждого раздела резюмируется его содержание. Здесь же перед началом новой «беседы» указывается ее тема, дается предварительное определение предмета, перечисляются основные термины. Ср. (в переводе): «Здесь учитель побеседовал вкратце о первой части речи, то есть об имени; указал роды, числа, виды и падежи и показал их примеры. Здесь же предлагает беседу в вопросах и ответах о второй части речи, то есть о местоимении, которое полагается вместо имени. И также указывает, какие категории в наибольшей мере присущи местоимению. Это шесть таких основных категорий: первая качество, вторая род, третья число, четвертая образ, пятая персона, то есть лицо, шестая падеж и другие, которые им присущи» [96, 835]. Эти черты учительского изложения материала — повторения, предварительные введения в тему, подчеркивание главного, — несомненно, отражают опыт школьных уроков грамматики.
Переводчик «Доната» постоянно заботится о том, чтобы облегчить читателю усвоение терминологии: он раскрывает мотивацию наименований («предлог слова... занеже сиа часть прилагается к слову»); поясняет термины с помощью синонимов или аналогов («образы сиречь подобники»; «согласие сиречь уклонение»); приводит параллельные термины из «Осьмь честии слова».
Лингводидактические принципы Герасимова выражены в предисловии к «Донату». Его наставления учителю содержат ценные сведения о том, как шло обучение грамматике на Руси в средние века. Оно начиналось учением о восьми частях речи, первой из них было имя. При вытверживании склонений требовалось знать на память не только словоформы, но и перечень окончаний («слова азбучные кончалные»). Затем изучались все части речи по обычному порядку их изложения в грамматике; далее Герасимов называет синтаксис и «просодию» (под которой понималось учение о стихотворных размерах).
Дмитрий Герасимов особо подчеркивает необходимость постепенного введения грамматического материала и в посильных для ученика дозах: как мать младенца питает «от сосцу млеком, а не жестокими брашны» (а не грубой пищей), поскольку у него нет еще зубов, так и учитель учеников не мудрое и сложнейшее вопрошает, испытывая их, но легкое и простое [96, 817]. Все вопросы к ученикам должны предваряться объяснением учителя; прежде чем заучивать падежные окончания, ученики должны увидеть образцы склонения; грамматический разбор следует вести в строго определенном порядке и т. д.
«Донат» Герасимова принадлежит к заметным явлениям древнерусской грамматической традиции. Не случайно памятник переписывался через 40 с лишним лет после создания. К славянским переводам «Доната» восходит ряд рукописных памятников XVI — XVII вв., опубликованных также И. В. Яги-чем в «Рассуждениях»: «Книга глаголемая грамматикиа меншая», представляющая собой сокращенное изложение «Доната» с несколько измененным порядком следования частей речи (под влиянием канона «Осьмь честии слова»); грамматическая статья, в заглавии которой значится: «И по сем ино учение предлагает учитель и показует, в кое время и от какова ученика чести се имеют» (это образцы склонений и спряжений по вопросам и ответам); «Книга глаголемая простословиа, некнижное учение грамоте, избрана некоторою безнадежною сиротою, скитающейся без покоя Евдокимищем препростым». «Простословие» старца Евдокима (конец XVI в.) содержит две части — фонетико-орфографическую и грамматическую; последняя целиком восходит к «Донату», однако есть небольшие поправки в соответствии с грекославянской грамматической традицией (например, числа недва, а три, как в «Осьмь честии слова»).
В рукописной учебной литературе языковедческого содержания наиболее многочисленны и разнообразны по темам, жанрам, объему, по композиции фонетико-орфографические сочинения. Среди них есть рассуждения и таблицы, разговоры учителя с учеником и словарики, перечни слов и букв столбцом и по кругу. Одни из них адресованы самому широкому читателю, как, например, популярнейшее в течение многих столетий сказание Храбра о начале славянской письменности. Другие, более специальные, создавались для обучения писцов в древнерусских скрипториях (характерны обращения в текстах таких руководств: «вонми о сем, о писарю»; «смотри прилежно, о калиграфе»; «блюди, писателю, прилежно»; «зри, о ортографе»). Среди памятников фонетико-орфографического содержания есть трактаты, где обсуждается строение и богословская символика всех букв по порядку; есть классификации звуков и слогов; систематизации надстрочных знаков и знаков препинания; сопоставления греческой и славянской азбук, славянской и пермской; орфографические рекомендации; алфавитные списки трудных для написания слов; систематизации букв по грамматическим признакам; образцы тайнописи («риторская азбука», «литорейский язык»); рассуждения о пользе грамотности и трудностях учения; трактаты, объединяющие фонетико-орфографическое и морфологическое содержание В ряде сочинений сведения о графике включались в более общее содержание — историческое, философское, богословское. Возможность такого совмещения говорит о высокой социальной значимости тем и сюжетов, в своей основе филологических.
В порядке иллюстрации рассмотрим диалогизированное сочинение — статью «Ин превод» и фрагмент «Повесть собравшего сия буквы», примыкающий к нему в некоторых сборниках [96, 696 — 700]. Основная тема — славянская азбука и ее отличия от греческой — раскрывается с привлечением сведений по истории славян. Представления автора о единстве и различии славян, о трех группах славянских племен поразительно верны для своего времени: «...порознилися не многим Москва, Понизвое, Вятчане, Перьмичи, Белоозеряне, Великий Новград, Псков севера, Литовьская Русь, Подолия, Волыня. А другая часть словяне Серьби, Болгары, Волоси. А третьяя часть Чахове, Гусарове, Мозовляне, Подгоряне, Подоляне, Меделяне и инии мнози во всех частех...» [96, 699]. Рассуждая, почему в славянской азбуке больше букв, чем в гре- 1
1 Наиболее полный свод рассматриваемых памятников издан И. В. Ягичем [96]. Сведения о рукописной учебной литературе языковедческого содержания см. также: [24; 69j.
ческой, автор связывает это с разнообразием славянских языков: некоторые буквы нужны для русских (например, Ъ — «ять»), другие — для поляков (при этом автор проницательно указывает на «гугнивый», т. е. носовой, характер звука, обозначавшегося в древности буквой Ж — «юс большой», и на носовые звуки именно в польском — единственном из славянских языков, сохранившем носовые гласные: «а сие ради поляцТК, а глаголется гугниво»), третьи — «ради болгар и русиа и поляц», четвертые — «ради всех словян». Автор подчеркивает особую ценность славянского письма в качестве «скрепы» расходящихся славянских народов.
Далее в статье объясняются некоторые надстрочные знаки, а также знаки, которые использовались для заметок на полях рукописей. Затем в статье приводится иерархическая система единиц текста, с трудом, правда, соотносимая с современными терминами, но замечательная по своему стремлению открыть связь элемента текста и целого: «Вопрос. На колико разделении разделения разделяется писания? Ответ. На седмеро: буква, гнездо, строка, страница, лист, тетрать, книга. Вопрос. Колико исполнения в книгах совершаются? Ответ. Шесть: книга, разделение, предлог, слово, главизна, стих» [96, 698]. Заканчивается статья торжественными словами о значении письма, дающего «мудрость, еяже невозможно ничимже искупити» (т. е. мудрость, которая ценнее всего, что можно купить) [там же].
Главное правило древнерусской орфографии касалось употребления титла В своих истоках это правило несомненно связано с верой в магическую силу письменных знаков: под титлом писались в основном «святые» для религиозного сознания слова. Например, в рассуждении «О множестве и о единстве» говорится: «Святость... подобает... писати с разумомь и почитати взметом или покрытием яко венцом славы во образ будущаго воздаания святым» [96, 721]. Отсутствие титла превращало слово в антоним: в статье «Алфавит, како которая речь говорити или писати» сказано, что слова ангел, апостол, архиепископ, написанные просто, означают ангела илн апостола «сопротивника» (т. е. сатаны); такие слова «отнюдь не покрывай, но складом пиши, понеже вражебно божеству и человеческому естеству» (23, 198]. Далее в статье перечислены по алфавиту те слова, которые следует писать под титлом. Ср. аналогичные противопоставления в трактате «Сила существу книжнаго писания»; «црь блгочестивый», но щарь нечестивый»-, «бгь», но «бозы идольстии» (боги идольские, т. е. языческие); тррцы бжии», но тророцы лживыя» [96, 726].
В ряде орфографических руководств делались попытки разграничить употребление славянских букв с одинаковым или близким звуковым содержанием — О и (1), У и V , А и Я, Ы и И, Ъ и Ь. Так, в статье «О множестве и о единстве» эти правила основаны на противопоставлении форм единственного и множественного числа. Во мн. ч. предлагалось писать букву со, а в ед. ч. — 0: «Множество же пиши во всем с троерожным оном... а единственное пиши он круглой» («он» — славянское название буквы 0): ангел-лымъ (дат. п. мн. ч.) — ангеломь (тв. п. ед. ч.); во мн. ч. Я — в ед. А (ангельскыя — ангельскаа) и т. д. Однако многие подобные рекомендации были искусственны и не отражали действительных орфографических традиций древнерусской письменности (в отличие от правил о титле).
Во многих случаях древнерусские книжники еще не могли сформулировать 1
1 Титло (или покрытие, взмет) — надстрочный знак старинной письменности, который указывал на сокращенное написание стоящего под ним слова, например: ЧЛКЪ — ЧЕЛОВЕКЪ, ОЧЕ-ОТЬЧЕ.
орфографические нормы в виде обобщающих правил. Вместо правил приводились перечни (обычно алфавитные) трудных написаний и предостережения от неверных написаний (на примерах): «Беззаконие пиши с двема землями» (т. е. с двумя буквами 3; «земля» — название буквы); «Рождение и разсуж-дение пиШи с добром... разрешение пиши без добра» («добро» — название буквы Д). Различение сходных букв иногда показывалось также на примерах (но не обобщалось в форме правила): перечислялись слова, начинающиеся на И, затем на I, потом на у («ижица»).
Рассуждения древнерусских книжников о назначении различных надстрочных знаков ударения отражают прежде всего их знакомство с соответствующими греческими трактатами, но с характером русского ударения эти рассуждения связаны слабо. Однако эти статьи важны не только для понимания древнерусской филологической традиции, но и для характеристики содержания обучения людей, профессионально связанных с письмом и книгой. В статьях об ударении обнаруживается огромный интерес старинной филологии к омонимии: статьи содержат сотни пар и серий слов и форм, в различении которых участвует ударение. Ср.: горы их (им. п. ми. ч.) — горы моеа (род. п. ед. ч.), водйте (повелительное наклонение) — водите (изъявительное наклонение), по мдщы идох — помощи прося — помощи иному хощу («Книга глаголемая буквы, иже в начале от грамматики о просодиях, о еже како во святых книгах каяждо пословица писати и глаголати» [96, 738 — 739]). Так фонетико-орфографическая проблематика старинных трактатов перерастала в лексикологические и грамматические наблюдения.
В целом тематическое и жанровое разнообразие древнерусской рукописной грамматической литературы, характер ее распространения и взаимоотношений с другими формами общественного сознания свидетельствуют о высоком авторитете филологической деятельности и филологического знания в русской средневековой культуре. Содержание филологического образования различных групп населения, в том числе подготовки профессионалов-книжников, охватывало в совокупности все основные аспекты филологической практики древнерусского общества. По своим направлениям филологическое знание Древней Руси сопоставимо с филологическим образованием в новое время, а по социальному престижу превосходит его.
«Грамматика» Мелетия Смотрицкого
Выдающуюся роль в истории просвещения восточно-славянских народов сыграла «Грамматика» Мелетия Смотрицкого [15]. Это была третья печатная восточнославянская грамматика после греко-церковнославянской грамматики «Адельфотис. Грамматика доброглаголиваго еллино-славенскаго языка» (Львов, 1591) и церковнославянской «Грамматики словенской» Лаврентия Зизания (Вильна, 1596). Восточнославянские грамматики XVI — XVII вв. создавались в целях филологической защиты церковнославянского языка (основного литературного языка восточных и православных южных славян до XVIII в.) путем его охранительной нормализации, создания учебных книг по церковнославянскому языку, расширения его преподавания.
В восточнославянской книжности XVI — XVII вв. грамматика была достаточно новым жанром. В предшествующие века на Руси знали один путь обучения церковнославянскому языку — путь многократного прочитывания и выучивания важнейших канонических и богослужебных текстов. Заученные тексты служили образцами при создании новых текстов на церковнославянском языке. Такой текстовой путь обучения соответствовал закрытому, традиционному типу культур феодальной эпохи.
Новизна грамматики как учебной книги состоит в том, что она содержит правила построения любых текстов на данном языке, в том числе значительно отличающихся от образцовых. Такой аналитический путь обучения языку соответствует культурам нового времени, в большей мере открытым и динамичным. О новизне грамматики как учебной книги, о сложности процесса включения грамматик в сложившуюся традицию говорят связанные с грамматиками богословско-филологические споры. Грамматики латинского и греческого языков, которые во второй половине XVI в. стали появляться в белорусских и украинских коллегиях и братских школах, были враждебно встречены консервативной православной книжностью как проявление «суетной», «внешней мудрости», своим язычеством и «латинством» опасной для истинного благочестия. Видный украинский публицист афонский монах Иван Вишенский, выступая против грамматики, доказывал, что она нужна только латинскому и греческому языкам, и видел особое достоинство церковнославянского языка в том, что обучение ему не требует грамматики: «Словенский язык... плодоноснейший от всех языков и богу любимший: понеж без поганс-ких хитростей и руководств, се ж ест кграматик, рыторык, диалектик и прочих коварств тщеславных, диавола въМестных, простым прилежным питанием, без всякого ухищрения, к богу приводит, простоту и смирение будует и духа святого подемлет» [21, 23]. О себе Вишенский с гордостью и вызовом пишет, что «грамматичкого дробязку не изучих, риторичное игрушки не видах, философского высокомечтателного ни слыхах» [21, 10] . Позже это отталкивание от наук, и в том числе от грамматики, как от «еллинских борзостей», защита «простого прилежного питания» будут повторяться в Московской Руси консервативно настроенными книжниками и особенно раскольниками. Показателен в этом отношении трактат «Учитися ли нам полезнее грамматике, риторики, философии и феологии и стихотворному художеству и оттуду познавати божественная писания, или не учася сим хит-ростем, в простоте богу угождати и от чтения разум святых писаний познавати...» (см. разд. I, гл. III. 3).
С новизной грамматики как филологического жанра связана и противоположная крайность: грамматике приписывалось священное и богословское значение. Максим Грек был одним из тех, кто в XVI в. первым знакомил русских книжников с «грамматическим искусством». В трактате о пользе грамматики он указывает на ее значение для философии, богословия и всех семи свободных искусств европейского средневековья: «Грамматика есть начало и конец всякому любомудрию», «вождь к боговидному смотрению и предивному и неприступному богословию», «мати и порода всем свободным хитростей» [96, 621 — 623]. В рассуждении «Похвальная словеса сея блаженныя и святыя книги грамматики...» персонифицированная грамматика так очерчивает границы своих владений: «И кто что пишет, или книжная писмена устраяет, или стихи соплетает, или повести изъявляет, или послания посылает, или что таковых составляет, то все мною грамматикою снискает, понеже на времена развожю и на числа разочту, и на лица разскажу, и на падения уклоню, и на супружьства сведу, степени раз-сужю и роды разберу, и вся в писменах прочая устроения удобно и разумно со всеми просодиями и с точками, и з запинками статно и внятно учиню» [96, 616]. Панегирический тон и религиозное воодушевление
таких рассуждений были необходимы для принятия грамматики в православной книжности. Однако с течением времен обе крайности в оценках грамматики преодолеваются. Так, отношение Смотрицкого к грамматике (отразившееся в предисловии «Учителем школным автор») было далеким от приписывания грамматике священных и богословских функций. Не случайно московские издатели заменили это скромное напутствие пространными и эмфатическими рассуждениями «о пользе сея блаженныя и святыя книги грамматики» (в предисловии и послесловии). Вместе с тем во второй половине XVII в. в Москве распространяются сочинения, в которых достоинства грамматики не связываются с богословием, подчеркивается ее светское и общеобразовательное значение. Таковы просветительские трактаты Николая Спафария.
Некоторые существенные черты «Грамматики» Смотрицкого могут быть показаны при ее сравнении с первыми грамматиками новых (народных) языков Европы. Почти все они написаны на латыни (исключая некоторые чешские грамматики), «Грамматика» Смотрицкого — на традиционном книжном языке восточных славян — церковнославянском («славенском»). В то время как авторы грамматик новых европейских языков использовали давно сложившуюся латинскую терминологию, Смотрицкий был в значительной степени создателем «славенской» грамматической терминологии. Многие термины, известные по предшествующей церковнославянской грамматической литературе, получили в «Грамматике» Смотрицкого видоизмененную оболочку и именно в таком виде вошли в последующую литературу (ср.: у Смотрицкого «имя нарицаемое» — в настоящее время «нарицательное», «прилагаемое» — «прилагательное», «именовный» — «именительный», «местоимя» — «местоимение» и др.). Другие термины «Грамматика» Смотрицкого передала традиции без изменений (имя, род, число, причастие, залог и др.). Значительная часть терминов была создана Смотрицким: числительное, деепричастие, междометие, сослагательное (наклонение), личный и безличный (глагол) и многие другие. Терминология на церковнославянской основе способствовала органическому вхождению грамматического знания в книжно-письменную культуру восточного славянства. В дальнейшем эта терминология оказала значительное влияние на терминологию новых литературных славянских языков.
Латиноязычные грамматики новых языков не только в содержании, но и в самом способе изложения неотделимы от грамматик латинского языка. Они писались для читателя, который знает латинскую грамматику и знаком с содержанием грамматических категорий. Задачи грамматики по сути сводились к выявлению категорий, которые были известны из латыни и считались необходимыми в каждом языке. Определения и характеристики, общие для латыни и описываемого языка, не включались в грамматику или сводились к замечаниям: «как в латыни».
«Грамматика» Смотрицкого также опиралась на европейскую грамматическую традицию, в том числе на достижения конкретных грамматик греческого и латинского языков. Однако по способу изложения она была независима от них. Она писалась для читателя, который не знает другого письменного языка и другой грамматики. Поэтому такая грамматика была не только описанием церковнославянского языка, но и книгой по теории грамматики. Она начиналась характеристикой предмета грамматики, ее строения, задач отдельных разделов, стремилась определить все исходные понятия и раскрыть содержание грамматических категорий. Труд Смотрицкого как учебник церковнославянского языка и в содержательном и в терминологическом отношении автономен и самодостаточен.
«Грамматика» Смотрицкого — замечательное явление в отечественной филологии. Она вобрала в себя важнейшие достижения европейской грамматической мысли и вместе с тем сохранила ощутимые связи с семисотлетней филологической традицией православного славянства. Смелая по мысли, полная лингвистических открытий, внимательная и систематичная в описании языка, лаконичная и строгая по стилю изложения, грамматика имела выдающееся научное и образовательное значение. Ее влияние на грамматики церковнославянского и русского языков сохранялось весь XVIII век. М. В. Ломоносов, знавший «Грамматику» Смотрицкого на память, называл ее «вратами» своей учености.
Анализ труда Смотрицкого позволяет охарактеризовать содержание обучения литературному языку у восточных славян в XVII в. Построение грамматики традиционно для европейских грамматик XVI — XVII вв. В ней четыре основных раздела: орфография, этимология (т. е. морфология), синтаксис и просодия (под которой здесь понимается метрика). Орфография содержит классификацию звуков (в старинной терминологии писмен, при этом звук и буква еще не различались), правила орфографии, сведения о слогах, учение об ударении (включая правила употребления надстрочных знаков греческого ударения, механически примененные к славянскому материалу), правила употребления знаков препинания. Орфографические правила Смотрицкого также регламентируют употребление заглавных букв, учат записи слов под титлом, предупреждают против смешения Е и 1», А и А, Ф и ХВ, 1Ц и СЧ и т. д., определяют условия написания двойного Н.
Морфологический раздел грамматики (этимология) является основным и самым полным. По многовековой традиции европейских грамматик, частей речи — восемь, однако греко-славянское «различие» (артикль) Смотриц-кий заменяет по образцу латинских грамматик междометием (в московском издании 1648 г. было восстановлено ортодоксальное «различие»). На фундаменте традиционного учения о частях речи и их категориях Смотрицкий строит детальное описание грамматики церковнославянского языка, привлекая при этом разнообразный языковой материал, стремясь до конца выявить не только формальные языковые особенности, но и содержание форм. Отдельные морфологические подсистемы описаны исчерпывающим образом, например именное и местоименное склонение, наречие. Достаточно сказать, что Смотрицкий выделяет шесть десятков разновидностей склонения имени — . с учетом характера окончаний, основ, звуковых чередований, наличия исключений и вариантов. Те главные пять типов склонения, который указал Смотрицкий, без изменений перешли в «Российскую грамматику» М. В. Ломоносова. Столь же внимателен и подробен Смотрицкий в описании механизмов морфологии. Например, он замечает такие специфические славянские явления, как беглые гласные; появление звука Н в припредложных формах личных местоимений («дать ему», но «пойти к нему»); различные усечения, сокращения или, напротив, распространение основ при словоизменении; чередования согласных и др. Во многих случаях им учтены практически все языковые явления, сопровождающие и осложняющие образование форм.
Смотрицкий полнее и глубже, чем предшественники, раскрывает и объясняет план содержания грамматических категорий. Например, Лаврентий Зизаний, говоря о степенях сравнения прилагательных («разсуждение»), ограничивается одним определением понятия: «Разсуждение есть различие имени прилагаемого чрез степени» — и далее перечисляет три степени. Смотрицкий же видит глубже и после определения уточняет, «как имена уравняются» (т. е. изменяются по степеням сравнения): «Имена прилагательная иже знамено-вание расти или малети может, яко острый, острший, острейший...» Некоторые категории славянской грамматики впервые увидел именно Смотрицкий.
Синтаксис, составивший третью часть грамматики, впервые в восточнославянской традиции появляется также у Смотрицкого. Синтаксис построен как обзор грамматической сочетаемости каждой части речи. Автор учит наблюдать смысловую общность сходных конструкций, видеть лексическую многозначность, понимать различия синонимических оборотов. По сравнению с другими разделами в синтаксисе больше стилистических рекомендаций и межъязыковых сопоставлений. Раздел «Образный синтаксис» систематизировал некоторые синтаксические фигуры, связанные с организацией предложения и таким образом дополнял простой синтаксис, где речь шла преимущественно о словосочетании. В небольшом разделе «О чине грамматичесте» сформулированы правила порядка слов.
Четвертая часть грамматики — «О просодии стихотворной» — содержала основные понятия метрики (учения о стихотворных размерах). Как известно, особенности стихотворной речи не могут быть поняты без элементарных языковедческих понятий о явлениях просодии (ударение, длительность звука, слог), поэтому еще римские грамматисты в одном сочинении рассматривали звуки, слоги и размеры, словоизменение и рифму.
В средневековой греко-славянской книжности в способности писать стихи виделась не столько одаренность, сколько филологическая выучка. Максим Грек в наставлении «О пришельцах философех» специально перевел дважды (гекзаметром и пентаметром) греческий стих в качестве своего рода теста и советовал проверять образованность «пришельцев» умением писать стихи и определять размер. Таким образом, умение «творить мерою» было предметом обучения, причем завершающим грамматический класс. В восточнославянской традиции до Смотрицкого раздел о метрике включала Грамматика Лаврентия Зизания; в «Адельфотисе» просодия ограничивалась систематизацией ударения.
Отношение стихотворной теории Смотрицкого к поэтической и филологической практике восточных славян достаточно парадоксально. Смотриц-кий следует греческой метрике, которая, как известно, основана на различении слогов по длительности («количеству»), что зависело от долготы или краткости слогообразующего гласного и не зависело от ударения (которое в греческом языке было тоническим): долгими, как и краткими могли быть любые слоги — ударные и безударные. Перенеся греческую классификацию гласных на славянский материал, Смотрицкий выделяет гласные долгие (И, Ь, ы ), краткие (Е, О) и двоевременные (А, 1, «ижица»). Так получена основа для различения слогов по «количеству» и для систематизации стихотворных размеров (в терминологии Смотрицкого — степени стихотворных мер). Парадоксальность включения такой стихотворной системы в церковнославянскую грамматику состояла в том, что на практике — в книжно-письменной культуре восточного славянства — ничего подобного не было. В современной Смотрицкому Юго-Западной и Западной Руси процветала силлабическая поэзия, прекрасно ему известная. Далека была метрическая система Смотрицкого и от древней церковнославянской гимнографии (с преобладанием вольного несиллабического стиха, основанного на смысловой целостности стихотворной строки и синтаксическом параллелизме строк и строф). Таким образом, теория версификации Смотрицкого исходила из ложных для церковнославяского языка фонетических предпосылок и была далека от стихотворной практики восточных славян. Что касается выстроенной для церковнославянского языка версификационной системы, то Смотрицкий, очевидно, видел ее практическую неподкрепленность. Не случайно он не может указать на надежные прецеденты метрического славянского стиха.
И все же есть основания утверждать, что «Просодия стихотворная» Смотрицкого сыграла важную роль в развитии восточнославянской стихотворной культуры и филологического просвещения. Сам факт включения в грамматику версификационной системы, тождественной греческому метрическому стихосложению, вызван стремлением дать восточнославянской школе все то, чему полагается быть в хорошей грамматике классического языка. Сама идея Смотрицкого найти славянские аналоги античному стиху, как и теоретические модели таких аналогов, позже была реализована в русском стихосложении. Однако понадобилось более века, чтобы Тредиаковский увидел: «...чрез долгий слог в российском стихотворстве разумеется тот, на который просодия, или, как говорят, сила ударяет» [84] . Первые русские переложения античных метров появляются только в середине XVIII в.
Огромное образовательное значение «Просодии стихотворной» Смотрицкого в том, что он впервые ввел в восточнославянскую книжно-письменную культуру целостную систему понятий и терминов стихосложения. Те несколько разрозненных стиховедческих терминов, которые были прежде известны нашим книжникам (мера, т. е. стих; нога, т. е. размер; мера ироиская, елеги-иская, иамвическая и некоторые другие), у Смотрицкого получают определения, раскрывается иерархия понятий. Смотрицкий первым в восточнославянской книжности учит определять размер и графически изображать стопу так, как это делается до сих пор.
В целом «Просодия стихотворная» Смотрицкого представляет собой первый в восточнославянской культуре опыт учебного руководства по метрике и, таким образом, может рассматриваться как один из ранних памятников отечественной теории литературы.
При всей содержательности и исследовательской углубленности в предмет «Грамматика» Смотрицкого имела учебную направленность. Это отразилось в ее структурно-композиционных особенностях, в способах сообщения лингвистической информации. Черты учебной книги, проступающие в «Грамматике» Смотрицкого, могут служить одним из источников наших представлений об обучении книжно-письменному языку в восточнославянской культуре XVII в.
Как и все старинные учебные книги, «Грамматика» Смотрицкого написана исключительно сжато. В силу классифицирующей направленности ранних грамматик они не представляли собой связного, плавного текста. Грамматики напоминали, скорее, перевод табличной записи или классификационной схемы в ее словесное прочтение, когда наполнение рубрик отчетливо, а принципы рубрикации и характеристики рубрик не обязательно формулируются. Сжатость, свернутость изложения материала в старинной грамматике связана также с особенностями обучения, которое в большей степени основывалось на устной традиции и запоминании.
Для грамматики Смотрицкого известную сложность представлял вопрос о степени понятности ученикам того языка, на котором грамматика написана, — церковнославянского. Учительский опыт Смотрицкого (в Виленской и Киевской братских школах, в Острожской «триязычной» академии) подсказывал ему необходимость перевода отдельных «трудных» церковнославянских слов и фраз на народный литературный язык Украины и Белоруссии XVI в. (так называемая «проста (руска) мова»). Больше всего таких пере- 1
1 Ср. также формулу М. В. Ломоносова: «В российском языке те только слоги долги, над которыми стоит сила» [42, 10].
водов в синтаксисе. Говоря о происхождении некоторых церковнославянских конструкций, Смотрицкий приводит их греческий прототип и церковнославянское соответствие, которое толкует на «простой мове». С помощью перифраз на «простой мове» поясняются значения многих глагольных форм (например, церковнославянское «да прочту» переводится «абым прочитал напотом»). Вместе с тем и в отношении переводов учебник Смотрицкого очень экономен. Непосредственно в школах «проста мова» использовалась значительно шире, чем в учебнике. По-видимому, переводились все объяснения учителя. В предисловии к «Грамматике» Смотрицкий рекомендует именно так учить церковнославянскому языку. Эта скупость Смотрицкого в толкованиях на «простой мове» связана, по-видимому, с тем, что его учебник не был вполне элементарным (например, таким, как «Грамматика» Зизания). Судя по предисловию «Учителем школным автор», «Грамматика» Смотрицкого адресовалась скорее учителю, чем ученику. Не случайно, что в отличие от Зизания Смотрицкий почти отказывается от диалогической формы изложения (исключение — текст на первом листе грамматики). Зато в его грамматике использованы разнообразные средства, раскрывающие логику в последовательности изложения материала. Грамматика очень отчетлива по структуре, которая задана классификацией частей речи и их категорий. Ориентироваться в тексте «Грамматики» помогают многочисленные заглавия отдельных «порций» содержания: «О виде», «О начертании», «О числе» и т. п. Такие заглавия, как «Правило», «Увещение», «Вынятие», «Изятие» и т. п., говорили читателю о различной степени важности следующего за ними высказывания или характеристики и, таким образом, устанавливали иерархию правил. «Правила», «Вынятия» и т. д. нумеровались. Продуманная композиция наборного листа (перечни слов в виде столбцов, короткие абзацы, шрифтовое разнообразие и т. п.) способствовала четкости в подаче информации. В целом все эти средства делали учебник Смотрицкого удобным справочником по церковнославянскому языку.
Для характеристики «Грамматики» Смотрицкого в качестве учебной книги существенны также некоторые специальные лингводидактические приемы и подходы. Так, классифицируя наречия, он первым использует постановку вопросительного слова в качестве показателя принадлежности слова к тому или иному разряду — в дальнейшем излюбленный прием школьного грамматического разбора. Он предлагает различать залоги с учетом различий в допустимых трансформациях залоговых форм: присоединение частицы «ся» к форме действительного залога превращает ее в форму страдательного залога (клену — кленуся), средний же залог в этом случае «знаменование губит: ...от лежу не идет лежуся». Некоторые из предложенных Смотрицким экспериментальных проверок основаны на различиях в сочетаемости форм.
Таким образом, сопоставление грамматики Смотрицкого с современными ей описаниями новых европейских языков, анализ ее содержания, характеристика ее лингводидактических принципов свидетельствуют, что она представляет собой выдающийся памятник науки и просвещения восточного славянства.
Риторика как учение о речи и русские учебные рукописные риторики
При рассмотрении предмета риторики в XVII в. приходится отвлечься от ряда представлений, внесенных в современное сознание более поздней культурой.
Двойственная природа речи в смысле ее возможности быть орудием борь-
бы за истину («язык — стяг, дружины водит», «хорошее слово — половина счастья») и орудием обмана («язык мой — враг мой», «все беды человека — от его языка») отражена в исторически двойственной оценке риторики как науки. Уже в античности искусство речи нередко оценивается отрицательно: риторы вместо истины больше предпочитают правдоподобие, «силою своего слова они заставляют малое казаться большим, а большое — малым... по любому поводу у них наготове то сжатые, то беспредельно пространные речи» [67, 206 — 207]. Но именно потому и следует обучаться риторике, чтобы «уметь опровергнуть, если кто-либо пользуется доказательствами несогласно с истиной» [3, 18], и чтобы речь служила благим целям.
До XVII в. мы не имеем риторических теорий ведения и построения речи на каком-либо восточнославянском языке. Только в конце XVI — начале XVII в. риторика вступает в свои права прежде всего на Украине, а затем и в России. Вопрос о времени появления рукописных риторических руководств на Украине, видимо, необходимо связать с появлением украинских братских школ.
Наиболее ранние списки «Риторики» на русском языке датируются 1620-м годом. Анализ состава рукописей, в которые входит «Риторика», показывает, что сопровождает ее «Диалектика» Иоанна Дамаскина, грамматические сочинения, азбуковники, «Лаодикийское послание» Федора Курицына и сочинение «О силлогизме» Ионы Спанинбергера в переводе Андрея Курбского. Учебный характер произведений, сопутствующих в сборниках риторике, приводит к выводу, что она изучалась вместе с грамматикой, диалектикой и другими сочинениями гуманитарного цикла как школьная дисциплина.
Для истории образования представляется интересным изучение одной из редакций «Риторики», написанной в 1622 г. неким учителем, который создавал новую редакцию в присутствии нескольких учеников-писцов . Ученики переписывали текст «Риторики», который был поделен между ними на главы, учитель находился рядом и к трудным статьям делал пространные приписки на полях. Факт совместной работы учителя с учениками подтверждается передачей одного из недописанных листов учителю для того, чтобы тот сделал свой комментарий к одной из статей. Разъяснительный характер учительского комментария наиболее сложных глав «Риторики» очевиден, и можно предположить, что в дидактических целях книга переписывалась учениками и пояснялась учителем. Учитель также сделал конспект «Риторики», перевел в этом конспекте все греческие термины 2-й книги на русский язык, а затем переписал из ученического списка два своих пространных отрывка. Эта «Риторика» является не самостоятельным русским произведением, принадлежащим перу митрополита Макария, как это предполагал Д. С. Бабкин [5, 352], а переводным; ее латинским источником была «Риторика» немецкого ученого-гуманиста Филиппа Меланхтона, в сокращенной переработке его ученика Луки Лоссия (издание 1577 г., во Франкфурте) [9].
Характер «Риторики» показывает, что она представляет собой конспект для ведения занятий. «Риторика» разделена на две книги: «О изобретении дел» и «О украшении слова». Каждая из книг имеет деление .на главы; главы делятся в зависимости от специфики самого материала: ученость, видимо, в том и заключалась, чтобы разобраться в «делениях и подразделениях», которые последующая мысль нередко расценивала как только схолас- 1
1 Утверждать этот факт с такой определенностью позволяет текстологический анализ двух обнаруженных черновиков новой редакции [61; 58].
тические и чисто механические [86, 13, 23] либо же приносила свое осовремененное толкование предмета науки.
Уже в заставке к «Риторике» указываются педагогические цели руководства, написанного «скораго и удобнаго ради научения» Перечислив шесть глав в 1-й книге, автор-переводчик дает определение риторики: «Риторика есть яже научает пути праваго и жития полезнаго добрословия», т. е. обучение «добрословию» является одним из путей к достижению правильной и полезной жизни. Синонимические названия этой науки («сладкогласие и крас-нословие») отражают ее сущность, поскольку «красовито и удобно глаго-лати и писати научает».
Для средневековых школьных руководств характерно определенное построение: вначале дается определение, затем ряд синонимических определений и пояснений, толкование этимологии слова, именующего данную науку, краткая «история науки» в назывании ее главнейших представителей. Все описание сопровождается похвалой самой науки и учения.
«Ритором» назван человек, «весьма искусный в науке речения», приобретший способность говорить «пригодные и похвальные» речи «в делах и на градских судах по обычаю и по закону того государства, где родился». Материалом речи ритора могут быть любые вещи, о которых могут говорить люди (3, 18], но риторика никак не приравнивается к софистике, способности говорить и убеждать вне этического основания речи. Из определений «науки риторики» можно не только вывести виды и жанры речей в XVII в., но и уточнить ее задачи: научить человека рассуждать, строить композицию речи («чин и урядство частей или статей в беседе»), украшать речь, уметь выразить «великие дела краткими словесы», но так, чтобы в речи присутствовали «светлость и сияние словесное».
Риторика как учение об украшенной речи в отличие от диалектики, которая «простые дела показует, сииречь голые», «прибавливает» к тем делам «силы словесные, кабы что ризу честну или некую одежу». Это различие между риторикой и диалектикой, берущее начало в высказываниях Платона и Аристотеля, сводилось к тому, что диалектика являлась учением о споре и выяснении истины безотносительно к интересам говорящего и аудитории, в риторике же обычно присутствуют корыстные интересы говорящего и аудитории, почему и требуется «украшение» речи, зависящее от «вкусов слушателей», индивидуального «образа оратора», который должен показать себя «человеком известного склада» [3, 71].
1-я глава — «Воследования ритора». Это не что иное, как традиционные 5 частей, или требований, риторики, зная которые оратор может правильно строить свою речь: «изобретение», «расположение», «выражение», «память», «произношение».
«Изобретение» речи, т. е. нахождение материала речи, «разделение» речи (учение о композиции — «шести частях речения») и «соединение слов с пригодными словы» (этому будет посвящена 2-я книга — «О украшении слова») отвечали на три главных вопроса, стоящие перед любым говорящим: что говорить (изобретение), где говорить («расположение») и как говорить («выражение» или «украшение» — учение о стиле).
Последующие главы 1-й книги неравны по объему и взаимопроникают друг в друга. В них говорится о четырех «родах дел» (речей): 1) «судебный род»,
2) «разсуждающий род» (применяется при обсуждении государственных дел), 1
1 Цитаты из «Риторики» приводим по реконструированному нами тексту, в основу которого положен список начальной редакции марта 1620 г. [60], дополненный приписками 2-й редакции января 1622 г. [61 ].
3) «показующий род» (хвалебное или торжественное красноречие), 4) «научающий род» (относится к гомилетике и школьному преподаванию). Первые три рода известны в античной традиции риторики.
Все роды описаны через способы нахождения содержания речи («места общие») и правила композиционного построения. Учение о композиции включает описание шести частей речи: 1) «предисловие», 2) «сказание» (повествование), 3) «предложение», 4) «укрепление» (основная часть речи, содержащая доказательства), 5) «развязание» (опровержение), 6) «докончание» (заключение). К каждой из частей речи даны рекомендации. Например, в «предисловии» к речи надо выразить «любовь и благоволение», обратить «разум (слушателей) к слову», сделав свою речь «удобной к науке»; в «до-кончании речи» следует повторить наиболее весомые аргументы («сил-нейшие выклады») и возбудить соответствующие чувства аудитории.
Подробные рекомендации даны к таким частям речи, как «укрепление и раз-вязание». Сообщается, о чем надо говорить в речах судебных, совещательных, хвалебных, причем особенно внимательно разобраны части следственного и судебного процесса. При описании учебного рода речей даются два типа вопросов — «простые и совокупленные». «Простые вопросы» — это объяснение какого-либо слова или понятия. Пример такого вопроса — «Что есть вера?». Чтобы ответить на вопрос, надо дать определение, указать, из каких частей состоит объект, показать действие, следствие или результат его. «Совокупленный вопрос» предполагает доказательство какой-либо мысли или положения через правила составления силлогизма.
В разных риториках уделяется различное внимание учению об эмоциях — одному из центральных вопросов в построении речи. Так, у Аристотеля описание видов эмоций является центром риторического учения (глава 2-я посвящена видам «страстей», описанию их природы и порождения в речи), у М. В. Ломоносова «Возбуждение страстей» — также отдельная глава, в которой даны не только определения, но и условия, в которых каждая страсть «возбуждается». В первой русской «Риторике» XVII в. «возбуждению и воскурению сердца слышателей» также посвящена отдельная глава, но она невелика. Существуют два вида «возбуждений»: «любовные — ...любимыми словами выговариваются, которыя показуют знамя любви и доброй воли» и «силнейшия, острыя — в тех надобно требовати страшных слов».
2-я книга — «О украшении слова» — посвящена теории речевого выражения и стиля речи. Ее композиционное строение строго и систематично: 4 неравные по объему главы имеют деление на части, термины вначале перечисляются, а потом получают последовательное описание в статьях, которые построены по строгой схеме: вопрос (например: «Что есть метафора?»), ответ-определение («Метафора есть...»), пример («Яко же...»), перевод греческого термина на латинский и русский языки.
Сложное классификационное построение «Риторики» было не просто нормой построения школьных руководств, оно имело определенный дидактический смысл, заключавшийся в том, что ученик (читатель) многократным пропитыванием и выучиванием названий, определений и примеров должен был получить твердое и прочное знание.
2-я книга начинается определением главного термина — «украшение». Украшенной называется речь, показывающая существо дела «ясно и явно и сладкою речию». Образцовая правильная речь «созидается» на трех вещах: I) на речи грамматической, т. е. создание речи «по науце и по приказанию грамматическому»; 2) «на выображениях»; 3) «на умножении вещи и дел».
«Выображение», понимаемое как создание нового образа или выражения в речи, явится основным термином глав 1-й и 2-й, означающим тропы и фигуры речи. Затем перечисляются и описываются 8 словесных тропов (в скобках даег-ся перевод дидаскала): 1) метафора («пренесение слова или краткое подобие»), 2) металепсис («преложение от силы»), 3) синекдоха («промены словес»),
4) метонимия («проименование или прозвание»), 5) актономасия («преие-нение от различия имен»), 6) ономатопеия («новоимение»), 7) катахресис («злое требование»), 8) перифрасис («изъяснение» или «изъявление»). Вся эта терминология общеизвестна сейчас в литературоведческой науке — в данном памятнике мы имеем в сущности первый опыт широкого распространения риторической терминологии на Руси. Очевидно, что именно в педагогических нуждах освоения новой терминологии все греческие слова переводились на русский язык. Существенным можно назвать тот факт, что литературоведческая терминология, связывающая сейчас литературу с художественными формами речи, исторически выходит из риторики, которая была не просто наукой о художественной прозе, но наукой о речи вообще и всех возможных формах речевой практики в данном обществе. Такие термины, как метафора, метонимия и другие виды тропов и фигур речи, вовсе не ограничиваются стихотворными или художественно-беллетристическими жанрами, они могли охватывать все виды и жанры речи.
2-я глава является центральной главой книги, в ней дается классификация 3-х порядков фигур речи, называемых «чинами выображения или видов». 1-й порядок фигур («началный чин») разделяется на «грамматические и риторические виды». «Грамматическими видами» называются изменения слова, заключающиеся в создании нового слова или грамматической формы путем прибавления или отъятия какой-либо буквы в начале, середине или конце слова. «Претерпевание» слова позволяет не только создавать новые грамматические формы слова, но и «играть» его смыслами, создавая неожиданный поэтический или риторический эффект.
Интересно, что редактор удалил раздел о «грамматических видах» из «Риторики», заменив его пометой о том, что «сих обрящеши в грамматице».
«Риторическими видами» 1-го порядка фигур названы фигуры речи, образованные употреблением и комбинацией отдельных слов. К ним относятся: «повторение слова», «копуляцио» («егда слово повторяется с некоторым свойственным объявлением, яко же есть: по ся места был Федор Федором, до онаго же был думной думным»). В этом примере переводчик самостоятельно переделал латинское имя «Memmius» в «Федора», a «consul» — в думного.
2- й порядок фигур «риторических видов» содержит определения 10 фигур мысли — построений, образованных смысловым или семантическим намерением ритора. Эти фигуры предлагают употребление некоторых приемов, результатом чего является содержательно-стилистический эффект, например собственный ответ на свой же вопрос, восклицание, сомнение, умолчание и т. д.
3- й порядок фигур речи содержит 7 или 8 групп фигур речи, образованных разными способами и способствующих распространению и размножению речи. Каждая из групп содержит свой состав фигур.
3-я глава 2-й книги «Риторики» — «О последованию» — содержит краткие рекомендации к подражанию образцовым писателям и ораторам. Эта часть «Риторики» является одной из важнейших для риторической педагогики. Сошлемся на последующие в русской традиции сочинения, а именно на риторическую концепцию М. В. Ломоносова, который в числе «средств к приобретению» красноречия называет «подражание авторов, в красноречии славных, которое учащимся едва не больше нужно, нежели самые лучшие правила» [41, 94].
Русская «Риторика» XVII в. говорит о подражании «общем и свойственном». «Общее последование» может осуществляться в отборе общих мест, способах «размножения» речи, применении общих мест и приемов «возбуждения» чувств, способности выразить «свои повести скудно и непространно» и т. д.; подражанием в «словах» является заимствование речей и цитат из сочинений лучших ораторов, каковыми названы «Кикеро, Цесарь, Теренцыус, Ливиуш».
4-я глава «Риторики» — «О трех родах глаголания» — впервые толковала о трех стилях речи: «смиренном, высоком и мерном». «Смиренный» (низкий) стиль «не возстает над обычаем повседневного глаголания»; в «высоком роде» создается своеобразная речь, богатая метафорами и отдаленными сравнениями — ими достигается «украшение глаголания»; «род мерный» имеется во всех сочинениях («ничто же составляется пропинаючи род...»), поэтому средний стиль так разнообразен по составу жанров: здесь и «Овидиуш, и писма, грамоты и глаголы Кикероновы».
Необходимо заметить, что, формируя правила речевого поведения, риторика предполагала не только образ речи, но и образ самого человека, стиль его жизни и поведения. Риторика являлась нормативной словесно-педагогической дисциплиной, через чтение и обучение которой в сознание учащихся вводились представления и о том, как нужно говорить, и о том, как нужно действовать в разных случаях жизни, поскольку большинство человеческих действий так или иначе связано с речью.
Безусловно, язык этой «Риторики» еще не отработан, многие ее суждения «темны» (для современного читателя, во всяком случае), но важен сам факт того, что эта «Риторика» более 70 лет — начиная не позднее чем с 1620 г. — была основным руководством по обучению речи. Однако были и другие источники информации о риторике, в частности глава о ней в «Сказании о седми свободных мудростях». Эта глава довольно рано стала предисловием к «Риторике». В 1672 г. переводчик Посольского приказа Николай Спафарий расширил «Сказание», переработав его в «Книгу избранную вкратце о девяти мусах и о седми свободных художествах». Добавления, касающиеся «мудростей-художеств», внесли новые сведения относительно: 1) происхождения («риторика происходит от еро гречески, сиречь глаголю, или рео гречески, сиречь реку»); 2) определения («риторика есть художество яже учит слово укращати и увещевати»); 3) цели («конец риторики есть учити красно глаголати и увеще-вати на куюждо вещь»); 4) 5 причин, которые Спафарий одинаково прилагает к каждой из наук, конкретизируя применительно к риторике следующим образом: ради древности («древнейшее художество и древнейший Горгиа мудрец о ней пишет»), ради «достоинства — яко украшает словеса и исполняет», ради «истинства — яко известная правила иметь...», ради «сладости — яко зело сладка учением есть...», ради «ползы — яко есть полезная во всем животе нашем».
Педагогический характер спафариевских замечаний очевиден, распространенность «Сказания» и «Книги избранной вкратце» также общеизвестна, но как было организовано преподавание риторики? Большое число ранних списков 20-х гг. XVII в. позволяет предполагать, что риторика преподавалась, объяснялась, комментировалась, причем было это не только на Украине, но и в России: в Москве, Новгороде, Ярославле, Соловецком монастыре, Ниловой пустыни и т. д. Были ли это риторические классы, или писцы ограничивались только перепиской соответствующих учебников? Несмотря на отсутствие документальных свидетельств (в сущности, этот вопрос еще не исследован), мы склонны остановиться на гипотезе о существовании организованных занятий риторикой и диалектикой — «высшими науками» в XVII столетии — на том основании, что столь сложные сочинения не могли переписываться только механически; конечно же, «Риторика» должна была комментироваться и объясняться, что доказывают редакторские пространные толкования.
Методика преподавания, видимо, была проста: составлялись и произносились речи, которые дидаскал должен был исправлять и давать сво? комментарий. Результатом обучения было произнесение поздравительных речей перед различными высокими особами. В указаниях на произнесение поздравительных «ораций» в историко-педагогической литературе нет недостатка.
Вопрос о конкретных свидетельствах, об обучении риторике в школах требует специальных документальных исследований. Но и сейчас можйо указать на то, что в 1649 г. дидаскал Арсений Грек был оставлен в Москве «для ретори-ческого учения» [81, 9]. О Епифании Славинецком писали, что он «муж многоученый... не токмо грамматики и риторики...»; украинские монахи, прибывшие в 40-е гг. для преподавания в школе Андреевского монастыря, были «изящны... даже до риторики и философии» [17, 401]; в «Привилегии на академию» неоднократны указания на «свободные мудрости» с перечислением «грамматики, пиитики, риторики, диалектики, философии...» (71, 390 — 420].
К. 1689 г. относят начало преподавания братьями Лихудами риторического учения [19, 9]. Правда, «Риторика» Софрония Лихуда была написана только в 1698 г., т. е. после того как братья Лихуды были удалены от преподавания (1694), но несомненно, что она отражает риторико-педагогическую концепцию учителей первого высшего учебного заведения в России. О значении «Риторики» Лихудов для развития и распространения риторики в России говорит то огромное количество списков, в которых она переписывалась на протяжении всего XVII1 века.
«Риторика» Софрония Лихуда имеет 4 книги [51]: «1) О стихиах риторики, 2) О красноглагольстве, 3) О изложении и частех слова, 4) О показательном слове». Стройный характер сочинения, ясный, простой и красочный язык много способствовали распространению «Риторики». Ее изложение в вопросах и ответах, кратких определениях как нельзя лучше соответствовало педагогическим целям обучения речи.
Вместе с «Риторикой» Софрония Лихуда хронологически к концу XVII в. следует отнести старообрядческую «Риторику» в 5 беседах, приписываемую Феофану Прокоповичу, риторические сочинения Андрея Белобоцкого и «Риторику» Михаила Усачева конца XVII в. Все эти сочинения вызваны к жизни назревшей потребностью в реформе русского просвещения.
Откровенно популяризаторским характером отмечена «Риторика» в 5 беседах, помечаемая в поздних старообрядческих сборниках как «Риторика» Феофана Прокоповича [49]. Вопросно-ответный характер этой «Риторики» показывает ее приспособленность к педагогическим целям. Терминология ее проста, композиция выстроена в соответствии с традиционными 5 частями риторики.
К последней беседе приложены правила по голосоведению и пластике, поскольку «проповедь состоится по гласу и действу». Это требование — соотносить свое речевое поведение с природой «вещей глаголемых» — распространяется на пластическое поведение и на общий облик оратора, ибо «действие содержится в лице, наипаче в руках, разсуждати убо подобает ритору, что и о чем глаголет: да страшная глаголюще и сам лицем страшен будет, в словесех смиренных — смирен, в любовных — любовен, в веселых — радостен, скорбен же да явится в скорбных».
Разойдясь впоследствии в огромном количестве списков, рукописные риторические руководства конца XVII — начала XVIII в. составили тот костяк сочинений, которые регулярно переписывались в училищах и школах в течение всего XVIII века. Разумеется, их значение сильно поблекло после появления печатного «Краткого руководства к красноречию» М. В. Ломоносова, но распространенность этих сочинений в читательской среде позволяет считать их чрезвычайно популярными и оценивать их значение очень высоко.
Появление множества учебников по риторике в начальный период петровских преобразований связано с тем, что всякий общественный переворот, преобразования в социальной и культурной жизни связаны с изменением форм общественной речи. Новые виды и формы речи требуют упорядочения и нормализации речевых отношений, нового содержательного наполнения речи, ее значимого стилевого совершенствования.
«Диалектика» Иоанна Дамаскина
Не позднее чем в XIV в. на Руси появился полный перевод «Диалектики» Иоанна Дамаскина. Этот свод сведений об основных философско-логических понятиях и умозаключениях в течение нескольких веков являлся для русских книжников незаменимым «учебником» логики. Из дисциплин классического тривиума — грамматики, риторики и диалектики — только последняя была представлена у нас в этот период столь фундаментальным трудом.
Сведений о том, как использовалась «Диалектика» в образовательных целях до XVI в., у нас практически нет. Мы знаем, правда, что писец Кирилло-Белозерского монастыря Олешка около 1446 г. сетовал на трудность усвоения этой книги («не вся бо всем разумеваема»), что около 1414 г. в Москве ее переписывал некий дьяк Стефан «повелением» своего «наставника» Федора протопопа, что, наконец, в XV в. ее постоянно переписывали и в Троице-Сергиевой лавре и в других монастырях. И при этом непременно думали о том, как сделать это трудное сочинение удобопонятным.
Начиная с самых ранних списков мы находим в «Диалектике» различного рода вспомогательный материал, предназначенный облегчить обозрение ее состава, уяснить и углубить понимание отдельных мест, подчеркнуть связь с другими авторитетными сочинениями. Простейшей формой такого научно-вспомогательного аппарата является оглавление. В ранних списках оно встречается не так часто, но постепенно к XVII в. осознается как необходимая принадлежность книги. Обращает на себя внимание оглавление одной из рукописей, являющееся по существу сводом кратких аннотаций: в нем приводятся не названия глав, а краткое изложение их содержания [50]. Примечательно и оглавление в одной рукописи: «Числа главам скораго ради обретению и яко егда кто хощет что искати, да зрит со опасением, зане книга сия корень премудрости» [59, 21].
С древнейших списков текст «Диалектики» сопровождают затейливые рисунки — пояснительные схемы к тексту. Оживляя сложный материал, они в то же время, очевидно, представляли особые трудности для переписчиков, поэтому в поздних списках, особенно скорописных, схемы нередко исчезают.
Начиная с XIV в. мы находим в «Диалектике» характерные приписки на полях, маргиналии, представляющие собой комментарии к основному тексту. В более позднее время подобные примечания перерастают иногда в самостоятельные экскурсы и определения, как показывает, в частности, запись на полях рукописи: «Изъяснение слова философия. Философия наука такая, в которой через разум наш и заключения от известных вещей познаваем неизвестный. Что есть наука философская? Есть способность то доказать правильно через заключения, чему кого верить заставлю или из начал неподвижных и праведных вывести законное заключение» [57, 16 об. — 17]. Особенно значительным явлением представляется алфавитно-предметный указатель к «Диалектике»: «Преподобного отца нашего Иоанна Дамаскина от книги глаголемыя философии строки выписаны по алфавиту...» [47, 85 — 103 об;
В XVI в. к «Диалектике» как учебной книге было привлечено особое внимание. Уйдя на покой в Иосифо-Волоколамский монастырь, митрополит Даниил занялся ее переписыванием и редактированием, имея в виду непосредственно педагогические задачи. Он вставил в текст Иоанна Дамаскина ряд наставлений нравственно-аскетического характера, без учета которых, по его убеждению, усвоение философско-логической премудрости невозможно. Очень характерны его обращения к читателю, в числе которых в первую очередь он видит именно учащихся: «О философии внимай разумно...», «Учай же ся философии и философствуяй» и т. д. Наставления Даниила, а также отдельные главы «Диалектики» («О разуме», «О мысли», «О философии») в XVI в. стали нередко включать в широко распространенные азбуковники — универсальные справочные пособия энциклопедического характера.
Во второй половине XVI в. в Юго-Западной Руси в связи с напряженными идеологическими конфликтами между представителями различных вероисповеданий русские православные братства начинают уделять все больше внимания систематическому образованию. В этот период к «Диалектике» обращается князь А. М. Курбский, который с помощью М. А. Оболенского заново перевел ее с латинского языка и дополнил новыми материалами. Он ввел в ее текст им самим составленное «Сказание о древе Порфирия», перевел из «Тривиума» Иоанна Спангерберга «Толкование на дщицу кафего-рий», написал «Сказ о лоике». Кроме того, озабоченный прежде всего интересами учащихся, он перевел из того же «Тривиума» довольно значительный раздел под названием «От другие диалектики Ио(ан)на Спаньинъбер-гера о силогизме вытолковано». В 1586 г. эта работа была опубликована в Вильне и стала тем самым первой русской печатной книгой по логике [12, 238 — 242]. В своих произведениях Курбский призывал молодежь учиться и «навыкать неленостне» этой «светлейшей словесной науке», потому что с ее помощью «удобне» будет читать и «разуметь» писания философские, отделять истину от лжи.
Скорее всего, уже в начале XVII в. возникла и вопросо-ответная редакция «Диалектики», несомненно предназначенная для учебных целей. Об этом свидетельствует, в частности, колонтитул одного списка — «Вопросы учителя и ответы ученика» [52]. Вопросо-ответная редакция представляет собой сокращенный и упрощенный вариант «Диалектики». Например: «Вопрос. Что есть философия? Ответ. Философия есть разум сущих» и т. д.
Примечательно, что во многих списках, содержащих вопросо-ответную редакцию, были нередко и другие сочинения логического характера, «классификация наук» — перечень дисциплин тривиума и квадривиума и тому подобные, грамматические статьи, что является дополнительным свидетельством учебного характера аналогичных сборников.
Уже в XVI в. списки «Диалектики» стали обрастать дополнительными статьями и фрагментами философского содержания. Тут и ответ Кирилла Философа на вопрос о том, что есть философия, и различные «философские словеса и мудрости». В XVII в. стало традицией перед «Диалектикой» помещать краткое о ней «сказание», начинающееся следующими словами: «Книга диалектичныя глубины, сиречь языка нашего от сердца свободное гла-голание и разумение. Содержит же в себе, ажи познавати речении пространное разумение и разумевати истину с неправдою, и всякому разуму и существу разделение, и внешнему со внутренним, или самость с приключением, сиречь одержание со одержимыми глубочайшее внятие и в естественных разсужениих подобное указание...» [53, 17]. Это первое предисловие к «Диалектике», как правило, соединяется со вторым, извлеченным из известного «Сказания о седми свободных мудростех»: «Аз есмь диалектика, от Бога свободная мудрость и мудрогласного естествосуднаго разумения корень и виновница...»
Примечания на полях, вставки, дополнительные статьи, указатели, переработки несомненно доказывают, что «Диалектику» читали на Руси деятельно, вникая во все тонкости ее содержания. О широкой распространенности перевода «Диалектики» говорит примерно 150 выявленных сохранившихся ее списков. Кроме них, необходимо принять во внимание наличие «Диалектики» в утраченных собраниях (Выголексинская библиотека, коллекция Ф. Г. Баузе и т. д.), фрагменты и цитаты из нее в многочисленных азбуковниках и четьих сборниках. Уверенно можно говорить о том, что среди читателей «Диалектики» были русские первопечатники — Иван Федоров и Петр Мстиславец (последний прямо цитирует ее в послесловии к Псалтыри 1576 г.).
Достаточно обширной представляется и география распространения «Диалектики», воссоздаваемая на основании владельческих записей. Здесь не только крупнейшие центры культуры, такие, как Москва, Троице-Сер-гиев, Кирилло-Белозерский, Иосифо-Волоколамский, Соловецкий монастыри, Владимир и Суздаль, Нижний Новгород, но и Флорищева и Крестомаровская пустыни, Каргополь, Усть-Цильма, Афанасьевский монастырь на р. Мологе, Ковров, Устюг Великий, Серпухов и Зарайск, Олонецкий край и т. д. Распространена была «Диалектика» в самых различных слоях русского общества, включая крестьян, хотя цены на нее были достаточно высокими [39, 47, 99].
Почти во всех списках «Диалектике» предшествует грамматическое сочинение «О осми частех слова», с которым она составляет одно целое, как две части классического средневекового тривиума (грамматика, диалектика, риторика). В начале XVII в. с появлением перевода «Риторики» тривиум приобрел законченный состав, и в XVII в. во многих списках эти сочинения стоят рядом. В более ранний период элементам ритбрики также учились по «диалектичной глубине».
Не будет преувеличением сказать, что «Диалектика» Иоанна Дамаскина — одна из важнейших книг в истории русской науки и образования, азбука философии, логики и отчасти риторики, мимо которой не мог пройти ни один вдумчивый древнерусский читатель.
Литература для обучения математике
Хронологические рамки дошедшей до нас древнерусской математической литературы достаточно широки: уже в XI — XII вв. на Руси существовала специфическая учебная литература по арифметике. Она предназначалась для обучения пользованию вычислительным устройством типа абака. Цель обучения достигалась путем применения упражнений для выработки навыков в предварительном усвоении учебных вычислительных «клише», необходимых для выполнения достаточно сложных расчетов, встречавшихся в торгово-хозяйственной и научной (календарной) деятельности того времени.
В некоторых списках «Русской Правды» помещены задачи по определению стоимости овец, баранов, коз и пр. Б. А. Рыбаков первым предположил, что эти задачи имели учебное назначение: «Являлись они, по всей вероятности, учебным пособием для приобретения навыков в хозяйственных подсчетах и в переводе натуры на деньги» [75, 180]. Действительно, указанные задачи представляют собой древнейший русский учебно-методический текст, восходящий, по-видимому, к XI в., и являются фрагментом арифметического задачника, употреблявшегося при обучении счету на абаке. «Разрешающая способность» древнерусского абака была достаточ-
но высокой, судя по величине чисел, доходивших до десятков и сотен тысяч, что достигалось самой его структурой, обеспечивавшей известный автоматизм счета. Несмотря на фрагментарность древнерусского задачника, бесспорно, что задачи в нем не были произвольными, а специально подобраны для развития навыка в «записи» чисел на абаке, удвоении, раздвоении и простейших их комбинациях на базе сложения (и в древней, и в средневековой математике удвоение и раздвоение были самостоятельными арифметическими действиями, на основе которых производилось умножение и деление). Связь с жизнью этих задач была условной: в действительности цены не были стабильными и «круглыми», как в задачах. Но, чтобы использовать абак, надо было научиться на нем работать с помощью специальных, «подогнанных» упражнений, каковыми и являлись задачи.
Сколь высокого уровня счета могло достигать применение абака, свидетельствует календарный трактат «Учение им же ведати человеку числа всех лет», написанный Кириком Новгородцем в 1136 г. В составе трактата имеется учебный текст, посвященный последовательному раздвоению чисел. Он как бы дополняет задачи из «Русской Правды», в которых действие раздвоения не получило значительной разработки .
В XIII — XVI вв. наиболее распространенными были математические учебные тексты табличного типа. Эти таблицы — перечни древнерусских буквенных цифр, представлены на берестяных грамотах XIII — XIV вв.; аналогичные таблицы занесены на свободные места рукописей XIII — XVII вв. Так, одна из берестяных грамот XIV в. представляет собой цифровой алфавит — перечень цифр от 1 до 40 000, записанный в древнерусской нумерации. Видимо, в таком смысле следует понимать слова А. В. Арциховского, что эта грамота написана в связи с изучением арифметики [4, 29 — 31]. Она служила своего рода учебным пособием при обучении нумерации или была своеобразным справочным документом.
В XVI в. в России стали переводиться западноевропейские учебники, породившие русские арифметики типа «Цифирной счетной мудрости», и перед педагогами-переводчиками встала сложная методическая задача о «цифровом языке» и др. [37, 38]. Перенос в русский перевод цифрового языка зарубежного подлинника был бы непонятен русским читателям, употреблявшим буквенную нумерацию. Поэтому числа записывались по-древнерусски, но постепенно текст переводной арифметики стал дополняться специальным вводным разделом, предназначенным для усвоения новой для русских, индо-арабской (т. е. современной) нумерации, на базе которой давалось изложение арифметических знаний в западноевропейских учебниках. Этот раздел со временем обрастал дополнительным материалом.
Сохранившиеся рукописные тексты «Цифирной счетной мудрости» содержат изложение общеевропейского облика арифметики в той или иной редакции. Кроме этого непременного материала в них входят в различных соотношениях разделы о древнерусской системе больших чисел («Великое число»), о различных типах и системах наглядно-инструментального счета и др. «Цифирная счетная мудрость», являясь переложением общего для европейских учебников арифметического материала, примыкает, прежде всего, к немецкой учебной литературе, правда, отличаясь от нее приспособлением текста к условиям русской жизни. Русские авторы перерабатывали текст, стремясь не только к лучшему изложению арифметических сведений, но и к их практическому применению в основном в торговой практике и сборе налогов. В этой связи происходит мобилизация средневековых математических представлений Об
Об этом подробнее см.: [79, 58 — 73].
по инструментальному счету. Практика применения абака привела к появлению в XVI в. вычислительного прибора («дощаный счет»), вскоре так усовершенствованного, что его облик в дальнейшем почти не претерпел изменений (этот прибор — современные счеты). Одновременно шел процесс переработки западноевропейского учебника «практической» арифметики, возникшего как средство решения задач, встречавшихся в практической деятельности, в основном в торговле. Однако создание русского варианта такого учебника по своему значению далеко выходит за пределы обслуживания нужд торговли. Учебниками типа «Цифирной счетной мурости» была заложена база современного арифметического знания. Сведения о начертании и значении индоарабских цифр, об арифметических действиях на их основе, сообщаемые в современной школе, по существу остаются неизменными с той поры.
Практические приемы геометрического характера складывались в процессе строительства зданий, при сооружении укреплений, измерении земельных площадей и пр. Эти приемы были как бы запрограммированы в системе зодческих и землемерных операций. Соответствующие знания передавались в устной форме, а также фиксировались текстуально. Известны в списках XVII в. «Книги сошного письма», в которых излагались правила для расчета податей по системе обложения, введенной в XVI в. и действовавшей на протяжении почти всего XVII века. В зависимости от качества земли и социального положения владельца реальные земельные площади переводились в условные «сохи». Если бы по этой системе в каждом конкретном случае отдельно высчитывалась величина налога, то проведение в жизнь налогового обложения крайне затруднилось бы или вообще оказалось невозможным из-за сложности соответствующей аналитико-геометрической работы. Однако было найдено удобное для практики сбора налога решение, связанное с использованием готовых, однажды выполненных подсчетов. Их арифметические комбинации исчерпывали все случаи расчетов по налогообложению. Соответствующие исходные данные должны были быть достаточно точными, а их использование — удобным. «Книги сошного письма» свидетельствуют, что эти вопросы решались на основе приемов формализации поиска нужной информации путем употребления различных диаграмм («ярлыков») и таблиц.
Сведения по геометрии, которые приводятся в «Книгах сошного письма», содержатся также в рукописях типа «Цифирной счетной мудрости». Это в основном данные об измерении площадей посредством разбивки земельных участков на треугольники и четырехугольники. В указанных рукописях также встречаются задачи на определение расстояний до недоступного места или высоты предмета. Подобные последним задачи разобраны в рукописи по военному делу, составленной в первой четверти XVII в. на основе переводных источников, главным образом «Воинской книги» Л. Фронспергера.
В русских математических рукописях XVII в. сообщаются также некоторые сведения по стереометрии: о нахождении объемов куба, прямоугольного параллепипеда, прямого цилиндра, бочки. Результаты подсчета объема бочки получаются меньше истинного. В целом уровень знаний по геометрии XVII в. уступает арифметике. Однако встречаются геометрические рукописи намного выше среднего уровня. Такой является книга князя И. Е. Аль-бертуса Долмацкого, уроженца Пелопонеса, над которой он работал в 30-х гг. XVII в., но не завершил, возможно, из-за смерти в 1641 г. Руководство Альбертуса поражает богатством содержания как в теоретическом, так и в практическом отношении. Оно превосходит по уровню геометрическую часть известной «Арифметики» Л. Магницкого (1703). Книга Альбертуса включает в себя почти весь известный в то время материал по элементарной геометрии и соответствует типу учебника. Помимо теоретического материала в ней содержится раздел задач на построение и вычисление. Изложенные здесь теоремы преимущественно восходят к первым книгам «Начал» Евклида. Формулировки теорем сопровождаются пояснениями, иногда содержащими элементы доказательств. Раздел задач содержит 132 планиметрических построения. Предполагается, что книга была предназначена для обучения царевича Алексея Михайловича. В предисловии Альбертус прямо писал, что его труд носит сугубо учебный характер, а рукопись подготовлена к изданию на Печатном дворе. Его геометрия — первая книга на русском языке, приближающаяся к учебной литературе по планиметрии современного типа [33, 63 — 73].
В конце XVII в. появляются первые печатные математические произведения на русском языке. Этим изданиям предшествовала таблица умножения от 1X1 до ЮХЮ («Счет греческих купцов»), встречающаяся в русских рукописях XVI в. Название указывает на возможный факт заимствования, однако документ представлен в архаической русской нумерации.
Первой математической книгой, изданной типографским способом в Москве в 1682 г., является «Считание удобное, которым всякий человек, купующий и продающий, зело удобно изыскати может число всякая вещи». Оно состояло из 50 таблиц умножения чисел в древнерусской нумерации от 1X1 до 100X100 и предназначалось для расчетов в торговых операциях.
В 1685 г. вышла гравированная таблица «Сошное письмо». В ней были обобщены геометрические знания, ранее отраженные в «Книгах сошного письма». Использование последних было связано со значительными трудностями из-за обширности материала и низкой универсальности методов расчета. Работа по созданию более совершенной методической формы изложения и привела в 1685 г. к появлению средства формализованного поиска информации по сошному письму в виде таблицы на одном листе. Автор гравюры Логион Урусский привел основные сведения по сошному письму в обстоятельной таблице с двумя входами, где по вертикали указывается «соха» и ее доли (всех показателей 11), а по горизонтали — данные о качестве земли. Завершалась она стихотворением, из которого следует, что в конце XVII в. осознавалась необходимость совершенствования метода изложения данных по сошному письму, обеспечивавшего наглядность, удобство использования в практике в сочетании с быстротой поиска необходимой информации.
«Считание удобное» и «Сошное письмо» обладали качествами справочного издания в современном понимании. Они содержали краткие сведения прикладного характера (их краткость выражалась в сжатости изложения, отсутствии избыточной информации, прикладном характере, предназначении изданий для практических нужд торговцев и сборщиков податей). Оба издания не предназначались для сплошного чтения, а имели вспомогательный характер. К ним прибегали в случае решения конкретной вычислительной или расчетно-геометрической задачи.
В самом конце XVII в. на русском языке появляется математическая литература нового типа. В 1699 г. в Амстердаме И. Ф. Копиевским (Копиевичем) по заказу купцов г. Архангельска была издана книга «Краткое и полезное руковедение в аритметыку». Известно, что книга не удовлетворила купцов, так как из 48 страниц арифметике было отведено лишь 16, где даны краткие сведения об арабских цифрах и четырех арифметических действиях с целыми числами. Остальные 32 страницы отведены нравоучительным сентенциям. Факт неприятия книги купцами говорит о том, что она их не устраивала как практическое пособие, так как не имела связи
с торговой или какой-либо другой практической деятельностью. И. Ф. Копиевс-кий опередил на четыре года Л. Ф. Магницкого, создавшего выдающееся для своего времени произведение, настоящую энциклопедию математических наук [80, 98 — 104].
Литература для обучения истории
Исторические знания были важным элементом образованности в Древней Руси. Устные исторические предания существовали у восточных славян задолго до возникновения летописания. Со становлением письменности появляются и отдельные записи исторических событий. Очевидно, в XI в. возникает летописание как определенный жанр исторического повествования, создаются первые летописные своды, появляются и переводные исторические памятники. Таким образом, уже с этого времени можно говорить о существовании литературы, несущей исторические знания. Однако выделить исторические сочинения, специально предназначенные для обучения, до XVII в. нельзя. Обучение истории, как и другим предметам, проходило в основном путем самообразования. Среди массы летописных сводов, сказаний, исторических повестей и других сочинений можно выделить памятники, получившие особенно широкое распространение, ставшие неотъемлемым элементом исторического знания эпохи, которой они принадлежали. Вместе с тем необходимо помнить, что древнерусские исторические сочинения должны были «наставить» читателя, разбудить в нем лучшие чувства, а не только дать ему информацию о прошедших событиях и занять их чтением в свободное время.
Первым реально дошедшим до нас летописным сводом стала знаменитая «Повесть временных лет», созданная около 1113 г. монахом Киево-Печерского монастыря Нестором. Благодаря государственному взгляду, широте исторического кругозора составителя «Повести», вводившего отечественную историю в русло истории всемирной, она надолго стала образцом для последующих исторических произведений. Летописание XII — XV вв. осуществлялось как продолжение этого классического произведения русской исторической мысли. Без знакомства с ним трудно представить себе образованного книжника той поры. Важно отметить, что уже в предисловии к «Повести временных лет» ставится задача дать читателю специальные исторические знания.
Очевидно, что владельцы и читатели объемных рукописей летописных сводов до XVI в. принадлежали к довольно ограниченному кругу книжников. Но вопреки традиционным представлениям к их числу принадлежали не только духовные лица, но и светские. Летопись всегда была документом политической борьбы. Московские и тверские князья в ожесточенной междоусобной борьбе XIV в. возили в Орду летописи, дабы обвинить своих соперников. Составлялись летописи и по заказу частных лиц.
Исторические знания в широких народных массах, как и в допись-менный период, продолжали распространяться путем устного народного творчества. Но для былин (окончательное их оформление современные исследователи относят к XIV — XV вв.) характерна широкая типизация событий и отвлечение от конкретных исторических фактов. Вместе с тем фольклор оказывал влияние на книжные исторические произведения, что особенно ярко проявилось в получивших широкое распространение в XIII — XV вв. исторических повестях, посвященных борьбе с Ордой. Воинские повести имели большое значение не только для распространения исторических знаний, но и как средство патриотического воспитания. Наибольшее распространение среди них получило «Сказание о Мамаевом побоище», описывающее Куликовскую битву 1380 г. (до нас дошло более 100 его списков). Об особой популярности памятника у средневекового читателя свидетельствует большое число его лицевых (иллюстрированных миниатюрами) списков.
Лицевые рукописи в целом были доступны для восприятия широкого круга читателей, понятны даже неграмотному. Можно предположить, что они применялись и для обучения детей истории. Для этой цели могли также использоваться краткие летописцы (летописцы «вкратце» или «вскоре») — небольшого объема хронологические перечни исторических событий, часто включавшие в себя и сведения по всемирной истории. Они, как правило, не составляли отдельные рукописи, включались в четьи сборники, содержавшие сведения по самым различным отраслям знания и зачастую превращавшиеся в своеобразные средневековые энциклопедии.
Вторая половина XV — XVI в. — время существенных изменений в исторической литературе. Во второй половине XV в. в Москве создаются общерусские великокняжеские летописные своды. Составители общерусских летописных сводов были опытными книжниками, обладавшими обширными историческими познаниями и имевшими в своем распоряжении значительное количество исторических памятников.
В то же время еще больше возрастает историческая роль летописных памятников. У великокняжеской, а затем и царской власти появляется потребность иметь в составе государственного аппарата не только составителей исторических произведений, призванных давать идеологическое обоснование московскому самодержавию, но и знатоков этих произведений, способных использовать свои знания в конкретной политической ситуации. Так, в 1471 г., отправляясь во главе московского войска в поход на Новгород, Иван III взял с собой дьяка Степана Бородатого, который умел «говорити по летописцем русским» и должен был обличать новгородцев «противу их измены давные, кое изменяли великим князем в давные времена, отцем его и дедом и прадедом» [70, 192].
Примером свободного владения историческими материалами может служить и знаменитая переписка Ивана IV с князем Андреем Курбским. Сохранились прямые сведения источников об изучении Грозным уже в зрелые годы различных исторических сочинений, в том числе иностранных (преимущественно переводов польских хроник) [7]. Написанный Курбским в Литве политический памфлет «История о великом князе Московском» также свидетельствует о глубоких его знаниях в области отечественной истории. Причем основные факты ранней русской истории, очевидно, приведены им по памяти.
Первая половина XVI в. ознаменована созданием грандиозных летописных сводов — Воскресенской и Никоновской летописей, подведших как бы итог всему летописанию предыдущего времени. В составлении этих сводов, включивших в себя в обработанном согласно официальной идеологии виде большое количество летописных текстов и других исторических произведений, а также документов, безусловно, участвовал не один человек, а группа наиболее образованных людей, вероятно, из окружения митрополита Даниила [25, 55 — 88].
На основе Никоновской летописи была создана Многотомная иллюстрированная «историческая энциклопедия XVI в.» — Лицевой свод Ивана Грозного. Возможно, что его составление связано с обучением царских детей. По крайней мере, имеются сведения, что свод рассматривали царевичи в XVII в. [20, 170 — 171].
Во второй половине XVI в. на основе Никоновской летописи опытным книжником был составлен краткий летописец, получивший распространение в среде рядового дворянства и послуживший основой для составления служилыми
людьми описаний событий XVI — начала XVII в. на основе личных наблюдений [32]. Краткие летописцы, доступные широкому читателю, создаются на протяжении всего XVI века, особенно в последней его трети, когда в связи с началом опричнины фактически прекращается официальное летописание.
Наряду с летописными памятниками в XVI в. появляются разнообразные исторические сочинения нелетописного типа. Среди них выделяются памятники официальной идеологии российского самодержавия.
Большое распространение получило «Сказание о князьях Владимирских», где в контексте всемирной истории рассказана легенда о получении киевским князем Владимиром Мономахом царского венца и других регалий из рук византийского императора как подтверждение происхождения московских князей от римских императоров. Идеи «Сказания» проникли в летописи и другие исторические памятники. Их знание, вероятно, было обязательным элементом образованности служащих государственного аппарата. Текст «Сказания» цитируется во многих дипломатических памятниках.
Во второй половине XVI в. в связи с окончательным оформлением государственного аппарата Русского централизованного государства, организа-ей дворянской армии правительство стало нуждаться в большом числе грамотных и образованных людей, обладавших и историческими знаниями. Практика службы, военной и придворной, требовала определенного уровня исторических знаний практически от всех представителей верхнего слоя дворянства. Это было связано с местничеством — своеобразным феодальным институтом, регулировавшим служебные отношения между членами различных знатных фамилий, занимавших высшие должности в армии и при дворе. Каждое назначение должно было соответствовать служебной родовой чести конкретного лица. В связи с этим было необходимо владеть точными знаниями как по истории своего и других служилых родов, так и о всех прошлых походах и назначениях. Эти обязательные для каждого знатного дворянина знания можно было почерпнуть из специальных родословных и разрядных книг. Созданные в XVI в. первоначально как официальные документы в канцелярии Разрядного приказа, родословные и разрядные книги переписывались по заказу отдельных дворянских родов и нередко дополнялись документами из частных архивов, летописными и повествовательными текстами и превращались таким образом в исторические сборники. Такие сборники имелись практически в каждой родовитой дворянской семье, и несомненно, что дворянские дети знакомились с их содержанием, а благодаря этому с основными историческими событиями XV — XVI вв.
Значительные изменения происходят в системе исторических знаний в России XVII в. Изучение владельческих и читательских записей на списках исторических памятников этого времени позволяет сделать вывод о распространении исторических знаний вширь. Наряду с представителями различных слоев столичного и провинциального дворянства владельцами таких сочинений были торговые и посадские люди, низшее духовенство и даже зажиточные крестьяне.
Для целей первичного овладения историческими знаниями были пригодны краткие летописцы, получившие большое распространение в XVII в. Часто эти памятники переписывались на столбцах (в свитках), как азбуки-прописи, содержавшие иногда тексты исторического содержания.
В XVII в. государство становится все более заинтересованным в распространении исторических знаний. Достигшая своего расцвета приказная система требовала большого количества образованных людей, обладавших историческими познаниями. В первую очередь это относилось к дипломатическому ведомству — Посольскому приказу. Расширение в XVII в. связей России со многими государствами Европы и Азии потребовало создания специаль-
ного исторического справочника — «Титулярника», где наряду с общими сведениями по русской истории давались сведения по истории иностранных государств. Ознакомившись с книгой, царь Алексей Михайлович заказал две ее копии, в том числе одну специально для царевича Федора Алексеевича . Оставшийся в Посольском приказе экземпляр несомненно служил и для обучения здесь молодых служащих и участников посольств.
Интересные мысли о роли истории и необходимости ее изучения высказал неизвестный автор в предисловии к труду «Историческое учение», составленному по приказу царя Федора Алексеевича. Он впервые ясно сформулировал задачи новых форм исторического повествования, их превосходство по сравнению с летописанием, подчеркнул назидательно-поучительное назначение исторических произведений и особо отметил важность печатания исторических книг с целью их более широкого распространения.
Попытки издания исторических сочинений на Московском Печатном дворе делались еще в 60-е гг. XVII в., однако, первая печатная книга по истории — «Синопсис» — была издана в Киеве в 1674 г. Книга, созданная с одобрения русского правительства, предназначалась для широкого круга читателей России, имела большое политическое и дипломатическое значение (еще до 1671 г. экземпляр сочинения был послан в Москву, главе Посольского приказа А. С. Матвееву). Автором или редактором «Синопсиса» считается архимандрит Киево-Печерской лавры Иннокентий Гизель. В центре этого сочинения, для создания которого был использован целый ряд источников, в том числе польские хроники, — история Древнерусского государства киевского периода. События последующих веков изложены более чем конспективно. «Синопсис» издавался в годы борьбы за воссоединение Украины с Россией и отпора турецкой агрессии. В связи с этим последующие издания 1678 и 1680 гг. были значительно расширены описанием происходивших военных событий, и в издании 1680 г. было «на вечную память грядущим родам» напечатано «Сказание о Мамаевом побоище».
Несмотря на то, что исторические события изложены в «Синопсисе» неравномерно и многие факты носят случайный характер, он стал подлинным учебником русской истории и выполнял эту функцию до 60-х гг. XVIII в., когда был опубликован «Краткий Российский летописец» М. В. Ломоносова (за это время «Синопсис» выдержал около 15 изданий). Такая популярность книги объясняется не только доходчивостью и краткостью изложения. Автор «Синопсиса» сумел критически переработать, скорректировать русские летописи и польские хроники, опустил неприятные для национального самосознания подробности, усилил патриотическое звучание событий прошлого. Вместе с тем главная общественно-политическая концепция «Синопсиса» — откровенный монархизм, идея преемственности самодержавной власти древнерусских князей и московских государей. «Синопсис» в целом был промежуточным, переходным типом между летописью и историческим сочинением. Первый опыт печатного изложения древней русской истории имел большое значение для распространения и развития исторических знаний в России не только в XVII, но и в последующее столетие [66; 76; 95].
Азбуковники как справочные и учебные книги
В XVII в. большое распространение получили рукописные сборники, называвшиеся азбуковниками. Известны азбуковники филологические и школьные. Это совершенно разные типы сборников, каждый 1
1 Для обучения царевичей во второй половине XVII в. в Оружейной палате и Посольском приказе был создай целый ряд лицевых рукописей исторического содержания [36]. Многие из них сохранились в библиотеке Петра I [8].
из которых имеет свою историю возникновения, различное назначение и содержание. Общим для них было азбучное расположение основной части материала, из-за которого сборники и получили одинаковое название — азбуковник.
Филологические азбуковники 1 специально для школ предназначены не были. В такие сборники входил многоязычный и многофункциональный словарь, часто грамматические статьи, а также статьи другой тематики. Процесс образования азбуковников этого вида был длительным и сложным [26].
С христианизацией на Руси появились книги Священного писания. Многое в них было непонятно русскому читателю. Поэтому книжники должны были дать перевод неясных слов, привести толкования библейских имен, иносказаний. Кроме того, редактируя и правя переводы церковных текстов, для уточнения отдельных слов они находили другие, близкие по смыслу. Объяснения и толкования слов собирались в многочисленные своды. Постепенно они теряли свое значение пособия к определенным текстам и приобретали самостоятельную значимость. Появились объединенные своды с близкой тематикой. Так в средние века образовались словари собственных имен, словари символики, славяно-русские словари [26, 10 — 317].
В XVI в. появилась необходимость «собрать и объединить все те истолкования слов и выражений, которые дала... многовековая переводческая практика» [13, 6] и богословское объяснение текстов. Это требовалось для работы над книгами (копирование, правка, новые переводы и т. д.) и для помощи читателю в преодолении трудностей в тёкстах. В предисловиях к азбуковникам говорится о том, что в книгах, переведенных на славянский язык, есть много непонятных слов, к которым и дается толкование. Даются также указания, как пользоваться словарным сводом.
Азбуковники все время дополнялись и изменялись. Более поздние составители пользовались трудами своих предшественников, вносили новые статьи, делали сокращения. Поэтому различные списки азбуковника могли сильно отличаться друг от друга и по существу являлись оригинальными произведениями.
В конце XVI — начале XVII в. состав людей, пользовавшихся азбуковниками, становится более светским. Об этом говорят записи на сборниках: «сыну Рукавишникову», «Вологжанину Прошлецову», «гостинные сотни» [28, 210], «сию книгу дал в казну Алексей Иванов сын Васильев хромой москвитин» [24, 118]. В новой, пространной редакции азбуковника усиливаются элементы энциклопедизма, в него входят словари разговорно-бытового характера [2; 29, 55 — 86], включаются объяснения слов из переводной литературы этого же времени.
В азбуковниках сказывалось влияние культур других народов, особенно византийской. В них объяснялись слова разных языков: греческого, латинского, славянских, западноевропейских, тюркских и др., причем обозначалась языковая принадлежность слова (хотя не всегда правильно). Разнообразны методы объяснения слов: перевод (например: «аер — воздух», «аксак — хромец»), символическое толкование («Иерихон — схождение, когда снисходят с высоты вниз, или от верха добродетелей в ров греховный»), этимологический анализ («Елеонская гора — масличная гора, называется Елеонс-кой, так как на ней растет много деревьев масличных, а масло по-гречески елио называется») и т. д. [1].
Значительное место в азбуковниках при толковании слов занимают сведения энциклопедического характера: географические (например: «Бер есть град, стоит от святой горы к Солуню граду, а от Солуню ходу два дня»), этнографические («Козары — татары, живут в степях скифских»), о денежных и весовых системах («сколько в кентинарии рублей московских»), о стихотворстве («что есть акростихида»), о планетах, о греческих богах, о философских школах и т. д. Особенно широко представлены естественнонаучные пояснения («Гвоздика — растет на горах каменных, на древесах мелких и таких частых, что ходить промеж их нельзя. И гвоздика и древеса ее очень красные, но от солнца чернеют. А вино гвоздичное очень красное»). Приводимые сведения не всегда достоверны. Среди них встречаются, например, такие: «Астромове есть люди во индийской земле, ни рта у них, ни губ нет, не пьют, не едят, а только носом вдыхают, тем и живут». Правда, один из авторов азбуковника, приводя эти сведения, написал: «Аш,е истино есть или ложно, не веде, но убо в книгах сия обрете, понудихся и та зде написати» [55, 36 — 36 об.].
В азбуковниках важное место занимает словарик «Толкование имен человеческих». В некоторых азбуковниках к нему дается предисловие, где рассказывается о том, как пришли к славянам современные имена: когда славяне были язычниками («погаными»), не имели книг и не знали грамоты, детям давались те имена, которые захотят родители, — Богдан, Важен, Второй, Третьяк и т. д. После принятия христианства «на Руси было канонизировано лишь несколько имен наиболее чтимых славянских князей: Олег, Ольга, Борис, Глеб, Владимир, Мстислав, Людмила, Святослав, Всеволод. Прочим дохристианским именам, начиная с XIV века, объявляется жестокая война как языческим и непригодным для того, чтобы ими звались люди» [82, 79].
После крещения, говорится в предисловии, славяне стали давать своим детям «имена во имя святого того времени, в коем детище родится». А так как в святцах имя пишется на том языке, «от которого.... родом» святой, то значение имен потребовало толкования. Однако в азбуковниках объясняется большое количество и неканонизированных имен. Этимологические справки очень часто совпадают или почти совпадают с современной этимологией, что свидетельствует о достаточно высоком научном уровне азбуковника.
Познавательная сторона азбуковников сочеталась с поучительной. Сведения не только давались, но и оценивались, причем оценивались эмоционально, носили характер нравоучений. Например, в словарной статье о знаках зодиака не только рассказывается об их названиях и положении на небесном своде, но и дается яркая, эмоциональная, образная оценка астрологии: «Этими звездами умовредные астрономы мнятся угадывать счастие и добро-денственное житие человека. Не смыслят же безумные, что не звездным движением, но промыслом вседержателя бога строится житие каждого из нас... и мнятся окаянные астрологиею непостижимый божий промысл предрицать...»
Круг сведений, содержащийся в азбуковниках, очень широк. Здесь имеются статьи самой разнообразной тематики, выписанные из различных мест Священного писания, из хронографов, топографий, космографий, из творений отцов церкви и т. д. В статьях рассказывается о некоторых науках: диалектике, арифметике и др., затрагиваются философские, богословские, нравственные вопросы, даются исторические, географические, этнографические, естественнонаучные и другие сведения, образцы тайнописи.
Постепенно азбуковники становились все более определенными по своей тематике. В них включаются грамматические статьи, которые вместе со словарем воспринимались как «единый комплекс языковедческих сведений» [28, 223], а также энциклопедические статьи. Статьи вместе со словарем составляли в целом единое произведение, и азбуковником назывался не только словарь, но и весь сборник, в составе которого тот оказывался.
Некоторые грамматические статьи носят непосредственно учебный характер. Иногда они представлены в виде вопросов и ответов. Например, в одном из азбуковников в начале статьи об азбуке помещены «вопросы учителя, ответы ученические»: «Сколько букв в азбуке славянской? — Сорок» и т. д. Часто грамматические сведения даются в форме объяснений и рекомендаций. Например: «Некоторые пишут от неискусства: ютроба, юродивый, обшение, воскрешение; ты же пиши: утроба, уродивый, общение, воскресение». Сведения, излагаемые в грамматических статьях, так же как и в словаре, часто имеют нравоучительный характер, который усиливается эмоциональной формой изложения. Неправильно писать — значит «омрачать тьмою неведения» то, что «бог светом разума осветил». И автор, называя своего читателя «возлюбленным», «любимым», призывает его «не мрачить света тьмою», т. е. не допускать ошибок [1, 138 об., 133, 132, 132 об.].
Грамматические статьи в составе азбуковников посвящены самым различным вопросам: орфографии, знакам препинания, надстрочным знакам, частям речи и т. д. Их основная часть попала в азбуковники из русских рукописных грамматических сборников XVI — XVII вв. В некоторых случаях очевиден целенаправленный отбор сведений из таких сборников. Например, в одном из азбуковников мы находим статьи из грамматического свода, который встречается в рукописях XVI — XVII вв. [1, 128 — 131 об.]. Статьи свода достаточно разнородны (орфография, надстрочные знаки, окончания склонений и спряжений), но располагаются они во всех рукописях в одном и том же порядке. В азбуковнике же из этого свода представлены только первые три статьи и последняя — именно те, которые говорят о надстрочных знаках (просодиях) [97, 442 — 456]. Возможно, в некоторые азбуковники подбирались статьи с различными целями и с расчетом на читателя определенного уровня. Например, одна из рукописей, принадлежавших Соловецкому монастырю, имеет богатейшее содержание [24, 51 — 118]. Здесь представлены материалы всех разделов грамматики по классификации того времени: орфографии, просодии, этимологии, синтаксиса. А в некоторых других азбуковниках из того же собрания содержание грамматической части значительно уже и в целом не выходит за рамки начального образования: здесь грамматические статьи рассказывают только о надстрочных знаках [24, 24 — 45, 150 — 157]. О правильном их употреблении очень заботились при обучении грамматике, сведения о них включены в различные азбуковники, азбуки и буквари. Частое и подробное обращение к этой теме объясняется тем, что надстрочные знаки в целом несвойственное русскому языку явление, перенесенное из Византии. Усвоение их требовало больших усилий по механическому запоминанию. Надстрочными знаками обозначались к тому времени уже не различавшиеся в речи придыхания, долгота — краткость гласных, разновидности ударения. Система надстрочных знаков в целом была архаичной, основывалась «не на непосредственном чувстве языка, а на грамматической теории» [85, 8].
Таким образом, грамматические разделы азбуковников являлись важными источниками получения грамматических сведений. Содержание и форма некоторых статей говорят о том, что они могли применяться при обучении.
Азбуковник как многофункциональный сборник играл большую роль и в изучении иностранных языков. Для этого в составе словарной части азбуковников имелись разговорники. Во многие азбуковники включен словарь Максима Грека «Толкование именам по алфавиту». Имена здесь «сгруппированы так, чтобы выступило значение их основы, прояснился смысл частей в сложном имени.., что-
бы стало ясно значение формантов, присоединяемых к корню... Знакомство со словарем позволяло через собственные имена усвоить значения многих греческих корней и основ, которые, повторяясь многократно, при подобном расположении не могли не запоминаться» [28, 147]. В составе азбуковников встречаются статьи, специально предназначенные для обучения иностранным языкам. В них входят азбуки различных языков, слоги, общеупотребительные молитвы на иностранных языках с подстрочным русским переводом, упражнения в переводе с одного языка на другой, состоящие из фраз в разговорной форме. Очень часто иностранные слова сразу даются в русской транскрипции.
В конце некоторых азбуковников дается совет пользующимся ими: «И большая хотяй навыкнути, да чтет часто и внятно всю книгу Алфавит» [55, 105].
Итак, в результате объединения и обработки разнообразнейших материалов азбуковник, сохраняя в общем филологический характер, вобрал в себя самые различные сведения, что позволило ему стать источником многих знаний, справочной и учебной книгой широкого диапазона. Потребность в знаниях на Руси того периода в значительной мере удовлетворялась самообразованием; азбуковники для этого являлись прекрасным пособием. О популярности азбуковников свидетельствует тот факт, что даже до нашего времени дошло несколько сотен рукописей.
Вопрос о применении азбуковника в училищах XVII в. спорный. Несомненно, однако, что его специфика как справочной и учебной книги позволяла использовать его и в школе. О том, что некоторые его материалы могли рассматриваться как непосредственно учебные, свидетельствует факт вовлечения «Предисловия толкованию имен» и «Толкования имен» из филологических азбуковников в азбуковник школьный под названием «Азбуковник полный, имеющий в себе увещания учения; поучения ученикам от многих книг, более всего от грамматики».
.Школьные азбуковники — памятники совсем другого рода. Все они входят в состав так называемой Афанасьевской рукописи1. Их первый исследователь Д. Л. Мордовцев пришел к следующему выводу: «азбуковниками обозначали не букварь, не азбуку и не алфавиты, заменявшие у нас словари, как можно бы ожидать по названию, но под этим именем предки понимали, кажется, всякий учебник, всякое руководство, предназначенное для обучения юношества, тем более, что и содержание их нисколько не соответствовало названиям и каждый азбуковник был отчасти отдельным учебником, не имевшим в себе ничего общего с прочими... Впрочем, потому, может быть, эти учебники называются азбуковниками, что содержание их располагается большею частию в алфавитном порядке» [45, 31 — 32].
Школьные азбуковники появились во второй половине XVII в. Афанасьевская рукопись датирована по записи писца 1683 — 1684 гг. К концу XVII в. относятся и другие четыре известных к настоящему времени списка данных азбуковников [10, 24 — 25]. Очевидно, их появление объясняется организацией в это время в Москве школ повышенного обучения и возросшим интересом к проблемам образования. Своеобразна стихотворная форма этих азбуковников, в которой отразилось влияние времени. Первые поколения московских стихотворцев писали неравносложные стихи со смежной рифмой. Такая система стихосложения вошла в русскую поэзию в значительной мере в результате украинского и белорусского влияния. Стихотворцы обращали большое внимание на технику стихосложения, было популярно «началестрочие», когда в произведении первые буквы строк, предложений или глав составляли какое-либо слово, фразу, азбуку и т. д.
В составе Афанасьевской рукописи 8 азбуковников. Несмотря на то что они находятся в одном сборнике и списаны одним человеком, «грубым некоим иеромонахом, убогим Первостранником», азбуковники имеют такие серьезные различия, что вряд ли могут принадлежать одному автору. По исследованиям А. П. Петрова, прочитавшего тайнописные заметки в Афанасьевской рукописи, работу над ней переписчик-составитель начал в Соловецкой Зосимо-Савватиевской пустыне, в Морчуках, недалеко от Коломны, а в 1682 — 1683 гг. продолжал в Ипатьевском монастыре [65]. В 1683 — 1684 гг. он сочинил азбуковник, дополнивший более ранний, соловецкий (1659 — 1660), который в таком дополненном виде вошел в рукопись. Удалось установить, что переписчик-составитель создал еще один азбуковник из этой рукописи — «Школьное благочиние» и несколькими оригинальными способами зашифровал в нем свое имя — Прохор Коломнятин [16, 48 — 51].
Сочинения «Школьное благочиние», «Азбуковник вторый», «Азбуковник наказательный» и «Азбуковник о нерадивоучащихся учениках» были частично предназначены для учителей в качестве руководства, а частично обращались к детям. Такое совмещение в рамках одной книги методических указаний для учителя и учебных материалов для учеников являлось типичным для XVII в. Стихотворная подача материала и алфавитное расположение поучений делали их удобными для обучения детей, уже частично грамотных.
Школьные азбуковники очень разнообразны и по форме и по содержанию. Цель воспитания во всех этих произведениях понимается одинаково" и гармонирует с педагогической мыслью средневековья в целом. Главное — воспитать примерного христианина.
Наиболее широкий круг вопросов, касающихся воспитания, охватывает азбуковник «Школьное благочиние». Это своего рода школьный устав. Произведение написано в виде беседы учителя, учеников и «слагателя» (самого автора). Учитель, обращаясь к ученикам, рассказывает об училищных порядках, о правилах нравственности и поведения. Ученики высказывают мысли о своем отношении к учению, учителю и т. д. Это отношение является идеальным, служит примером для читателей. «Слагатель» обращается и к учителю, и к учащимся, его слова являются дополняющими, решающими и итоговыми.
«Школьное благочиние» носит демократический характер, среди учеников не выделяются бедные, богатые, «знатность» определяется исключительно добродетельным поведением, успехами в учении: «перед богом все равны, некоторые же по добродетельному житию знатны», «малые и великие среди вас все равны, учения же ради да будут знатны» [10].
Методы воспитания рекомендуются суровые, жесткие, но, по понятиям своего времени, разумные и справедливые. Учитель должен быть милостив ко всем, «добротой своей во благое учеников исправлять», «не быть напрасно злым мучителем», а «наказывать биением по рассмотрению», справедливо и разумно. Физическим наказаниям придается большое значение. Лоза, ремень, плеть, жезл регулярно упоминаются на страницах азбуковника. В целительность битья свято верили: «лоза детям разум во главу вгоняет», «божественному разуму научает», «добротам научает, от злых обычаев отучает».
Учителю необходимо воспитывать своих учеников и личным нравственным примером. Он должен быть кротким и «смиренномудрым», «не в пищах и питиях пребывать, а в заповедях господних», жить непорочно и добродетельно — «к таковому ученик без опасения приведется», «такового ученики крепче держатся». Если учитель живет не так, ему «лучше учительско имя отставить», «и ученикам таковой гнусен». На учителе лежит огромная ответственность, он — спаситель своим ученикам, хранитель их чистоты, грех ученика «на небрежливом учителе бог взыщет». Учитель призывает и самих учеников принимать участие в воспитании товарищей, «дружины»: «жестокосердного обличайте и благому смирению научайте», «наставляйте друг друга ко благому и не оставляйте падающего равнодушным к злому», «воспитывайте ленивых и гневливых и обличайте сварливых и бранливых».
В «Школьном благочинии» учение не отделяется от воспитания, мудрость здесь всегда высоконравственна: «Мудрость в души чистых людей вселяется и прочно в умственных и сердечных недрах вкореняется». Авторитет учености, книжности поднят на высочайшую ступень: «Книжное учение — крайнее спасение», «Кто книг не бережет, тот души своей не стережет».
Азбуковник утверждает традиционные нравственные принципы: любить ближнего своего, уважать родителей и пожилых людей, быть целомудренным, кротким, не лгать, не красть и т. д. Он учит правилам внешней благопристойности: не озорничать, не шуметь, говорить ясно, мало, «умеренным гласом», не допускать «хрипения горляного» и «сопения носового» и т. д.
По «Школьному благочинию» можно судить и о том, каким было или, по крайней мере, каким должно было быть, по взглядам того времени, устройство школы. Школа, описанная в азбуковнике, имеет учеников, которые постоянно живут при школе, и приходящих учеников. Учение продолжается с утра до вечера (до вечерней службы) с перерывом на обед. Учитель из числа лучших учеников назначает нескольких старост. Они делят между собой следующие обязанности: опрашивать учеников в отсутствие учителя, помогать им в учении, следить за порядком, наказывать виноватых в отсутствие учителя, утром раздавать книги, вечером собирать и хранить их в специальном месте, следить за чистотой, отоплением школы и т. д. Ученики должны каждый день убирать школу, мыть полы, лавки, столы, топить помещение и приносить свежую воду.
В содержании «Школьного благочиния» видно сильное влияние педагогической мысли Юго-Западных русских земель. Это замечал еще Д. Л. Мордовцев, сравнивая «Благочиние» с уставом Луцкой школы, который типичен для юго-западных братских школ. Демократизм, высокие требования к нравственному облику учителя соответствуют требованиям Луцкого устава. Возможно предположить, что автор «Благочиния» был хорошо знаком с порядками юго-западных братских школ.
Существовали ли в действительности школьные порядки, описанные в «Школьном благочинии? Думается, что могли существовать, во всяком случае описаны они как реально существующие. Судя по форме оплаты, эта школа — обычная на Руси школа грамоты, где в отличие от братских учебных заведений труд учителя оплачивался родителями учеников, причем частично натурой.
«Азбуковник вторый», вероятно, принадлежит другому автору. У него более мягкое, более любовное отношение к ученикам. Автор называет их «возлюбленными», «любезными». Обращаясь к плохим ученикам («грубоуча-щимся»), азбуковник не только не говорит об их наказании, но убеждает их не печалиться, а обращаться к богу, ибо бог «сокрушенных сердцем и смиренных духом спасает». Сюда даже помещена молитва для плохих учеников «...Научи меня... Научи меня... Молю тебя, господи, вразуми...» и т. д.
В «Азбуковнике втором» есть данные об обучении в школе элементам искусства устной речи — риторики. Лучшие ученики, говорится здесь, учатся приветственным словам, которыми они должны обмениваться с посетителями школы. В тексте имеются образцы таких приветственных речей.
В конце «Азбуковника второго» помещены сведения об обучении письму:
вначале учитель пишет образец прописей и учит учеников «по-доброму, не сердись», «милость на учеников лия». Затем прописи пишут ученики. В качестве примеров прописей здесь помещены два нравоучения, начинающиеся с буквы А. Прочие прописи помещены в «нижеположенной азбуке» или «Азбуковнике наказательном». Прописи в нем представляют также нравоучения: необходимо уважать родителей, надеяться только на бога, ходить в церковь, подавать милостыню, сохранять чистую душу, «честь священникам воздавать, в дом свой ради благословения призывать» и т. д. Азбуковники «вторый» и «наказательный» находятся рядом во всех известных списках, возможно, они составляют одно произведение, в составе которого являются материалами для разных этапов обучения.
Подлинным гимном знанию является Азбуковник о нерадивоучащихся». Посвященный плохим ученикам, он в отличие от «Школьного благочиния», как и «Азбуковник вторый», не содержит никаких сведений о физических наказаниях. Это произведение прославляет учение, мудрость: «Цветами земля украшается, небо звездами освещается, душа учением просвещается» [64, 37 — 45]. Учитель здесь — «божественного писания рачитель, богодухновенного учения рассудитель», «око тело зрением просвещает, так и учитель учением душу напояет». В яркой, образной форме азбуковник убеждает учеников быть трудолюбивыми, послушными, терпеливыми, предостерегает их от «кощунства», «глумления» и прочих грехов.
Среди школьных азбуковников известно одно нерифмованное произведение под названием «Азбуковник полный, имеющий в себе увещания учения, наставления ученикам от многих книг, больше всего от грамматики». Указание по использованию произведения такое: «Азбуковник, его же должно быть добрым учителям повседневно прочитывать в наказание (поучение) ученикам». Азбуковник написан как бы от лица самой Мудрости. Его содержание очень разнообразно, в нем имеются материалы для обучения и, кроме того, как и в «Школьном благочинии», обширный круг вопросов, касающихся воспитания и училищных правил. В их решении в обоих азбуковниках очень много общего: высокие требования к учителю и ответственность его перед богом, сходное понимание методов воспитания (слово, физическое наказание, личный пример), равенство в школе детей «богатых и убогих», «славных и худородных». Похожи и училищные правила. Распорядок учебы в «Азбуковнике полном» раскрывается более подробно: вначале учащиеся отвечали старый урок, затем принимались за изучение нового материала. В воскресенье и праздничные дни ученики также приходили в школу, но уже не учились, а повторяли выученное, слушали поучения и объяснения праздников до начала литургии.
Сходство «Школьного благочиния» и «Азбуковника полного» говорит не о том, что они принадлежат одному автору, а, скорее всего, о том, что онй отражают общие тенденции своего времени. А. П. Петров считал, что эти азбуковники написаны разными людьми и для школ разного типа: «В «Школьном благочинии» неоднократно ведется речь о приношениях учителю «брашна и пития». В «Азбуковнике полном» ни слова не говорится о вознаграждении за учение. Наоборот, в нем читаем такие заявления Мудрости: «...от всех купно: богатых и убогих, славных и худородных — единого пенязя прошу, им же могу малейшую и — мнится — ничто же имущую разума азбуку купити» или «мнози бо от человек... не ведят чего, яже вам, любимцы мои, днесь туне даруется». В этих заявлениях, если понимать их в буквальном смысле, предполагается школа с бесплатным обучением» [65, 100].
Материалы для обучения в «Азбуковнике полном» очень богаты. Здесь помещено «Сказание о седин свобрдных мудростях», в котором говорится о сущности и значении «высших наук» (грамматики, риторики, диалектики, музыки, геометрии, арифметики, астрономии).
Преимущественное внимание в азбуковнике уделено филологии. Рассказывается об истории изобретения азбук различных народов, даются грамматические сведения о звуках, частях речи, надстрочных знаках. В произведении имеются материалы из филологических азбуковников: «Предисловие толкованию имен человеческих» и «Толкование имен человеческих». Даются обширные энциклопедические сведения: о начале священной истории, о значении дней недели, о происхождении календаря, об истории летосчисления. В качестве примера истинного мудреца и философа рассказывается о Максиме Греке.
Разнообразие материалов обучения, сведения о «семи высших науках», расширенное освещение филологии говорят о том, что «Азбуковник полный» был предназначен для школ повышенного типа.
В XVII в. в России появился интерес к книжному стихотворству, которое воспринималось как своеобразная литературная игра. Не случайно в это время в моду вошли эпистолии, стихотворные послания и «приветства». «Начале-строчие» и рифма воспринимались как знак литературной элегантности. Несколько произведений в составе Афанасьевской рукописи отражают эту тенденцию. Они являются как бы образцами для желающих сочинять. В первом из них есть «Предисловие до читателя» — рекомендация по стилю послания. В нем даются такие советы: «Радостные и веселые и всеблагоденствен-ные» вести о себе к родственникам и добром знакомым надо писать «по просту», «с умеренным смирением»; ни к чему писать стихотворные и «по азбуке положенные» (т. е. «началестрочием») послания и к людям более низкого положения, «маломощным» же и бедным, обиженным вдовицам и сиротам, а больше всего тем, кто в «неволе, темнице, узах, оковах», «в дальних ссылках», в челобитных и посланиях нужно писать «хитроречно и удобо-хвально, единострочно». Стихотворно же следует писать к «великославным близостоятелям» перед великими государями, чтобы «удобоумилительными прошениями их в милости преклонить» [65].
После этих рекомендаций даны два азбуковника, составляющие вместе нечто цельное — образец для желающих сочинять. Первое произведение помещено под названием «Азбуковник, имеющий в себе единострочные слоги, которыми следует в грамотках писать иночинным к великославным близостоятелям пред скиптродержащим царем». Это произведение не стихотворное, оно является образцом началестрочия — первые буквы предложений составляют азбуку. Этот азбуковник создан «в Соловецкой честной обители... в лете от создания мира 7168» (1660). К нему в 1684 г. переписчиком всей Афанасьевской рукописи Прохором присочинен другой «Азбуковник, подобный оному: до тех же великославных чинов стихотворными слогами следует писать». Это произведение написано акростихом, причем каждая его фраза рифмуется с соответствующей фразой на ту же букву из первого азбуковника. Оба произведения переписаны параллельно на страницах одного и того же разворота и по замыслу автора второго азбуковника должны читаться одновременно и служить образцом для желающих сочинять. За этим образцом следует рассуждение о силлабическом стихосложении. Затем помещено нечто вроде письмовника (двадцать два письма).
И рифмующиеся азбуковники, и рассуждения о стихосложении, и письмовник мыслились как одно произведение, один сборник, обучавший сочинять, писать послания и являвшийся одновременно образцом для такого сочинительства.
В том же жанре образца написан «Азбуковник, имеющий в себе многие речи, годящиеся каждому и писать и говорить... с ним же вместе приветства и наветства». Если в первом учебнике-образце стихи в целом рассматриваются и рекомендуются как форма прошений и челобитных, то здесь в стихах написаны образцы самых разнообразных письменных посланий и устных речей на многие случаи жизни: обращения к приятелю, приветствия на новоселье, послания к чаду [65].
Учебный уклон описанных азбуковников очевиден — это своеобразные пособия по элементарной риторике, стихосложению и стилю посланий. Такие произведения, несомненно, могли использоваться и в школе (повышенного типа). Они соседствуют в Афанасьевской рукописи с азбуковниками, явно предназначенными для школы. Вряд ли переписчик, человек высокообразованный, автор второй части одного из учебников-образцов, механически составил сборник, не руководствуясь соображениями общего педагогического предназначения этих произведений. Кроме того, элементы обучения риторике присутствуют и в некоторых азбуковниках для школ: «Азбуковнике втором», «Азбуковнике полном». Все это говорит о том, что риторика воспринималась и в качестве школьного предмета и азбуковники-образцы могли использоваться в школе наряду с другими школьными азбуковниками.
Наличие разнообразных педагогических материалов в составе школьных азбуковников свидетельствует о том, что в конце XVII в. было существенно расширено образование, организовывались школы с новыми, более соответствующими требованиям времени порядками, а сам факт появления таких произведений говорит о возросшем интересе к проблемам воспитания и обучения.
Глава IV ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ ВЫДАЮЩИХСЯ ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ XV — XVII ВВ.
I. ЕПИФАНИЙ ПРЕМУДРЫЙ (? — МЕЖДУ 1418 И 1422)
Обращаясь к литературному наследию Епифания Премудрого, мы не найдем в нем какой-либо строгой педагогической системы или решения собственно педагогических вопросов. Однако в его произведениях педагогическая тема имеет непосредственное отражение.
Обладатель исключительного литературного таланта и человек передовых взглядов, Епифаний был одним из выдающихся деятелей той культуры, которая определяется многими советскими учеными как культура Предвозрождения на Руси. Этот период не случайно называют «временем Андрея Рублева и Епифания Премудрого» [52].
О высокой образованности Епифания говорят его сочинения, отразившие большую начитанность автора. По словам Д. С. Лихачева, «Епифаний отлично знает произведения современной ему и прошлой церковно-учительной, богословской, житийной и исторической литературы. В составленные им жития обильно включены самые разнообразные сведения: географические названия, имена богословов, исторических лиц, ученых, писателей, а также рассуждения о пользе чтения книг» [52, 63]. Тем не менее сам Епифаний убеждал читателей в своем «невежестве», писал, что он «умом груб и словом невежа, худ имеет разум... и не бывал в Афинах от юности и не научился у философов их ни плетения риторийского, ни витийских глаголов, ни Платоновых, ни Аристотелевых бесед не освоил, ни философии, ни хитро-речия не навык» [35, 18]. Подобное заявление — традиционный прием древнерусских авторов, и его нельзя принимать на веру.
Епифаний много путешествовал, был в Константинополе, на Афоне и в Иерусалиме [36, 423], хорошо знал греческий язык, знал и любил живопись и сам умел рисовать. Вся его жизнь была тесно связана с Троице-Сергиевым монастырем — одним из наиболее крупных образовательно-культурных центров своего времени.
Насколько Епифаний, заслуженно получивший от современников прозвание Премудрый, был неравнодушен к вопросам просвещения и образования, указывает одно из мест Жития Стефана Пермского. В нем автор, отходя от своего повествования, вступал в яростную полемику с теми, кто считал создание Стефаном азбуки для народа коми-зырян пустой и ненужной затеей, называя их «некий скудные суще умом». Блистая своими познаниями в филологии, Епифаний, основываясь на сказании черноризца Храбра «О письменах», рассказывает о происхождении письменности у других народов, особенно подробно останавливаясь на создании греческой и славянской азбуки.
Сам Епифаний при написании своих знаменитых агиографических произведений — Жития Сергия Радонежского и Жития Стефана Пермского прямо ставил перед собой педагогическую или учительную задачу, решая ее в традиционных рамках средневековой методики обучения. Она сводилась к тому, что обычно процесс учения на самом первоначальном уровне происходил путем копирования, подражания: учитель показывает, ученик подражает — с образца копирует буквы и слоги, перерисовывает рисунок, повторяет музыкальную фразу. Этот же принцип, по-видимому, существовал и на более высоком, обобщенном уровне — любое «учение» и «воспитание» требовало «образца», примера: все поведение учителя, все его действия являлись для учеников (в самом широком смысле этого слова) прямым образцом для подражания.
Именно таким образом Епифаний и формулировал свою основную задачу при написании Жития Сергия. Образ Сергия Радонежского как «образец» сохранится в творениях Епифания и будет продолжать оказывать свое воспитательное воздействие. «Это я подробно писал не для тех, — отмечал Епифаний, следуя агиографической традиции, — кому все доподлинно известно и кто хорошо знает жизнь его (Сергия. — О. К.): они ведь не нуждаются в этом рассказе. Но хотел я вспомнить это и сообщить для новорожденных младенцев и молодых отроков, у которых еще детский ум, чтобы когда они вырастут, и возмужают, и преуспеют, и достигнут зрелого возраста, и достигнут совершенства разума и друг друга спросят о Сергии — чтобы тогда они прочли это, и уразумели, и другим сообщили» [36, 415]. «...Ведь похвала наша Сергию не ему пользу приносит, но для нас спасением будет духовным... Ведь о добродетели рассказ может многих умилить, словно жалом уязвить душу и к богу чистой жизнью подвигнуть» [36, 409].
Епифаний в этом случае не отступал от традиций древнерусской литературы, в которой при изображении героев своих произведений автор стремился дать «образец», «абсолют» совершенного правителя, воина, священнослужителя и т. д., к которому читатель сам, находясь на соответственной ступени феодальной иерархии, мог бы стремиться. Образ героев был «этикет-но» приспособлен для того, чтобы являться примером, «эталоном», — все личное, индивидуальное, случайное в нем убрано, все положительное, достойное подражания представлено читателю.
Приступая к работе над Житиями Сергия и Стефана, автор ставил перед собой, по-видимому, и еще одну задачу. Современники Епифания считали свою эпоху «последними временами», поскольку в 1492 г. (по старому летосчислению — 7000 г.) ожидался конец света и Страшный суд. Согласно библейским апостольским пророчествам, именно в «последние времена» должны были появиться «лжепророки» и «лжеучители». В литературе, в
частности в Измарагдах, появляются статьи русского происхождения (составленные, очевидно, еще в конце XIII — начале XIV в. в еретических кругах) (44], направленные против духовенства как «лжеучителей». Епифаний в противовес этим толкам о «ложных» учителях показывал учителей истинных и великих, давал идеальный образ учителя; он писал о Сергии: «...его бог даровал в последние времена перед концом света нам, последним людям, его бог прославил в Русской земле в конце седьмого тысячелетия» [36, 419].
Оба главных героя — Сергий Радонежский и Стефан Пермский интересуют автора не только как святые и чудотворцы, но в социальном плане именно как учителя. В Слове похвальном Сергию Епифаний, бывший его учеником, особенно подчеркивал роль Сергия как учителя: «...он был отцам отец и учителям учитель, ...неподкупный наставник...», «он был для благоверных князей великих русских учителем православия» (36, 411, 499]. Так же и Стефана Пермского в Житии величают не иначе, как дидаскалом.
Итак, в произведениях Епифания Премудрого идею создания образа совершенного учителя можно считать одной из главных. При этом сам термин «учитель» понимался в высшем смысле этого слова, как наставник на жизненном пути, как человек, проповедующий свое «учение». Очевидно, в чисто профессиональном смысле такого понятия, как учитель, не существовало. Дети учились читать и писать у людей, «грамоте гораздых», именовавшихся «мастерами грамоты», — представителей низших слоев феодального общества, не ставших героями литературных произведений этого периода.
В изображении Епифания мы встречаем два различных типа учителя: Сергий — более воспитатель, Стефан Пермский — ученый. Разными путями достигают Сергий и Стефан своей «мудрости». Сергий получил еще в детстве глубокие познания не через учение. Как ни старался неспособный мальчик Варфоломей (будущий Сергий) постигнуть то, чему его учили, у него ничего не выходило. «Учитель с большим старанием учил Варфоломея, — рассказывает Епифаний, — но отрок не слушал его и не мог научиться, не похож он был на товарищей, учащихся с ним. За это часто бранили его родители, учитель же еще строже наказывал, а товарищи укоряли» [36, 279]. Но благодаря «божественному откровению», отведав из рук святого старца кусок просфоры, вместе с нею Сергий получил и знания: «После ухода этого старца отрок внезапно всю грамоту постиг, изменился странным образом: какую книгу не раскроет, хорошо ее читает и понимает ее» [36, 285].
Подобный сюжет в древнерусской литературе не единичен. В Житии московского митрополита Петра, написанном в тот же период, что и произведения Епифания, Петр-отрок был также «косно учащийся», но во сне ему явился «святитель» и коснулся его языка, «и с того часа, что бы ему учитель ни писал, отрок же вскоре изучал» [34, 69]. Аналогии этому сюжету можно найти и в византийской агиографии. Очевидно, в этой традиции нашло отражение средневековое представление о том, что истинной Премудростью, т. е. знанием глубинной сущности вещей, пониманием всего миропорядка, обладает только бог. Поэтому Премудрость не может быть получена путем учения, как достигается «внешняя мудрость», а дается только от бога. Об этом не раз, например, говорится в часто цитируемой Епифа-нием Книге Премудрости Иисуса сына Сирахова.
Однако жизненная практика показывала, что для того, чтобы стать мудрым и образованным, необходим собственный труд человека, необходимо учение. В сборнике «Пчела» встречается, например, следующее высказывание: «Смешно есть, когда говорят, яко мудрость без учения бывает».
Путь труда в постижении мудрости в отличие от пути Сергия Епифаний изображает в Житии Стефана Пермского. Стефан еще «детищем» был отдан учиться грамоте и через год знал ее настолько, что мог стать чтецом в соборной церкви. Мальчик постоянно упражнялся в славословии и грамматике, овладевая учением, как говорит Епифаний, «естественною остротою ума своего». В далеком Устюге он смог научиться «всей грамотичной хытрости и книжной силе». Для своего пострижения Стефан специально выбрал такой монастырь, где можно было достать много книг. Книги, подчеркивает Епифаний, Стефан читал «прилежно... учения ради, умедливаа в учении, но до конца разумея, о чем говорит каждое слово в стихе» [35, 4 — 7].
Учился Стефан, рассказывает Епифаний, не только по книгам, но и в беседах с мудрыми людьми: «...и если видит мужа мудрого и книжного и старца разумного и духовного, то бывает ему совопросником и собеседником, и с ним соводворяется, и ночует, и проводит утро, расспрашивая его с любопытством» [35, 4 — 7]. Стефан много времени уделял самостоятельной переписке книг. Но особенным достижением Стефана было то, что, выучив самостоятельно пермский язык он «грамоту нову перьмску сложил и азбуки». Кроме того, Стефан изучил греческий язык и «книги греческие изучил, и добре почетал их и всегда имел их у себя» [35, 8]. Понимая толк в изучении языков, Епифаний особо отметил, что на греческом и на пермском Стефан умел как читать, так писать и говорить [35, 8].
В рассказе об обучении Стефана отсутствует упоминание о каких-либо чудесах, он добивался всего сам «естественною остротою ума своего». По-видимому, в изображение Стефана Епифаний внес много автобиографического. Он, как и Стефан, чтобы прослыть премудрым, шел путем учения, а не путем отшельничества и аскезы, что было характерно для Сергия, путь которого сам Епифаний считал более высоким и трудным. Он писал о себе, что в поисках знаний «суетных и трудных вещей» он стремился «к Царьграду, Святой горе и Иерусалиму». «Я, — говорил Епифаний, — ползаю здесь и там, и плаваю туда и сюда, и с места на место перехожу» [36, 423].
Как и Стефан, Епифаний стремился к беседе с мудрыми людьми. Бывая в Москве, он посещал великого Феофана Грека, наблюдал за его работой. «Сей дивный и знаменитый муж, — отмечал Епифаний, — питал любовь к моему ничтожеству; и я, ничтожный и неразумный, возымев большую смелость, часто ходил на беседу к нему, ибо любил с ним говорить». Феофан был не только «книги изограф опытный и среди иконописцев отменный живописец», но и «преславный мудрец, философ зело искусный». Таким образом, в небольшом письме под пером Епифания возник еще один реалистический образ великого мыслителя и учителя-мастера, создавшего свою школу живописи. Когда Феофан работал, писал Епифаний, «никто не видел, чтобы он когда-либо смотрел на образцы, как делают это некоторые иконописцы, которые от непонятливости постоянно в них всматриваются, переводя взгляд оттуда — сюда, и не столько пишут красками, сколько смотрят на образцы. Он же, кажется, руками пишет изображение, а сам на ногах, в движении, беседует с приходящими, а умом обдумывает высокое и мудрое, острыми же очами разумными разумную видит доброту» [81, 445].
Возвращаясь к Стефану и Сергию, отметим, что Епифаний, не противопоставляя их друг другу, показывает два разных типа просветителя и учителя, так охарактеризованные А. И. Клибановым; «...искушенный во «внешних науках», и все той же остротой разума постигающий глубины «слова божьего», ученый и диспутант, рьяный миссионер, неутомимый просветитель, боец с головы до ног — Стефан Пермский и озаренный откровенным знанием, тишайший «совопросник и собеседник» горнего мира, подвижник любви, поборник согласия, духовный собиратель родной земли, заступник ее — Сергий Радонежский» [45, 78].
Характером и судьбой Епифаний был ближе к Стефану, ио своим истинным учителем считал Сергия. Интересно то, как отразил Епифаний его учительскую деятельность. В монастыре у Сергия было много учеников, постригались отроки обычно в 12 лет. Епифаний отмечает постоянную заботу и внимание Сергия к своим ученикам. Многих из них Сергий вывел в ряд видных церковно-политических деятелей.
Сергий был чрезвычайно доброжелателен как к своим ученикам, так и вообще к людям «и, — говорится в Житии, — из всех, кто приходил к нему... не прогонял никого, ни старого, ни юного, ни богатого, ни бедного» [36, 339]. Он внимательно относился к провинившимся, как сказано, «и с яростью не обличал их, и не наказывал их, но издалека, тихо и кротко, как будто притчи рассказывал, говорил с ними, желая узнать их прилежание» [36, 341]. Но тех, кто и после этого не понял своей вины, наказывал строго.
Главнейшим воспитательным принципом Сергия, который особо подчеркивал Епифаний, было то, что Сергий сам являлся безукоризненным примером для своих учеников: «...чему словом учил, то сам делом творил». «Наставляя братию, — писал Епифаний, — немногие он (Сергий. — О. К.) речи говорил, но гораздо больше пример подавал братии своими делами» [36, 413].
В монастыре вообще было очень осторожное отношение к словам и поощрялось молчальничество. Исихастская аскетическая практика (которая, по-види-мому, имела место в монастыре Сергия), а именно молчальничество, созерцание, особые дыхательные упражнения, «умная молитва», ограничения в пище и т. д., рассчитанная на мистический контакт с божественными силами, по существу приучала учеников к углубленному психологическому анализу, внутренней собранности и самодисциплине.
Согласно мнению исихастов, именно подобная мистическая практика открывала дорогу к истинному познанию вещей. Обычное же учение приводило только к так называемым «внешним» познаниям [84, 103]. Учитель не мог непосредственно «передать» свою мудрость ученикам, как бы «перелить» ее из своей головы в голову ученика, он мог только показать тот путь, на котором они смогут ее достигнуть сами.
«Тема неизреченности, невыразимости божественной премудрости, — пишет Д. С. Лихачев, — обычная тема в устах писателей конца XIV — начала XV в. «Временное» и конкретное слово бессильно выразить «вечные» и абстрактные истины, вскрыть непреходящий смысл событий» [53, 81). Часто подобные размышления встречаются и у Епифания Премудрого.
Скептическое отношение к слову как к средству воспитания (словом можно обмануть) и средству передачи знаний (словом нельзя научить) приводит к тому, что Епифаний показывает, как в центре «учительства» Сергия стояло не слово, а положительный пример всей его жизни.
Сергий в изображении Епифания — заботливый сын; с юных лет он отличался трудолюбием, все делал собственными руками. Епифаний подчеркивает, что Сергий всегда был тверд духом и не жаловался ни на какие трудности, был равнодушен к богатству и почестям. Уговорить его стать игуменом монастыря стоило больших трудов. В дальнейшем он отказался от предложения престарелого митрополита Алексия стать его преемником.
Однако Сергий был не просто монахом, он являлся крупнейшей политической фигурой своего времени. Большое место в его деятельности занимала выработка нового идейного направления — троичного учения, разделяемого и Епифанием, историческое значение которого заключалось в том, что оно явилось стимулом к народному единению в период ордынского ига.
По словам исследователя творчества Епифания В. А. Грихина, в образе Сергия автор «воплощает нравственный идеал эпохи второй половины XIV века, который не был отвлеченным богословским представлением, а являлся нормой поведения для лучших представителей русского общества, думавших о судьбах Родины» [27, 11].
2. МАКСИМ ГРЕК (OK. 1470 —
Творчество этого крупнейшего деятеля отечественной культуры XVI в. имеет ярко выраженную учительную, просветительную направленность. Филолог, мыслитель, публицист, переводчик, он оказал большое влияние на многие умы России того времени. Один из его последователей — князь Андрей Курбский называл своего учителя «мужем зело мудрым», «философом искусным», «новым исповедником» [96, 207].
Известный на Руси под именем Максима Грека, урожденный Михаил Триволис прожил долгую и богатую событиями жизнь, без знания которой невозможно понять подлинный смысл его деятельности. Он родился в греческом городе Арте, находившемся под турецким владычеством, что побудило его после получения домашнего образования перебраться сначала на о. Корфу, входивший во владения Венецианской республики, а затем в Северную Италию. Знатное происхождение, хорошее образование, интерес к наукам позволили ему сблизиться с видными представителями итальянского Возрождения Иоанном Ласкарисом, Анджело Полициано, Альдо Мануцием. Несколько лет он состоял на службе в качестве секретаря у Пико делла Мирандола — младшего [109, 213 — 217]. Предполагают его знакомство с философами и гуманистами Academia Platonica во главе с Марсилио Фичино [110, 113]. Но особое воздействие на впечатлительного Триволиса оказали страстные проповеди Савонаролы и его трагическая кончина. В 1502 г. он постригся в монахи доминиканского монастыря св. Марка во Флоренции, через два года покинул его и в 1505 г. оказался на Афоне, где принял под именем Максима постриг в Ватопедском Благовещенском монастыре. На Афоне, бывшем «высшей духовной школой» для всего православного мира, он прожил 10 лет, окончательно сформировавшись как личность и как знающий книжник.
В 1518 г. Максим по приглашению великого князя Василия III прибывает в Москву. Отныне он становится известен как Максим Грек и вся его дальнейшая судьба связана с Россией. Его келья в Чудовом монастыре оказывается притягательным духовным центром, где собираются любители знания «спираться меж себя о книжном» [41, 155]. Среди них Вассиан Патрикеев, Федор Карпов, Дмитрий Герасимов и многие другие известные деятели русского общества того времени. Но в 1525 г. Максим за свою нестяжательскую позицию (отрицание монастырского землевладения) и несогласие с автокефальностью (полной независимостью от Константинопольской патриархии) русской церкви лишается расположения Василия III, осуждается по инициативе митрополита Даниила церковным собором и посылается на покаяние в Иосифо-Волоколамский монастырь. По решению собора 1531 г. он переводится на последующее заточение в Тверской Отрочь монастырь. К концу жизненного пути Максим освобождается от обвинений и переводится в Троице-Сергиев монастырь, где, окруженный почетом и уважением, умирает в конце 1555 г. (согласно его житию) либо в начале 1556 г. (по дню памяти — 21 января ст. ст.), прожив около 85 лет.
Творческое наследие Максима обширно и многообразно (365 произведений, по подсчетам А. И. Иванова [38]), но нуждается в ряде уточнений и разделении на оригинальные, переводные и приписываемые ему сочинения. Известно несколько рукописных собраний его трудов, в том числе 3 прижизненных, правленных авторской рукой [91, 43 — 60]. По жанру это слова, сказания, речи, диалоги, толкования, послания, переводы и т. д. Авторитет Максима в XVI — XVII вв. был необычайно высок, его творения известны во многих списках, ссылки на него постоянно присутствуют в источниках, он отнесен к числу немногих особо почитаемых авторов [46, 3 об.]. Сохранилось немало имевших определенное воспитующее значение икон, фресок, миниатюр с изображением Максима [5]. Как достойный носитель высокой античной цивилизации он изображен на фресках паперти Благовещенского собора Московского Кремля среди Гомера, Платона, Вергилия и других великих учителей человечества. Есть несколько письменных свидетельств, сказаний, эпитафий и житие, посвященные Максиму [10, 220]. С началом книгопечатания его труды стали издаваться одними из первых.
Личность, взгляды, практика Максима Грека сложны и не поддаются однозначной оценке. Своеобразно соединивший в своем творчестве традиции византийской, западной и древнерусской культур, он среди своих современников, а позднее среди исследователей получает различные оценки: «светильник православия», «апостол западной цивилизации», «греческий агент», «патриот России», деятель с явно возрожденческими тенденциями, типично средневековый богослов и т. д. В России за наследие Максима шла борьба между никонианами и старообрядцами. Среди «ревнителей древлего благочестия» афонец был одним из почитаемых авторитетов [104].
Просветительская деятельность Максима Грека связана прежде всего с переводом греческих книг, ради чего он и был приглашен в Россию как видный представитель византийской учености [113]. Основной переведенный им труд — фундаментальная Псалтырь толковая, содержащая толкования 24 авторов на 150 канонических псалмов. Перевод толкований к Псалтыри на несколько веков определил традиции изучения этого памятника. На нем были воспитаны многие поколения русских людей и создано немало произведений, начиная с «Поучения» Владимира Мономаха и включая поэзию Ломоносова, Державина, Языкова, Шевченко, русских символистов XIX — XX вв. Известны собственные комментарии Максима к отдельным псалмам.
Максим также переводил и отчасти комментировал творения Иоанна Златоуста, Василия Великого, Григория Богослова, Кирилла Александрийского, Симеона Метафраста, Иосифа Флавия, Энея Сильвия и других. Большое общеобразовательное значение имеют его переводы статей из византийского энциклопедического сборника X в. «Свида», содержащие сведения об Оригене, Платоне, Нероне, сивиллах, образах античной и библейской мифологии [24]. Максим Грек принес новые методы критического анализа источников, адекватного их перевода и правки несовершенных переводов. Филологическая практика афонца, его теоретические взгляды повлияли на составление обширных сводов, предпринятое митрополитом Макарием, правку книг патриарха Никона и деятельность первопечатников во главе с Иваном Федоровым. Прослеживается влияние Максима на создание азбуковников. В них входили принадлежащие ему «Толкование именам по алфавиту», ряд статей, комментариев, цитаций, переводов [47, 116 — 258].
Весьма велика роль Максима Грека в становлении грамматики, понимавшейся в широком смысле как наука о языке и включавшей орфографию, просодию, синтаксис и этимологию. Сохранилось несколько сочинений афонца по грамматике и методам изучения языка. Он называет грамматику «началом входа» к философии, понимая ее как преддверие знания вообще. Максим отмечал сложность изучения такого развитого языка, как греческий, постигнуть
который можно лишь под руководством искусного учителя и не менее чек за год, удалившись от мирских треволнений и полностью сосредоточившись на процессе обучения1. Известно, что он сам обучал греческому языку, в частности, Нила Курлятева в Троице-Сергиевом монастыре.
Любопытна его статья «О пришельцах философех», где говорится о том, как надо испытывать приходящих учителей греческого языка, чтобы обличать шарлатанов и по достоинству оценивать знающих дидаскалов. К статье прилагались два стиха на греческом языке, написанные гекзаметром и пентаметром, которые испытуемый должен был правильно перевести и истолковать. Статья вошла в некоторые списки азбуковников [62, 54 — 55]. Это, пожалуй, первый на Руси своеобразный педагогический тест.
Мысли Грека о грамматике стали широко известны в восточнославянском мире, ибо они вошли в качестве «книги философской» в известную «Грамматику» Мелетия Смотрицкого [58, 347 — 386]. Грамматику как особую дисциплину стали изучать на Руси во второй половине XVI в. под влиянием Грека [93, 21]. Даже в XVIII в. авторитет афонца в этой области был достаточно высок: в типографии при Московском университете издается один из приписываемых ему трудов [56], а в 1794 г. Академия наук, приступая к печатанию российской грамматики, руководствуется прежде всего грамматиками Максима Грека и М. В. Ломоносова [38, 91].
Максим Грек был сторонником более широкого и основательного образования, чем то, которое было на Руси в XVI в. За два века до открытия Московского университета он выступает пропагандистом высшего образования. Он дает описание крупнейшего в Европе Парижского университета, где бесплатно преподаются не только богословие, но и светские науки, главным образом гуманитарные. Со всей Европы съезжаются в Париж молодые люди разного социального происхождения: «сынове простейших человек», «болярского и княжескаго сана». Такими подобает быть и нашим юношам, замечает афонец, «иже у нас о благородии и изобилии богатства зело хвалящеся» [94, ч. 3, 179 — 1801. Подчеркивается, что государство в лице королевской власти поддерживает и обеспечивает развитую систему образования, а преподаватели получают высокое вознаграждение за свой труд.
Эта возрожденческая тенденция сочетается у афонца со средневековым осуждением чрезмерного увлечения светскими науками. В описании «училищ италийских», содержащемся в «Слове на латинов», он замечает, что «латин-стии сынове» более следуют «внешнему диалектическому ведению, неже внутренней церковной и богодарованной философии» [94, ч. 1, 248 — 249]. Следуя святоотеческой традиции, Максим разделяет науки на «внешние» и «внутренние». Если первые полезны в практической деятельности, то для духовного самосовершенствования важнее вторые. Многознание не научает добру, нужно стремиться к «горнейшей премудрости». У Максима нередко встречаются осуждения «акадимейского хитрословного высокоумия», заумной болтовни «внешних софистов», но вместе с тем он, будучи философом, высоко ценит языческую мудрость в лице Сократа, Платона,.Аристотеля [28, 94 — 96].
Оценивая взгляды Максима, следует учитывать их сложную эволюцию и конкретные обстоятельства создания анализируемых сочинений. Преследуемый церковными соборами, гонимый влиятельными недоброжелателями, обвиняемый в «порче» канонических книг, Максим взвешивает каждое слово, пытается представить себя лояльным сторонником православия. Но он же осуждает слепое благоговение перед текстами, утверждает практически и теоретически усвоенные им нормы современной филологической науки, объективно способствуя тем становлению новых культурных принципов.
Будучи энциклопедически образованным человеком, Максим Грек привнес много ценных идей и знаний в русское общество. Он объясняет, что такое греческий акростих, латинская пиета, описывает трагическую судьбу Савонаролы, рассказывает об устройстве православных и католических монастырей. Именно от него узнают на Руси о существовании Кубы и Молуккских островов, о Великих географических открытиях и освоении Нового Света. Значителен его вклад в распространение идей, образов и представлений высокоразвитой эллинской цивилизации, достойным представителем которой он явился на Руси [24].
Максим Грек был страстным публицистом, талантливым писателем. Немалый интерес представляют его обличения теневых сторон жизни русского общества [82]. В полемике с «немчином» Николаем Булевым он критикует «звездозрительную прелесть» (астрологию), занесенную с Запада, порицает веру в «колесо фортуны», высмеивает бытовые суеверия, нелепые представления и ограниченность ума, бичует пьянство, чревоугодие, выставляет праздность как «мать всех пороков», призывает к трудолюбию и воздержанию: «Бегай праздности губителныя, деланием же рук отгоняй уныние мысли своея» (94, ч.2, 28 — 29].
По античной традиции Максим Грек выделяет три начала в человеке: духовное, душевное и телесное. Живущий плотскими радостями уподобляется скоту, увлеченный своими чувствами становится эгоистом, лишь «муж духовен» живет в истине. Понимая сложность человеческой души, сравниваемой им то с кораблем, волнуемым житейским морем, то с воском, способным принимать любые письмена, то с землей, могущей дать обильный урожай при правильном ее возделывании или стать бесплодной при небрежном обращении, то с зерцалом, тускнеющим от губительных страстей, Максим не догматическим декларированием, а искренним, доброжелательным увещеванием стремится воспитать в человеке стремление к добру. В одном из лучших его диалогов — «Беседует ум к души своей» ум как выразитель духовного начала призывает душу исторгнуть нечестивые помыслы, возлюбить истину, проникнуться чувством ответственности и твердо стать на путь добродетельной жизни: «Скоро убо, о душе, познаим себе и своего создания достойна да мудръствуим» [94, ч.2, 11]. Глубоко диалектической является мысль о том, что жизнь без забот (просторный путь) развращает, в то время как жизнь, исполненная борьбы и даже страданий (тесный путь), укрепляет и совершенствует человека, «на страданье бо и подвиги вышним приведена была еси» душа человеческая.
Полемические заметки органично сочетаются у Максима Грека с позитивными идеями. Примером может служить «Послание к некоему мужу поучительно на обеты некоего латынина мудреца» [94, ч.З, 226 — 236]. В нем дается критический анализ «Луцидариуса», одного из наиболее популярных «естественнонаучных» апокрифов, построенного в форме диалога учителя и ученика. Ответы учителя, в которых рассматриваются разнообразные вопросы — от натурфилософских и богословских до самых обыденных, представляют, по мнению Грека, «сор пословиц еллинских», эклектическую смесь языческих представлений. Иронично переиначивая название книги «Луцидариус» («Просветитель») в «Обтенебрариус» («Затемнитель»), Максим призывает своего адресата «кира Георгия» изучать труды Иоанна Дамаскина.
Максим Грек критикует и социальные пороки — «градские недугования», показное благочестие, эксплуатацию крестьян, отсутствие заботы о бедных, праздную жизнь верхов, забывающих о благе народа. «Славолюбцам» и «властолюбцам», обирающим народ, он бросает гневные слова пророка Иеремии: «Горе вам, пастырем, яко себе пасете, овцы же мои гладом тают» [94, ч.2, 326]. Духовным владыкам, не жалеющим средств для украшения храмов, он от имени Христа говорит, что эта роскошь неугодна богу. Нужно не Евангелие облачать в драгоценные оклады, а прежде всего исполнять его суть, быть милосердным к ближнему, помогать сиротам и вдовам, давать щедрую милостыню бедным. И воздержание от пищи не великая добродетель, нужно прежде всего соблюдать «духовный пост» — воздержание от греховных дел и помыслов. Известно немало разъяснений афонца по поводу монашеского воспитания, занимавшего важное место в общей системе средневекового воспитания на Руси.
В своих «эпистолиях» Максим Грек выступает в роли мудрого учителя. Широк круг его адресатов: он пишет инокам, мирянам, митрополитам, князьям, своим друзьям и недругам. Весьма содержательны его послание к Ивану Грозному и специально созданное для вразумления юного государя сочинение «Главы поучительны начальствующим правоверно» [94, ч. 2, 157 — 184]. Афонец пишет о высокой ответственности людей, принимающих власть, о необходимости быть примером для подданных, быть «самодержцем» прежде всего по отношению к себе. Он выделяет три греховные страсти, ведущие к падению: «сластолюбие», «славолюбие» и «сребролюбие», которым надо противопоставить три добродетели: «целомудрие», «правду», «кротость». Правителям следует опираться на советников добрых, а не лукавых, чтобы «отечески и владычески» заботиться «равне о всех сущих под ними градех же и языцех». В другом послании Ивану IV Максим в качестве идеального правителя рисует Александра Македонского, воспитанника Аристотеля. Взгляды Грека не оставались «отвлеченным построением ученого отшельника» [86, 108], они проявились в решениях Стоглавого собора 1551 г. и в политике «Избранной рады», успешно управлявшей страной в первые годы правления Ивана IV.
Неоднократно встречается в сочинениях Максима Грека образ учителя. Он сравнивает мудрого наставника с «душеполезным» врачом, излечивающим душевные недуги, с добрым пастырем, заботящимся о своих овцах и готовым душу положить за них, с искусным садовником, терпеливо выращивающим молодую поросль.
Отражением устойчивых эллинских представлений о человеке и мире является краткая статья «Седмь степеней человеческаго жития», имеющая антропологическое, педагогическое и мировоззренческое значение: «Младенец 3 лет, детищ 6, отрочище 9, отрок 12, юноша 20, муж 30, стар 50 лет. Даждь часть седмим, даждь и осьмому, сиречь седмим настоящему житию сему тленному, даждь и осмому будущему веку духовная дела степеней» (отдав должное семи ступеням земной жизни, следует обратиться к восьмой, небесной) [94, ч. 3, 281].
Каждый человек, считает Максим, должен найти свое призвание. Одним дается свыше «даяние благо», другим же — «дар совершен» — слово премудрости, дар пророчества, исцеления, толкования языков. Многие обладают душевными добродетелями, но мало кто имеет дар быть искусным в духовной деятельности, направленной на просвещение человечества. Максим Грек обладал таким даром, и он всецело посвятил его людям, заслужив уже при жизни высокое уважение. «Бе же сей Максим велми хитр еллинскому, римскому и славенскому наказанию и от внешних учений ничтоже утаися от него, и о божественней философии несытно рачителство имея» (цит. по: [10, Прилож., VIII]). И хотя в России он «пострада доволна лета за истинну», своим самоотверженным служением высокой цели воспитания ближнего он здесь обрел бессмертную славу, ибо учил добру не только словом, но и делом, не только своими сочинениями, но и всей своей жизнью, наилучшим образом воплотив древнерусское представление об учителе как практическом наставнике добродетельного жития.
3. ИВАН ФЕДОРОВ (OK. 1510 — 1583)
Великий русский гуманист и просветитель Иван Федоров, основавший первые типографии в Москве и на Украине, не оставил после себя стройной педагогической теории. Но человек, создавший первый восточно-славянский учебник, конечно же, не мог быть равнодушен к проблемам воспитания подрастающего поколения. Он, видимо, много размышлял над этими проблемами, стремясь послужить своим искусством делу «скораго младенческого научения» [1, 39 об.] Поэтому вопрос о педагогических взглядах Ивана Федорова представляется закономерным.
Есть основания полагать, что Иван Федоров не был чужд университетской науке. В книгах Краковского университета, где записывались имена лиц, удостоенных ученой степени, обнаружена запись: «Иван сын Федора Москви-тин». Человек с таким именем в 1532 г. получил здесь степень бакалавра [65, 49 — 56]. Если это действительно наш будущий первопечатник, то мы можем утверждать, что он был хорошо знаком с педагогической мыслью античности и феодального общества. Профессора Краковского университета толковали студентам сочинения Аристотеля и, конечно, не проходили мимо его взглядов на физическое, нравственное и умственное воспитание человека. В богатых книгохранилищах университета Иван Федоров мог познакомиться с трудами по вопросам педагогики. В XV в., например, неоднократно издавалось сочинение римского педагога Марка Фабия Квинтилиана (35 — 96 н. э.) «О воспитании оратора», имевшееся в университетской библиотеке. В текстах, подобранных Иваном Федоровым из Священного писания для Азбуки 1574 г., есть определенная перекличка со взглядами Квинтилиана на предназначение учителя, на необходимость для педагога быть требовательным, но сдержанным, на великий дар любви к детям. Уровень преподавания в Краковском университете был высоким. Здесь всегда были живы традиции таких блестящих педагогов, каким, например, был Ян из Глогова (1445 — 1507), учитель Николая Коперника.
Все, о чем шла речь выше, может быть сказано лишь в порядке гипотезы, но гипотезы очень вероятной. Создание начального учебника грамоты, каким и была Азбука Ивана Федорова, предполагает у его автора наличие серьезных познаний как в области грамматики, так и в сфере педагогической мысли. Такие знания в первой половине XVI в. можно было получить только в университете.
Источником для изучения педагогических взглядов великого русского просветителя служат составленные им учебники — Азбуки 1574 и 1578 гг. и предисловия в изданных им книгах. Следует сказать, что число учебных книг, выпущенных Федоровым, нельзя ограничивать только Азбуками. На Руси вплоть до конца XIX в. для обучения грамоте активно использовалась и литургическая литература, прежде всего Псалтырь и Часовник. Поэтому нельзя сбрасывать со счета Часовник, выпущенный двумя изданиями в Москве в сентябре — октябре 1565 г., а также Псалтырь с Часословцем, напечатанную Иваном Федоровым в белорусском городке Заблудове 23 марта 1570 г. Две Псалтыри выпустила в свет и первая, так называемая анонимная Московская типография, работавшая в 1553 — 1563 гг. В этой типографии, как считается, трудился и Иван Федоров [64, 147 — 270]. Определенный педагогический заряд несло Евангелие учительное, напечатанное Иваном Федоровым и Петром Тимофеевым Мстиславцем в Заблудове 17 марта 1569 г.
Тема «божественного» просвещения пронизывает все послесловие Ивана Федорова. «Божественное слово» у него обычно ассоциируется с книгой, которая, как сказано в послесловии Часовника 1565 г., «до вся роды человеча да просветит тех разум силою божественною по богатьству славы своея и утверди в любви... в разуме и во всяком чювствии со отложением злых деяний и восприятием духовных плодов». Цель Ивана Федорова и состояла в том, чтобы распространить просвещение «на восток лежащая части вселенный росийское».
В предисловии к Евангелию учительному, написанному от имени гетмана Григория Ходкевича, на чьи средства была основана типография в Заблудове, сказано: «...и сию душеполезную книгу... к лучшему поучению и исправлению душевному и телесному народом... дали». Чтение книг — лучший способ морального совершенствования. В том же предисловии читаем: «...мнози... людие... сих книг читанием возмогут себе исправити».
Неустанно трудиться во славу просвещения Иван Федоров считал главной задачей своей жизни. Впоследствии, когда Ходкевич охладел к книгопечатанию и, желая вознаградить типографа, решил подарить ему поместье, предложив «земледеланием житие мира сего препровождати», Иван Федоров отказался и произнес при этом прекрасные слова: «Неудобно ми бе ралом (плугом) ниже семен сеянием время живота (жизни) своего сокращати, но имам убо вместо рала художьство наручных дел сосуды, вместо житных семян духовная семена по вселенной разсевати».
Мнение о необходимости просвещения в ту пору на Руси далеко не было общепринятым. Влиятельная группировка священнослужителей осуждала распространение книги в массах, утверждая: «Грех простым чести (читать) Апостол и Евангелие!» В арсенале гонителей книги был и такой немудрящий аргумент, как утверждение, что именно книга является причиной духовных недугов человека: «И аще кому прилунится недуг, от него же человек естествен-наго смысла испадет, тоже прелщающе глаголют: зашелся есть в книгах!» Эти аргументы обскурантов, противников просвещения сохранили нам полемические послания старца Троице-Сергиева монастыря Артемия, одного из предшественников Ивана Федорова на ниве просветительства [77, 1201 — 1448]. Артемий противопоставил им свою гуманистическую позицию. «Никто же бо с разумом родися когда, — писал он, — но учитися всякому словеси надлежит нужа... от учения бо разум прилагается, яко же в святых людех глаголется, еже и до смерти учится подобает». Послания Артемия, с которыми Иван Федоров был знаком, могли оказать немалое воздействие на формирование взглядов первопечатника.
«Мнящиеся быти учителя» обвинили Артемия в ереси и заставили его покинуть Москву. От «озлобления» тех же «учителей» некоторое время спустя пострадал и первопечатник. Они «зависти ради» «многие ереси» на него «умышляли, хотячи благое в зло превратити и божие дело вконец погубити». Показательно, что, рассказывая об этом в послесловии к львовскому Апостолу 1574 г., Иван Федоров подчеркивает низкий профессиональный уровень своих оппонентов: «...неискусных в разуме человек, ниже грамотическия хитрости навыкше, ниже духовного разума исполнены бывше» [4, 260]. Сам же Иван Федоров был в полной мере обучен «грамматической хитрости». Свои знания он с успехом использовал при подготовке к изданию учебной литературы.
Для характеристики педагогических взглядов Ивана Федорова особый интерес представляет «Предисловие в книгу сию, глаголемую Псалтырь» (1570).
Оно начато тезисом о полезности книги: «Всяко писание богодуховенно и полезно». Далее говорится об особой полезности «псаломской книги», которая используется в обучении письму и чтению, «пророчествует будущая», «изымает страсти» и т. д. Тщательно подчеркивается значение Псалтыри как учебной книги. По мнению автора предисловия, использовать для этой цели Апостол или же Книгу пророков не следует, ибо приведенные там тексты трудно запоминаются. Псалмы же дети неоднократно слыщят с самого детства, их «по домам поют и на торжищах обносят». Далее. ,следует своеобразный гимн Псалтыри: «...псалом тишина душам, податедь смирению», «...псалом дружбе собратель и совокупление растроящимся», «...псалом... младенцем утверждение, растущим удобрение, старым утешение, женам прикладнейшая доброта».
Тот факт, что заблудовская Псалтырь 1570 г. активно использовалась в учебном процессе, доказывается ее редкостью (3 экземпляра).
Азбука Ивана Федорова — первый восточнославянский учебник, сыгравший колоссальную роль в истории отечественной педагогики. Разработанная Иваном Федоровым система начального обучения грамоте оказалась очень практичной и бытовала в России на протяжении 120 — 150 лет. Мы не знаем, существовали ли древнерусские рукописные Азбуки, — ни одна из них не дошла до нашего времени. Однако известны такие сочинения, как, например, «О осьми частях слова», грамматический труд, который традиция приписывала Иоанну Дамаскину, а перевод его с греческого на славянский — Иоанну экзарху Болгарскому. Об этих сочинениях, вероятно, и говорит Иван Федоров в предисловии к Азбуке 1574 г. У Дамаскина даны общие сведения о частях речи, о склонении существительных и спряжении глаголов, но система начального обучения грамоте в Азбуке Ивана Федорова к работе Иоанна Дамаскина прямо восходить не может. Есть отдельные параллели между этой системой и западноевропейскими учебниками, в частности польскими. Однако так или иначе, но сегодня в нашем распоряжении нет прямых аналогий для системы Ивана Федорова.
В заключении Азбуки 1574 г. приведены отрывки из Книги притчей Соломона и апостольских Посланий, подобранные таким образом, что они как бы составляют советы для родителей, учителей и учеников. Педагогическая нагрузка этих текстов очень велика. Это еще один источник, позволяющий нам судить о педагогических взглядах Ивана Федорова.
В отрывке из притчи 22-й, который в yctfax Ивана Федорова обращен к учащимся, идет речь о пользе «научения»: «Сыну мой, приклони ухо твое и послушай словес мудрых. И приложи сердце твое к научению моему, понеже украсит тебя...». Следующие тексты толкуют морально-этическую тему: «Не сотвори насилия убогому», «Не дотыкайся межей чужих и на поле сироты не вступай». И снова, на этот раз в цитатах из притчи 23-й, звучит тема всеобщей пользы образования, науки: «Да внидет к научению сердце твое и уши твои к словесем разума». Идет речь и о необходимости почитать родителей: «Послушай отца твоего и не погорди материю твоею». В отрывке из притчи 23-й наука уподобляется меду: «Яжь мед понеже есть добрый и сот медов сладок есть гортани, тако же и наука мудрости души твоей».
В следующем далее подборе цитат из Книги притчей Соломона и из Посланий апостола Павла Иван Федоров обращается к родителям и учителям, предваряя цитаты фразой: «К вам же, отцы и учители, тако глаголет». В полном согласии с духом времени рекомендуется строго наказывать детей: «Не отымай от детища твоего казни, безумие бо есть привязано в сердце отрочате», «Детищу, иже дают волю его, напоследок посрамотит матерь свою», «Аще ли накажеши его жезлом, не умрет от того. Ты бо жезлом биеши
его, душу же его от ада избавиши», «Аще ты в юности накажеши его, а он успокоит тебе на старость твою». Призывая на помощь авторитет апостола Павла, Иван Федоров приводит слова из Послания к ефесянам: «Чада, послушайте своих родителей., да благо будет вам и будете долголетны на земли».
Отдав дань традициям, Иван Федоров устами апостола Павла советует родителям и учителям умело сочетать в системе обучения строгость и ласку, наказание и поощрение: «Отцы, не раздражайте чад своих, но воспитывайте их в наказании... в милости, в благоразумии, в смиренномудрии, в кротости, в долготерпении, приемлюще друг друга и прощение дарующе».
Раздел завершают выдержки из Послания апостола Павла к солунянам, которые как бы формулируют целенаправленную гуманистическую программу начального образования. Подбирая их, говорил академик М. Н. Тихомиров, «Иван Федоров выступает перед нами провозвестником гуманной педагогики» [100, 338]. «Молю вы, братие, — призывает Азбука Ивана Федорова, — утешайте малодушьныя, носите немощьная, долготерпите в всех, блюдете да некто зла за зло кому не воздаст». «Всегда радуйтеся» — таков заключительный аккорд отобранных Иваном Федоровым текстов для чтения.
Азбука 1574 г. завершена кратким послесловием. Обращаясь к «возлюбленному честному христианскому народу русскому», Иван Федоров пишет, что он «сложил» начальный учебник грамоты «ради скораго младеньческаго научения». «Приимете сия с любовью, — просит он читателя. — А я и о иных писаниях благоугодных с вожделением потрудитися хощу».
Среди этих писаний были и новые учебники — Азбуки, изданные в Остроге. Первопечатник рассказывал о том, как его покровитель князь К. К. Острож-ский устроил в своем имении типографию — «дом на дело книг печатных» и школу — «дом и детем к научению». В этой школе были собраны высококвалифицированные, как мы сказали бы сейчас, преподавательские кадры: «И избравши мужей, в божественном писании искусных, в греческом языце и в латинском, паче же и в русском, и пристави их детищному училищу». Для школы и были напечатаны азбуки греческого и русского языков. Последние девять листов нового издания русской азбуки занимает Сказание черноризца Храбра «О письменах». Рассказ о возникновении славянского письма был более чем уместен на страницах начального учебника грамоты. Текст этот обращен как к педагогу, так и к ученику. Для учителя это своеобразное пособие по истории культуры вообще и по истории педагогики в частности, а для ученика — текст для чтения. Можно говорить и об определенной методической направленности Сказания. Оно содержало указания о произношении отдельных знаков кирилловского алфавита. Так, чтобы произнести букву «аз», нужно широко раскрыть рот — «великим раздвижением уст возгласит-ся». Публикация Сказания имела и полемический характер. Она была направлена против католической пропаганды, которая устами иезуита Петра Скарги утверждала: «Со славянского языка нигде и никто ученым быть не может... Ибо нет на свете нации, которая бы на нем, как в книгах написано, говорила. А своих правил и грамматик с толкованием для языка этого не имеется и быть не может» (78, 485 — 486]. Это было написано Скаргой через три года после выхода в свет Азбуки 1574 г. Естественно, что в новом издании Азбуки Иван Федоров не мог не ответить на этот злонамеренный полемический выпад.
Сказание «О письменах» сыграло немалую роль и в воспитании у учеников патриотического чувства любви к родному языку. Введенное Иваном Федоровым на страницы начального учебника грамоты, оно остается здесь на протяжении многих лет.
В 1580 г. Иван Федоров выпустил в Остроге Псалтырь, Новый завет и указатель к нему — «Книжку Собрания вещей нужнейших», составленную другом первопечатника Тимофеем Михайловичем Анничем, учителем острожской школы. «Книжка» — первый в истории русской документалистики алфавитнопредметный указатель, но вместе с тем и сборник афоризмов и крылатых слов. Отсюда педагогическое значение этого издания, знакомящего читателей с афористической мыслью Древней Руси. Многие выражения, помещенные здесь, имели нравоучительный характер, например: «Сребролюбие корень всем злым есть», «Человек что сеет, то и пожнет».
Последний труд Ивана Федорова — Острожская Библия, выпущенная за два года до смерти, в 1581 г. Эта книга сыграла немаловажную роль в средневековой педагогике. Здесь уместно воспомнить слова великого белорусского просветителя Франциска Скорины, с изданиями которого Иван Федоров, конечно, был знаком. «Хощеши ли умети грамматику, — писал Скорина, — или, по-рускы говорячи, грамоту, еже добро чести и мовити учить, знайдеши в зуполной Библии Псалтыру, чти ее». Скорина видел в библейских книгах источник для изучения логики («она же учить з доводом розознати правду от кривды»), риторики, музыки, арифметики («еже вократне... считати учить»), геометрии («еже по-русски сказуется землемерен не»), астрономии, истории и других наук [92, 62 — 63].
Педагогическая система начального обучения грамоте, разработанная Иваном Федоровым, надолго пережила своего создателя. Ее с успехом использовали Василий Бурцов, Спиридон Соболь, Симеон Полоцкий, Федор Поликарпов и другие составители русских, украинских и белорусских букварей.
4. СИМЕОН ПОЛОЦКИЙ (1629 — 1680)
Педагогическую деятельность выдающегося славянского просветителя Симеона Полоцкого (до принятия монашества в 1656 г. Самуил Гаврилович Петровский-Ситнианович)1 можно условно поделить на три периода: служение дидаскалом в младших классах братской школы при Богоявленском монастыре в Полоцке (1656 — 1663), преподавание в Заиконоспас-ской школе и обучение наследников в Москве до восшествия на престол царевича Федора (1664 — 1676), просветительская деятельность в общегосударственных масштабах после провозглашения Федора царем (1676 — 1680). Для всех этих периодов характерна широта и многоплановость подхода Симеона к проблемам педагогики. Много сил отдал Полоцкий борьбе за создание высшего учебного заведения в России, ему также принадлежит заслуга организации Верхней Московской типографии. Писатель имел одно из крупнейших для своего времени частных книжных собраний [55, 123 — 125].
Педагогические представления Полоцкого сближают его с преподавателями Киево-Могилянской коллегии, в которой Симеон обучался. Большое влияние оказал на Полоцкого профессор и ректор коллегии Иннокентий Гизель, читавший в 1645 — 1647 гг. двухгодичный курс «Сочинение всей философии», в состав которого входил и специальный психологический «Трактат о душе», справедливо называемый «самым ранним отечественным учебником психологии» [79, 2]. Знание Полоцким основ психологии, умение и стремление учитывать психологию читателя и ученика заметны при анализе его произведений, где обычно «менялось изложение в зависимости от типа читателей» [30, 75]. Уже ранние вирши Полоцкого демонстрируют знакомство автора с психологи-
О Симеоне Полоцком см. также: разд. I, гл. III.3; разд. II, гл. III.2 — «Верхняя типограф
ческой теорией того времени, выделившей четыре типа темперамента: «полнокровных» (очевидно, сангвиников), холериков, меланхоликов и флегматиков.
Психология и знание души другого человека неотделимы от самопознания, к которому призывали преподаватели Киевской коллегии. Так, профессор Иосаф Кроковский начинал одну из своих лекций со слов «Познай самого себя» (59, 79]. Полоцкир также стремился объяснить читателям и ученикам необходимость и ценность самопознания, утверждая: «Не знаяй собе, ничесо же знает», «Благо есть человеку самого ся знати».
Киевским философам было свойственно своеобразное понимание времени и его ценности. Оно вошло и в философско-педагогическую концепцию Полоцкого. В средние века быстротекущее время не воспринималось как ценность. Но уже Петр Могила в своей «Анфологии», изданной в 1636 г., призывал педагогов беречь время, которое необходимо для обучения. Как одну из самых больших, невосполнимых ценностей бытия воспринимал время Полоцкий:
Злато погубленное может ся иажити,
Времеие же протекша несть лет возвратити [39, 262].
Полоцкий одним из первых заговорил в своих проповедях о необходимости гражданского воспитания подрастающего поколения. Он считал необходимым учить детей, «како честно гражданствовати в мире». В этом также можно заметить отзвуки того воспитательного идеала, который выдвигала «Анфология» Петра Могилы.
Воспитанию гражданских чувств во многом способствовал школьный театр. Он вносил в педагогическую практику коллегии элементы игры. К театральным действиям прибегали в преподавании двух из семи свободных искусств — поэтики и риторики. Школьный театр был составной частью педагогической программы. Декламации развивали память и воображение учащихся, совершенствовали дикцию; публичные выступления в какой-то мере помогали овладеть ораторским искусством, столь необходимым образованному человеку.
Симеон высоко ценил школьный театр и его роль в процессе обучения и воспитания. Во время кратковременного обучения в иезуитской Виленской академии (ок. 1650 — 1654) Полоцкий написал одну из первых школьных пьес на польском языке [25, 311]. Он последовательно использовал школьный театр на всех этапах своей педагогической деятельности. Уже в Полоцке молодой дидаскал ставил с учениками братской школы небольшую пастораль собственного сочинения «Беседы пастушеские» [106, 65 — 92]. К театрализованным выступлениям с декламацией и диалогами будет привлекать Симеон всех своих учеников, начиная с полоцких отроков и кончая московскими царевичами.
Крупнейшие драматические произведения Полоцкого («Трагедия о Навху-доносоре» и «Комидия притчи о блудном сыне») написаны им уже в Москве. Симеон стремился сделать свои пьесы «уроками» не только для блудных сыновей, но и для отцов [33, 250]. Не случайно из обширного фонда ветхозаветных и новозаветных сюжетов писатель выбрал именно те, главными действующими лицами в которых являются молодые люди.
Интерес к человеку, ярко выраженный гуманизм были воспитаны в Полоцком такими талантливыми педагогами Виленской иезуитской академии, как Ленчиц-кий, Лауксмин, Залусский. Симеон, очевидно, был знаком с двухтомными «Духовными сочинениями» (1650) Николая Ленчицкого. Особенно близок Полоцкому должен был быть трактат «О власти над человеческими страстями», в котором философ идеал практической жизни ставил выше созер-
цательного идеала и рассуждал о разуме, направляющем волю к власти над чувствами, о цели человеческой жизни — земном счастье. В одной из проповедей Симеон давал человеку следующую оценку: «Кого ради солнце день творит, луна со звездами тму нощную озаряет? Ради человека. Кого ради сокровища злата и сребра, и каменей честных в недрах земных, и бисеры драгия в пучинах водных соблюдаются? Человека для. Паче же и ангелы, честнейши естеством от человека, человеку наЙпужбу богом установи-шася, по свидетельству язык учителя...» [90, 13 об.]:
Очевидно, большое влияние на Полоцкого-пропове)].ника оказал и виленский доктор философии и теологии Сигизмунд Лауксмин (1597 — 1670), преподававший в академии риторику. Энциклопедист Симеон разделяет взгляды Лауксми-на на красноречие как «Говорящую мудрость». Красноречие должно обладать содержательной полнотой, которую оно обретает в философии и других науках. Эти мысли созвучны взглядам Полоцкого на искусство проповеди: рассматривая проповедь как .средство обучения и воспитания, Симеон уделял особое внимание риторической стороне своих выступлений. Он считал, что оратор (или проповедник), прежде чем обратиться к слушателям, сам должен познать истину, сам обязан обрести познание «природы вещей», воплотить в своем знании все имеющиеся сведения, добытые наукой. Красноречие — искусство, которое «знание в себе» делает «знанием для всех». Именно вера в то, что красноречие может выполнять педагогическую функцию нравственного преобразования человека, вдохновляла Полоцкого на напряженную проповедническую деятельность, которая позволила ему значительно увеличить аудиторию просвещаемых. С 1666 по 1675 г. Полоцкий написал более 200 проповедей и поучений. В проповедях и виршах Полоцкого звучат мысли о том, что философия — «наставница в нравах», призванная служить усовершенствованию человеческой нравственности:
Естество дает токмо еже жити,
Философия учит благо жити... [90, 70].
Недаром московские богословы все время подозревали Симеона в сознательном стремлении «исправить православие» (на церковном соборе 1690 г. книги Полоцкого были преданы анафеме). В православной ортодоксии утверждалось, что смертный должен постоянно осознавать qeoio греховную природу, отрекаться от собственной греховной личности. Поэтому древнерусские авторы призывали к активному труду лишь в «строго определенных областях деятельности, которые служили практическим воплощением норм христианского благочестия» [29, 74]. Полоцкому ближе доктрина западного богословия об оправдании человека делами. Согласно этой доктрине, человек может победить плотское начало и оправдать себя перед богом своими делами, трудом. «И старость измеряется не годами и часами, а делами» [90, 131], — утверждал в одной из проповедей Симеон. Во вдохновенном гимне Симеона Полоцкого всякому труду, труду вообще можно видеть «католическую» подоплеку. Труд у Симеона становится одним из важнейших средств воспитания: «...да обучают дети своя или рукоделию некоему или иному честному коему упражнению» [89, 546 об.]. Если человек не будет трудиться, оправдывая себя делами, его ожидает нравственная гибель. «Праздность есть питательница всем злобам, всем порокам» [89, 546 об.]. Советуя родителям тщательно оберегать ребенка от дурного влияния, Симеон подчеркивал значение родительского примера, «благих дел» отца и матери, наставляющих свое потомство.
Педагогические взгляды Полоцкого испытали на себе влияние философии Фомы Аквинского. Пять книг великого схоласта сохранились в московской библиотеке Симеона [37]. Недаром сам патриарх Иоаким находил в книге
Полоцкого «Венец веры» «вымышления Аквиновы» [74, 132 — 133]. Умение Фомы примирить науку и религию было близко Полоцкому. В своем раннем педагогическом сочинении «Книжица вопросом и ответом, иже в юности сущим зело потребны суть» (1669) Симеон отстаивает науку, указывая, что она не только не колеблет веры в бога, но даже утверждает ее. Позже он писал: «Не порицаются зде художества свободная, Грамматика, Риторика, Философия и прочая, иже зело суть полезна вОгражданстве и к духовней премудрости пособственнох [90, 234]. Усвоил Полоцкий и теорию Фомы Аквинского о пяти человеческих чувствах.
Проблеме учительства Фома уделял большое значение. Он писал об учительстве как форме служения людям, ибо, по его словам «лучше передать другим полученное в созерцании, чем созерцать одному» [116, qGL XXX, VIII, art. VI]. Об этом говорил и Полоцкий во втором предисловии к «Псалтыри рифмотвор-ной», утверждая, что долг человека просвещенного — делиться своими знаниями с другими, воспитывать в них мудрость. По мнению Симеона, тот, кто утаивает в себе мудрость, не делится ею с окружающими, — тот подобен человеку, закапывающему в землю чистое золото. Как не вспомнить тут слова Фомы: «Милости дарованные даны на пользу другим» [116, q CXXII, art. I].
Заслуживают внимания взгляды Фомы на природу познания, на системность при обучении, также усвоенные Полоцким.
Одним из критериев значимости прожитой жизни для Аквинского служило количество прочитанных и написанных книг. Симеон последовательно воплощал в жизнь этот идеал: он собрал и прочитал (судя по ссылкам и цитатам в его сочинениях) огромную библиотеку, оставил обширнейшее рукописное наследие.
Полоцкий, обучавшийся в двух высших учебных заведениях, преподававший в братской школе в Полоцке, прибыл в Москву 33 лет от роду, в 1663 г., уже познакомившись с рядом философских и педагогических систем, обладая практическим опытом. В своей педагогической практике и теории он синтезировал элементы различных педагогических систем.
Одаренность Полоцкого-педагога не вызывает сомнений. При дворе царя Алексея Михайловича Симеон сумел выделиться именно благодаря своему педагогическому таланту. В 1664 г. Полоцкий по царскому указу обучает несколько человек по учебнику латинской грамматики португальского иезуита Альваре-ца. В 1665 г. он преподает в одной из первых греко-латинских школ в Москве. Греческий язык Полоцкий знал, возможно, недостаточно, но мог успешно преподавать латинский язык, грамматику, риторику, пиитику, логику, философию и богословие.
В 1667 г. Полоцкий был приглашен в наставники к царевичу Алексею, затем его учеником становится царевич Федор. Позже Полоцкому был поручен надзор за обучением царевны Софьи и малолетнего Петра (здесь он больше выступал в роли методиста — непосредственно обучал Петра грамоте Никита Зотов). Умелый дидаскал преподает во дворце те же предметы, что и в Заиконопасской школе. Обучение идет успешно: Алексей легко овладевает латынью, Федор проявляет себя в стихосложении.
Стремление к широкой просветительской деятельности привело Полоцкого к подготовке ряда учебников и книг для чтения. Букварь 1679 г., подготовленный просветителем к семилетию юного Петра Алексеевича, открывался стихотворным предисловием, обращенным «к юношам, учитися хотящим». В нем Полоцкий произносит настоящий гимн чтению, вслед за Франциском Скориной уподобляя книгу «зерцалу души» и самого человека:
Яко зерцало зрящему являет, каково лице его пребывает...
Подобно книги елма ся читают, лице совести светло проявляют [22, 4|.
В 1678 г. Симеон открывает Верхнюю типографию, сплотив вокруг нее таких талантливых людей, как художник Симон Ушаков, гравер Афанасий Трух-менский, писатель и редактор Сильвестр Медведев. В оформлении титульных листов своих книг Симеон ориентировался на киевлян И. Галятовского и Л. Барановича, стремившихся воспитывать и образовывать читателя с первой страницы, хорошо понимавших силу воздействия зрительных образов. В символико-эмблематическом духе задуманы писателем титульные листы «Вертограда многоцветного», «Обеда душевного», «Вечери душевной». Многие из входящих в них проповедей-наставлений посвящены проблемам воспитания. Полоцкий, как доказали исследователи [2, 112], популяризирует в них прогрессивные педагогические идеи Эразма Роттердамского и Я. А. Коменского. (Четыре книги Эразма упомянуты в описи библиотеки Полоцкого — Медведева.) Не оставил без внимания Симеон ранний педагогический трактат Роттердамского «Гражданство обычаев детских».
В одной из проповедей он приводит в пример Златоуста, который «от самого детства обратней ко изысканию хитростей учений свободных, еже есть Грамматики, Риторики, Философии и прочих» [90, 256].
При всей широкой европейской образованности преподавателей Киевской коллегии в основе их педагогических взглядов лежал отечественный опыт [59, 96], нашедший свое отражение в принципах народной педагогики. Многие из сентенций Полоцкого, посвященные вопросам нравственности и воспитания, близки народным поговоркам:
Дерево старое трудно пересаждати,
Такожде нравы старых измеияти...
Дерево младое удобно клонится,
Тако юноша всяческим учится [87, 138].
(Ср. пословицу: «Гни дерево, пока оно молодое, учи дитя, пока оно малое».)
Близко Полоцкому и присущее народной педагогике признание большого значения домашнего воспитания. В этом он расходится с воспитательной нормой иезуитов, стремившихся полностью оторвать ученика от родительского дома.
Средневековый традиционализм Полоцкого сказался в его отношении к физическим наказаниям, которые он называл в числе основных средств воспитания. Нельзя обойти молчанием противоречивость педагогических взглядов Полоцкого, в которых воспевание человека как венца творения уживалось с подчеркиванием значения розги в воспитании. Схоласт Симеон воспринял немало гуманистических идей, но на формировании его взглядов сказался переходный характер времени.
Сразу после воцарения Федора писатель, видимо, начал работать над проектом устава («Привилегии») первого в Москве высшего учебного заведения. И хотя причастие Полоцкого к авторству «Привилегии» не доказано и серьезно оспаривается [42, 641; 75, 152], анализ проекта показывает, что многие его пункты близки прогрессивным идеям просветителя. «Привилегия» была преподнесена царевне Софье в январе 1685 г., спустя пять лет после смерти Симеона, его любимым учеником Сильвестром Медведевым, унаследовавшим многие идеи своего учителя. Очевидно, вне зависимости от степени участия Полоцкого в составлении «Привилегии» им в значительной мере была подготовлена почва для создания академии, в известной степени подобной Киево-Могилянской.
5. НИКОЛАЙ СПАФАРИЙ (1636 — 1708)
Николай Спафарий — выходец из Молдавии, ученый, переводчик Посольского приказа, трудился на службе Московского государства с 1671 г. до самой смррти. Имеются данные о том, что Спафарий занимался преподаванием в Москве, в 1670 — 1680-е гг.
Наиболее известен факт домашнего учительства Спафария у известного политического деятеля боярина А. С. Матвеева. Припоминая об этом в 1679 г., А. С. Матвеев писал в своей второй челобитной к царю Федору из ссылки: «...и меня, холопа твоего, Спатарий, и сынишка моего злому, что богу не угодно, ничему не учил...» [40, 97]. Еще раньше, в июле 1675 г., Спафарий писал из Енисейска в Москву А. С. Матвееву, вспоминая своего девятилетнего ученика: «Государя моего, Андрея Артемоновича, пожалуй, государь, в науках научити изволь: ныне время удобное в молодых летех, покамоста лошади и собаки не мешают. Бог вся ему дал чрез тебя, государя, и егда учение прибудет, тогда во всем совершенный будет» [80, 56 — 57]. Любопытно, что среди обвинений, выдвинутых против А. С. Матвеева, фигурировало чернокнижие с участием Николая Спафария. Вот как сообщал об этом царю сам А. С. Матвеев (1677): «А что Давыдко Берлов в розспросе своем сказал, ...что видел, как будто я с Стефаном доктором черную книгу запершись чли... а та де книга в полдесть, а толщиною пальца в три, а учил де по той книге будто меня, холопа твоего, и сынишка моего Николай Спатарий, и те его речи (Берлова. — О. Б.) воровския и составныя. Для чего он того не сказал, что чли, и какия дела и какия слова слышал во чтении и чему меня, холопа твоего и сынишка моего учил? А он, вор Давыдко, и грамоте не умеет» (цит. по: [40, 23]). Из этой челобитной мы узнаем о занятиях по книге. Во второй челобитной А. С. Матвеев спрашивает царя: «А допрашивай ли он, вор, лекарь Давыдко, о книге, почему разумел назвать черною книгою, по коже ль или по разуму... и дана ль ему с ним, Николаем, очная ставка» [40, 97 — 98]. Недавно в библиотеке Хельсинского университета обнаружены книги, принадлежавшие Николаю Спафарию, одна из которых представляет собой учебник Я. А. Коменского «Janus Linquarum» с русским переводом заглавия — «Книга дверь языков, в лицах» [50]1 2. Возможно, по этой (или подобной) учебной книге с картинками Спафарий и вел занятия.
После возвращения из посольства в Китай, в 1680-е гг., ученый-переводчик Спафарий, по-видимому, вновь привлекался в качестве домашнего учителя вельможных детей. В приписываемом ему сочинении, составленном из печатных проповедей Симеона Полоцкого, содержится обращение к членам семьи князя Михаила Черкасского, причем его сына Петра автор называет «...ты благочестивый учениче и младенче» [60, 14 — 40]. В 1690-е гг. грек Хрисанф Нотар указывал московскому патриарху на Спафария «как на человека компетентного в педагогическом деле» [61, 17].
Итак, Спафарий имел в Москве некоторый опыт практической педагогики, скорее всего как полиглот. Можно полагать, что для занятий он пользовался словарями, энциклопедиями и учебниками, находившимися в библиотеке Посольского приказа, и своими личными книгами.
В московском Посольском приказе Николай Спафарий как переводчик должен был заниматься деловыми бумагами, в том числе документальной перепис-
1 В первой челобитной царю А. С. Матвеев вспоминал, что Спафарий учил его сына «по гречески и по латине литерам малой части» [40, 11, 12, 38].
2 О книгах Н. Спафария в составе библиотеки М. В. Ломоносова, переданных в XIX в. в Гель-сиигорский университет, сообщили Т. П. Воронова (ГПБ) и М. В. Кукушкина (БАН СССР) [49, 152|.
кой дипломатического содержания. Но его появление в Москве совпало с книгоиздательской деятельностью боярина А. С. Матвеева, возглавлявшего Посольский приказ и затеявшего создание серии сочинений, предназначенных для царского двора и для царской семьи [48, 179 — 244). В это предприятие и был вовлечен Спафарий, который оказался составителем текстов роскошно оформленных парадных книг. Именно из этих заказных литературных произведений, компилятивных по составу, зависимых от иноязычных источников, можно узнать о педагогических взглядах Николая Спафария. В сущности, почти всем книгам, «строением» которых был озабочен А. С. Матвеев, присущ дидактизм, характерный для просветительской литературы XVII в. и вообще для светской придворной культуры того времени [83, 160 — 202]. Среди книг, рассчитанных на прославление московских государей, — «Титулярник» (иначе «Государственная книга»), «Василиологион», «Книга об избрании великого государя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа России», «Родословная великих князей и государей царей Российских». Это — книги-фолианты, предназначенные для царской официальной библиотеки и для дипломатического обихода в Посольском приказе. Произведения, основанные на мифологических легендах христианства («Хрисмологион», «Книга о сивиллах»), прославляли монархов, толковали о пророчествах и предсказаниях.
Особое место принадлежит двум книгам Спафария, предназначенным продемонстрировать светскую педагогическую систему формирования от младых лет достойной царственной или вельможной персоны. Одна из них носит название «Книга избранная вкратце о девяти мусах и о седми свободных художествах», другая — «Арифмология» [66, 25 — 47, 87 — 124]. Исследователи затрудняются определить жанр этих сочинений, так как для учебников в нашем понимании они достаточно сложны. Это книги, рассчитанные одновременно и на ученика, и на учителя. Ведь сам метод обучения по книге, в особенности по книге с картинками, предполагал обращение к ней как обучаемого, так и обучающего, тем более что при царском дворе не было специальной школы, а преподавание велось в домашних условиях, по-видимому в форме беседы.
Спафарий при составлении заказанных ему книг опирался на справочную, энциклопедически насыщенную литературу, в том числе на энциклопедию Иоганна Альштеда. [6; 7;9]. Эта литература была доступна ему в Москве благодаря библиотеке Посольского приказа.
Какие же педагогические идеи содержатся в названных трудах? Прежде всего, признание пользы светского образования, которое в XVII в. состояло в приобщении к философии, объединяющей свободные художества — грамматику, риторику, диалектику, арифметику, музыку, геометрию и астрономию. Примечательно стремление Спафария примирить античный миф о девяти музах и Аполлоне со средневековой схоластической системой семи.свободных художеств. Хотя в мировой литературе это сопоставление было известно задолго до Спафария, в русской культуре 1670-х гг. оно было внове. Впрочем, в 1632 г. студентами киевской лаврской школы было подготовлено представление в стихах, в которых были объединены Геликон — обитель Vy3 и семь свободных мудростей; тогда же появилось и печатное издание под названием «Евхаристи-рион» с посвящением Петру Могиле [32]. Спафарий состоял в родстве с Могилой, и не исключено, что ему был известен «Евхаристирион».
Обращает на себя внимание стремление Спафария подчеркнуть прямую связь наук и искусств с практической деятельностью человека: «При свободных же художествах и иная приобретена суть служителная художества 7 числом, яже суть сия: земноорание, лов, воинство, кование, рудометство, ткание, кораблеплавание» [66, 26]. Это положение близко идеям Яна Коменского, видевшего смысл знания в его применении на деле.
В «Книге избранной вкратце...» показано, что приобщение к искусствам и наукам требует большого труда: «Сице иже хощет учитися, сей трудом учение получит» [66, 27]. С определенностью говорится, кому необходимо каждое из свободных художеств: «Есть же грамматика изрядное искусство при творцех и списателех» [66, 29], то есть грамматика необходима писателям и переписчикам. Или: «Совершенство риторики есть учити красно глаголати» [66, 32], «...диалектика...потребная есть философом, богословом и доктором или хотящым учитися или победити или толковати или доводити во всех делех...» [66, 20]. Об арифметике сообщается: «Яко житие человеческое не может исправитися без сего учения ниже богослов с своими летописцы, ниже домостри-тель, ниже купец, ниже доктор...» [66, 36]. Музыка «...утешает своими гласы человека... ко благочестию устремляет...» [66, 39]. «...Предложение геометрии есть всякое мерителство...» [66, 41 — 42]. Астрология «...есть же полезнейшая на брань и на земледелство...» [66, 45]. Перед чиФцтелем возникает цель учения: вот кем может стать ученик, овладевший свободными художествами, — писателем, писцом, ритором, или оратором, философом, богословом, доктором, домостроителем, купцом, летописцем, воином, земледельцем и т. д. Преобладают гуманитарные профессии, но также названы и представители практической деятельности человека.
Изложение каждой главы «Книги...» начинается с объяснения, почему называется так, а не иначе каждое из свободных художеств: «Грамматика имя свое получи от греческаго речения грамма, сиречь писмо» [66, 25 — 31], «риторика произсходит от еро гречески, сиречь глаголю, или от рео гречески, сиречь теку» и т. д. Этимологические пояснения сопровождают текст «Книги...» и далее. Особенно важно, по мнению автора, подчеркнуть нераздельность семерки свободных художеств, их взаимную связь и в то же время обязательность приобщения ученика к каждому из них. Вот как говорится об этом: «Грамматика есть иным художеством самое основание» [66, 29]; «Мусице же, геометрие и астрологие без нея (арифметики) учитися невозможно» [66, 35], «Геометрия и арифметика суть два крыла мафиматическая...»; от геометрии «яко от корене состоятся началства астрологии, географии и иных художеств» [66, 34].
Обычную схоластическую систему средневекового образования, состоявшую из семи мудростей, автор стремится дополнить понятиями этического порядка по исправлению человеческого жития: «Диалектики конец есть, еже благое от зла и ложь от истины разделяти» [66, 33]. «Мусика... ко благочестию устремляет, и нравы добрыми и сама часть есть благочестие» [66, 3]. Таким образом Спа-фарий утверждает ценность не только знания, но и нравственных норм, проявляемых в полезном труде. Этот труд разнообразен — от умения «правописати», «стихи слагати», «красно глаголати», вести спор или «любопрение» до «земноме-рия» и «звездословия».
Немаловажную роль в «Книге избранной вкратце...» играют иллюстрации [101, 108 — 109; 88, 136 — 137; 7, 107 — 120; 66, 2 — 5, 8, 9, 13 — 16, 18 — 19, 21, и др.]. В парадном списке их восемь — по одной к каждой главе. Они придают изложению наглядность — еще один принцип, характерный для учебно-педагогических изданий Яна Коменского. До сих пор не установлены непосредственные источники этих иллюстраций, восходящих, без сомнения, к гравюрам так называемых «народных книг» XVI — XVII вв. западноевропейского происхождения. В иллюстрациях ученик-читатель встречался с изображением Аполлона среди девяти муз и каждого из семи свободных художеств — были изображены Грамматика с розгой в руке, Геометрия с глобусом и циркулем, Мусика с музыкальными инструментами и т. д. Распространение «Книги избранной вкратце...» шло на Руси путем переписки, причем большая часть списков осталась без иллюстраций. Таким образом, педагогический принцип наглядноети в «Книге...» выдерживался только для состоятельных учеников — царского наследника или детей придворных (известно всего два таких списка).
В «Арифмологии» почти не проявилась личность Спафария, поскольку он следовал в ее тексте недавно установленному оригиналу — Энциклопедии Иоганна Альштеда. Но сам факт перевода в Москве в 1670-е гг., а затем и переписи «Арифмологии» весьма показателен для характеристики читательских интересов наиболее образованной части московских придворных кругов. Переводчику пришлось внести два наиболее заметных изменения в текст Альштеда: вместо двух религиозных таинств, принятых у протестантов, Спафарий назвал семь таинств, согласно канонам православия. И начало «Арифмологии» отчи открыл перечнем девяти чинов ангельских, а не девяти античных муз. Переводчик сохранил композицию Энциклопедии, добросовестно перевел информативную часть «Арифмологии», в которой факты и поучения из библейской древней и средневековой истории, облеченные в числовые выражения, дополнены девизами и изречениями царственных особ.
Другая рукописная учебная книга, приписываемая Николаю Спафарию и адресованная кн. П. М. Черкасскому, является компиляцией из печатных проповедей Симеона Полоцкого [60, 14 — 22, 23 — 40]. В ней обучение предлагается вести в течение трех «седмилетий». Речь идет главным образом о нравственном совершенствовании, о том, «како честно гражданствовати в мире» [60, 29]. Эта учебная книга, сохранившаяся в единственном неполном рукописном списке, давно известна в литературе по истории отечественной педагогики [51, 32 — 71; 31, 264].
Интерес Спафария к воспитанию и обучению проявился и в «Описании Китая», составленном в 1678 г. Одна из глав носит название: «Какое у китайцев учение, и какое у них писмо, и как их почитают, и какое у них дохторство, и каким образом лечат, и какое корение употребляют». Здесь сообщаемся, что «...от учения... всякое благородие начинается...», «той большую часть получит, который грамоту болши знает...». В «Описании» отмечено, что «...небольшое у них (китайцев) учение, ибо... грамматики не имеют, ни риторики, ни философии, ниже иного учения, кроме звездословия...». В то же время «...в дохторстве искусство болшее есть у них, нежели от наших дохторов». Характеризуется особенность письма иероглифами: «...у них нет никакого писма, толко признаки такие живописные...; подлежит не менши 80 000 признаков знати... И тако надобно имети великую память... И они почитают ученых и всякую им честь подают, понеже ведают они, что с великою трудностию учению их и грамоте научаются. Пишут они не пером, как наши, толко живописуют кистью, как малюют живописцы, а чернилниц у них нет ...пишут же не так, как наши прямым характером на бумаге, но начинают сверху, бутто столп, и сходят на низ...» [97, XXIII, 41 — 44].
Спафарию принадлежит перевод текста и к занимательной географии (в виде колоды карт), созданной при французском дворе в 1644 г. для юного дофина — будущего Людовика XIV. Перевод сохранился всего в двух списках, в сборниках трудов Спафария XVII в. Возможно, что эта занимательная игра предназначалась также для наследников царского двора; не исключено, впрочем, что краткий текст с описанием четырех стран света, государств и столиц был полезен и для нужд Посольского приказа, в котором приобретали опыт работы молодые переводчики [8].
Спафарий был сторонником и пропагандистом светской системы образования, характерной для просветительства XVII в. Он придавал большое значение приобщению учеников к системе знаний с малых лет. Освоение знаний должно быть соединено с трудом и нравственными «подвигами».
Создававшиеся для московского царского дома и для придворного круга,
рукописные книги Спафария просветительского содержания не удержались в узком, элитарном кругу. Они переписывались, включались в тематические сборники. Один из списков «Книги избранной вкратце...» оказался в распоряжении трех «петровских пенсионеров», направлявшихся в 1697 г. из Москвы в Италию для обучения архитектуре и морскому делу. Деятельность Николая Спафария в Москве имела большое-значение в пропаганде светских знаний.
6. КАРИОН ИСТОМИН
(*1640-е — НЕ РАНЕЕ 1717 ИЛИ 1722)
Карион Истомин — выдающийся русский поэт, видный общественно-политический деятель, педагог, издатель и переводчик. Родился в Курске, вероятно, в подьяческой семье, в 1670-х гг. принял постриг в Путивльской Молчинской пустыни. При поддержке своего земляка и свойственника Сильвестра Медведева перебрался в Москву и вошел в круг столичных литераторов. В 1679 г. был принят на Государев Печатный двор, сначала писцом, затем чтецом, а потом справщиком; с 1698 по 1701 г. он возглавлял работу Печатного двора в должности смотрителя. В Москве Истомин вошел в особое доверие к патриарху Иоакиму. На средства патриарха он обучался греческому языку, после чего стал иеродиаконом патриаршего Чудова монастыря и личным секретарем Иоакима, а после его смерти — нового патриарха Адриана, для которых написал большую часть публичных выступлений и грамот.
Примерно с 1682 г. Истомин принял от Медведева неофициальное, но весьма престижное место придворного поэта. В 1680 — 1690-х гг. ик было написано огромное количество «окказиональных» стихотворений, ораций и поэм, эпитафий и эпиграмм, ставших своего рода поэтической летописью жизни просвещенных московских «верхов». Истомину принадлежит заслуга развития русского сил-лабо-ритмического стихосложения, расширения связей литературного творчест-тва с музыкальным и изобразительным искусством.
В расцвете своего творчества Истомин начал преподавательскую работу в грамматическом классе славяно-латинской гимназии Медведева, но она вскоре была закрыта патриархом. На склоне дней Карион был приглашен в Новгород и немало сил отдал преподаванию в школе митрополита Иова (1712 — 1716), а затем вновь вернулся в Москву. Главным вкладом поэта в развитие русской педагогической мысли стали его литературные сочинения, в которых он выступал за введение высшего образования в Москве, отстаивал идею государственной необходимости развития национальной науки [19; 13]. Созданная Истоминым система учебных пособий для начального образования — оригинальный феномен европейской педагогической мысли.
Причастность России к развитию европейской педагогики длительное время определялась положением, что «идеи прогрессивной зарубежной педагогики, в частности идеи Я- А. Коменского, оказали большое влияние на педагогическую мысль и школьную практику в Московском государстве» [17, 555]. Известно было, что некоторые сочинения Коменского имелись в библиотеках Симеона Полоцкого, Сильвестра Медведева и Дмитрия Ростовского, а два из них («Обозрение реформированной во славу божию физики» и «Мир чувственных вещей в картинках»), возможно, использовались для обучения. Некоторые идеи «Обеда» и «Вечери» Полоцкого оказались схожи с положениями «Великой дидактики» Я. А. Коменского. Этим, собственно, и исчерпался ряд сколько-нибудь аргументированных аналогий [103, 16 — 24].
Главным и единственным примером восприятия педагогической мысли (а не отдельных высказываний) Коменского в России долгое время считались лицевые буквари Кариона Истомина [73,1 — 16; 70; 63; 98; 20; и др.]. Хрестома-
тийным стало утверждение, что в этих работах Истомин пропагандировал в России метод наглядного обучения, разработка которого приписывается обычно Коменскому, положив в основу своего труда «Мир чувственных вещей в картинках».
Лишь сравнительно недавно было замечено, что для объяснения замысла букварей Истомина не обязательно обращаться к творчеству Коменского, вполне достаточно исследовать современную автору педагогическую традицию. Букварь Истомина и «Мир чувственных вещей в картинках» Коменского решали разные задачи: первый учил читать, второй сообщал ученику систему понятий о мире на латинском языке (он в основном и использовался как учебник латыни). Букварь был иллюстрирован изображениями разнообразнейших предметов с названиями на изучаемую букву — «Мир...» предлагал сюжетные картинки. В «Мире чувственных вещей...» картинка помогает понять и запомнить слово, в Букваре многочисленные рисунки способствуют усвоению букв. Уже в заглавии сочинения Истомин четко обозначил суть своего метода наглядного обучения: «Ныне начертах Букварь славенских писмян, кои предложих вещественных видов образы, коим словом кая вещь начинается глаголати, под всяким писмянем ради любезнаго созерцания и названия видов удобного в складе, да что видит — сие и назовет слогом писмене достолепнаго начертания тех». Назывная форма стихотворного текста в Букваре отличалась от вопросоответного прозаического повествования в «Мире...».
И Коменский, и Истомин использовали азбучный порядок расположения материала, но нетрудно заметить, что многие русские азбуковники (в том числе лицевые) по функции, содержанию и многим формальным признакам ближе к «Миру чувственных вещей...», хотя и не связаны с ним, а приемы Истомина во многом восходят к традиции печатных букварей 1634 и 1637 гг. (Василия Бур-цова), 1679 гг. (Симеона Полоцкого), к русской рукописной учебной литературе. UifoM вперед в организации материала Букваря был последовательный синтез текстовых и изобразительных средств в книге Истомина по сравнению с иллюстрированными букварями, арифметиками, азбуковниками, космографиями и другими отечественными учебными пособиями.
Важно подчеркнуть, что в России конца XVII в. имелись все условия для того, чтобы Карион самостоятельно сделал шаг к синтезу текстовых и изобразительных средств обучения и смог понять значение такого шага в работе Коменского. Как придворный поэт, Истомин много работал над литературно-изобразительным оформлением интерьеров. Он руководил внутренним оформлением «схол» в Заиконоспасском монастыре, подобрал сюжеты фресок на стенах и оконных проемах и создал к ним стихотворные подписи дидактического характера. Около 1693 г. поэт разработал новую серию сюжетов росписи со стихами для школьных палат. Образцом искусства Истомина стало оформление новых каменных палат князей Трубецких, завершенных в 1692 г. Около 1700 г. им был создан подробный проект интерьера красного угла в царской палате, с росписью и стихами. В черновиках поэта сохранилось множество проектов оформ-мления и других интерьеров, украшенных стихотворно-красочными композициями [73, 88 — 89, 127, 161 — 161 об., 92 — 93 об., 121 — 122 об., 95 об. и др.], есть сочинения в жанре «надписаний» на предметах и картинках.
В работах Истомина применялось искусство аллегорических изображений — «эмблематической поэзии», входившей в общий курс поэтики. В России последней четверти XVII в. эта поэзия нашла широкое применение в рукописной и печатной книжности, особенно ярко проявлялась в панегиристике и политической гравюре [12]. Будучи знатоком и ценителем «эмблематической поэзии», Истомин богато украшал свои произведения.Образцом разработки серии оригинальных картинок в стихотворном тексте является подносная редакция «Книги любве знак в честен брак» [1689], в которой каждой стихотворной строфе соответствует зрительный образ. Не чуждался Карион и использования готовых изображений, например, в стихотворной серии к эстампам в панегирике, преподнесенному гетманом Мазепой патриарху Иоакиму (1689) [13, № 20, 22].
Букварь Истомина не дает оснований для вывода о «большом влиянии» идей Коменского на «педагогическую мысль и школьную практику в Московском государстве», если рассматривать этот вопрос упрощенно.
Выдающимся достижением Яна Амоса Коменского — «учителя народов» было научное обоснование необходимости соответствия содержания и средств обучения этапам развития детской психики, а не изложение и даже не более полная реализация традиционных представлений о наглядности и постепенности обучения.
Практическим результатом исследований Коменского стала разработка программ и учебных пособий для каждого этапа, первым из которых была «Материнская школа» (Shola Infantial), т. е. дошкольная подготовка, призванная сформировать у ребенка систему представлений об окружающем мире и подготовить его к началу школьных занятий. Учебным пособием, призванным создать у ребенка образ мира и микрокосма и заложить логический фундамент познания, и был «Мир чувственных вещей в картинках» — «Orbis sensualium р ictus». Российским аналогом его стал поэтический триптих Кариона Истомина [16].
Три части единого иллюстративно-стихотворного учебного пособия, созданного в конце 1692 — начале 1693 г. для сына царя Петра царевича Алексея, были известны в литературе — это «Книга Едем, си есть сладость», «Книга Ек-клесиа, си есть церковь», «Книга Град царства небесного и школ изображение, колико их есть» [18; 70, 27 — 69 об.; 72, 270 — 283 об., 223 — 224 об.; 73, 17 — 23 об., 26]. Однако, рассмотренные по отдельности, они не раскрывали существа замысла русского педагога и не оказали заметного влияния на изучение педагогической мысли XVII в.
Легко убедиться, что соединение Едема, Екклесии и Града (на основании всестороннего анализа их внешних и внутренних признаков, расположения в сборниках Кариона и с учетом прямо выраженной им воли [72, 325; 18, 423]) придает им новое значение. Части триптиха давали ребенку представление об основах «небесной» мудрости земного человека. Они предлагали развернутое изложение священной истории (Едем), ознакомление с православной церковью, ее таинствами и обрядами (Екклесия), удобопонятную этимологию схоластических наук, земного времени и пространства (Град). При соединении частей триптиха их образный строй становится универсальным, т. е. приобретает основное качество, позволяющее сопоставить его с «Миром чувственных вещей...».
Триптих Истомина сообщает ребенку законченный цикл понятий о мире, мире не предметном, а духовном — «граде царства небеснаго», «сограждаемом» в человеке-микрокосме. Отличие содержания триптиха от книги Коменского, приобщавшей ребенка ко многим явлениям материального мира, проистекало из глубокого убеждения Истомина во всесторонней первостепенности микрокосма [73, 162; 70, 112 — 112 об.; 71, 249, 263; 26, 12, 40]. Поэтому строительство храма мудрости поэт-педагог начинал с духовного мира человека, который «по телу — земен, по душе — небесный».
Стремлению заложить в сознании ребенка фундамент будущего «небесного града», систему представлений, предшествующую собственно изучению наук, соответствует и особая форма подачи материала, где текст и изображение слиты в единый образ. Усвоение предложенных ребенку образов начиналось со зрительного, «телесного» восприятия сюжетной картинки на левой стороне
разворота книги. Далее изображение называлось, связывалось с определенным понятием в номинативном двустишии, которое располагалось по верхнему и нижнему краям картинки, на левой стороне разворота книги, как бы вбирая ее в себя и сливаясь с ней. Затем, увидев и назвав, ребенок получал пояснения в стихотворном рассказе, помещенном на развороте справа, наполняя открытую в его сознании страничку культурным содержанием.
Обращаясь к своему маленькому читателю — царевичу Алексею, Истомин пояснял, что его работа воздействует вкупе на чувства и разум: «В ней же зря иконы царственныма твоима очима телесныма, духовне стихословием услаждайся». Содержание книги, по словам автора, усвоит «смотрящий ю, и чтущий, и вразумляющийся стихописанми». Посмотреть, прочесть и понять («вразумиться») — таков предложенный педагогом принцип обучения, ориентированный специально на ребенка: «Тем сию книгу... тебе... в созерцание ради юностных твоих лет... приношу».
Синтез текстовых и изобразительных средств образного обучения сближает триптих Истомина с «Миром...» Коменского. Общим в этих пособиях был и концепционный отбор понятий, которые складывались в ориентирующую систему. В то же время использованные в триптихе литературные и изобразительные формы и его содержание были тесно связаны с существовавшими в России вкусами и традициями.
Содержание Едема лежит в русле давней традиции изложения основ вероучения. Бытовали в России и формы, близкие к избранной педагогом: «подписания» к гравюрам на библейские сюжеты. Достаточно вспомнить силлабические подписи-разъяснения к 24 гравюрам на темы Апокалипсиса (1670-е гг.), широко известные подписи Мардария Хоникова и других поэтов в лицевой Библии Пйскатора, два цикла «подписаний» на сцены из Ветхого и Нового заветов в «Вертограде» Симеона Полоцкого (над сходными сочинениями трудился и Истомин [73, 108 — 112 об.; 95, 119; и др.]) и т. п.
Стихи о церковных таинствах (Екклесия) восходят к византийскому и западноевропейскому средневековью [76, 215 — 220; 114]. Традиция Sacramenti ecclesiasticorum нашла отражение в пьесах иезуитского школьного театра и творчестве Эразма Роттердамского, стихах Себастьяна Грабовского и Кирилла Транквиллиона-Ставровецкого [85; 107; 115; 57, 72 — 82]. Она развивалась в хорошо известных на Руси лексиконах Свиды, Зизания, Берынды, в сборнике «Зерцало духовное», в энциклопедическом сборнике Маффета, переведенном Арсением Сатановским специально для Алексея Михайловича в 1652 г., и во многих других сочинениях, среди которых выделяется серия стихов о таинствах церкви в «Вертограде многоцветном» Симеона Полоцкого [68], оказавшая заметное влияние на содержание стихов Истомина.
В отличие от Едема и Екклесии в Граде объединены два поэтических сюжета. Один охватывает стихи о схоластических дисциплинах, другой посвящен понятиям времени и пространства. Первый более традиционен — начиная с конца XVI в. состав «семи свободных мудростей» раскрывался в разного рода школьной литературе. Можно быть уверенным, что Карион был знаком с переводом Николая Спафария «Книги избранной вкратце о девяти мусах и о седми свободных художествах» (1672). Не могло пройти мимо внимания родственника Медведева и бытовавшее в списках сочинение Симеона Полоцкого «Siodm Nauk wizwolionych» [102, 116 об.; 731, 147 — 148].
Понятия о времени и пространстве раскрывались в обширнейшей космографической, в том числе иллюстрированной, литературе, весьма любимой на Руси. Встречались они и в специальных книгах для обучения (букварях, азбуковниках). Аллегории, связанные с временем суток, временами года, странами и частями света, наполняли стихотворные произведения, им было посвящено довольно много отдельных стихов (например, в «Вертограде многоцветном» и ранних стихах Полоцкого). Однако они не составляли связного сюжета наподобие того, который предложил Истомин в Граде. Поэт-педагог впервые подошел к этому сюжету задолго до создания Г рада. В рождественской орации 1688 г. он положил в основу замысла перекличку частей света и континентов, которым посвящены отдельные строфы [26, 3 — 8].
Однако литературная практика Истомина не объясняет, почему он в Граде дополнил изображение школ 16 строфами с элементами естественнонаучного и историко-географического содержания. Можно предположить, что, стремясь познакомить царевича с «премудростью схолных обучений, колико их есть», поэт-педагог ориентировался на концепцию Я. Коменского, вводившего в план гимназии наряду со свободными мудростями естествознаТние, историю и географию (подробнее см.: [3; 54; 111; 108; и др.]). Я. Коменский советовал начинать обучения в семье как можно раньше, чтобы завершить этот этап образования примерно к 6 годам [112]. Истомин создал первую учебную книгу — Букварь для царевича Алексея Петровича в 1692 г., когда ученику шел третий год, и вручил ее царице Наталии Кирилловне. Русский педагог подчеркнул, что Букварь задуман как первое учебное пособие для ребенка: «Приношу перво первую книжицу, зовемую Букварь языка нашего словенскаго, юже счиних ново ради удобства и охоты учиться хотящим писати писмени и слоги, с вещественными видообразовании и со нравоучительными стихами».
Овладение родным, а затем и другими языками было ключевым элементом педагогики Коменского, опиравшимся на солидную европейскую традицию. Изданный в 1694 г. Букварь Истомина ставил эту задачу уже в заглавии: «Букварь славенороссийских писмен уставных и скорописных, греческих же, латинских и польских, со образовании вещей и со нравоучительными стихами». Следует обратить внимание на специализацию учебных задач в заглавии и предисловии Букваря.
Следом за Букварем Истомин создал (для воспитания царевича Алексея) «Книгу Вразумление умнаго делания». Ее содержание, соответствуя в целом отечественной традиции, сближалось с требованиями Коменского в области нравственного воспитания как весьма важной части педагогики. Истомин особенно подчеркивал значение таких качеств, как склонность к полезному труду (учению) и выполнению правил поведения (ср. [13, № 1, 3 — 4]).
За «Книгой Вразумление» царевич Алексей получил трипти?), который, по замыслу педагога, должен был смотреть и читать сам, разумеется, под руководством бабки. Помимо триптиха четвертый год жизни ребенка был отмечен подаренной после триптиха «Библией большой в лицах», т. е. в картинках, которые придворный поэт «подписал вновь виршами».
На пятом году жизни царевич продолжал учиться по лицевым книгам. Об этом свидетельствует следующее из сочинений, специально перечисленных в памятной записке Истомина: «Акафист в лицах пресвятей Богородице, мерочисленными стихами подписан» (его беловик в сборнике ГИМ, Уваровское собр. № 73, датирован автором сентябрем 1694 г.). А вот упомянутый далее в записке «Букварь малый» имел вместо картинок только «образцы» — прописи.
На шестом году жизни царевич мог приступить к изучению наук тривиума и квадривиума с рекомендуемыми Коменским дополнениями (по известным лицевым космографиям и наборам гравюр, а также лицевой истории1 — в отличие от неиллюстрированных учебников по основным предметам). Однако Коменский рекомендовал продолжать начальное образование до 6-летнего возраста — и
1 «Лицевой хронограф» — часть отреставрированного при царе Федоре Алексеевиче Лицевого летописного свода — был поднесен Истоминым царевичу Алексею в 1699 г. [14, 77 — 78; 15, 99].
царевич получил новый Букварь с расширенным содержанием «в седьмое лето возраста своего» (1696).
Комплекс учебных пособий дает нам возможность проследить динамику педагогических приемов Истомина в зависимости от степени развития ученика. Первая книга русского педагога — Букварь — по своей форме не имела прямых аналогий в творчестве Коменского и западноевропейской педагогической практике в целом. Это оригинальное учебное пособие было максимально ориентировано на непосредственное восприятие. Ученик видел предмет, называл его, усваивая звучание и многократно приведенное начертание первой буквы, закрепляя усвоенное доходчивыми силлабо-ритмическими стихами, обучавшими «честь по складам».
Именно этот комплекс средств обучения грамоте с минимальными изменениями используется до наших дней. Изменения эти сводятся к сравнительно меньшему количеству литературных и изобразительных средств современных букварей, предназначенных для детей более старшего возраста. Следует подчеркнуть, что Букварь Истомина был рассчитан на начинающего ученика, не обладавшего еще навыками учения. Истомин предлагал Букварь всем «имущим учитися отроком и отроковицам, мужем и женам».
Поэтический триптих Истомина представлял собой следующий этап обучения человека (которому в современной системе образования нет аналога), когда ученик был способен уже не только к непосредственному восприятию и запоминанию, но и к чтению и «разумению», усвоению содержания. В центре педагогической системы триптиха находится уже не чувственно воспринимаемый предмет, а образ, рождающийся в совместном усилии телесного и духовного зрения, в сочетании изображения и стихотворного текста, элементов книги в триптихе.
И Коменский в «Мире чувственных вещей в картинках», и Истомин в триптихах разными литературными и изобразительными средствами стремятся сообщить ученику систему представлений, а не отрывочные сведения о мире, представлений, наиболее общих, которые стали бы фундаментом дальнейшего познания. Последовательно реализованная в обоих сочинениях, идея образноуниверсального обучения была взаимосвязана с их точной педагогической ориентацией на возраст ученика, начальную стадию развития человеческого сознания. Сравнив книги, легко убедиться, что работа Истомина даже более целенаправленна, специализирована для раннего семейного обучения. В этом отношении и форма триптиха, за счет продуманного использования стихотворных средств, более функциональна.
В триптихе Истомина нет текстуальных параллелей с «Миром...» Коменского. Это и не удивительно, учитывая различные точки зрения педагогов на мир: для Коменского он прежде всего чувственно воспринимаемый (впрочем, без отрыва от веры), для Истомина — начинающийся с формирования «умныя души» (но без отказа от естествознания). Иерархия источников познания Коменского обычно формулируется триадой: чувства — разум — вера. Для Истомина, высоко ставившего «телесное» познание, характерно предпочтение веры и разума, например:
Вся убо вещи Богом сотворенны В разсмотрительство людей положенны,
Да благомыслно тыя созерцают,
Всетворца Бога присно восхваляют
АггелН, небеса, на Земли чудеса,
Моря, реки, воды зри колики роды.
Но паче всего — Человек избранный,
Рукою Бога в жизнь сию созданный! [73, 162].
По составу предлагаемых понятий триптих Истомина значительно ближе к бытовавшим в России энциклопедическим сборникам, в особенности к «Вертограду многоцветному», нежели к «Миру чувственных вещей...» Я. А. Ко-менского. Стоит отметить, что и универсальная система знаний в этой книге великого чеха связана с традицией энциклопедических сборников. С создания подобного сборника Я. А. Коменский начинал свою творческую деятельность («Театр всех вещей», 1614 — 1627].
Таким образом, поэтический триптих Истомина и «Мир чувственных вещей...» Я. А. Коменского имели однородную культурную основу, с тем различием форм, которое было характерно для культуры Центральной и Восточной Европы XVII в. Это объясняет саму возможность усвоения Истоминым системы педагогических взглядов Коменского и тем более творческого применения их в русской учебной практике. Однако отечественная педагогическая традиция была еще достаточно своеобразной, что исключало прямой перевод или адаптацию учебных пособий Коменского в России того времени.
Следующие после триптиха учебные книги Истомина отразили постепенный перенос познавательной нагрузки на смысловое восприятие. В Библии сочетание картинок со стихами помогает ученику наглядно представить себе и запомнить важнейшие события Священной истории. Основное содержание Акафиста представлено в стихах, а картинки служат иллюстрациями, призванными заинтересовать ученика. При этом ученик сам представлен на картинках, является «участником» действия, которое ему предлагается совершить.
Новому — школьному — этапу обучения соответствовал новый подход Истомина к учебным средствам. Его «Малая грамматика»1 не имеет картинок и изложена прозой. Ее текст в отличие от современных педагогу аналогов свободен от множества затруднявших понимание частностей, каждое правило снабжено примером, число иноязычных терминов сокращено, всем же оставшимся дано русское разъяснение [18, 298 — 301, 439449; 67]. Аналогичный подход есть в сохранившихся среди черновиков Истомина отрывках из других учебных пособий — Этимологии и Синтаксиса [72, 434; 73, 118 — 121; 18, 459 — 464].
Наглядность осуществляется выделением наиболее важных текстов графически, а ударных мест — киноварью:
Греческим речением орфографиа,
Но славянски же толкуется: началопнсание...
Орфографиа же учит трия знати:
1. естество письмен;
2. ударение гласа;
3. препинание словес.
Перво начнем толковати
о естестве письмен.
Яко же вопрошает:
Что есть естество письмен?
Естество письмен есть буквица или азбука, яко: а, б, в, г и прочая.
Азбучная же слова по славянски нарицаются Письмена.
Использование разнообразных учебных средств в системе учебных пособий Истомина соответствует наиболее передовым в XVII в. представлениям об особенностях начального образования, научно разработанным Я. А. Коменским, и в то же время опирается на отечественные традиции: литературные, учебные, изобразительные.
В XVII в. российская педагогика еще не сложилась в стройную систему, но разные ее направления с большим или меньшим успехом развивались в тесной связи с общеевропейской педагогической мыслью. Карион Истомин, боровшийся за организацию Московской академии, воспринял в творчестве Я. А. Коменского и реализовал в своих сочинениях идеи начальной школы, что было максимально подготовлено предшествующим культурным развитием страны и общественными потребностями.
Карион Истомин был одним из немногих европейских педагогов, который смог столь последовательно, полно и органично развить на оригинальном учебном материале идеи Коменского. Система учебных пособий Истомина в целом и в особенности его поэтический триптих и Буквари явились шагом вперед в европейской педагогической практике.
7. ДИМИТРИЙ РОСТОВСКИЙ (1051 -- 170»)
Среди крупных деятелей просвещения, сыгравших немаловажную роль в эпоху реформ начала XVIII в., своеобразное положение занимает Димитрий Ростовский.
Димитрий Ростовский (Даниил Саввич Туптало) — сын простого казака из местечка Макарово, под Киевом. Окончив Киево-Могилянскую коллегию, ректором которой в годы его ученичества был известный писатель и педагог Иоанникий Галятовский, он в течение нескольких лет проповедовал в различных монастырях и храмах Украины, Литвы и Белоруссии. В своих проповедях он неоднократно затрагивал проблемы морального воспитания. Мысли о внесо-словной ценности человека, о необходимости оценки людей не по признакам родословности и чинам, а по их действительному достоинству и дарованиям, борьба за такие нравственные принципы, которые формировали бы патриотическую, активную общественно полезную деятельность людей, осуждение сословной спеси боярства и их немилосердия к ближним, критика различных слоев общества — все это составляет главную тему торжественных слов и поучений Димитрия. В своих проповедях он не ограничивался одними рассуждениями общеморальнйго свойства, но и откликался на современные ему события. Один из образованных людей своего времени, он не мог не сочувствовать просветительным начинаниям Петра I, направленным на обновление государства и выводившим страну из вековой отсталости: «Хвалю той нынешних времен обычаи, что многие люди в иныя государства ходят учения ради, из-за морей бо умудрении возвращаются... Аще же память смертная есть философиею, убо тоя мудрости учитися не довлеет сидя в дому, но и в чужих странах побывати требе...» [95, ч. 2, 65].
Деятельность Димитрия обратила на себя внимание патриарха Адриана, и в 1701 г. указом Петра I Димитрий был вызван в Москву и вскоре получил назначение в Ростов Великий в качестве митрополита ростовского.
Педагогические взгляды Димитрия нашли яркое отражение в его деятельности по организации школы в Ростове. Основание «училища греческого и латинского» при архиерейском доме было одним из первых дел Димитрия во вверенной ему епархии, а из анализа сохранившихся упражнений, выполненных учениками школы Димитрия, можно заключить, что занятия начались 1 сентября 1702 г. [105,329]. Школа, в которой обучалось около 200 человек, находилась в Кремле возле архиерейских палат. Принимали в нее детей всех сословий, в том числе детей горожан и даже нищих. Обучение всех было бесплатным и длилось три года.
«Грамматическое учение» начиналось с азбуки, одновременно воспитанников учили письму и пению по нотам. Они изучали риторику, латинский и древнегреческий языки. Сам Димитрий высоко ценил знание древнегреческого языка, который «начало есть и источник всему любомудрию... от того во вся премудрая учения, во вся языки произыдоша...» [99, 12 — 13]. Все же в ростовской школе латинский язык ставился выше древнегреческого: лучший класс назывался латинским, менее успешный — греческим. Преподавание латинского языка велось на таком уровне, что ученики могли писать на нем стихи и свободно произносить речи. Отметим, что учителя греческого и латинского языков в ростовской школе получали каждый по 30 руб. в год, в то время как учитель русского языка — только 5 руб. Учащимся также выдавалось постоянное денежное пособие «по деньге на день», а ученикам, изучавшим греческий и латинский языки, — «по две деньги на день» [105, 328 — 329].
Школа разделялась на три класса: низший (грамматический), средний (латинский) и высший (философский), причем в первом классе было два отделения.
На формирование школьных порядков большое влияние оказало обучение Димитрия в Киево-Могилянской коллегии, из которой он перенес на русскую почву некоторые ее традиции. Отстающие ученики сидели в конце класса возле печки и дверей, лучший ученик назывался императором и сидел впереди на особом месте. «Император» вместе с тем был и авдитором: он спрашивал домашние задания, ставил отметки, объяснял и повторял уроки, смотрел за порядком и т. п. Рядом с «императором» сидел «первый сенатор». Помогал «императору» «сеньор», иногда назначавшийся из учеников старшего класса, он следил за порядком. Наиболее способные сидели в классе за первыми столами.
Димитрий придавал большое значение школе: «Что бо человека вразумляет аще не учение?» [99, 12], видел в ней эффективное средство борьбы против невежества, отсталости, суеверий, закоренелости в старых обычаях, которые, по его мнению, были порождены тем, что «иереи глупы, а люди неразумны». Он лично руководил занятиями в училище, экзаменовал своих воспитанников, а с наиболее способными учениками занимался отдельно. По его инициативе в школе был устроен театр, в котором учениками исполнялись пьесы духовного содержания. В первый же год существования «училища греческого и латинского» на школьной сцене была поставлена «Рождественская драма», созданная Димитрием [11, 308]. В том же году, по-видимому, было осуществлено представление недошедшей до нас пьесы Димитрия «Кающийся грешник». Драма учителя русского языка Евфимия Морогина «Венец Димитрию», написанная в честь ростовского митрополита ко дню его именин, была исполнена учениками 26 октября 1704 г.
В 1703 — 1705 гг. специально для постановки на сцене школьного театра Димитрий Ростовский написал пьесу «Успенская драма», приурочив ее к празднику Успения Богородицы. Театральные представления, пение и музыка плодотворно влияли на развитие эстетических чувств учащихся, которым приходилось также рисовать декорации и готовить костюмы для актеров.
Школа Димитрия Ростовского явилась своеобразным связующим звеном между древнерусскими училищами и петровскими школами XVIII в. Широта постановки проблемы воспитания, разнообразие школьной жизни, которая способствовала развитию детей, простота отношений между учителями и учащимися при обычных в то время строгих порядках, неформальное отношение к делу являются характерными особенностями ростовской школы. Общеобразовательная школа Димитрия просуществовала сравнительно недолго. В 1705 г.
школу закрыли под предлогом, что ее содержание обходилось слишком дорого. Занятия были прерваны в самом разгаре: «...и поучилися были ученики два лета и вяшшие и уже начали были грамматику разумети не зле, но попущением божиим сотворшаяся дому Архиерейскому скудость, сотвори препятие, и оставишася учения, понеже вознегодоваша питающий нас, аки бы многая исходит на учители и ученики издержка... оскудевше убо во всем, оскудехом и во учениях» [99, 9], — жаловался Димитрий в письме от 10 декабря 1706 г. к Иову новгородскому.
Новый свет на педагогическую деятельность Димитрия Ростовского проливает его «Келейный летописец» (остался не законченным автором). Замысел создания летописца возник у Димитрия в 90-х гг. XVII в., во время его пребывания на Украине, но только после назначения в Ростов он приступил к созданию «Келейного летописца». В Государственной библиотеке им. В. И. Ленина хранится рукописный список «Келейного летописца», представляющий большой интерес тем, что в нем есть предисловие, отсутствующее как в печатных изданиях памятника, так и во всех других рукописях этого сочинения. Из этого предисловия видно, что Димитрий не мог смириться с закрытием школы. Своим воспитанникам, не имевшим отныне возможности продолжать дальше обучение, предназначал Димитрий этот своеобразный учебник для изучения ветхозаветной истории. «Чадца моя любезнейшая, — обращался Димитрий к своим ученикам, — ...похваляю начатки учений ваших, блажу в грамматики искусство ваше и желал бы вам спеяния множайшего в болших учениях: яко же в пиитике, риторике и философии и инех вышших. Но понеже страна сия издревле в таковые учители бе и есть скудна, и благодетелей, пособствующих учениям несть, и время нынешнее многобедное, не меншим есть препятием, нужда убо надлежит престати учениям школным, заградитися сладких вод источнику, умолкнути геликонским музам, окончания прияти юношеской палестре не без многия моей туги и печали... Обаче да не вотще дни юности вашея изнуряете, ни да погубляе-те времени дражайшего паче злата и сребра, советую и повелеваю вам, аще и младенцем сущим не млека (менших школ учения) доволне напившимся, начати уже твердейшей и полезнейшей приучатися пищи», т. е. ветхозаветной истории, которая «...юного отрока пастит в мужи совершенна не тела возраст, но ума, а возраст уму есть мудрость, не в силе лет изучитаемый, но во множестве благоразумия...» [43, 12 — 12 об.].
«Келейный летописец» имел важное значение для характеристики педагогических взглядов Димитрия Ростовского. События ветхозаветной истории использовались Димитрием как тема для назидательного нравоучения. Текст Священного писания понимался и толковался им не только исторически, но и аллегорически, тропологически и аналогически. Каждый факт истории Ветхого завета — это не только подлинное историческое событие, но аналог иного события, заключавшего в себе скрытую сакральную истину. Димитрий преследовал главную цель — пропаганду нравственного жизненного идеала. Он стремился показать, что высокие душевные качества человека являются результатом его постоянного, упорного труда, нравственного подвига. В «Келейном летописце» им прославлялась моральная красота человека, способного ради общего блага поступиться самым дорогим. Его произведение имеет публицистическую направленность, которая вызвана стремлением автора заботиться о благе всех, а не отдельной личности. Просветительная вера в разум порождала убеждение, что слово наставника обладает могучей, действенной, почти императивной силой. Текст «Келейного летописца» кончается похвалой силе слова: «Злое слово и добрых злыми творит, доброе же слово и злых содевает добрыми!» [43, 622].
Создавая свое произведение, Димитрий Ростовский выполнял в какой-то мере определенный социальный заказ и одновременно ставил перед собой дидактические и педагогические цели. Он обращался к своим читателям с учительным, назидательным словом, рассматривая «Келейный летописец» в качестве «душеполезного лекарства», и был убежден, что его слово будет понято в народе и принесет нравственную, общественную пользу. Важнейшей задачей своего произведения Димитрий считал формирование нравственного кодекса, просвещение сознания, прямое выражение идеала, носителями которого выступали герои ветхозаветной истории. Связь с действительностью придавала «Келейному летописцу» необычайную публицистическую остроту, взволнованный лиризм, эмоциональный пафос. Димитрий затрагивал и конкретные вопросы воспитания детей. Он резко осуждал распространенный в его время обычай брать детям кормилиц, считая его противным самой материнской природе и источником многих бед: дети вырастают больными, слабыми, рано умирают, в то время как ребенок, вскормленный матерью, всегда здоров, крепок телом, разумен и почтителен к родителям. Вместо с молоком кормилицы ребенок усваивает не только болезни, но и отрицательные стороны ее характера. Дети, вскормленные кормилицами, не имеют должного почтения к своим матерям, нарушая тем самым основные нормы христианской морали. Но еще большее зло творят те матери, которые своих детей «воспитывают скотским млеком: ибо с млеком и нравы скотские в младенцы входят» [95, ч. 4, 448].
Чтобы воспитать детей послушными и преданными, Димитрий рекомендовал держать их с малых лет не только «в наказании и учении... под страхом же и грозою», но и «поучати... прощением и ласканием» [95, ч. 4, 277 — 278].
Воспитывать детей с юных лет необходимо потому, что именно в это время формируется характер человека, происходит процесс становления личности: «Чесого бо кто от юности навыкнет, того неудобно и в старости остатися может: и каково учение в юности приимет, доброе или злое, то в нем до состарения и кончины пребудет. Юный отрок подобен есть доске, уготованной ко иконному писанию, на ней же, еже из начала иконописец напишет, аше честное, аще бесчестное... то и пребудет» [95, ч. 4, 278]. Приведя слова Иоанна Златоуста, который уподобил «юность коню необузданному и зверю неукротиму», Димитрий Ростовский сделал вывод о необходимости опытных наставников, помогающих родителям воспитывать детей: «Аще безсловесным животным добр пастух нуже есть, кольми паче детем» [95, ч. 4, 279].
Общественно-политическая, литературная и педагогическая деятельность Димитрия Ростовского явилась важным этапом в истории русской педагогики; она интересна еще и потому, что он, как ученик Киево-Могилянской коллегии, осуществил живую связь украинских методов воспитания и обучения с древнерусскими.
РАЗДЕЛ ПРОСВЕЩЕНИЕ,
ШКОЛА
И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ
НАРОДОВ СССР
Глава l
ПРОСВЕЩЕНИЕ, ШКОЛА И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ НА УКРАИНЕ
I. ПРОСВЕЩЕНИИ И ШКОЛА НА УКРАИНЕ В XIV — XVII ВВ.
Украинская культура конца XIV — XVII вв. складывалась в неблагоприятных условиях чужеземного — польского господства. Однако этот факт не должен порождать односторонней оценки ее развития. Украинская культура сохраняла духовные корни восточнославянского единства и одновременно активно осваивала достижения западноевропейского просвещения, трансформатором и передатчиком которых являлась Польша.
Историко-педагогический процесс на Украине, являвшейся пограничьем греко-славянского культурного мира с латинской Европой, и в формах образовательной практики, и в основном круге просветительных идей совмещал ярче, чем где бы то ни было, инонациональное с национальным, базировавшимся на устойчивых традициях просветительной культуры Древней Руси. Эта особенность педагогической реальности на Украине в указанный период придавала ей то «общее освещение... в котором исчезают все другие цвета» [1, 733].
Оценивая украинское педагогическое наследие, важно проследить, когда и как усваивался здесь чужой материал и чужие формы, что своего вносилось в общую сокровищницу просветительных идей и форм, и на уровне обобщения установить как прямые заимствования, так и типологически родственные явления, самостоятельно возникшие на национальной почве. К факторам воздействия западных культур относится распространение гуманистических веяний и развитие ренессансных и реформационных тенденций, составлявшее основное содержание культурных связей Восточной и Западной Европы XV — XVII вв.
В системе идеологии и культуры украинского средневековья педагогика играла особую роль, что определялось ее гражданственностью, свойством чутко отражать общественные задачи, которые в силу исторических условий развития Украины сводились в первую очередь к идее национального самоутверждения и национально-освободительной борьбы. Тесная связь историко-педагогического процесса с процессом формирования и социального развития украинского народа проявилась и в педагогической практике, и в характере общепросветительного движения, и в самой периодизации конкретных историко-педагогических явлений.
Первый этап развития школ и педагогической мысли на Украине охватывает период с конца XIV до конца XV в., т. е. со времени захвата территорий южнорусских княжеств польскими и литовскими феодалами до окончательной ликвидации национальных особенностей в административном устройстве, правовых институтах и политическом строе украинских земель. Фактографические данные о педагогической практике этого периода почти отсутствуют ввиду скудости источниковой базы, поэтому реконструкция ее возможна в основном на косвенных материалах.
В традиционных формах продолжали существовать элементарные школы при церквах и монастырях, обучавшие чтению, церковному пению и порядку богослужения. Принято считать, что нашествие орд Батыя уничтожило и разветвленную сеть этих школ. Такое суждение опирается на отсутствие прямых указаний о школе в период нашествия, но оно вряд ли верно. Например, граффити на стенах Софийского собора в Киеве подтверждают беспрерывность (в XI, XII и XIV вв.) существования здесь школы дьяков [7, 260, 263]. Существование элементарных школ на Украине подтверждает и тот факт, что уже во второй половине XIV в. церковь пытается контролировать их появление, о чем свидетельствует характерная оговорка в дарственной грамоте Любарта Гедиминовича, запрещающая в пределах Луцкой епархии без ведома епископа «церкви созиждати... дидаскалию основати» [10].
Традиционно продолжала существовать и более высокая ступень образования, включавшая элементы богословия, что подтверждается примерами из житийной литературы [24]. Актовое наследие княжеских, городских и церковных канцелярий является косвенным подтверждением существования нотариально-писцовых школ. Напомним, что если в литовской части Украины государственным языком признавался книжный белорусско-украинский язык, то в Галичине до введения «польского права», т. е. до 1434 г., в канцелярском обиходе широко практиковалось двуязычие с применением как родного, так и латинского языка, что подразумевало подготовку наряду с кирилловскими и латинских писцов и составило фундамент будущего распространения латинских школ.
Появление новых веяний в украинской культуре связано с так называемым вторым южнославянским влиянием на Руси (конец XIV — первая половина XV в.), в частности с распространением исихазма — религиозного учения, углубленно обратившегося к внутреннему миру человека и вопросам морали, к примату личностного сознания над внешней, обрядовой стороной религии. Крупным центром исихастской мысли являлся Киево-Печерский монастырь, с которым связана деятельность талантливых писателей того времени, выходцев из Болгарии, киевских митрополитов Киприана и Григория Цамблака. Они впервые применили в украинской церковно-учительной литературе индивидуально-эмоциональный стиль так называемого «плетения словес», насыщенный сложными риторическими приемами с целью создания настроения, чего не знала предыдущая литература.
Следующий этап развития школ и просветительной мысли на Украине охватывает конец XV — первую половину и середину XVI в. Характерную общественно-политическую окраску этому периоду придают, с одной стороны, дальнейшие централизаторские меры польско-литовской власти, направленные на укрепление позиций их господства на Украине, а с другой — практика заигрывания с украинским боярством, постепенно уравненным с польской шляхтой, что объективно способствовало активизации общественной жизни. Прогрессивную роль сыграло и предоставление множеству украинских городов права самоуправления (так называемого магдебургского права). Активизация экономики, распространение кодифицированных правовых норм, усиление периферийных государственно-административных органов с развитым делопроизводством определили возросшую потребность не только в элементарно грамотных, но и профессионально подготовленных людях. Под влиянием новых требований расширяется сфера прикладной педагогики.
Начальной ступенью грамотности по-прежнему остается элементарная приходская школа. Являясь для большинства первой и единственной ступенью грамотности, эта школа была одновременно и начальным фундаментом специальных знаний, необходимых для получения священнического сана или для службы в судебно-административном аппарате. Подготовку священников осуществляли преимущественно школы при епархиальных соборах и крупных монастырях, давая обучавшимся представление о богословии, а также подготовляя их к книгописанию, чего не делала приходская школа. Так, на «Номоканоне», переписанном в 1565 г. в Зимненском монастыре на Волыни, находим следующую характерную приписку: «Почах аз ...Федор сын архимандрита Зименского, того ж де и учен» [24, 200].
О подготовке канцеляристов для судебно-административного аппарата можно судить на основании более поздних данных. Косвенным подтверждением того, что обучение праву и делопроизводству было основательным, служит уверенность, с которой украинские канцеляристы, судя по сохранившимся актам, манипулируют пунктами и параграфами уставов и ведут адвокатуру в спорных делах, демонстрируя солидные познания в юридической казуистике. Как подтверждают позднейшие источники, подготовку «в прав1умес.тних» кадров брали на себя сами канцелярии в своеобразных школах-практикумах, получивших в XVIII в. название палестр.
Если в литовской части Украины (Волынь, Поднепровье, Брацлевщина) в деловом общении употреблялся книжный вариант родной речи, то на Галичине и Подолии, входивших в состав Польского королевства, — латынь. Уже во второй половине XV в. встречаются упоминания об элементарных латинских школах, организованных при костелах и монастырях. При епископских католических кафедрах (Львов, Холм, Красностав, Перемышль, Каменец-Подольский) создаются школы повышенно-элементарного уровня. Последние, как правило, вскоре превращались в городские школы под совместной опекой епископа и магистрата. По сходному образцу возникают школы и во множестве некафедральных городов. Некоторые из них, как, например, Львовская, Красноставская, Перемышльская, Ярославская, вскоре приобретают статус колоний Краковского университета, расширяя обучение до семи свободных наук западноевропейской средней школы. Уровень обучения в этих школах равнялся, очевидно, повышенно-элементарному.
Оценивая деятельность латинских школ на Украине, современная историкопедагогическая наука нередко склонна некритически заимствовать точку зрения дореволюционных исследователей. Это привело к предвзятому игнорированию образовательной роли латинских школ или к крайне отрицательной оценке их деятельности. Несомненно, что учредители этих школ — католические иерархи — преследовали цель распространения католицизма. Но несомненно и то, что, во-первых, в конечном итоге эта цель не была достигнута, о чем свидетельствует размах национально-освободительного движения, а во-вторых, латинские школы, вооружив своих воспитанников знаниями латыни, открыли им дверь к европейской образованности. Появлению латинских школ украинская культура обязана тем, что к концу XV — началу XVI в. резко возрастает количество студентов-украинцев в зарубежных университетах Праги, Кракова, Падуи, Болоньи, Виттенберга, Базеля, Лейдена и др. За выходцами из литовской Украины право на образовательные путешествия закрепляется специальным пунктом Судебника Казимира 1468 г., почти дословно узаконенным в XVI в. Литовским Статутом [6, 48 — 49]. Насколько распространенными были такие выезды, свидетельствует тот факт, что только в Краковском университете в XV — первой половине XVI в. обучалось не менее 1200 выходцев из Украины, в том числе немало горожан [11, 191]. Сохранились и свидетельства
о том, как практически происходили подобные выезды: так, Матвей Щетинчич, луцкий мещанин, записью 1572 г. передает полномочия по распоряжению своим имуществом священнику, поскольку сам он, «будучи в молодых лтх, хочется в науку вдати» [26, 85].
Следует обратить внимание на одно существенное обстоятельство: учеба в латинской школе отнюдь не обозначала окатоличивания. Это подтверждается примерами как из жизни высшего православного духовенства, завершавшего, как правило, образование в католических учебных заведениях, так и из частного обихода светских лиц, вполне преданных православию. Так, брац-лавский кастелян Василь Загоровский в завещании 1577 г., подробно оговорив все пункты воспитания и обучения сыновей, направленные на то, чтобы они «писма своего руского и мовеня рускими словы и обычаев цнотливых и покорных руских не забачали, а наболшей в1ри своее», предписывает, однако, отдать их в школу «до Вильны к езуитом, бо там фалят д1тям добрую науку» [3, 73 — 74].
Оценивая украинское просветительное движение данного периода в более широком контексте, можно констатировать, что под влиянием стимулирующего воздействия западноевропейской гуманистической мысли оно вступает на путь постепенного освоения ренессансно-гуманистических элементов и тенденций. Очагом ренессансной культуры с конца XV в. становятся Львов и другие города Галицкой Руси. Особое место среди первых гуманистов принадлежит талантливому ученому, ректору Болонского и профессору Краковского университетов Юрию Дрогобычу (Котермаку), первому восточнославянскому автору печатной книги, изданной в Риме в 1483 г. Зачинателями славянской ренессансной литературы стали латиноязычный поэт, издатель и комментатор античных и новолатинских авторов Павел Русин из Кросно (ум. 1517) и блестящий публицист и оратор Станислав Ориховский из Перемышля (1513 — 1566), который в своих произведениях впервые развил идею этнической и языковой общности славян. Проповедуя веротерпимость, С. Ориховский, будучи католиком, протестовал против попыток католического духовенства унизить православные церковные обряды, подчеркивая: «Я из украинцев, о чем заявляю прямо и с гордостью».
Наличие ренессансных элементов в украинской духовной культуре не означало переориентации ее в сторону Запада. Ее доминирующие концепции по-прежнему базируются на греко-славянской культурной общности и древнерусской традиции, но уже видоизмененной вследствие пограничных контактов с «латинским миром». Проявлением новых веяний стало, в частности, распространение рационалистически-гуманистической культуры на Волыни и Над-днепрянщине, о чем свидетельствует появление большого числа переводных книг. Намечается качественно новый этап украинской просветительной мысли. Ученые монахи создавали фундамент для широкого распространения новых просветительных идей, близких гуманистическим веяниям западноевропейской культуры.
Третий этап развития просвещения на Украине проходит под знаком культурного подъема конца XVI — начала XVII в. Ускоренный политический пульс времени, предвещавший близкую развязку в Освободительной войне украинского народа 1648 — 1654 гг., был вызван резкой вспышкой католической реакции в Речи Посполитой — новом государстве, созданном по Люблинской унии 1569 г. Главенствующую роль в нем захватила шляхетская Польша, под непосредственную власть которой кроме Галичины и Подолии перешли Волынь, Поднепровье и Брацлавщина. Социальное, национальное и религиозное наступление польских правящих кругов на украинские земли ярко отразилось в Брестской унии католической и православной церквей 1569 г., которую прави-
тельство рассматривало как промежуточное средство для постепенного окатоличивания украинского народа. Наступление реакции вызвало к жизни мощное освободительное движение, сопровождавшееся сдвигами в общественном сознании. На арену социально-политической борьбы активно выдвигается третье сословие, обладающее развитым чувством социального и национального протеста.
В условиях реакции новую идеологическую окраску приобретает «латинская наука» на Украине. Ее центром становится иезуитский орден, призванный на земли Речи Посполитой в 1564 г. К концу XVI в. на украинских землях организуются первые иезуитские резиденции, открывавшие элементарные школы, которые перерастали в коллегии — училища среднего типа с преподаванием семи свободных наук, иногда с элементами философии и теологии — предметов высшей школы. Одна из крупнейших иезуитских коллегий — Львовская — с 1661 г. получила университетский статус, который, однако, не был апробирован сеймом и не приобрел фактической силы до середины XVIII в.
Бесплатность обучения в иезуитском ордене привлекала представителей и мелкой и средней шляхты. Так, Каменец-Подольская коллегия уже в момент образования в 1611 г. насчитывала 180 учеников, Луцкая — около 150 — 200 учеников, Львовская — около 400 [24, 76; 21, 94, 96]. В конвиктах — бурсах для «убогих школяров», организованных при многих коллегиях, проживало, например, в Остроге 30, в Ярославе — 70 человек. Приведенные данные показывают, что иезуитская образовательная база на Украине была достаточно обширна. В целях привлечения украинского юношества в иезуитских коллегиях вводился церковнославянский язык и даже элементы православного церковного обряда, что зафиксировано, в частности, в практике деятельности Барской коллегии вплоть до XVIII в. [28, 48, 74, 124].
Из учебных заведений, не подчиненных иезуитам, следует отметить Замой-скую академию — «генеральную школу Руси», основанную в 1595 г. в Замостье. Ее характерной особенностью являлось преобладание в составе студентов нешляхетского элемента. За период с 1595 по 1648 г. здесь обучалось свыше 4,5 тыс. человек, преимущественно выходцев с Волыни, Подолии и Галичины [27, 104].
Кальвинисты и социниане организовывали протестантские школы. По мнению К. Харламповича, редкая из 150 протестантских общин Украины и Белоруссии не имела своей школы. Протестантские училища были разными по уровню: от элементарных до академических. Из кальвинистских заслуживает особого упоминания школа в Дубецке Русского воеводства, действовавшая в середине — второй половине XVI в. С. 1559 по 1562 г. здесь обучалось около 300 юношей из украинских, преимущественно шляхетских, семейств Перемышльской и Сяноц-кой земель [14, 74]. Среди других кальвинистских школ, обучавших в рамках программ среднего уровня, выделяется школа в Панивцах на Подолии, просуществовавшая с 1590 по 1611 г. Как и в Дубецке, здесь кроме семи свободных наук излагали философию и теологию; при школе действовала типография.
Сеть школ возникает и в центрах реформационного социнианского движения, охватившего Волынь и Западную Киевщину. Особую роль сыграла Киселинская школа на Волыни, которая на короткое время после закрытия социнианской академии в польском городе Ракове превратилась в высшее учебное заведение.
Новаторский характер протестантских школ, контролируемых светскими соборами, их прогрессивные уставы, построенные на принципе общедоступности, дух веротерпимости, объединявший протестантов и православных в борьбе с католицизмом, привлекали сюда юношей разных вероисповеданий из различных социальных прослоек. Немало воспитанников этих школ продолжали образование в протестантских университетах Западной Европы. Однако протестантская школа не решала главной задачи времени — национального самоутверждения, которое в средневековом сознании сливалось с утверждением православия, обеспечением православного образования. Критика традиционной церковной культуры, распространение тяги к знаниям среди «ремесленников», «Крамаров» (торговцев), «хлопов простых» явились выражением реформацион-ных идей на национальной почве.
Ослабление церковной монополии в области духовной культуры способствовало расширению социальной базы культурно-образовательного движения, что явилось одной из главных предпосылок назревшего преобразования национальной школы. Введение по западному образцу в содержание образования семи свободных наук и латинского языка вызвало острую полемику, втянувшую в себя как ученых монахов, так и рядовых горожан. На одном полюсе полемического противостояния мы видим антиуниата Ивана Вишенско-го, на другом — представителей ученого кружка при Киево-Печерском монастыре. Отвергая вместе с унией и католицизмом и «латинскую злоковарную мудрость», Вишенский призывает «простым прилежным чтением, без всякого ухищрения... изучати Часословец, Псалтыр, Охтаик, Апостол и Евангелие» [12, 32]. В противовес этому киевские полемисты выступают за совмещение латинопольской образованности и отечественных культурных традиций. Констатируя, что западноевропейская наука вышла из древнегреческого источника, Захария Копыстенский пишет: «...когда мы Россове... для наук в края Немецкий удае-мося, не по латинской, але по грецкий розум удаемося, где як свое власное за-ходним (т. е. у западных ученых) от греков на короткий час. поверенное отбираемо...» [18, 900 — 901]. Ученые киевского кружка выдвигают принцип: «Греческий язык — для богослужения, латынь — для публичной жизни». Обосновывая практическую необходимость введения латыни в программы украинских школ, Сильвестер Коссов в «Апологии школ киевских» говорит: «Так что же за надобность для нашего народа в латинской науке? Да прежде всего та, чтобы не называли нашей бедной Руси глупой Русью. Иные говорят: учитесь по-гречески, а не по-латыни. Неплохой совет, да только полезнее для Греции, а не для Польши, где латынь нужна в ежедневном обиходе. Поедет бедняга-украинец на трибунал, на сейм, на сеймик, в город или земство — bez laciny placi winy («Не знаешь латыни — плати штраф»); ни судьи не понимает, ни адвоката, ни посла, только пялится то на одного, то на другого, бессмысленно вытаращив глаза» [5, 444, 445].
Начало реального компромисса между восточнославянскими просветительными традициями и «латинской наукой» было положено созданием Острожс-кой школы, первое упоминание о которой находится в предисловии Ивана Федорова к Острожскому букварю, изданному в 1578 г. Здесь сказано, что князь К. Острожский повелел «устроити дом на дело книг печатных. К тому же еще дом и детем к научению в своем граде Остроге... и избравши мужей в писанш искусных в греческом языце и в латинском паче жив русском и пристав! их к детищному училищу» [И, 461]. В образовавшийся кружок ученых входили выдающийся русский и украинский просветитель, первопечатник Иван Федоров, блестящие публицисты Герасим Смотрицкий, Клирик Острожский, Демьян Наливайко, Василий Суражский, «доктор наук латинских и эллинских», греки Кирилл Лукарис и Никифор, польский математик и философ Ян Лятос и другие. Солидные научные силы и издательская деятельность Острожской типографии обеспечивали преподавание не только семи свободных наук, впервые введенных в практику восточнославянской школы, но и элементов современной философии. Называли школу «академией», «триязычным
лицеем», «храмом муз». С конца XVI в. Острожская школа постепенно приходит в упадок.
Впервые осуществленное в Острожской школе совмещение в программе обучения «славяно-греко-латинских» наук стало примером для училищ, создаваемых городскими братствами. Формально объединяясь вокруг какой-нибудь церкви, братства фактически являлись политическими организациями, противодействовавшими полонизации и окатоличиванию. Просвещение относили к числу наиболее действенных средств борьбы за национальное равноправие, поэтому создание школ становится одним из центральных пунктов братских уставов. Выдающуюся роль в становлении нового отечественного образования сыграла первая из братских школ — Львовская, организованная в конце 1585 г. первоначально как греко-славянская, а с 1592 г. — с преподаванием латыни. В ее создании ведущую роль сыграли такие видные деятели братского движения, писатели-полемисты и ученые, как Юрий Рогатинец, Стефан и Лаврентий Зизании, Иов Борецкий, Кирилл-Транквиллион Ставровецкий, Памво Берында и другие.
По типу обучения Львовская школа соответствовала западноевропейскому училищу среднего типа — в ней обучали семи свободным наукам, включая поэтику и риторику. В планы братчиков входило расширение школьной программы до предметов высшего цикла — философии и теологии. Однако создать училище высшего типа им не удалось — в середине XVII в. деятельность школы прекращается.
О новаторском характере организационных форм деятельности Львовской школы свидетельствует известный устав «Порядок школьный» (1586), ставший основой уставов других братских училищ. Устав регламентирует контроль братства над школой как один из основных принципов ее существования. В обязанности избранных братством двух представителей, «искусных ради строения школного», входила не только забота о материальном обеспечении школы, но и надзор за учителями («да согладают науки и дш дидаскаловых»), контроль за приемом детей, определение платы за обучение, наблюдение за тем, чтобы родителей осведомляли, «яковым способом будут /их/ сына учити», за тем, чтобы родители «непорядком своим в наущ и в обычаех добрых не прешкажали (не препятствовали)» [4, 180 — 184]. Такое установление светского контроля над школой было первым проявлением секуляризации учительной практики не только на Украине, но и на восточнославянских землях вообще.
Львовский устав особо подчеркивает принцип общедоступности образования: «...богатый над убогим в школ1 шчим вышшш не мают быти, толко самою наукою, плот1ю же равны всЬ. Учитель обязан равно учить и любить всех детей, «як сынов богатых, так и сирот убогих и которые ходят по улицам, живности просячи». Почетное же место в классе занимает не сын состоятельных родителей, а тот, кто преуспевает в учении, даже если он «и барзо нищ» [4, 180 — 184].
Из других братских школ к училищам среднего уровня принадлежала Луцкая, открытая в 1620 г. под протекторатом братства, а с 1624 г. переданная под опеку Крестовоздвиженского монастыря. На статусе колоний Киево-Моги-лянской коллегии функционировали братские школы среднего типа в Виннице, Кременце и Гоще. По инициативе братств было создано множество школ элементарного и повышенно-элементарного уровней как в крупных городах, так и в мелких населенных пунктах. Их создание отражало широкую заинтересованность в распространении грамотности, исходившую не от церкви, а от трудовых низов, что было качественно новым явлением.
Братское движение сыграло решающую роль в подъеме украинской духовной культуры не только благодаря самому факту создания национальной школы, но и благодаря тому, что на ее традициях сумела вознестись Alma mater высшего отечественного образования — Киевская академия. Прямой предтечей академии явилась Киевская братская школа, возникшая одновременно с созданием братства и организацией Киево-Печерской типографии в 1615 г. Почетным членом братства, обеспечившим ему материальную поддержку, политический вес, защиту от репрессий, стало Войско Запорожское, вписанное в Киевское братство в 1620 г. гетманом Петром Конашевичем-Сагайдачным. В становлении братства и школы активное участие приняли ученые и писатели-полемисты, группировавшиеся вокруг типографии: Елисей Плетенецкий, Тара-сий Земка, Исайя Трофимович-Козловский, Захария Копыстенский, Софроний Почасский, Иов Борецкий, Мелетий Смотрицкий и другие. Их полемическая и издательская деятельность внесла весомый вклад в сокровищницу отечественного просвещения. Особую роль сыграла плеяда киевских ученых в идеологической подготовке Освободительной войны украинского народа 1648 — 1654 гг. В их среде окончательно сформировалась концепция историко-этнической общности украинского, русского и белорусского народов — «единая вера, род, язык и обычаи», на основе которой окрепла идея восточнославянского государственного единения. Оживленные литературно-издательские связи с Россией, интерес к древнерусскому периоду отечественной истории, рассматривавшемуся в неразрывной взаимосвязи прошлого «Великой, Малой и Белой Руси», накладывали отпечаток на деятельность Киевской школы, определив ее вклад в борьбу за воссоединение Украины с Россией.
Киевская братская школа была средним учебным заведением с преподаванием семи свободных наук. Философия и богословие, как предметы высшего цикла, изучались не в братском, а в Киево-Могилянском училище, созданном после окончательной переориентации Петра Могилы и его сторонников на позитивные достижения западноевропейской образованности.
Киево-Могилянская коллегия возникла в 1632 г. в результате слияния Киевской братской школы со школой при Печерском монастыре, основанной Петром Могилой. Объединенная школа размещалась, как и прежде, на ремесленно-мещанском Подоле при братском монастыре под совместной опекой Петра Могилы и представителей-братчиков, но с условием расширения программы обучения до пределов, предусмотренных Петром Могилой. Воспитанники Ки-ево-Могилянской коллегии кроме семи свободных наук изучали философию и сокращенный, а с последней трети XVII в. полный курс богословия. Принадлежность Киевской коллегии к разряду высших учебных заведений не вызывала сомнений у современников. Так, французский инженер и картограф Боплан в «Описании Украины», составленном накануне Освободительной войны, отмечал существование в Киеве «университета или академии» [14, 66]. Что касается количества учащихся, то в год создания коллегии оно составляло около 160, а к концу XVII — началу XVIII в. насчитывало около тысячи человек [20, 88; 25, 134].
Создание высшей школы на Украине встретило упорное противодействие правительства, неоднократно запрещавшего преподавание наук академического. уровня, и особенно богословия, необходимого для формального признания за коллегией прав академии. Был наложен также запрет на чтение курсов поэтики, риторики и философии на латинском языке. Несмотря на сопротивление правящих кругов, Киевская коллегия продолжала функционировать как высшее учебное заведение, хотя формально юридический статус академии был предоставлен ей только в 1694 г. и в 1701 г. грамотами Петра I.
Киево-Могилянская академия — первое высшее учебное заведение православной ориентации — уже в XVII в. стала выдающимся культурным центром всей Украины, способствуя формированию чувства национальной общности.
С ней неразрывно связано становление духовной культуры украинского народа. Будучи постоянно причастной к общественно-политической жизни страны, академия косвенно влияла на решение многих политических проблей, в связи с чем сыграла важную роль в национально-освободительной борьбе украинского народа.
Огромная заслуга принадлежит Киевской академии в развитии культурных связей с братскими восточнославянскими народами. Ее воспитанники стали организаторами многочисленных учебных заведений не только на Украине, но и в России. С именами Епифания Славинецкого, Арсения Сатановского и Симеона Полоцкого сТвязано становление греко-латинского школьного образования в Москве. Выдающуюся роль в распространении просвещения в России сыграли питомцы академии середины — второй половины XVII в., занимавшие высокие церковные посты как в центре, так и в отдаленных областях Русского государства: Стефан Яворский, Феофан Прокопович, Димитрий Туптало.Феофилакт Лопатинский, Гавриил Бужинский и многие другие.
Униатские школы — явление, равно вторичное как для латино-польского, так и для греко-славянского образовательного направления. Кроме приходских училищ, переходивших в руки униатов вместе с церквами по принципу «cujus regio, huius religio» («чья власть, того и вероисповедание»), было организовано две школы среднего уровня при епископских кафедрах Владимира (1616) и Холма (1639). По характеру обучения они принадлежали к славяно-греко-латинскому типу, а в организационной структуре наследовали принципы иезуитской коллегии. Со второй половины XVII в. в обеих школах утверждаются базилиане — униатский монашеский орден, созданный в 1617 г. и поставивший перед собой задачу подготовки образованных кадров с целью дальнейшего укрепления позиций униатской церкви. Базилианскому ордену принадлежит инициатива создания так называемых новициатов, т. е. школ для обучения кандидатов в орден. Эти школы давали конфессиональную и общеобразовательную подготовку. Они организовывались при крупных базилианских монастырях — Белостоцком, Владимирском, Дубенском, Дерманском, Милец-ком, Низкиничском, Почаевском, Холмском и др. К концу XVII в. между ними закрепляется своеобразная специализация по отраслям учебных программ: в Белостоке — риторическая, в Почаеве — богословская, в Луцке — философская и т. д. Образование в базилианских школах было направлено исключительно на нужды церкви. Число светских слушателей новициатов сводилось к единицам.
Итак, на Украине в XV — XVII вв. существовали училища различного образовательного уровня и конфессиональной принадлежности. Точными данными о количестве элементарных школ современная наука не располагает. Училища среднего и высшего типов, за исключением протестантских, зафиксированы в источниках со сравнительной полнотой.
Обучение в братских школах
и Киево-Могилянской коллегии
Эти самобытные образовательные учреждения совмещали в себе восточнославянские учительные традиции с формами западноевропейской школьной практики. Дисциплинарные правила, действовавшие в братских школах, известны по упомянутому выше Львовскому «Порядку школьному» (1586) и двум уставам Луцкой школы — 1620 и 1624 гг. [17, 83 — 115].
Запись ребенка в школьный реестр и договор об оплате за обучение происходили в присутствии свидетелей («сусща единого или двох»), с определением желаемой родителями «науки» («до школы руское», «на науку словенского писма», «абы умш скоропис» и пр.) либо без специального ограничения
(«поки ся научит»). В последнем случае «науку» определял сам учитель сообразно с возрастом, желаниями и подготовкой новоприбывшего. Оплата устанавливалась поквартально, выражаясь в деньгах и натуральных приношениях, и была различной (в среднем около 12 грошей), завися от состоятельности родителей и разряда «науки». Взрослый юноша, записавшийся в школу самостоятельно, обязывался на протяжении трех дней ознакомиться со школьным распорядком и только затем, уплатив 4 гроша в школьную кружку, заносился в список студентов. Возраст воспитанников братских школ колебался в значительных пределах: от 8 — 9 до 20 — 25 лет. .
В основе деления учащихся на группы лежало два принципа: 1) языковой — более общий, определяющий школу: русская, славяно-греческая, латинская (латино-польская); 2) классный — соответствующий уровню овладения знаниями в каждой из школ. Деление на классы сходно со структурой магистратско-кафедральных школ, которые начинались не с грамматического, а с элементарного класса. Подобное сходство легко объяснить, вспомнив, что именно во Львове действовала древнейшая на Украине магистратская школа, в которой учились, хотя и не без препятствий со стороны католической оппозиции, дети украинских мещан. «В школ1, — читаем во Львовском уставе, — мают быти д1ти роздшеш на трое: которые ся будут учити слов познавати и складати (т. е. элементарный класс); другш, который ся будут учити читати и напамять многих ся речш учити (т. е. грамматические классы, соответствовавшие «инфиме» и грамматике); третш ся будут учити, читаючи, выкладати, розеужда-ти и розумгги (т. е. грамматические классы, соответствовавшие «синтаксиме» с элементами риторики и диалектики)». Изучение иностранных языков проходило параллельно. С целью закрепления знаний устав требовал, чтобы ученики грамматических классов «един другого пытал по-грецку, абы ему отповщал по-словенску, и тыж пытаются по-словенску, абы им отповщано по простой мовЬ.
Срок обучения в каждом из классов не был строго определенным. Можно предположить, что в среднем он равнялся двум годам обучения в начальном классе, году в каждом из грамматических классов и трем годам в классах поэтики и риторики, если риторика совмещалась с диалектикой. Функционирование тех или иных классов не было постоянным, завися и от наличия учителей, и от материальных возможностей братства.
Учебный год состоял из четырех кварталов, продолжаясь с сентября до начала июля, хотя новоприбывшие могли зачисляться в школу на протяжении всего года. Занятия начинались и заканчивались в определенное время, установленное учителем, разделяясь на утренние и послеобеденные урочные часы, которых в начальном классе было по два, в старших — по четыре. Опоздание или неявка на уроки строго контролировались, так же как и поведение воспитанников. Каждую неделю назначались 2 — 4 дежурных, в обязанности которых входило подметать школу, топить печи, наблюдать за порядком и поведением товарищей.
Распорядок учебного дня соответствовал общепринятому распорядку западноевропейской школы того времени: с утра проводилась устная проверка усвоения вчерашнего урока и просмотр письменных домашних заданий. Затем учитель разъяснял новый материал. На послеобеденных уроках ученики списывали объясненное учителем с книги или с его записей и тут же выучивали, проверяя друг друга. Дома им следовало написать, «шхо учили того дня», а также пересказать домочадцам «науку, которую в школ1 учили». В субботу до обеда проверялось усвоение учащимися всего, что преподавалось в течение недели, а после обеда проводились уроки арифметики, астрономии и церковного пения, что также указывает на сходство с традиционным распорядком европейской школы. В субботу учитель обязан был провести с воспитанниками нравственно-поучительные беседы, а то и наказать провинившихся за неделю.
В обучении младших школьников («хлопшв», «дггок») активное участие кроме учителя принимали старшие воспитанники («спудеи», «выростки», «молодики») . Именно они, расходясь по окончании школы по разным городам, умножали сословие «мандрованных дяков» — бродячих учителей, сыгравших огромную роль в распространении массовой грамотности среди трудового народа.
При братских школах, как и при многих других учебных заведениях, были бурсы — общежития для неимущих учеников и сирот. Содержались они частично за счет братства, частично за счет так называемого «мирковашя», т. е. пения кантов и псалмов под окнами горожан с целью испрошения подаяния. На рождественские и пасхальные праздники программа «мирковашя» расширялась — школяры ходили по домам с пением колядок, инсценируя соответствующие сюжеты. Это стало основанием знаменитого школьного театра, на традициях которого развилась украинская старинная драма.
Внутренний распорядок Киево-Могилянской академии четко наследует структуру западноевропейских гимназий академического типа. В академии функционировали вначале 7, а с 1689 г. (после введения 4-летнего богословского курса) — 8 классов, которые подразделялись на: 1) грамматические (младшие), в которых изучались аналогия, инфима, грамматика, синтаксис; 2) гуманистические (средние) — поэтика, риторика; 3) высшие — философия, богословие. Воспитанники младших и средних классов назывались учениками («дитина», «ученик»), высших — студентами. Разделения между школами, основанного на языковом принципе, в академии не было. Судя по сохранившимся академическим инструкциям 1752 и 1763 гг., обучение нескольким языкам происходило уже в подготовительном классе (аналогии). При этом преследовалась цель, чтобы «в русской речи умки дитина разобрать между частми речи; оттуду вести к латинскому языку; латинского языка наклонений и спряжений правильных ясно читая учить» [2, 75]. В грамматических классах кроме грамматики изучались катехизис, арифметика, геометрия, нотное письмо. В средних классах наряду с поэтикой и риторикой преподавались география и история, в философском классе — геометрия и астрономия.
Занятия проходили в утренние и послеобеденные часы в той же последовательности, что и в братских школах, с проверкой по субботам усвоенных за неделю знаний. Существовала система школьных почестей: лучшие ученики носили титулы императора и сенаторов, в классе они сидели впереди, на почетных местах. Из них в грамматических и средних классах назначались аудиторы и цензоры; в обязанности первых входила проверка домашних заданий, вторых — контроль за порядком и поведением товарищей.
Важную роль во внешкольной жизни академии играл студенческий театр, публично разыгрывавший драмы и интермедии, написанные профессорами либо студентами. В комических интермедиях и вертепных сценках, героями которых были представители народа, проявлялась тесная связь академии с народной жизнью, что вело к обогащению украинской книжной литературы, средоточием которой со второй половины XVII в. стал Киев.
Что касается быта учащихся, проживавших в бурсе, то он вполне сходен с бытом братских школяров. Студенты средних и старших классов, добывая средства к пропитанию, занимались репетиторством.
Соответственно образовательному уровню каждой из распространенных на Украине школ в них преподавались (в большем или меньшем объеме) следующие учебные дисциплины: 1) предметы начального обучения: чтение, письмо; 2) грамматика: церковнославянская, староукраинская, латинская, греческая, польская; 3) поэтика; 4) риторика, включавшая историю и географию; 5) предметы квадривиума: арифметика, геометрия, астрономия, музыка; 6) философия; 7) богословие.
К предметам начального обучения относится азбука (как в элементарных школах, так и в начальных классах братских школ). Выучив азбуку и овладев слогами, ребенок переходил к чтению «слогов сливаемых:», т. е. отдельных слов и простейших учебных текстов: сентенций, афоризмов, молитв. Навыки беглого чтения закреплялись на Часослове и Псалтыри, приспособленных к школьному обиходу. Что касается обучения письму, то здесь следует опровергнуть широко распространенное заблуждение, согласно которому начальная школа ставила перед собой такую задачу. Это заблуждение проистекает из наложения современных понятийных категорий на систему представлений о грамотности, свойственных прошлому. Понятия «уметь писать» и «учить писать» охватывали не обычную грамотность в современном значении, а знание бытующих в конкретный период каллиграфических вариантов письма, которыми владели писцы-профессионалы. Элементарная школа не ставила перед собой задачи «учить писать» (в вышеуказанном смысле понятия), так как это не диктовалось практической надобностью. В отличие от умения читать, нужного во всех сферах жизни, «уметь писать» требовалось только лицам, зарабатывавшим своим искусством хлеб насущный, — писцам, канцеляристам, книгописцам и др. На этапе элементарного обучения в процессе заучивания азбуки школьники копировали на деревянных табличках (церах) очертания печатных букв, автоматически овладевая навыками упрощенного письма, построенного на книжных образцах, которое специалисты-палеографы называют элементарным почерком. Но происходило это не со специально заданной целью и, очевидно, далеко не всегда. Церы являлись непременным спутником школьного обихода, упомянутого и в уставах братских школ. В противоположность письму на табличках овладение каллиграфическими навыками считалось качественно высшим этапом обучения, требующим специальных усилий и особой выучки, и производилось на бумаге. «Письму на бумаге», т. е. каллиграфии, могли учить в повышенно-элементарных соборных и монастырских школах, приготовляя учащихся к книго-писанию, а также в грамматических классах школ среднего уровня (при наличии специалиста). Чаще же «управляли в добрый характер руку к писанию» частные учителя.
В процессе начального обучения роль учебных пособий исполняли рукописные азбуки, составленные самими учителями: «алфавитари» — для обучения кирилловской грамоте, «элементары» — латинской и польской. В связи с ограниченными тиражами и редкостью печатных книг последние имели значение скорее образцов, чем общедоступных учебных пособий. Древнейшими из букварей кирилловской грамоты являются знаменитые буквари Ивана Федорова (1574, 1578), острожские буквари 80-х гг. XVI в., Букварь Лаврентия Зизания 1596 г., виленский Букварь 1621 г., львовский Букварь из типографии Л. Слезки 1638 г. и др. Для начального изучения греческой грамоты служила греко-славянская Азбука, изданная Иваном Федоровым (1578), и грамматика «Адельфотес»; польская азбука, возможно, изучалась по букварю «Nauko cu crytaniu pisma polskiego» (древнейший датированный польский букварь, изданный во Львове в 1599 г.); латинская — по многочисленным «Elementa» — извлечениям из грамматики Элия Доната. Использовались также латинские и польские катехизисы и псалтыри в школьных вариантах.
Особое место в программах школ отводилось грамматике — «первой от семи наук», считавшейся основой познания. С элементарными грамматическими правилами ученики знакомились уже на основе простейших грамматических разделов в букварях. Последовательное изучение грамматики как самостоятельной дисциплины составляло специальный предмет подготовительного (аналогии) и трех грамматических классов, совпадая в основных чертах с принятым делением грамматики на четыре составные части. К ним относились: 1) орфография, охватывавшая орфоэпию и фонетику; 2) этимология, излагавшая учение о частях речи и правилах их изменения, т. е. современная морфология; 3) синтаксис, разделявшийся на «простой» (собственно синтаксис) и «образный», соответствовавший современной стилистике; 4) просодия — краткая теория стихосложения [15]. Указанные разделы распределялись между грамматическими классами следующим образом: в инфиме изучалась орфография параллельно с этимологией, в классе грамматики — этимология и основы синтаксиса, в синтаксиме — завершающий курс грамматики, включавший художественный синтаксис и элементы просодии.
Основное внимание уделялось переводам с одного языка на другой и овладению разговорной речью. Так, и в школе, и вне ее ученики обязаны были говорить только по-латыни. Кроме устной проверки уроков применялись классные письменные упражнения — экзерциции и домашние — оккупации. Практиковались и начальные формы диспута — своеобразные соревнования (концентрации), когда ошибки отвечавшего ученика поправлял другой, задавая ему одновременно вопросы по грамматике. Пр и этом класс делился на две половины, соперничавшие между собой в учебе.
При обучении церковнославянскому языку использовались следующие учебники: «Кграматыка словеньска языка», составленная в Острожском ученом кружке на основании так называемой «Книги осмочастной» Иоанна Да-маскина (изд. Виленской братской типографии, 1568); «Граматша словенска совершеннаго искусства осми частш слова» Лаврентия Зизания (изд. Виленского братства, 1596), которая до появления труда Мелетия Смотрицкого служила основным систематическим пособием по грамматике церковнославянского языка; «Грамматши словенския правильное синтагма» Смотрицкого (первое издание, 1618 — 1619). «Грамматика» Смотрицкого — выдающееся произведение древнего славянского языковедения, в котором автор, обладая блестящей европейской эрудицией и языковедческими познаниями, совершил кодификацию церковнославянского языка восточнославянской редакции и дал отечественной школе авторитетный учебник, надолго оставшийся «вратами учености» в украинском, русском и белорусском школьном обиходе.
Что касается грамматики староукраинского языка, то попытки ее выделения из церковнославянского русла относятся к концу XVI — первой половине XVII в., проявившись в создании первого славяно-украинского толкового словаря Памвы Берынды (1627) и составлении сохранившейся в рукописи 1643 г. первой грамматики украинского книжного языка Ивана Ужевича [9].
При изучении греческого языка использовалась двуязычная греко-славянская грамматика «Адельфотес» («Грамматша доброглаголиваго еллинно-словенского языка»), написанная около 1588 г. Арсением Элассонским совместно со студентами Львовской братской школы. Ее появление способствовало распространению греческого языка в украинских школах. Основным пособием при изучении латыни являлся учебник Эммануила Альвареса, известный во множестве переизданий. Использовались также учебники Элия Доната, Яна Урсина, Адама Ромерия и других. Практическим пособием для изучения классических языков были произведения античных авторов, особенно римских. Для овладения разговорной речью использовались сохранившиеся в рукописях школьные диалоги по латыни на бытовые и нравственно-воспитательные темы, составленные в стенах Киевской академии.
Сведений о том, в каких учебниках излагалась польская грамматика, не сохранилось.
Поэтика преподавалась в специальном классе или «вкупе» с риторикой, преследуя практическую цель «вирши на свою потребу творити». При этом поэзия выполняла учительную роль: «Поэзия — единственная мать и наставница эрудиции». Предметом поэтики как школьной науки являлась теория поэзии, излагавшая законы просодии (ритмической организации стиха), особенности формы поэтических произведений и стилистические признаки более чем 30 видов классических и средневековых стихотворных жанров. Главным занятием «пиитов» — студентов класса поэтики — были практические упражнения в стихосложении: сочинение виршей на заданную тему, составление мелких стихотворных эпитафий, эпиграмм и акростихов, переложение прозаических отрывков или сентенций на язык поэзии. Студенческие поэтические опусы обсуждались на классных концертациях.
Сохранилось 15 рукописных курсов поэтики, читанных в украинских образовательных заведениях на протяжении XVII в., первый из которых относится к 1637 г. Среди них особое место занимает курс, прочитанный в Киевской академии в 1685 г. и являющийся первым самостоятельным отечественным трактатом по теории стихосложения (22). Большинство сохранившихся курсов имеет сходную структуру, включая разделы общей и прикладной поэтики.
Риторика вместе с поэтикой составляли единый курс так называемых «гуманистических студий» (humaniora). По мнению педагогов-гуманистов, реформаторов европейской школы XVI в., одна из главных школьных задач состояла в овладении красноречием, способствовавшим развитию умственных способностей и подъему морального уровня общества. Риторика как учебный предмет подразделялась на общую и частную, или прикладную. В задачи курса общей риторики входило научить способам составления риторических пассажей («периодов»), а затем искусству подражания античным образцам. Далее толковался один из наиболее сложных разделов риторики — учение об ораторских тропах и фигурах. После этого ученик переходил к самостоятельному сочинительству, составляя поздравления, приветствия, похвалы и т. п. Параллельно шло первичное ознакомление с формами и приемами доказательств, в связи с чем излагались элементы диалектики.
Частная, или прикладная риторика включала сведения о разновидностях красноречия: панегирического, совещательного и судебного. Ученики совершенствовались в церковном проповедничестве (гомилетике), фундамент которого закладывался в риторическом классе.
При изложении курса риторики использовались как широко известные печатные пособия, распространенные в Европе, так и курсы, составленные профессорами Киевской академии.
Важная роль в риторическом классе отводилась вспомогательным дисциплинам: истории, географии, мифологии и античной культуре. Поскольку их изучение не было выделено в самостоятельные предметы, судить об объеме и содержании историко-географических сведений трудно. Первый обобщающий труд по истории Украины («Хроника», 1672) и первый учебник отечественной истории, выдержавший впоследствии свыше 30 переизданий («Синопсис», 1674), созданы воспитанниками академии Феодосием Сафоновичем и Иннокентием Гизелем (авторство последнего предположительно). Это косвенно подтверждает, что уровень исторических знаний, излагавшихся в украинской школе XVII в., был достаточно высок.
Можно предположить, что элементарные географические сведения сообщались параллельно с историческими. Их источником могли служить разнообразные «Космографии» западноевропейского происхождения.
Предметы квадривиума, т. е. арифметика, геометрия, астрономия, музыка, не выделялись в особые курсы, совмещаясь с преподаванием дисциплин элементарного, среднего и высшего циклов школьных наук. Как свидетельствует наличие соответствующего материала в букварях, ученики элементарных классов обучались счету. Сохранившийся сборник упражнений по арифметике, составленный в Острожской школе, указывает, что в программу обучения входили арифметические действия и дроби, закреплявшиеся на примерах и простых текстовых задачах. Были в ходу рукописные учебники по арифметике, основанные на печатных пособиях польского происхождения [16, 152].
В низших классах изучались пасхалии — церковное календарное исчисление, начала астрономии. Сохранилось упоминание о преподавании в Лаврской школе геометрии, «которая учит земл1 розм1реня» [8, 206].
Известно о преподавании «мусики», т. е. хорового церковного пения. Уставы братских школ предусматривали обязательные субботние уроки «мусик церковного пения», т. е. пения с нот и музыкальной грамоты. В библиотеке Львовского братства хранилось много рукописных и печатных нот для партесного пения: реестр нотных тетрадей 1697 г. охватывает 87 томов, включающих 372 хоровых «концерта» на 3 — 12 голосов [13, 162, 163]. Преподавание музыкальной грамоты поручалось опытным регентам или композиторам. Например, львовским школьным хором в 1604 г. руководил композитор Федор Сидорович. Многоголосные хоровые композиции виртуозно-концертного характера, с большим мастерством исполняемые школьными хорами, оказывали влияние на подъем широкой музыкальной культуры.
Развитие партесных «концертов», формирование канта и сольного пения, свидетельствующего о первых шагах «обмирщения» музыки, указывают на высокий уровень музыкального образования учащихся братских школ и Киево-Могилянской академии, воспитанники которой уже во второй половине XVII в. выступают в роли учителей пения «по партесам» не только на Украине, но и в России, где-им поручается руководство придворными и патриаршими хоровыми капеллами. В Киеве музыкальное образование получил и выдающийся теоретик партесного пения, композитор Николай Дилецкий, автор первого отечественного учебника по теории музыки и контрапункту — «Грамматика мус1к1йського пения» (первое издание в Вильне в 1677 г.). Кроме теоретических положений в нем содержалось множество упражнений для развития навыков дирижирования и композиции, а также давались советы учителям пения по обучению детей музыкальной грамоте.
Особое место в развитии отечественного просвещения принадлежит философии, впервые выделившейся в профессиональный научный предмет в практике Киево-Могилянской академии. Превращение философии в самостоятельную дисциплину знаменовало качественно новый этап в развитии духовной культуры украинского народа. Анализ философских курсов профессоров академии, проводимый Институтом философии, позволяет пересмотреть господствовавшее до недавнего времени представление об отечественной философии как сугубо схоластической. Лекционные курсы профессоров академии содержат идеи, близкие к философским учениям Возрождения и раннего Просвещения [23, 113 — 148]. Разграничивая методы, источники и предмет философии и теологии, сужая понимание предмета философии до научных философских проблем, за пределы которых выносится богопознание, а на его место выдвигается натурфилософия и интерес к естествознанию, киевская философская школа в противовес схоластике утверждала деистические и пантеистичес-
кие идеи, признавая единство материи во всех природных телах и количественную неизменность при всех ее превращениях [23, 127]. С концепциями гуманистов и реформаторов киевскую школу сближает обращение к свету разума, признание величия и самостоятельности человека, сущность которого наиболее глубоко выражается в его разумности и свободном волеизъявлении, основанном на нравственной ответственности. Это составляло концептуальный фундамент развития педагогической мысли в духе просветительных идей нового времени.
Философский курс, как и курсы поэтики и риторики, читался по-латыни на протяжении 2 — 3 лет, охватывая три отдела.
1. Логика, или «умственная философия», разделялась на две части: первая рассматривала три действия ума — понятие, суждение, аргументация и формы последней (силлогизмы, дилеммы, примеры и пр.); вторая являлась собственно теорией познания, изъяснявшей вопросы о материальном и формальном объектах логики, о соотношении общего и единичного, о проблеме истины и способах познания объективного мира.
2. Физика, или натурфилософия, исследовала свойства бытия природных тел, сущность материи как их субстрата, соотношение материи и формы, категории движения, пространства и времени, а также категорию причинности. Объясняя причины природных процессов, натурфилософия обращалась к естествознанию. В курсах натурфилософии излагались сведения из области физики, химии, минералогии, метеорологии, биологии, медицины, психологии.
Особое место в курсе натурфилософии уделялось изучению структуры мироздания, т. е. изложению астрономии, толковавшейся особенно противоречиво и неоднозначно. Не отходя от представлений о боге как творце мира, лекционные курсы одновременно объясняли происхождение небесных светил с точки зрения новейшей астрономии, трактуя их как сгустки космической энергии. Студентам сообщались данные о планетах, их размерах и движении, расстояниях между ними, о затмениях и пр. Слушателей академии знакомили с космологическими взглядами Галилея, Тихо Браге, Декарта, Коперника.
3. Метафизика, или раздел «о божественной сущности бытия», преследовала цель изъяснить предметы, недоступные чувственному восприятию: бог, душа и др. Киевские академические курсы метафизики отбрасывали антропоморфные представления о боге-творце, отождествляя понятие «бог» с понятиями «совершеннейший разум» и «природа и субстанция» [23, 123].
Практическими упражнениями для студентов класса философии являлось сочинение «диссертаций», читаемых публично. В философском классе проводились диспуты, которые заменяли учительскую проверку и концертации. Диспуты проводились и непосредственно при чтении лекций, и на предварительно заданную тему. Ежегодно для студентов, заканчивавших очередной философский курс, организовывались публичные диспуты, выполнявшие роль экзаменов. В качестве учебников философии выступали конспекты: согласно академической традиции, до середины XVIII в. каждый профессор должен был готовить самостоятельный философский курс, традиционно основанный на произведениях Аристотеля.
Богословие как система доказательств, обосновывающих православное вероучение, также разрабатывалось в стенах Киево-Могилянской академии, хотя элементы «церковного чина» излагались уже в братских школах по Катехизису Лаврентия Зизания и в процессе ознакомления учащихся с сочинениями украинских писателей-полемистов. В академии элементарное богословие излагалось на основе «Православного исповедания» Петра Могилы начиная с младших классов.
Систематическое богословское образование, преследовавшее цель подготовки высокообразованных священнослужителей высшего ранга, давалось в богословском классе, где срок обучения в начальный период существования академии был сокращенным (2 года), а с 1689 г. — полным, 4-летним, соответствовавшим теологическим студиям католических учебных заведений. Богословие, преподаваемое в полном объеме, состояло из следующих курсов: 1) догматическое богословие, включавшее герменевтику — правила истолкования канонических церковных текстов; созерцательное догматическое богословие — разъяснение догматов православной церкви; нравственное богословие — толкование системы христианских добродетелей; 2) полемическое богословие, излагавшее принципы вероучений, не согласующихся с православием, и логические пути их опровержения; 3) пастырское богословие, очерчивавшее обязанности священника; 4) вспомогательные дисциплины: всеобщая церковная история, каноническое право, гомилетика, т. е. церковное проповедничество, и церковный устав. С конца XVII в. для студентов курса богословия вводится как обязательный также древнееврейский язык.
Богословская система, срзданная профессорами Киевской академии в борьбе с экспансией католицизма, была характерной для средневековья формой идеологической борьбы против национального угнетения. Используя структуру и доказательные средства теоретического фундамента католицизма — системы Фомы Аквинского, а также избрав латынь для изложения принципов своего вероучения (богословие, как и другие курсы, читалось на латинском языке), киевские богословы в формах, свойственных их времени, сумели утвердить равноправие отечественной культуры с образцами европейской учености. Особое место в кругу богословских наук принадлежит гомилетике — единственной нелатиноязычной дисциплине, которая обращалась к слушателям «простою мовою», перерастая и по форме, и по содержанию рамки конфессионализма.
Украинская проповедь середины — второй половины XVII в., используя в борьбе с католичеством его же оружие — широкую эрудицию, знание законов красноречия, тонкую ориентацию в вопросах богословской казуистики, приобрела общенародный культурный и политический вес. Творчество выдающихся представителей украинского проповедничества Лазаря Барановича, Иоанникия Галятовского и Антония Радивиловского — воспитанников академии — свидетельствует о высоком уровне преподавания ораторского искусства в ее стенах.
Методика преподавания курсов, входивших в программу богословских студий, целиком сходна с практикой класса философии. Тот или иной богословский курс, излагавшийся студентам, должен был, подобно курсу философии, составляться каждым профессором самостоятельно.
2. РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ НА УКРАИНЕ
Развитие украинской педагогической мысли тесно связано с разработкой новых организационных форм школьного обучения, с развитием просвещения и национальной культуры конца XVI — первой половины XVII в., когда начинают формироваться новые педагогические идеи, отражаясь не только непосредственно в школьных уставах, но и в украинской полемической публицистике, проповедничестве, философских воззрениях, создавая фундамент для последующего выделения педагогической мысли в самостоятельное педагогическое учение.
Учителям братских школ и профессорам Киево-Могилянской академии удалось творчески привнести в школьную практику формы и методы воспитания, накопленные народом на протяжении многих веков. Практически использовав педагогические идеи западноевропейских просветителей, они оказали значительное влияние на реорганизацию школы и создание новых самобытных отечественных форм обучения. Среди деятелей украинского просвещения этого периода были такие крупные писатели и ученые, как Герасим и Мелетий Смотрицкие, Стефан и Лаврентий Зизании, Захарий Копыстенский, Пдмво Берында, Кирилл Ставровецкий, Иов Борецкий, Иннокентий Гизель, И. Кононович-Горбацкий, Иоасаф Кроковский, Иоанникий Галятовский и многие другие. Их педагогические взгляды являлись не простой суммой идей, включавшей различные влияния, а результатом творческой и критической их переработки.
Согласно воззрениям украинских просветителей, основной целью воспитания является формирование в ребенке человека, стремящегося к знаниям. И если острота ума ребенка зависит от врожденных способностей, то глубина и обширность его разума — от воспитания. Через учение и познание человек расширяет свой разум; не получив образования, он подобен слепцу и не может понять читаемое, как слепец не может видеть солнца. Немалую роль играют при этом и природные задатки, которые развиваются и созревают в процессе обучения. Так, Кирилл-Транквиллион Ставровецкий, подчеркивая роль воспитания, сравнивал ребенка с полем, на котором посеянное семя не всегда дает хорошие плоды: если слово учителя попадает в сердце, утоптанное ногами «сил противных», окаменевшее от непослушания или развращенное лестью, богатством или пьянством, то оно не принесет доброго плода.
Признавая решающее значение воспитания в формировании взглядов и поведения человека, украинские просветители понимали, что последнее в значительной мере определяется наследственностью и индивидуальным характером. Рассматривая сущность характера как результат соединения навыков, интеллекта и разумной воли, Иосиф Кононович-Горбацкий, Иннокентий Гизель и другие философы киевской школы много внимания уделяли понятию разумной воли как способности к сознательному выбору, принятию решения и реализации цели. К побуждающим мотивам, приводящим в движение волевую энергию, они относили цели, указания, советы, убеждения, приказы.
Рассматривая процесс интеллектуального познания как одно из условий формирования личности, ученые утверждали, что он начинается с чувственного познания, когда мы, замечая сходные черты во многих предметах, сосредоточиваем на них внимание, сопоставляя, сравнивая и отличая подобное от неподобного. На этом начальном этапе мыслительных операций решающую роль играет внимание, положенное в основу абстрагирования, выделяющего общее для многих конкретных предметов и создающего образ или понятие (слово). Так Гизель утверждал: «Не только через абстрактное познание, но и через наглядное познание создается мысленное слово» (19, 43].
В учебном процессе учителя братских школ и профессора Киево-Мо-гилянской академии широко использовали сравнения, аналогии, противопоставления, что способствовало более глубокому и основательному усвоению излагаемого материала. Этой же цели служило издание учительной литературы и учебников, особенно мастерски гравированных в Киево-Печерской типографии.
В области прикладной педагогики большое внимание уделялось систематичности усвоения знаний, умений, навыков. Пропуски школы считались пагубными, поскольку они наносят вред воспитанию. «Зри, внимай, разумей, рассмотряй, памятуй» — этот девиз Смотрицкого может быть положен в основу системы, применяемой в братских школах для успешного и систематического усвоения знаний. Изучение материала на уроке сочеталось с обязательной домашней работой учащихся, состоявшей в выполнении письменных работ и пересказывании школьного материала домочадцам. Тесная связь школы с родителями была отличительной чертой братских школ, о чем говорилось выше. Само братство, строго следившее за нравственностью своих членов, особо придирчивые моральные требования предъявляло к учителю: «Дидаскал или учитель сея школы мает быти благочестив, разумен, смиреномудрый, кроток, воздержливый, не шяница, не блудник, не лихоимец, не сребролюбец, не гтвлив, не завистник, не см1хостроитель, не срамословец, не чародж, не басносказатель, не пособитель ересем, но благочеспю постшитель, образ благих...» Бывали случаи, когда братство отказывало учителям, что свидетельствует о реальном контроле братства за учителем, его поведением, преподаванием, выполнением с его стороны контракта, заключенного с братством на время работы в школе.
Утверждая гуманистические принципы природного равенства людей, деятели украинского просвещения требовали широкого распространения грамотности среди народа и демократизации школы. Другой характерной чертой педагогики гуманизма являлось стремление приготовить ученика к гражданской деятельности. Такой подход к школьной науке заметен и в братских школах, и в Киево-Могилянской академии, проявляясь в исполнении учениками своеобразных «должностей» ученического самоуправления: пенитархов, цензоров, окнохранителей, филаксов (сторожей) и пр. Методика самостоятельного углубления знаний в старших классах, которая заключалась в выписывании в специальные тетради цитат, сентенций и др., также способствовала приготовлению ученика к гражданской деятельности.
Украинская педагогика сумела не только использовать передовые достижения европейской воспитательно-образовательной практики, но и дополнить их вполне самостоятельными и оригинальными взглядами. Говоря об уровне развития педагогической мысли на Украине, следует учитывать также огромный педагогический опыт, который был накоплен народом и отражался на характере семейного воспитания. Однако его принципы и методы, так же как и особенности педагогического мировоззрения, формировавшиеся вместе с развитием украинской народности, изучены пока недостаточно.
Суммируя развитие школы и педагогической мысли на Украине в XIV — XVII вв., можно назвать следующие основные тенденции, нашедшие свое выражение и в конкретных формах педагогической деятельности, и в направленности общепросветительных явлений культуры.
Постепенно усиливалось светское начало, базой для которого явилось проникновение на Украину гуманистических, а со второй половины XVI в. реформационных идей. Первостепенными среди них являлись: возведение учености в ранг достоинств наивысшей степени; требование демократизации образования, основанное на признании природного равенства людей; критика церковной монополии в области духовной культуры.
Начало гуманистической ориентации в просветительной деятельности связано с городами Галичины, и в первую очередь Львовом — главным очагом распространения ренессансной культуры на Украине. Освоению передовых идей и достижений западноевропейской учености способствовали также образовательные путешествия украинского юношества за границу: учеба в европейских университетах не только расширяла кругозор молодежи, но и побуждала к активной деятельности на ниве национальной культуры в родном крае.
Перемещение инициативы в области учительной практики от церкви к представителям светских сословий свидетельствовало о росте духовных запросов и культурной зрелости общества. К типично ренессансным явлениям следует отнести и меценатство, которому украинская культура обязана появле-
нием Острожской школы — первого учебного заведения, совместившего в программе обучения передовые достижения западноевропейского просвещения с греко-славянскими учительными традициями. Однако фундаментальное преобразование отечественной школы связано с расширением социальной базы образовательного движения и с творческой деятельностью городских масс, объединенных в братства, порожденные национально-освободительной борьбой.
Четко выразилась гражданственная активность деятелей украинского просвещения, сумевших уловить его главную общественную задачу, которая в силу исторических условий развития украинских земель заключалась в необходимости национального самоутверждения и национально-освободительной борьбы. Создание к концу XVI — началу XVII в. украинской школы, совместившей западноевропейский уровень обучения с отечественными традициями и патриотическим воспитанием, стало залогом национального самоопределения украинской культуры. Преобразование украинской школы послужило фундаментом для создания первого высшего учебного заведения грекославянской ориентации — Киевской академии, сыгравшей огромную роль не только в истории украинской духовной культуры, но и в развитии образования в России и Белоруссии.
Глава II ПРОСВЕЩЕНИЕ, ШКОЛА И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ В МОЛДАВИИ
I. ПРОСВЕЩЕНИЕ И ШКОЛА В МОЛДАВИИ В XIV -XVГ BF.
История школьного дела и педагогической мысли в феодальной Молдавии лишь недавно стала предметом исследования, несмотря на значительные достижения отечественной историографии в изучении молдавской средневековой культуры.
Данных о состоянии школьного дела в Молдавии до образования феодального княжества (1359) очень немного. Сам синкретический характер средневековой культуры заставляет исследователей обращаться к различным видам сохранившихся источников: актовому материалу и летописям, запискам иностранцев и международной корреспонденции, рукописным и печатным книгам. Особую группу источников составляют сочинения деятелей молдавской культуры, содержащие изложение их философских взглядов и педагогических идей. В подавляющем большинстве случаев сведения сохранившихся источников имеют фрагментарный характер, что часто вынуждает оперировать отдельными примерами, а не обобщениями, сделанными в результате изучения более или менее значительного фактического материала.
В 1359 г. было создано самостоятельное молдавское государство, а на рубеже XIV и XV вв. сложилась автокефальная православная церковь. Образование, как составная часть культуры, развивалось в условиях этого феодального общества.
Образование, как и культура в целом, определялось феодально-церковным мировоззрением. В Молдавском княжестве сложилась церковная «монополия на интеллектуальное образование», «верховное господство богословия во всех областях умственной деятельности» [1, 360].
Сначала языком молдавской письменной культуры, т. е. языком образования, был церковнославянский. Романский по происхождению и языку, молдавский народ был тесно связан со своими соседями-славянами. В первое время после образования княжества молдаване были органически связаны в культурном отношении с болгарами и сербами, при посредничестве которых они приобщались к византийской культуре. Византийская школа, бесспорно, влияла на развитие образования в Сербии и Болгарии, а через них и в Молдавии.
В конце XIV в. Сербия и Болгария попадают под иго турецких султанов и теряют свою государственность. В 1453 г. прекратило свое существование и византийское государство. Тогда «на первое место выдвигаются многоплановые отношения с восточнославянскими народами — украинцами и русскими» [9, 5 — 6]. Русско-украинско-молдавские связи оказывали благотворное влияние и на образование: происходил обмен книгами, учащимися, деятелями просвещения.
В 1538 г. в Молдавии устанавливается османское господство, но в отличие от многих других стран, захваченных Портой (Турцией), страна сохраняет свою государственную структуру, являясь вассальным княжеством. Турецкое иго значительно замедлило экономическое развитие страны, а в XVIII в. привело ее к упадку, но не могло, однако, сдержать развитие культуры. В это время создаются замечательные молдавские летописи, памятники архитектуры и живописи, открываются школы.
В XVI — XVII вв. развитие культуры и образования затруднялось из-за незнания народом церковнославянского языка. Возникает необходимость перевода церковных книг с церковнославянского на родной [10, 81 — 89]. Определенную роль в переводе молдавской культуры, в том числе школ, на молдавский язык сыграло и реформационное движение. В Трансильвании еще в XVI в. под влиянием венгерских и немецких реформационных движений появляются первые церковные книги на родном языке для православного населения. Чтобы противодействовать проникающим таким путем реформаторским идеям, в Молдавии вся православная церковная литература составляется на родном языке. На молдавский язык переходит и господарская канцелярия. На нем ведется частная переписка. Молдавский язык вводится и в школы. Переход литературы с древнеславянского на молдавский язык означал ее определенную демократизацию [10, 86]. Введение молдавского языка в школу делало ее более доступной для населения.
Что касается содержания обучения, то для всех школ средневековой Молдавии была характерна религиозная направленность. Некоторые из них функционировали при монастырях — монастырские школы. Существовали и городские школы, которые содержались различными церковными учреждениями или же господарской казной. Принципиально городские школы мало чем отличались от церковных.
В Молдавии наряду с православными существовали и католические церкви.
Монастырские школы
В средневековье в Молдавии, как и в других странах, была создана целая система учебных заведений при различных церковных учреждениях.
Основными очагами культуры в средневековой Молдавии являлись монастыри, крупнейшими из которых были Нямц (XIV в.), Молдовица (начало XV в.), Путна (XV в.), Каприяна (XV в.). Во многих монастырях существовали скриптории, в которых славянские церковные, юридические и так называемые народные книги переписывались, а позднее переводились на молдавский язык.
При монастырях функционировали школы, сыгравшие большую роль в распространении грамотности среди народа, в подготовке кадров для церковной и государственной иерархии, в создании целой прослойки деятелей культуры: переписчиков, каллиграфов, учителей, летописцев и др. К сожалению, не сохранилось никаких прямых упоминаний о существовании монастырских школ до середины XVII в. Есть, однако, целый ряд косвенных доказательств. Прежде всего об этом свидетельствуют сотни книг, переписанных и хранившихся в монастырях. Их переписывали и могли читать только люди грамотные, которые, по всей вероятности, обучались в тех же монастырях. На полях некоторых книг есть надписи учащихся школ из монастырей Бистрица, Нямц, Побрата, Воронец [3, 13] и др. На полях рукописного Октоиха XVII в. библиотеки монастыря Агапия существует надпись о том, что впредь читать и петь по этой книге разрешается только в церкви и воспрещается кому бы то ни было уносить ее для учебы в келью. Эта надпись дает нам полное основание считать, что в монастыре Агапия существовала школа, в которой обучали чтению и церковному пению. В одном из актов 1676 г. сказано, что для уточнения владений монастыря Дядул в Яссы были приглашены свидетели, и среди них ученики монастыря [3, 13]. Это уже прямое свидетельство существования школы при монастыре Дядул. Судя по источникам, обучение велось почти во всех монастырях.
Наиболее значительными были школы при Нямецком и Путнянском [14, 14 — 20] монастырях. Некоторые исследователи считают, что в этих школах учащимся давали знания в большем объеме, чем в других монастырских и церковных школах. Известно, что в Нямецком монастыре в XV в. работал миниатюрист Гавриил, сын Урика, основатель молдавской школы миниатюристики, представители которой работали в основном в том же Нямецком монастыре. Можно предположить, что эта школа помимо общеобразовательной подготовки давала некоторым ученикам и специальности переписчика и миниатюриста. Путнянскую школу некоторые исследователи [7, 11] считают специальной музыкальной школой. Вероятно, здесь наряду с обучением общей грамоте учащихся готовили к деятельности в качестве церковных певчих. Библиотека Путнянского монастыря обладала большой коллекцией рукописных церковномузыкальных книг. Среди монахов числился «ритор, доместикус, протопсалт» Евстатий. Ритором и доместикусом в те времена называли учителей, а протопсалт Евстатий — это старший певчий, он же руководитель хора, учитель музыки и автор сборника церковной музыки. В середине XVI в. другой протопсалт Путнянской школы — Антоний составил учебник церковной музыки на греческом языке [3, 21]. В Молдавию приезжали учиться церковному пению молодые люди из других стран. В 1558 г. господарь Александр Лэпушняну в письме, адресованном руководству Львовского украинского братства, предлагал послать в Молдавию четырех молодых дьяков для обучения «пению греческого и сербского». Он писал, что в Молдавии уже обучались пению два молодых дьячка из Перемышля [2, 142]. Возможно, они обучались именно в Путнянской школе.
Видное место среди преподавателей Путнянской школы занимал «ритор и схоласт» Лукач, сделавший первый перевод на молдавский язык византийско-славянского юридического сборника. Этот факт — свидетельство того, что в монастырских школах языком преподавания во второй половине XVI в. был не только славянский, но и молдавский.
В годы правления Василия Лупу (1634 — 1653) начинается преподавание и на греческом языке. Дмитрий Кантемир писал, что тогда «было отдано распоряжение принимать во все большие монастыри греческих монахов для обучения юношей из благородных семей греческому языку и наукам» [4, 103].
Контингент учащихся состоял в основном из детей бояр, духовенства и горожан. Обучение было платным. Так, в 1640 г. священник Тоадер из г. Хушь отдал Нямецкому монастырю половину своего виноградника как плату за обучение сына [3, 17]. Стоимость обучения была достаточно высокой. Вот почему школы нередко пустовали, а церковное и государственное руководство беспокоило недостаточное количество грамотных людей для выполнения необходимых работ. Поэтому власти иногда прибегали к насильственному набору молодых людей в монастырские школы, где они должны были стать, как говорится в документах, «порядочными людьми, владыками и егуменами, и священниками, и диаконами по святым моныстырям» [3, 90]. Очевидно, этих детей и содержали и обучали за счет монастыря. Многие ученики жили в кельях, вместе с монахами. Об этом свидетельствует уже приведенная надпись на полях Октоиха монастыря Агапия. Она же позволяет считать, что занятия проводились в монастырских церквах. До открытия Славно-греко-латинской академии в Яссах (1640) школы не имели специального помещения.
В монастырских школах прежде всего обучали чтению церковных книг, письму, счету и церковному пению. Но монастыри не могли удовлетворить все потребности общества в грамотных людях. Появились более простые пути получения образования. Детей стали обучать в школах церковных приходов, где учителями были дьячки (даскалы). Так, в одном из документов 1743 г. свидетели утверждают, будто по рассказам предков они знают, что господарь Штефан Томша (1611 — 1615; 1621 — 1623) в юношеские годы учился в школе при церкви села Рэдэшены [16, 261 — 262]. На полях рукописной книги конца XVII — начала XVIII в., принадлежавшей сельской церкви села Вама, обнаружены пометки, свидетельствующие о том, что в этой церкви обучались грамоте ученики Думитраке, Ионашко, Урсу и Пэкурар. Преподавал в школе даскал [3, 26]. Даскалами называли учителей, церковных певчих, дьячков, а также уважаемых ученых. Конечно, церковный приход, тем более сельский, не мог содержать специального учителя, и с учащимися занимался кто-то из грамотных служителей церкви. В ряде источников упоминается о «славянских школах», т. е. школах при церквах со славянским языком обучения.
Упоминание о даскале, служившем в церкви, косвенно подтверждает наличие в этой церкви школы. Только по опубликованным источникам XV — начала XVII в. засвидетельствовано 62 даскала и 32 грамматика [3, 26].
Школы при церковных приходах были небольшими, обучение велось индивидуально. Даскалы, если это были певчие, преподавали своим ученикам и элементы церковного песнопения. Упомянутая книга из церкви села Вама представляла собой сборник церковных песен. Это была своего рода учебная книга, по которой учащиеся учились читать и одновременно изучали церковные мелодии. Специальных учебников не было. В церковных школах господствовали палочная дисциплина и произвол учителей [3, 17].
Скорее всего, преподавание было лучше поставлено в школах при церквах митрополии и епископств, кадры которых были подготовлены лучше и за которыми был более строгий контроль. В Молдавском княжестве существовало 3 епископства: Радэуцкое, Романское и Хушское. Сведения об этих школах до нас не дошли. Однако отдельные косвенные данные вполне убедительно свидетельствуют о том, что при епископствах существовали школы. Например, в 1596 г. три монаха установили в монастыре Рышка надгробную плиту на могиле радэуцкого епископа Гедеона. При этом они назвали себя его учениками [17, 52]. Очевидно, они учились в школе при Радэуцком епископстве. В других источниках упоминаются ученики известного молдавского летописца и книжника XVI в. романского епископа Макария.
Значительную роль в развитии просвещения в Молдавии, в подготовке кадров священнослужителей, переписчиков книг, деятелей культуры сыграла Молдавская митрополия, центр которой находился сначала в Сучаве, а с середины XVI в. — в Яссах, куда была переведена и резиденция господаря. В митрополии была школа, где в первой четверти XV в. работал некий Мойсе, прозванный философом [18, 5]. Деятельностью школы интересовались сами митрополиты. Так, Виссарион, переписавший в 1503 г. в Зографском монастыре на горе Афон книгу Иова, подписался так: «Виссарион, ученик Феоктиста, митрополита Сучавского». Таким образом, дошедшие до нас источники позволили сделать вывод, что на протяжении XV — начала XVII в. при молдавской митрополии, хотя и с перерывами, существовала школа.
Основной задачей школ при епископских и митрополичьей церквах была подготовка квалифицированных кадров духовенства. Скорее всего, епископы и митрополиты подбирали грамотных молодых людей, которые под их непосредственным наблюдением получали специальную подготовку. Это была своего рода индивидуальная форма профессиональной подготовки духовенства.
Городские школы
Развитие городов как центров ремесла и торговли вызвало потребность подготовки грамотных людей, которые умели бы вести торговые записи, составлять деловые письма, делать расчеты, в частности сопоставлять цены на товары в местной и зарубежной монете. Дошедшие до нас актовые материалы, частные письма свидетельствуют о том, что в городах Молдавии готовили в этих целях соответствующие кадры. К сожалению, сведений о городских школах XV в. у нас нет, поэтому мы вынуждены ограничиться косвенными указаниями. Так, в одном из венгерских источников 1405 г. упоминается некий «магистр Николаус» из Молдавии (г. Бая). В 1431 г. гусит Яков был выдан католическому епископу Бая «магистром» Германом. Оба эти магистра были учителями школы в Бае. Румынский историк П. П. Панаи-теску доказывал, что и Яков — глава молдавских гуситов был учителем славянского языка в г. Сучаве [20, 278 — 280].
В XV в. преподавание в городских школах велось на славянском языке для православного населения и на латинском — для католиков. Николаус и Герман преподавали в латинских школах. Горожанин-молдаванин не знал славянского языка и поэтому вынужден был прибегать к услугам писарей-грамматиков. Сохранились письма XV — XVI вв., написанные грамматиками. Румынский исследователь Ш. Бэрсэнеску считает, что их готовили в городских начальных школах, и называет эти учебные заведения «школами грамматиков» [12, 138 — 143]. В этих школах, очевидно, изучали и арифметику.
В латинских школах обучались дети горожан-католиков. Здесь же готовили грамматиков-писарей, которые затем вели переписку с венгерскими, трансильванскими и польскими городами. Такие школы продолжали существовать и в XVI — XVII вв. В середине XVII в. Молдавию посетил католический епископ итальянец М. Бандини, который насчитал в Яссах 20 школ. В них учились 200 учеников. Это были молдаване, армяне, украинцы, греки [15, 84]. В XVII в. в Га-лацах, Яссах и других городах существовали и латинские школы [3, 43].
Хырловский и Котнарский коллегиумы. В XVI в. в Молдавии возникает необходимость в открытии новых школ, более высокого типа. Помимо социально-экономических факторов этого требуют и внешнеполитические условия, а также религиозная борьба, охватившая в то время Европу.
Первым таким учебным заведением был Хырловский коллегиум. Однако исследователи расходятся во мнениях по вопросу, когда и кем он был создан. Наиболее обоснованно предположение, что коллегиум был создан в годы первого правления А. Лэпушняну (1552 — 1561) [7, 13].
В отчете католических миссионеров И. Бельсиуса и М. Берковича Хырлов-ская школа называется коллегиумом, на основе чего исследователями и сделан вывод, что это была средняя школа с интернатом, типичная для западноевропейского средневековья. При ней находилась и начальная школа. Школа содержалась на счет господаря. В конце 1561 г. или начале 1562 г. здание коллегиума сгорело, и новый господарь Якоб Хераклид Деспод (1561 — 1563) перевел школу в г. Котнары. Известно, что Деспод был лютеранином и вновь открытому гос-подарскому коллегиуму был дан протестантский уклон. Учащиеся жили и столовались в школе за счет казны. Руководителем школы был видный немецкий поэт и педагог, гуманист Иоганн Зоммер, который в своих элегиях воспевает школу. Он преподавал латинский язык, но знал и молдавский. Зоммер сообщает, что среди его учеников были и молдаване. При школе была открыта библиотека. По своему образовательному уровню это была средняя школа, аналогичная коллегиуму [11]. После убийства Деспода Котнарский коллегиум прекратил свое существование. Спустя некоторое время здесь открывается начальная католическая латинская школа, которая с перерывами работала до середины XVII в.
Ясский коллегиум. В середине XVII в. в Молдавии усиливается наступление католической церкви. В то же время через Трансильванию сюда проникают идеи кальвинизма. Для борьбы с кальвинизмом и католицизмом нужны были грамотные люди. В 1640 г. в Яссах по инициативе господаря Василия Лупу и при поддержке киевского митрополита Петра Мовилы (Могилы), сына молдавского господаря Симеона Мовилы, был открыт Ясский коллегиум, известный под названием Славяно-греко-латинской академии. Это школа была организована по образцу Киево-Могилянского коллегиума. Ясский коллегиум открыли при монастыре Трех Святителей, он находился на содержании господарской казны. Ректором Ясского коллегиума и настоятелем монастыря Трех Святителей стал Софроний Почасский, бывший до того профессором риторики и ректором Киево-Могилянского коллегиума. Учебных планов и программ Ясского коллегиума не сохранилось, но, так как он был создан по образцу Киево-Могилянского коллегиума, можно предположить, что здесь преподавали славянский, греческий, латинский, русский языки, грамматику, философию, диалектику, богословие и др. [9, 23]. В начальных классах, возможно, преподавали и родной язык, так как архидьякон Павел Алеппский, дважды посетивший Молдавию в середине XVII в., назвал Ясский коллегиум «волошским». Это было первое среднее заведение повышенного типа. Преподавание носило схоластический характер, как и в учебных заведениях Европы.
В первые годы существования коллегиума здесь царили более прогрессивные тенденции. Софроний Почацкий и его украинские коллеги-преподаватели были сторонниками ректора Великой Константинопольской патриаршей школы Фео-филакта Коридалеоса [9, 27 — 28], который сумел в определенной мере преодолеть схоластическое направление в преподавании. Против этой тенденции выступали реакционные традиционалисты, которые в 40-е гг. XVII в. одержали верх. В 1646 г. скончался Петр Мовила, покровитель Софрония Почасского. После этого прогрессивные украинские преподаватели вынуждены были вернуться в Киев, и в Ясском коллегиуме воцарился реакционный традиционалистский дух. Коллегиум пришел в упадок и вскоре, видимо, был закрыт. Несмотря на недолгое существование, Ясский коллегиум оставил глубокий след в развитии молдавской школы. Преемник Василия Лупу господарь Георге Штефан в своей грамоте от 1656 г. похвально отзывается об эрудиции и трудолюбии украинских педагогов. Это было первое проявление благотворного русско-украинского влияния на средневековую молдавскую культуру.
В XVII в. в Молдавии было открыто несколько греческих школ, а в XVIII в. произошла эллинизация молдавской школы.
Домашнее обучение
Помимо обучения в церковных и городских школах в Молдавии было распространено и домашнее обучение. Источники подтверждают наличие такой формы обучения. Так, протопоп Юга, живший в начале XV в. в г. Сучаве, обучил грамоте своих детей Михула, Думу, Тоадера, которые стали грамматиками-писарями. Ясский протопоп Иоил, современник Юги, обучил грамоте своего сына Джорджия, который также стал грамматиком. В те же годы грамматик Г рад обучил своих сыновей, и они также фигурируют в документах как грамматики. А. И. Ешану в своем исследовании приводит примеры обучения боярских детей грамоте местными дьяками и грамматиками.
В XVII в. появились более образованные учителя, которых часто приглашали из-за границы. Господарь Молдавии Г. Дука призвал для обучения своих детей ученых-греков Иоанна Паниия и иеромонаха Чигала; господарь Константин Кантемир пригласил Иеремию Какавелу, получившего образование в Лейпцигском университете.
Обучение девочек проводилось только дома. Известно, что дочь Стефана Великого Елена Волошанка, вышедшая замуж за сына московского великого князя Ивана III Васильевича, вела переписку со своим отцом. Сохранились акты XVII в., подписанные женщинами. Д. Кантемир подтверждает факт обучения женщин. В источниках встречается термин «даскалица» — учительница. Наряду с учителями-мужчинами появляются учителя-женщины, гувернантки дочерей знатных семейств. Первая учительница, имя которой нам известно, — это госпожа Смаранда; в 1713 г. она обучала и воспитывала дочь господаря Николая Маврокордата [3, 72].
Обучение в заграничных школах
В силу ряда причин, и прежде всего турецкого ига, городские школы Молдавии не получили такого развития, как в Западной Европе и в некоторых соседних с Молдавией странах. Отсутствие высших и хорошо организованных средних школ заставило многих молодых людей поступать в заграничные учебные заведения. Уже в первые десятилетия XV в. некоторые юноши поступают в Краковский университет.
В начале XX в. польский ученый Е. Барвинский опубликовал список студентов из Молдавии, получивших образование в данном университете в XV в. В нем числятся, например, студенты Николаус Андрес де Молдавия (г. Бая), внесенный в список университета в 1405 г., Мотиас де Бакович (г. Бакэу) — в 1409 г. и другие. Всего в течение XV в. в списках студентов этого университета обнаружены 18 выходцев из Молдавии [13, VI — VIII]. Некоторые другие жители Молдавии получили образование в Венском и Пражском университетах [3, 77].
В XVI — XVII вв. молодежь стали посылать на учебу в православные центры культуры и просвещения, такие, как Киево-Могилянский коллегиум, Львовская братская школа (которая материально поддерживалась молдавскими господарями), Константинопольская патриаршая школа и др.
Особенно тесными были культурные связи с Украиной, и главным образом с Львовом и Киевом. Во Львове при помощи господаря и бояр была построена церковь, основаны школы и больница, печатались церковные книги и учебники. На Украине находили более благоприятные условия для своей творческой деятельности многие представители молдавской культуры: Памво Берында, Петр Мавила, митрополит Досифей и другие [3, 79].
В украинских братских школах, а также в некоторых коллегиумах (Бар, Каменец) получил образование известный молдавский летописец Григорие Уреке (его отец Нестор Уреке состоял членом Львовского братства). Здесь получил первоначальное образование Петр Мовила. А в иезуитском коллегиуме в Баре учился ученый-летописец Мирон Костин. Известные ученые и культурные деятели Молдавии и России Николай Милеску Спафарий и Димитрий Кантемир получили образование в патриаршей школе в Константинополе.
Содержание и методы обучения
Церковные школы очень мало изменялись как с точки зрения содержания обучения, так и с точки зрения методов преподавания. О характере этих школ в самом общем виде можно судить по данным источников XVIII — XIX вв., а также по произведениям художественной литературы, например по «Воспоминаниям детства» классика молдавской литературы И. Крянгэ.
Обычно в учебном помещении стоял один длинный стол, за которым сидели учащиеся. Летом занятия выносились во двор. В одном помещении одновременно занимались ученики разного возраста и разной подготовки, учитель давал каждому соответствующие задания.
Очень сложным и трудоемким делом было обучение письму. Им овладевали далеко не все ученики. Писали в Молдавии кириллицей. Сначала — гусиными перьями на пергамене, в XV в. — на бумаге. Чтобы приготовить перо к письму, его очищали и точили ножиком. В знаменитом Евангелии 1429 г. его переписчик Гавриил поместил портрет евангелиста Марка, пишущего Евангелие. У него в одной руке нож, в другой — перо. Ножом исправляли ошибки в тексте. Пергамен или бумагу предварительно линовали, писали чаще всего черными чернилами. Для орнамента использовали красную краску, золото. Чтобы чернила подсохли, их посыпали песком. Для успешного обучения письму требовалось большое терпение и педагогическое мастерство.
Учащиеся получали и элементарные знания по арифметике. При обучении счету использовались хронологические таблицы. Сохранился один образец такой таблицы. Автор этого пособия — монах Феодосий Барбовский. По таблицам он учил сына господаря Петра Хромого (конец XVI в.). Ученик должен был считать время от сотворения мира до главных событий древней истории и мифологии: «С Адама до потопа — 2262 года; с Адама до Авраама — 3332; с Адама до Александра Македонского — 5209 лет».
В XVI в. в монастырские школы проникают и некоторые учебники по грамматике древнеславянского языка. Так, в одном из переписанных в Слатинском монастыре (1554 — 1561) сборников наряду с церковными материалами есть и грамматические работы по славянскому языку, написанные болгарскими и сербскими книжниками [3, 18].
Известно несколько работ по грамматике древнеславянского языка, использовавшихся в качестве учебных книг в церковных школах. В Гырбовецком монастыре был найден текст работы, датированной XVII в. Это адаптированная копия «Грамматики», составленной известным украинским и белорусским филологом и педагогом Мелетием Смотрицким [8, 3 — 29].
В молдавских монастырях были печатные экземпляры «Грамматики» Смот-рицкого, которая неоднократно переиздавалась в России и на Украине. По ее образцу даскал Стойку в 60-е гг. XVII в. составил первую грамматику родного языка. Автор указывал, что он написал эту книгу для того, чтобы она «...служила моим ученикам для изучения грамматики» [19, 320].
Был известен и славяно-русский словарь «Лексикон славяно-русский и имен толкование», составленный в 1627 г. известным деятелем украинской культуры Памвой Берындой и послуживший затем моделью для местных словарей [19,
320]. Некоторые словарные традиции в Молдавии уже были. Так, в XV — XVI вв. была распространена в разных редакциях синтагма Матвея Властареса — юридический византийский сборник, переведенный на славянский язык, с небольшим латино-славянским словарем юридических терминов. В 1561 г. епископ Макарий по заказу царя Ивана IV переработал этот словарь, расположив его содержание в порядке славянского алфавита. Тот факт, что эта синтагма переписывалась в Молдавии и что различные ее списки находились в местных монастырях и церквах, позволяет предположить, что она являлась учебным пособием для монастырских школ Молдавии.
Итак, на первом этапе развития просвещения в Молдавии, примерно с половины XVI до половины XVII в., господствующее положение занимала церковная школа. Со второй половины XVI в. на первый план выдвигаются городские школы, которые больше отвечали новым требованиям и социально-экономическим и культурным процессам, происходившим в стране. На первом этапе развития молдавской школы специальных учебников не было и детей обучали по рукописным, а позже и печатным книгам церковного содержания. Примерно с середины XVI в. появляются первые азбуки и грамматики славянского языка в некоторых монастырских и церковных школах. Определенная часть молодежи выезжала на учебу в другие государства.
Молдавские школы рассматриваемого периода не представляли собой стабильной, хорошо организованной системы, тем не менее они сыграли положительную роль в распространении грамотности, способствуя развитию молдавской культуры.
Деятельность школ, различные формы воспитания и обучения подрастающего поколения, а также развитие культуры в целом содействовали формированию педагогической мысли, которая, однако, не выливается в специальные педагогические работы.
В одном из сборников церковной музыки XVI в. обнаружено краткое введение на греческом языке — «Изложение об овладении искусством церковной музыки» [12, 212 — 213]. Фактически это методика преподавания церковной музыки, которая использовалась учителями в монастырских школах. Пособие содержит указание по подбору учеников. Автор методики настаивает на постепенности обучения от простого к более сложному. Например, он рекомендует вначале изучить знаки церковной музыки. Когда учащиеся уже изучили и знают ноты устно, учитель исполняет им гамму, и они повторяют ее за ним. Научившись петь гаммы по слуху, ученики приступают к самостоятельному чтению нот, гамм, а затем и музыкальных текстов и т. д. Прежде чем приступить к следующему, более сложному разделу, учитель должен проверить, насколько прочно усвоен предыдущий. Во всем этом мы видим систему дидактических принципов и приемов, которые применялись при обучении церковной музыке в монастырских школах Молдавии в XVII и последующих веках.
Однако таких памятников педагогической литературы пока больше не найдено. Педагогическая мысль проявлялась в других отраслях культуры, преимущественно в литературе. Следует подчеркнуть, что даже стенная роспись молдавских церквей второй половины XV — первой половины XVI в. имеет иногда педагогическую направленность. Конечно, иконографическая тематика оставалась библейской, но молдавские живописцы приспосабливали ее к нуждам общества эпохи феодализма. Наряду с чисто церковными мотивами появились темы, взывавшие к национальной гордости в период борьбы против османской агрессии в годы правления Стефана Великого (1457 — 1504) и первого правления Петра Рареша (1527 — 1538).
В XV — XVIII вв. в Молдавии были широко распространены народные книги. Они несли большую воспитательную нагрузку, пропагандируя принципы феодально-церковной морали. В этих книгах в определенной степени отразились и педагогические воззрения того времени. В них проповедовалась польза знания, необходимость обучения.
В Молдавии был популярен итальянский сборник афоризмов, изречений «Fiori de virtu» («Цветы добродетели», или «Пчелка»). В заглавном листе одного русского списка этой книги сказано, что ее перевел с итальянского на волош-ский язык Герман Волох, а в 1592 г. этот текст Вениамин Русин перевел с волош-ского на славянский. Кроме отрывков из церковных книг здесь были помещены фрагменты из произведений греческих, латинских и средневековых философов. Помимо проповеди о полезности всяких знаний дается своеобразное определение понятия «мудрость». Мудрость — это запоминание прошлого, умение отделить добро от зла и истину от лжи и умение на основании опыта предвидеть будущее. Она требует умения выслушать совет и следовать ему [19, 454].
В народных книгах приводится мысль об обязанности родителей обучать и воспитывать детей. Рядом с героями обычно выступают их учителя, которых герои помнят и уважают всю жизнь. Александр Македонский в романе «Александрия» с уважением относится к Аристотелю, который в течение 7 лет обучал его грамоте и философии. Тут впервые в молдавской литературе мы сталкиваемся с определенным сроком обучения — 7 лет.
В романе Синдипа, который появился в Молдавии в начале XVIII в., находим и рассуждения о методах преподавания. Великий мудрец и учитель Синдипа закрыл своего ученика в новом здании, на стенах которого были изображены все те знания, которые он собирался передать своему ученику. Опыт удался. Это своего рода рассказ о пользе наглядного метода обучения.
Аналогичны по значению и поучительные книги, или поучения. Рассчитанные на более широкий круг читателей, они обычно написаны как наставления и поучения наследникам престола. Их иногда называли «княжеские зеркала». Поучительные книги проповедуют феодально-церковную мораль, но некоторые из них выходят за эти рамки. Многие из поучений использовались как учебники. «Поучение Василия Македонского сыну своему Леону» и еще в большей степени «Поучение господаря Нягое Басараба сыну Теодосию» пропагандируют любовь к отчизне и народу. Нягое советует своим детям, подобно соколу, защищать свое «гнездо», т. е. родину, любить его. Он рекомендует им сколько возможно избегать войны, но, коли враг навяжет ее, драться до победы. Весьма прогрессивен совет о выдвижении на руководящие должности людей по заслугам, а не по праву рождения [12, 189 — 191]. В нескольких местах «Поучения» Нягое говорится о значении знаний и разума, которым должны руководствоваться государи, дипломаты, полководцы.
Много внимания вопросам воспитания уделяет переработанный и переведенный на молдавский язык летописцем М. Костиным роман испанского писателя XVI в. «Жизнь императора Марка Аврелия с часами для князей», известный в Молдавии под названием «Княжеские часы». В работе проповедуется необходимость обучения не только мальчиков, но и девочек. Обучение и воспитание должно быть суровым, но суровость должна вытекать не из ненависти, а из любви к воспитаннику. Учителя не должны зависеть от родителей. К ним следует предъявлять высокие моральные и интеллектуальные требования. В книге подчеркивается необходимость физического воспитания.
Педагогическая мысль проявлялась и в памятниках исторической и юридической литературы. Видные молдавские летописцы ратовали за
необходимость образования и просвещения своего народа. Они пишут свои произведения в назидание потомству. «Летописи пишутся не только для того, чтобы их читали, но и для учения; каждый должен выяснить, что плохо и что хорошо, плохого избегать, хорошему следовать» [6, 238]. Эти же мысли разделяют и летописцы Г. Уреке и И. Некулче. Г. У реке завершает некоторые главы своей летописи специальными назидательными разделами и называет их «Поучение и наставление».
Летописец Мирон Костин говорит о необходимости систематичности в учении: «Если события излагаются с самого своего начала, их легче понять» [5, 33]. Наряду с систематичностью обучения можно говорить и о принципе историзма в обучении. Мирон Костин подчеркивал необходимость осмысливания и понимания изучаемого материала. Говоря о заучивании стихов, он пишет, что их надо прочесть несколько раз, чтобы уяснить смысл, ибо «читать что-либо, не понимая его сути, равно тому, чтобы веять ветер...» [5, 258].
Молдавские летописцы писали о значении просвещения, о роли учителей в обществе. Это свидетельство того, что передовая молдавская общественность придавала большое значение вопросам воспитания и обучения подрастающего поколения.
Вопросы воспитания нашли свое отражение в юридических памятниках, прежде всего в Уложении Василия Лупу, напечатанном в 1646 г. в Яссах. В Уложении регламентируется право родителей наказывать детей «посохом или кнутом», но «с чувством меры и согласно вине». В случае несоблюдения меры родители сами подвергаются наказанию. Наказание не самоцель, а мера воспитания. Учитель может наказывать детей также с чувством меры, а когда мера нарушается, ученик вправе защищаться, применяя силу. В случае жалобы судья должен решить, бил ли учитель ученика «в меру» и «на благо учения». Если он бил не в меру, то его судили за оскорбление. Весьма показательна статья, запрещающая кому бы то ни было необоснованно обвинять ученика в невежестве и плохом поведении, ибо это наносило ущерб профессиональному достоинству учителя, и он имел право привлечь оскорбителя к ответственности. Отсюда можно сделать вывод о том, что учителя несли не только моральную, но и юридическую ответственность за свою профессиональную деятельность.
Забота общества об обучении и воспитании подрастающего поколения нашла свое отражение и в судебном уложении страны.
В истории русско-украинско-молдавских культурных педагогических связей важное место занимает деятельность Петра Мовилы и Николая Милеску.
Петр Мовила (Могила) родился в 1596 г. в семье крупного молдавского боярина, впоследствии господаря Валахии (1601 — 1602) и Молдавии (1607 — 1608). В 1627 г. благодаря своей высокой образованности, передовым по тем временам политическим взглядам и покровительству польского королевского двора П. Мовила избирается Великим архимандритом Киево-Печерской лавры, а в 1633 г. — митрополитом киевским, галицким и всея Руси. Деятельность П. Мовилы — целая эпоха в истории культуры украинского и молдавского народов. Он внес огромный вклад в организацию школ, в том числе и в создание высшего учебного заведения, в подготовку кадров для них, в печатание книг и реконструкцию исторических памятников, был автором работ по богословию и философии.
Николай Милеску (1636 — 1708), известный и под именем Спафария, родился в г. Васлуе (Молдавия). Получил образование в Ясской славяно-греко-латинской академии, затем в патриаршей школе Константинополя. Знаток древнегреческого, латинского, славянского, новогреческого и турецкого языков, Милеску занимает по возвращении на родину ответственные посты в административном аппарате Валахии и Молдавии, дослужившись до должности командующего армии — Спатара (Спафария). Он осуществил первый полный перевод на молдавский язык Ветхого Завета, в котором содержались и два философских трактата.
В своих педагогических воззрениях Спафарий опирается на лучшие достижения теории воспитания, начиная с Аристотеля и до Я. Коменского, приводя их в стройную систему, обогащенную личной практикой преподавания. Он говорит о необходимости начинать обучение детей в самом раннем возрасте, исходя из психологических особенностей детского ума, который в этом возрасте твердо усваивает все навыки и привычки. Он обобщил, теоретически сформировал и распространил практический педагогический опыт (о деятельности Н. Спафария в России см. разд. II, гл. IV. 5).
Глава III
В период феодальной раздробленности на территории Западной Руси образовались Полоцкое, Минское, Туровское и другие княжества, фактически независимые от киевского великого княжения. В XIII в. угроза ордынского ига и агрессия крестоносцев в Прибалтике заставили западнорусских феодалов искать защиты в союзе с Литвой, признать власть литовской княжеской династии. Однако и в составе Великого княжества Литовского более феодально развитые белорусские земли в основном сохранили прежнее устройство, а их язык фактически стал государственным языком. На землях нынешней Белоруссии в средние века продолжалось древнерусское летописание. Длительное время сохраняла свои позиции и православная церковь. Литовские князья защищали привилегии православной иерархии, покровительствовали церквам и монастырям. Некоторые представители литовской знати принимали крещение по православному обряду, подвергались славянизации.
К сожалению, мы не располагаем источниками, позволяющими судить о реальной роли духовенства в распространении на белорусских землях и в самой Литве (где существовало довольно многочисленное белорусское население) славянской книжной грамотности. Очевидно,. церковь сохраняла традиции древнерусской педагогики, но, как и в предшествующий период, преобладающую роль в развитии грамотности играло домашнее обучение, обучение у грамотных людей.
Белорусская народность начинает складываться на территории Полоцкой, Витебской, Брестской земель, Верхнего Поднепровья, Мозырьско-Пинского полесья в середине XIII в.
Основную массу белорусского населения составляло крестьянство — хранитель традиции народной педагогики. Активное развитие городов и местечек на протяжении всего исследуемого периода способствовало росту численности горожан. Именно города, и прежде всего Вильно (Вильнюс) — столица Великого княжества, стали в XVI в. центрами, где возникали первые известные по источникам белорусские школы. Довольно многочисленные белорусские феодалы — бояре (с XVI в. именовавшиеся шляхтой) сохраняли свои привилегии, активно участвовали в политической жизни страны. Среди феодалов и горожан была широко распространена грамотность, знание кириллической письменности, многочисленными памятниками которой являются различные акты земельных и торговых сделок и другие документы XV — XVII вв.
Поскольку белорусские земли находились в составе Великого княжества Литовского, основные события в истории этого государства (крещение Литвы по католическому обряду в 1387 г., Люблинская уния Польши и Литвы в 1569 г., реформация и контрреформация)1 оказали на их судьбы самое непосредственное влияние. Конкуренция западноевропейской католической культуры, влияние идей гуманизма, Реформация, затронувшая и православное население Великого княжества Литовского, полонизация белорусских феодалов (результат консолидации многонационального правящего класса Речи Посполитой) — все это осложняло развитие белорусской культуры, но одновременно обогащало ее новыми элементами, формами, идеями.
Длительное время влияние католической церкви на белорусов было довольно незначительным. В Восточной Белоруссии вплоть до XVI в. костелы практически отсутствовали, а местное население лишь в слабой степени испытывало воздействие западноевропейского культурного ареала.
Деятельность белорусских просветителей, Франциска Скорины и его последователей, распространение в Великом княжестве Литовском гуманистических идей, Реформация способствовали усилению интереса к школьному образованию. Как и на остальной территории княжества, на белорусских землях возникают школы разных конфессий, конкурировавшие друг с другом: школы протестантского направления, католические училища, представленные прежде всего иезуитской системой школьного образования, и, наконец, собственно белорусские братские школы, созданные в некоторых белорусских и литовских городах мещанами, а также униатские школы, возникшие после того, как в 1596 г. часть православной иерархии заключила унию с католической церковью.
Братские школы
Братские школы, возникшие в конце XVI — первой половине XVII в., были наиболее распространенным типом учебных заведений в Белоруссии. Открытие и развитие этих православных школ было тесно связано с братствами. Наиболее известными братствами были Виленское Троицкое (1584), Кричевское (1588), Рогатинское (1589), Могилевское (1590), Брестское (1591), Гродненское (1591), Городокское (1591), Оршанское (1592), Минское Шпитальное (1592), Вельское (1594), Минское Петропавловское (1613), Пинское (дата открытия неизвестна).
Как правило, они находились в городах. Однако были братства в местечках и даже в селах. Одни братства распространяли свое влияние на церковный приход, другие — на весь город, а третьи — на повет (по площади повет примерно равен современной области) и даже на ряд поветов (например, Виленское и Брестское братства).
Большинство братств добились полной независимости от местной православной иерархии, в том числе и от епископов, получив от константинопольских патриархов так называемое право ставропигии.
Сеть братских школ, обучение на дому, при церквах и монастырях охватывали значительную часть молодежи. О сравнительно широком распространении грамотности в русских (белорусских и украинских) землях свидетельствует описание путешествия антиохийского патриарха Макария в середине XVII в.: «...по всей земле русских... мы заметили возбудившую наше удивление прекрас-
1 Подробнее см. разд. III, гл. IV.
ную черту: все они, за исключением немногих, даже большинство их жен и дочерей, умеют читать и знают порядок церковных служб и церковных напевов; кроме того, священники обучают сирот и не оставляют их шататься по улицам невеждами» [12, 2].
Виленская братская школа является первой и самой старейшей. Еще 27 мая 1584 г. король Стефан Баторий разрешил православным виленским мещанам часть доходов Троицкого монастыря тратить на «выживенье архимандрита... на сбудованье школ, на выхованье людей в письме умелых, для науки детей народу закону греческого, которые вси люди в том монастыри и при монастыри мешкати (жить) будут, и на всих иных людей» [1, 287]. Школа при Троицком монастыре, очевидно, существовала и раньше, в качестве приходской.
Виленская братская школа первая из всех православных школ стала использовать в учебном процессе печатные учебники и книги. В то время сохранилось немало книг, напечатанных еще Франциском Скориной на белорусском языке. Это «Библия Руска» (изданная в Праге в 1517 — 1519 гг.), «Малая подорожная книжица» и «Апостол» (изданные в Вильне в 1522, 1525 гг.). «Малая подорожная книжица» состояла из пяти частей (Псалтырь, Часосло-вец, Акафист, Шестоднев и Соборник). В 1562 г. в Несвиже Симон Будный издал на белорусском языке Катехизис и «Об оправдании грешного человека перед Богом». В 1569 г. Петр Мстиславец совместно с Иваном Федоровым издал в Заблудове Евангелие учительное. В следующем году (1570) Василий Тяпинский издает Евангелие; Петр Мстиславец в Вильне в 1575 г. издает Евангелие напрестольное, а в 1576 г. — Псалтырь и Часословец. В 1586 г. Мамоничи издали «Грамматику славянского языка». В этом же году в Вильне издал «Диалектику» русский эмигрант князь Андрей Курбский. Она включала в себя часть материала «Диалектики», логические толкования из других пособий и логические рассуждения самого Курбского.
Все эти книги были широко распространены в то время в Белоруссии и нередко выполняли функции учебников; по ним не только изучались письмо, чтение и основы вероучения, но и давались определенные сведения по истории, географии, астрономии, риторике, диалектике и другим наукам.
В 1594 г. на Брестском соборе Виленская школа была признана соборной, ставропигиальной. В 1617 г. братство строит каменный дом для этой школы. Происходит ее реорганизация: она подразделяется на пять классов, что способствовало совершенствованию учебно-воспитательного процесса, повышению уровня образования. Подразделение учащихся по классам и организация с ними групповых занятий были впервые введены именно в Виленской братской школе. 21 января 1619 г. Виленское православное братство сообщает Львовскому: «Божиею помощию сооружихом каменным зданием дом школьный, в пять училищ разделенный, от них же во трех иноверными (скудности ради своих) немцами чтется (имеются в виду три класса латинского языка), в четвертом Русская, пятое во Славенского и Греческаго языка наказание...» [2, 506).
Немалая заслуга в возвышении Виленской братской школы принадлежит Иосифу Бобриковичу, который в 1662 г. становится ее ректором. В это время в Виленскую школу приезжают учиться со всей Белоруссии и даже Украины. Подтверждением этому является также и привилей Владислава IV, в котором Виленская братская школа выделяется как главная. Этот привилей давал право только двум школам, именно Виленской и Киевской, преподавать и изучать греческий и латинский языки [3].
Материалы исследований дают полное право отметить важную роль этой школы в развитии и распространении просвещения, науки и культуры не только среди средних и зажиточных слоев белорусского населения, но и в определенной мере среди бедных и обездоленных городских низов, крестьянских масс.
Годом основания Могилевской братской школы является 1590-й. В 1597 г. Могилевское братство просило короля утвердить их «чин» (устав). Просьба была удовлетворена. В уставе, в частности, говорилось: «В школе теж братской детей браться уписной и убогих сирот языка и письма Словенского, Русского, Латинского и Польского накладом братским дармо учити повинны водлуг застановленья нашего братского; также и людей в письме учоных, особ духовных и светских, для науки школьной, до проповеди слова Божого, до науки детей и до спеванья, в справе и в звыклости своей ховати маем» [2, 172].
Могилевское братство и школа поддерживали связь с Виленским братством. В 1633 г. могилевчане добились привилея от Владислава IV. В грамоте короля говорилось, что братству разрешается «школы наук вызволенных языков вшеляких мети, семинария и школы фундовати» [2, 172].
Брестская братская школа была основана в 1591 г. Вначале этой школе оказывал содействие Ипатий Потей. Однако, став униатским епископом, он преследовал учителей школы, которые, не выдержав притеснений, уходили в другие места (например, Лаврентий Зизаний перешел в Виленскую школу в 1595 г.). В 1597 г. Потей вообще передал школу униатам.
Первая Минская братская школа была открыта в 1592 г. при «шпитальном» (больничном) братстве. О судьбе этой школы почти ничего не известно. Вторая школа в Минске была открыта в 1613 г. Петропавловским братством. В это время о первой Минской школе уже не упоминалось. Известно, что вторая Минская школа была тесно связана с Виленской, откуда, видимо, поступали в школу учебники, приходили учителя и православные монахи, оказывавшие помощь в работе школы.
Кроме Вильны, Могилева, Бреста и Минска православные братские школы существовали и в других городах Белоруссии и Литвы. Например, в 1663 г. была открыта братская школа в Полоцке. Были братские школы в Пинске, Вельске, Шклове, Ельне Кронях (Ковенский повет).
Среди братских школ Белоруссии наибольшей известностью пользовались в XVII — XVIII вв. Могилевская и Полоцкая. В последней в 30 — 40-х гг. XVII в. получил первоначальное образование выдающийся представитель белорусской и русской общественно-политической мысли педагог и писатель Симеон Полоцкий. В 1656 — 1664 гг. он был учителем братской городской школы в Полоцке.
Благодаря Симеону Полоцкому в школе было значительно расширено содержание обучения, основательнее изучалась грамматика, введено преподавание риторики и поэзии [7, 208]. Ряд стихотворных и драматических произведений, созданных им в эти годы, впервые увидели свет на сцене братского школьного театра, которым он руководил.
Кроме братских школ в Белоруссии было немало других православных школ: приходских, монастырских, частных, а также существовали школы домашнего обучения. Все они в той или иной степени были связаны с братскими школами и, вероятнее всего, возникали под их влиянием. Но братские школы были наиболее демократическими учебными заведениями своего времени.
О работе белорусских братских школ можно судить по уставу Львовской школы, который был утвержден константинопольским патриархом и являлся обязательным для всех братских школ на территории Великого княжества Литовского. Также для всех православных братств был единый и обязательный устав («чин») Виленского братства, утвержденный в 1588 г. константинопольским патриархом Иеремией. В 1620 г. в Киеве устав Виленского братства был утвержден вторично, как единственный для всех братств, иерусалимским патриархом Феофаном [6, 254]. Братские школы находились в полной зависимости от братств в моральном и материальном отношении. Оплата учителей, контроль за содержанием работы школы, предоставление помещения для нее и ремонт его находились в юрисдикции братств. Во главе братской школы, как правило, стоял ректор. В помощь ему назначались от братства старшие, или «дозорцы» [16, 460].
Содержание обучения в братских школах определенным образом было связано с их названием. Так, в большинстве документов, дошедших до нас, братские школы именуются греко-славянскими училищами или школами языка греческого и славянского. Иногда братские школы называют «колеум русский». Поэтому можно предположить, что обучение основам грамотности (чтение, письмо, счет) велось на белорусском языке с постепенным переходом к языку славянскому. И само изучение славянского языка могло идти только параллельно с белорусским, опираясь на который можно было строить сам этот процесс. Постепенно славянский язык, по мере усвоения учащимися, становился языком преподавания.
Церковнославянский язык выступал как одно из средств единения всех восточных славян (русских, белорусов, украинцев), подчеркивая их родство и близость. На славянский язык перевели почти все учебники братских школ. Делались попытки доказать его преимущество перед латинским, польским, простым «русским» и даже греческим языками (М. Смотрицкий, А. Курбский, И. Вишенский и др.).
Большое внимание уделялось в братских школах греческому языку. В качестве учебников использовались Библия, сочинения Аристотеля, Цицерона, Сенеки и других авторов. Но были и учебники греческого языка, например грамматика «Адельфотис», грамматики Иоанна Дамаскина и Константина Ласкариса.
Вначале в Вильне, Бресте и Могилеве, а потом и в других братских школах стали изучать латинский и польский языки. На латинском языке в основном велось богослужение в католических костелах, проводились заседания и велась документация в сейме, судах и трибуналах. Этот язык был языком науки в университетах.
Диалектика, преподаваемая в братских школах, призвана была подготовить учеников к логическим опровержениям догматов и канонов католической веры, глубокому анализу религиозно-полемической и светской литературы. В качестве учебника, видимо, широко использовалась «Диалектика» Иоанна Дамаскина (философский раздел его сочинений был переведен с латинского на русский язык князем А. Курбским).
Курс диалектики строился на произведениях Платона, Аристотеля, Цицерона, Сенеки и Эпикура. Эти же произведения применялись при изучении риторики — науки о красноречии. Использовалось также греческое руководство по красноречию. Все более высоко ценилось красноречие в проповедях религиозного характера, выступлениях на съездах, сходках, в суде, беседах в кругу друзей. Риторика имела прямое отношение к диалектике и богословию. Умные, красноречивые проповеди и диспуты по различным аспектам религии были более убедительными и доступными. Учащиеся учились произносить красивые речи по поводу исторических событий, праздников, по случаю приезда почетных гостей.
В большинстве братских школ изучалась астрономия. Преподавателям этого предмета была известна птоломеевская система мироздания. В учебных и богословских книгах (например, в Катехизисе, азбуковниках и др.) наряду с фантастическим описанием создания мира богом имеются довольно объективные описания формы Земли, сущности метеоритов, грома и молнии.
Наиболее образованные учителя, такие, как братья Стефан и Лаврентий Зизании, были знакомы с гелиоцентрической системой Николая Коперника и являлись ее сторонниками. Эта мысль подтверждается, в частности, рассуждениями Стефана Зизания в «Казанье святого Кирилла» о безмерности небес, т. е. бесконечности Вселенной. Так, он утверждает, что «земля, на которой живем, не едина точка впосередку неба, а пред ся колкое мает множество, а небеса небесные еще больше безмерную мают личбу» [4, 564].
Изучение математики в братских школах в основном сводилось к арифметике. Во втором уставе Луцкой школы говорится, что ученики «...должны учиться... и счету и вычислению». В XVII в. была издана «счетная мудрость», куда вошла арифметика. Полностью эта работа называется так: «Сия книга глаголема по гречески арифметика, а по немецки алгоризма, а по руски цифирная счетная мудрость» [16, 439]. Сведения по геометрии также носили практический характер.
Музыка преподавалась во всех братских школах. Под музыкой, как правило, понималось церковное пение без сопровождения на музыкальных инструментах.
История и география не преподавались как отдельные предметы. Но исторические данные черпались учащимися из летописных источников, риторики, диалектики, текстов Священного писания, житий святых. Поэтому эти сведения нередко носили фантастический характер. Элементы географических знаний включались в астрономию и диалектику, например описание поверхности Земли или метеорологических явлений.
Изучение всех вышеназванных предметов в различных школах было неодинаковым. Если в Виленской и других крупных школах знания по предметам давались глубокие и обстоятельные, то в небольших школах нередко ограничивались общими сведениями.
Учебную и воспитательную работу в братских школах нередко вели выдающиеся деятели культуры, науки и просвещения того периода. Братства, нанимавшие на работу учителей, строго следили не только за их деятельностью, но и за нравственностью. Во втором Луцком уставе говорится: «Даскал, или учитель, сей школы должен быть благочестив, рассудителен, смиреномудр, кроток, воздержлив, не пьяница, не блудник, не гневлив, не завистлив, не смехотворец, не сквернослов, не чародей, не басносказатель, не пособник ересей, но поспешник благочестия, во всем представляя собою образец благих дел» [9, 99].
Учителями зачислялись лишь те, кто давал хорошие пробные уроки. Таким образом был зачислен учителем Виленской братской школы известный и образованный человек Кирилл-Транквиллион (1592) [16, 461].
В 1592 г. Лаврентий Зизаний становится учителем Брестской братской школы, а через три года определяется учителем Виленской братской школы, в которой работает до 1600 г. [2, 43, 89]. В одинаковой степени мы можем относить Лаврентия Зизания и его брата Стефана Зизания как к украинским, так и белорусским просветителям. Последний также был связан с Вильной. Дополнительно известно, что он проповедовал в 90-х гг. в Виленском Троицко-Духовском монастыре и церкви святой Троицы. Занимался он и просветительной деятельностью в Виленской братской школе, ректором которой был в 1595 — 1596 гг. [13, 150].
К числу выдающихся учителей школы в Евью и Виленской школы принадлежал Мелетий Смотрицкий. Известными учителями Виленской школы были Леонтий Карпович и Иосиф Бобрикович. Некоторое время каждый из них исполнял обязанности ректора школы. В этой же школе развернулась педагогическая деятельность Сильвестра Коссова и Исайи Трофимовича-Козловского, докторов богословия (впоследствии оба переехали в Киев, стали сторонниками Петра Могилы). Известны имена учителей Могилевской братской школы Тимофея Грибача, Афанасия Стрелецкого, Федора Тарасовича, Саввы Андреевича [16, 341, 405].
Не приходится удивляться, что лучшие и самые образованнейшие учителя работали именно в Виленской братской школе. Во-первых, эта школа наряду со Львовской была главной соборной. В Вильне и ее окрестностях (Евье) находились крупнейшие по тому времени типографии, которые были тесно связаны с другими типографиями в Белоруссии (Несвиж, Заблудов, Лоска, Кутейно и др.). Таким образом, видные ученые, педагоги, философы и теологи имели возможность печатать здесь свои труды.
Важную роль братские школы играли в развитии и распространении просвещения в Белоруссии, в становлении и развитии белорусской народности, ее самостоятельности и самобытности. Школы явились проводником гуманистических идей среди православного населения. Нельзя не отметить роль братских школ в борьбе против распространения католицизма, унии и полонизации.
Развитие белорусского языка, поэзии, драматургии и музыки также было связано с братскими школами.
Протестантские школы
Распространению среди восточнославянского населения Великого княжества Литовского реформационных идей способствовала активная деятельность польских, литовских, немецких реформатских проповедников, поддержанных частью местных горожан и видными представителями феодалов, в том числе магнатства.
Поддержку Реформации оказали крупнейшие феодалы Белоруссии и Литвы — князья Радзивиллы, принявшие кальвинизм и содействовавшие его распространению в Великом княжестве Литовском. Благодаря материальной поддержке Радзивиллов и некоторых других феодалов видные протестантские проповедники, ученые, просветители, поселившись в их владениях на территории Белоруссии (Несвиже, Клецке, Слуцке) и в некоторых других городах и местечках (Бресте, Сморгони, Глубоком и др.), развернули активную педагогическую деятельность.
В протестантских школах большое внимание уделялось родному языку, преподавание велось на языке, знакомом учащимся (польском или белорусском). Из кальвинистских школ следует отметить прежде всего Слуцкую гимназию (1617) — школу повышенного типа, при которой было открыто и общежитие (конвикт). В основном школа готовила будущих проповедников. Кальвинистские школы известны также в Сморгони, местечке Глубоком (Полоцкий повет), в Новогрудке. Однако численность учащихся в них была невелика, и по уровню образования они, очевидно, уступали Слуцкой гимназии. Белорусы обучались и в других протестантских учебных заведениях, существовавших в Литве.
Организация и содержание образования в протестантских школах разных направлений подробнее рассматриваются в главе, посвященной школам Литвы. Отметим лишь, что протестантские школы сыграли немалую роль в распространении культуры, науки и просвещения среди населения Великого княжества Литовского. Протестантизм способствовал оживлению духовной жизни белорусского общества, критическому взгляду на православные догматы, подрыву авторитета православной церковной иерархии. Однако переход в протестантизм значительного числа видных белорусских магнатов, шляхты и части горожан в дальнейшем, с победой контрреформацди, привел многих из них в лоно католической церкви, что явилось одной из причин последующей полонизации господствующего класса Великого княжества Литовского, в том
числе- и белорусских феодалов. Но и в самих протестантских школах в конце XVI — первой половине XVII в. белорусский язык занимал все меньше места.
С победой контрреформации и переходом большинства феодалов (в том числе и Радзивиллов) на сторону католицизма в середине XVII в. протестантские школы Белоруссии прекращают свое существование.
Католические школы
Возникновение и развитие на белорусских землях сети католических школ связаны с деятельностью ордена иезуитов, который возглавил борьбу католической церкви против Реформации. Первая иезуитская коллегия была основана в столице Великого княжества Литовского Вильно в 1569 г. На базе Виленской коллегии в 1579 г. была создана академия (университет). Это высшее учебное заведение стало центром иезуитской системы образования в Великом княжестве Литовском. Коллегии, созданные в различных городах Белоруссии и Прибалтики, поддерживали с Виленской академией тесную связь, подчинялись руководству литовской провинции ордена, по единой системе и программе осуществлялось в них образование и воспитание учащихся1. После окончания провинциальных коллегий их выпускники могли получить высшее образование в Виленской академии.
Осуществляя миссионерскую деятельность на восточнославянских землях Речи Посполитой, иезуиты, утвердившись в Литве, уже в 80-е гг. XVI в. приступили к созданию первых коллегий и на белорусских землях. Иезуитские коллегии возникли в Полоцке (1580), Несвиже (1587), Орше (1616), Бресте (1616), Хойниках (1622), Гродно (1625), Пинске (1638), Новогрудке (1644), Витебске (1649), Минске (1672). Значительную поддержку иезуитским школам оказывали правительство, католические магнаты. От них коллегии получали земельные пожалования, денежные суммы. Так, например, король Владислав IV в 1634 г. пожаловал деревню в Могилевской экономии на содержание бурсы для детей бедной шляхты при Оршанской коллегии [18, 18]. При поддержке князей Радзивиллов была создана коллегия в Несвиже, принадлежавшем этой магнатской семье. Литовский канцлер Марциан Огинский в 1688 г. завещал Минской коллегии 50 тыс. злотых специально для обучения шляхетской молодежи и создания школ «в русских краях», т. е. на белорусских землях [17, 139 — 140 об.].
Довольно высокий для своего времени уровень образования, его светский характер, бесплатное обучение привлекали в иезуитские коллегии не только католиков, но и униатов, православных, протестантов.
Уже в XVII в. иезуиты обеспечили себе ведущую роль в распространении образования среди представителей местного господствующего класса (шляхты). Они привлекали в коллегии талантливых выходцев из других сословий, в том числе и из бедных семей, стремясь поставить их на службу ордену, делу распространения католицизма.
Однако деятельность коллегий нередко вызывала резкую критику, и не только со стороны религиозных противников, возмущенных попытками иезуитов вмешиваться в городскую жизнь, ограничить права православных, не признавших унии. Даже покровители ордена иногда нелестно отзывались о качестве образования в школах, высказывали рекомендации по его совершенствованию. В частности, упоминавшийся выше М. Огинский отметил, что учащиеся вынуждены усваивать ненужные сведения, отягощавшие ум, между тем нередко, завершив образование, «до трех сосчитать и письмо написать не умеют и ни
1 О коллегиях подробнее ем. разд. III, гл. IV.
к чему не пригодны» [17, 139 об. — 140]. Канцлер считал, что шляхетской молодежи нужны прежде всего этика и поэтика (воспитывавшая уменяе составлять документы, речи), арифметика (необходимая в хозяйственных делах), геометрия (для измерения земельных угодий), архитектура, юриспруденция. Он требовал от минских иезуитов организовать обучение молодежи иностранным языкам — итальянскому, немецкому, французскому, привлекая для этого иностранных преподавателей. По-видимому,. Огинский выражал точку зрения довольно широких кругов литовско-белорусских феодалов, стремившихся обеспечить более тесную связь школьных знаний с практическими потребностями господствующего класса. Тем не менее в целом иезуитские коллегии сохраняли популярность среди шляхты, несмотря на некоторое снижение уровня образования в них, наметившееся во второй половине XVII в. Другие католические школы, существовавшие на территории Белоруссии (при бернардинских, доминиканских, францисканских монастырях, приходских костелах), по сравнению с ними играли лишь второстепенную роль.
Деятельность иезуитских школ имела большое значение прежде всего для распространения католицизма среди белорусского населения. Но следует отметить также их несомненные заслуги в деле пропаганды некоторых достижений европейской научной мысли, развитии на территории Белоруссии институциональной системы образования. Отвергая общую направленность иезуитского образования, представители других конфессий, однако, активно использовали опыт этих коллегий при создании собственных школ повышенного типа, в организации учебного процесса, при разработке программы обучения. Это особенно заметно на примере братской школы, существовавшей в Вильне, а также униатских школ.
Униатские школы
В 1569 г., как уже отмечалось, руководство православной церкви Речи Посполитой заключило соглашение об унии с католической церковью. Признание власти папы как главы церкви означало подчинение Риму. Однако внешне в деятельности церкви изменилось мало: были сохранены прежние формы богослужения на церковнославянском языке, обряды. Сопротивление унии среди масс верующих, в том числе и части феодалов, потребовало от руководства униатской церкви подготовки кадров проповедников. Эту цель преследовало создание униатами собственных училищ. Для подготовки проповедников унии и католицизма из среды православных папа Григорий XIII в 1577 г. открывает в Риме греческую коллегию [16, 480]. Окончившие эту коллегию предназначались для проповеди униатства и католицизма среди православных Речи Посполитой и даже Московского государства. Одним из видных воспитанников греческой коллегии в Риме был Иосиф Рутский, впоследствии видный униатский деятель и митрополит после смерти Ипатия Потея (1613).
Первой униатской школой в Белоруссии была Брестская школа. Она возникла на месте православной братской школы, которая была передана в ведение униатского митрополита Ипатия Потея. Несколько позже, в 1601 г., в Вильне, в Троицком монастыре, была открыта униатская духовная семинария, на содержание которой митрополит Ипатий Потей выделил имение (фольварк) Печерск с селами в Оршанском повете [2, 196]. Семинария готовила кадры для униатской церкви.
В 1601 г. была преобразована в униатскую и православная школа при Спасском монастыре в Могилеве. После смерти Ипатия Потея Иосиф Рутский, став митрополитом, открывает униатскую школу в Новогрудке. В 1616 г. между
униатской и кальвинистской школами в Новогрудке развернулась борьба за влияние среди молодежи [13, 253].
Почти одновременно с Новогрудской была открыта Минская униатская школа при Козьмодемьянском монастыре. По всей вероятности, это произошло около 1615 или 1616 г. Известно, что в феврале 1617 г. эта школа уже существовала и в ней было два учителя: Дионисий Хмельницкий и Николай Новак [15, 105].
Минская униатская школа была, видимо, лучшей из всех униатских школ. Она состояла из двух классов. Первый, низший класс называли русским, в нем преподавал светский учитель. Второй, высший класс назывался латинским, в нем преподавание вели монахи-базилиане. Преподавали в Минской униатской школе на белорусском языке. В 1631 г. униаты отобрали у православных братскую школу вместе с церковью святого Федора и преобразовали ее в униатскую. Создание на месте православных братских школ, школ униатских было распространенным явлением.
К деятельности униатских школ и распространению унии имел непосредственное отношение орден базилиан. Организатором и вдохновителем этого ордена был уже известный нам митрополит Иосиф Рутский. В 1617 г. после долгой и тщательной подготовки он созывает в Новоградовичах (Слонимский повет) съезд всех униатских монастырей. На этом съезде и было провозглашено образование ордена базилиан и утвержден его устав. По структуре и программе деятельности орден базилиан во многом копировал орден иезуитов. Иезуиты были наставниками и руководителями базилиан.
Были у униатов несколько новициатов, которые готовили высших церковных сановников и давали право вступать в орден базилиан. Такие новициаты в рассматриваемый период были в Вильне и Жировицах (Слонимский повет) [16, 524].
После 1617 г. начинают появляться униатские монастырские школы. Однако их возникновение и развитие падает на вторую половину XVII — первую половину XVIII в.
Надзор и общее руководство униатскими школами осуществлял протоархимандрит, который был главой базилиан. Каждой отдельной школой руководили настоятель монастыря и назначаемое им доверенное лицо. Здесь мы также видим сходство с иезуитскими коллегиями.
Особое внимание в униатских школах (как и в католических коллегиях) старались уделять изучению языков. В 1613 г. униаты добились права «учыти всех наук, водлуг преможения (своего), языком грецким, латинским, словенским, польским и русским» [16, 518]. Во всех униатских школах изучали катехизис.
Что-либо сказать об изучении других предметов трудно, так как нет никаких сведений. Такие предметы, как диалектика, риторика, право, если и изучались, то только в униатских новициатах. Униатские школы предназначались в основном для бедного населения, и уже это определяло низкий уровень учебно-воспитательной работы в них.
Франциск Скорина (ок. 1490 — ок. 1541). Значительное влияние на просветительскую и педагогическую мысль Белоруссии XVI — первой половины XVII в. оказал восточнославянский первопечатник, публицист и мыслитель-гуманист Франциск Скорина — один из наиболее ярких представителей восточноевропейского Возрождения, всесторонне
образованный писатель, окончивший Краковский университет (со степенью доктора свободных наук) и получивший степень доктора медицины в Падуанс-ком университете.
Скорина нередко называет себя «в науках и в лекарстве учителем» из славного города Полоцка [14, 109, 116]. Он жил и творил в переходную эпоху от средневековья к новому времени, естественно поэтому, что в его творчестве отразились как черты средневековой идеологии (авторитарность мышления и элементы схоластики, синкретизм литературно-публицистических произведений, соединение в них элементов теологии, философии и словесного искусства), так и характерные для Возрождения свободомыслие, взгляд на библейские книги как на произведения человеческого, хотя и боговдохновленного, ума и таланта, национальное самосознание, постижение исторической ценности культурно-просветительской деятельности и осознание индивидуального авторитета.
Ф. Скорина опубликовал и прокомментировал 25 библейских книг (из них 23 ветхозаветных и 2 новозаветных), «Малую подорожную книжицу», причем только три из них: Псалтырь, Апостол и «Малую подорожную книжицу» — на старославянском языке (с переводом некоторых слов на родной язык), остальные — в своем переводе на белорусский язык. Это было первое в Европе издание библейских книг на родном языке народа. Белорусский просветитель ориентировал свое издательское дело не на церковную службу, а на школьное образование и повседневное чтение простого («посполитого», по терминологии Скорины) народа. К своим изданиям Ф. Скорина написал 49 предисловий и 62 послесловия, представляющих собою лекции-беседы или публичные уроки нравственности и благочестия, содержащие также сведения по истории, филологии, философии, правоведению, красноречию и другим тогдашним гуманитарным наукам.
В произведениях Скорины имеются прямые указания, свидетельствующие о школьно-дидактической направленности некоторых его книг. Так, в предисловии к пражскому и виленскому изданиям Псалтыри писатель подчеркивает, что эта книга «детем малым початок всякое доброе наукы, дорослым помножение в науце» [14, 10, 155]. Особым вкладом Скорины в историю отечественной педагогической мысли является его идея о необходимости просвещения и обучения на родном языке [14, 11, 59]. Наиболее выдающимся в литературнохудожественном отношении библейским книгам, служившим в то время также школьными пособиями, например Псалтыри, Книге Иова и др., Скорина придавал большое духовно-воспитательное значение.
По его убеждению, Псалтырь излечивает «всякие немощи, духовный и телесный», усмиряет гнев и ярость, приносит душе умиротворенность и покой, вытесняет «смуток и печаль», злобу и ненависть, утверждает мир и любовь между людьми [14, 10, 154]. Трагическое сопереживание «многострадальному Иову», подчеркивает Скорина, действует как «лекарство душевно», утешая всех страдающих и опечаленных [ 14, 14]. Другие же книги утверждают в обществе мудрость, добрые обычаи и нравственность [14, 20].
Наконец, в предисловии «доктора Франциска Скорины с Полоцка ко всей Библии» эти книги рассматриваются как источник теоретической и практической мудрости, рекомендуются в качестве универсального учебника по философии, нравственности, политике, правоведению, истории, а также как пособие для изучения семи свободных наук. При всей исторической ограниченности и отчасти схоластичности этой школьно-учебной и воспитательной программы в ней заключена бесспорная историческая истина — глубокое постижение Библии как итога многовекового становления и драматического развития духовных ценностей человечества.
Симон Будный (ок. 1530 — 1593). Творческая деятельность белорусского мыслителя и просветителя Симона Будного относится ко второй половине XVI в. Место его рождения неизвестно. В 1544 г. он поступает учиться на факультет свободных искусств Краковского университета, который и оканчивает со званием бакалавра философии [10, 68]. Он получил блестящие по тем временам знания по истории, философии, теологии и литературе; хорошо владел языками латинским, греческим, древнееврейским, белорусским и польским.
С 1560 г. С. Будный по приглашению покровителя протестантов Миколая Радзивилла Черного приезжает в Клецк и занимает там должность магистра (главы) протестантского собора. Он принимает активное участие в создании Несвижской типографии (город, расположенный рядом с Клецкой, резиденция магнатов Радзивиллов). Здесь же, в Несвиже, С. Будный при поддержке Л. Крышковского и М. Кавечинского издает на древнебелорусском языке Катехизис (1562), текст которого был подготовлен в Клецке. Полное название книги следующее: «Катехизис, т. е. наука стародавняя христианская от святого письма для простых людей языка русского, в пытаниях и отказах собрана». В этом же, 1562 г. в Несвижской типографии С. Будный издает работы «Оправдание грешного человека перед Богом» и «О хрищеньи и вечери Сына Божого».
Издательская деятельность С. Будного была очень активной. Так, он издает Библию (1572, Заславль), Новый завет (1574, Лоск, недалеко от Воложина), «Краткое доказательство того, что Христос не является таким же Богом, как отец...» (1574, Лоск), «Опровержение доказательств Чеховица» (1575, Лоск), «О важнейших статьях христианской веры» (1576, Лоск).
В своих богословских сочинениях С. Будный с рационалистических позиций критикует догмат святой троицы, отвергает бессмертие души и потусторонний (загробный) мир.
В 60-х гг. С. Будный становится признанным вождем радикально-рефор-мационного движения — антитринитаризма в Белоруссии и Литве. Важный социально-политический трактат С. Будного — «О светской власти» (1583).
С. Будный известен как видный деятель, теоретик и проповедник в области теологии. Однако это только одна сторона его деятельности. Немало внимания он уделял вопросам просвещения белорусского народа, развитию его самосознания и культуры. С. Будный, являясь противником католицизма, особую ненависть питал к деятельности иезуитов. Он полагал, что им нельзя доверять воспитание и обучение молодежи [8, 61 — 66].
Высоко ценил С. Будный человеческий разум, считал его основой познания окружающего мира. При этом разум он брал не отвлеченно, а в тесной связи с опытом человека, с практикой жизни. Педагогические, социологические и этические идеи С. Будный высказывает в большинстве своих произведений, и в первую очередь в Катехизисе на древнебелорусском языке. Он ратовал за распространение грамотности не только среди средних и высших слоев населения, но и среди народных масс. Процесс обучения и познания он считал истинным творчеством. Особенно он ратует за глубокие знания учителей, считая, что настоящий учитель должен знать несколько языков. В письме к русскому еретику старцу Артемию он подчеркивает, что «многи языки имети учителем добро» [11, 1324]. Артемий, подобно другим приверженцам православия, не признавал иных языков, кроме старославянского. С. Будный же отстаивал равенство всех языков. Он ратовал за то, чтобы доходы церковных и монастырских земель использовались в первую очередь на просвещение, содержание учителей и бедных учеников, заграничные стипендии, открытие и содержание больниц и благотворительность [5, 92 — 93].
Открытие арианских (социнианских) школ в Польше, Литве и Белоруссии проходило в условиях развития протестантизма и влияния идей Ф. Социна и С. Будного. В арианских школах изучались естественные науки. Большую известность приобрела арианская школа в Ивье (Гродненский повет). Около 1585 г. должность ректора школы в Ивье занял сподвижник С. Будного Ян Лициний Намысловский. Деятельность Я. Намысловского была основана на идее С. Будного о единстве всех антикатолических сил в деле просвещения народных масс. Он разработал новую программу среднего и повышенного образования. Изданное Я. Намысловским учебное пособие «Орудие учения Аристотеля для использования в школах христианских, снабженное теологическими примерами», основой которого были идеи С. Будного, содержало критику ортодоксальных догм христианской религии.
В сочинении С. Будного «О синоде в Ивье» с особой силой показано бесправное положение крепостных крестьян Белоруссии. Это произведение построено в форме диалога С. Будного как представителя правого крыла антитри-нитариев с представителем левого крыла Павлом из Визны. С. Будный говорит, что дьявол «побуждает тиранов к тому, что они силой подчиняют людей своей тирании, требуют от своих подданных непосильных отработок и податей и жестоко с ними обращаются. Это не божье установление, а извращение сатаны». А Павел из Визны отвечает: «Разве теперь происходит иначе? Разве не тяжело трудятся подданные на своих панов здесь у нас в Литве и в Польше, и, как правило, без отдыха? Разве не платят тяжелых налогов? Эти несчастные едят, как свиньи, мякину, а зерно вынуждены продавать на уплату чиншев, серебщизны и других поборов и оплат» [7, 80].
Являясь вождем умеренного крыла антитринитариев, С. Будный пытался примирить правое и левое крыло движения. Он выступал за сохранение существующих порядков, умеренную эксплуатацию слуг и крестьян, полагал, что в обществе должны быть господа и слуги, признавал справедливые войны и важность государственной службы.
С. Будный был сторонником широкого гуманистического образования молодежи, которое должно даваться не в монастырях и церквах, а в светской школе. Он сам прекрасно знал античную культуру и литературу и считал изучение их необходимым условием истинного образования. Ратуя за распространение грамотности, он призывал власть имущих открывать для народа школы. Так, в Катехизисе он пишет: «Повинни господари постановити училища або схолы» [5, 65].
С. Будный выдвинул и отстаивал идею о природном равенстве всех людей. С полным основанием его называют достойным продолжателем культурного наследия Ф. Скорины.
Василий Тяпинский (ок. 1540 — ок. 1603). Прогрессивные гуманистические традиции получили дальнейшее развитие во взглядах просветителя и педагога Василия Тяпинского, жизнь и деятельность которого до сих пор мало изучены.
В. Тяпинский был высокообразованным человеком. Большие знания он получил в основном благодаря самообразованию, знал в совершенстве несколько иностранных языков: польский, латинский, греческий. По мировоззрению он был близок к С. Будному. Однако по некоторым вопросам занимал более левую позицию. Ему были близки нужды народных масс. Исходя из национальных интересов белорусского народа, он переводит на белорусский язык Евангелие и печатает его, видимо, в Тяпине. Так как рукописный перевод относится в 1580 г., то можно предположить, что в этом, или скорее всего в следующем, 1581 году и было издано Евангелие. Все вышесказанное и дало исследователям повод утверждать, что В. Тяпинский работал в кочующей типографии.
Особенно примечательно рукописное предисловие к Евангелию. Оно было полемическим по содержанию. В. Тяпинский выступает как истинный патриот белорусского народа. Он с болью в сердце говорит о бедности, невежестве и темноте народных масс. Несмотря на то что В. Тяпинский был религиозным человеком, он выступал за веротерпимость, против религиозного фанатизма и суеверия. Он призывал власти, панов заботиться о просвещении народа, развитии национальной культуры и родного языка, рассматривая Евангелие на белорусском языке как одно из средств развития национальной культуры. По своему развитию и значимости белорусский народ, по мысли В. Тяпинского, был равным среди других народов польско-литовского государства и Европы вообще.
В. Тяпинский решительно выступал в поддержку национально-освободительного движения и развития просвещения в Белоруссии. Он считал, что только путем надлежащей постановки просвещения на родном языке можно избежать культурной отсталости белорусского народа и сохранить его национальную самостоятельность. В. Тяпинский выступал за единство всех белорусов и не выделял чаяния социально обездоленных классов из общенародных интересов.
Ученый защищал идею образования на родном языке, смело ставил вопрос о создании белорусских школ для простого народа, с тем чтобы поднимать его национальное самосознание. В своей переводческой и издательской деятельности он широко вводил в литературный язык элементы живой разговорной народной речи. В. Тяпинский стремился убедить читателя, что белорусский народ имеет все основания гордиться своим языком и использовать его для перевода книг, в том числе и Священного писания.
В. Тяпинский призывал к возрождению былой славы славян, которая, по его мнению, померкла и может исчезнуть по вине духовных и светских феодалов, отступивших от традиций прошлого и тем самым содействовавших культурному и духовному упадку народных масс. Путь для возрождения былой славянской славы В. Тяпинский усматривал в создании собственных школ и проявлении заботы о просвещении трудящихся. Он считал, что нельзя допустить, чтобы народ погибал от недостатка образования. Необходимо использовать материальные средства, которыми располагает духовенство, на развитие школьного образования и науки в интересах народа.
В предисловии В. Тяпинского к Евангелию нашли отражение взгляды лучших представителей белорусской народности, мужественно выступавших в защиту своего народа против политики полонизации, несмотря на опасности и трудности, угрожавшие им со стороны церкви и государственной власти.
Глава IV
В то время как остальные народы Прибалтики на долгие века попали под власть иноземных захватчиков, Литва не только отстояла независимость, но и распространила свою власть на значительную часть земель Восточной Европы. Важнейшие события в политической и идеологической жизни Литвы исследуемого периода (разложение первобытнообщинного строя, образование в начале XIII в. раннефеодального Литовского государства и его превращение в многонациональное Великое княжество Литовское, унии с Польшей 1385 и 1569 гг., введение в 1387 г. католичества, проникновение на литовские земли в первой половине XVI в. реформацион-
ных идей и ожесточенная борьба с ними католической церкви, завершившаяся во второй половине XVII в. решительной победой контрреформации) явились важными вехами на пути развития литовской педагогики, оказали непосредственное влияние на педагогическую мысль, на содержание и структуру образования.
Идеи народной педагогики, сложившиеся веками приемы и методы воспитания, подготовки подрастающего поколения к трудовой деятельности в феодальном обществе во многом определяли формирование личности. Для народных масс Литвы, при феодализме лишь в слабой степени подверженных воздействию созданной церковью и находящейся под ее непосредственным влиянием системы школьного образования, они полностью сохраняли свою значимость.
На протяжении длительного периода литовская школа создавалась по общеевропейским образцам и воплощала на практике педагогические идеи, воспринятые из Западной Европы. Это положение несколько изменилось, когда Литва из окраины католической Европы превратилась в один из важных центров восточноевропейской Реформации. Реформация активизировала идейную жизнь страны, способствовала появлению целой группы деятелей, серьезно озабоченных положением литовской школы и стремившихся перестроить ее с учетом не только достижений европейской педагогической мысли (в частности, трудов Я. А. Коменского), но и потребностей развития литовской культуры, языка, письменности и литературы.
Но нельзя не отметить всей сложности оценки влияния, оказанного на Литву развитой феодальной культурой белорусских и украинских земель, Польши и других европейских стран. Благодаря развитию связей с другими народами, умелому использованию их достижений, в том числе и в области образования, Литве удалось достаточно быстро преодолеть отставание от других стран Восточной Европы. Сравнительно поздно вышедшее на историческую арену, Литовское государство вскоре уже играло видную роль в международных отношениях, превратилось в мощную державу. Но усвоение его господствующим классом феодальной культуры соседних стран привело к созданию в Литве системы образования, не отражавшей традиций литовского народа. Оба типа образования, доступные литовцам, — существовавший среди православного населения Великого княжества или предлагаемый католической церковью — нацеливали на усвоение иностранного языка (западнорусского или латинского). В результате развитие системы образования все более отрывало образованную часть литовского общества от ее национальных корней.
Литовская школа и педагогика в исследуемый период прошли большой и сложный путь. Характерное для Великого княжества Литовского сосуществование различных идеологических, религиозных систем, традиций и течений, их борьба, взаимное влияние ярко отразились и в Области просвещения. В Литве параллельно действовали школы разного уровня, созданные представителями различных вероисповеданий, существовало несколько педагогических структур, организационно не связанных между собой и даже конкурировавших друг с другом. 1
1 Я. А. Коменский поддерживал переписку с покровителями кальвинистских школ Литвы Радзивиллами, его учебники применялись в гимназии в Кедайняй (22, 250 — 251].
I. ПРОСВЕЩЕНИЕ И ШКОЛА В ЛИТВЕ В XIII -XVII ВВ.
Великое княжество Литовское и древнерусские педагогические традиции
С середины XII в., пользуясь ослаблением Руси в период ее феодальной раздробленности, литовские дружины нередко нападали на земли нынешней Белоруссии, угрожали Новгороду и Пскову, появлялись в Польше. В начале XIII в. литовцы начали борьбу с немецкими феодалами, которые утвердились на латышских, эстонских и прусских землях и угрожали самой Литве. В начале XIII в. возник союз литовских племен, а к середине XIII в. князь Восточной Литвы (Аукшайтии) Миндовг (Миндаугас) объединяет племенные княжества в литовскую монархию.
Процесс образования раннефеодального Литовского государства сопровождался переходом литовских князей от набегов на восточнославянские земли к их присоединению. Этот процесс усилился после монголо-татарского нашествия. Как отмечал Ф. Энгельс, «в те времена, когда Великороссия попала под монгольское иго, Белоруссия и Малороссия нашли себе защиту от азиатского нашествия, присоединившись к так называемому Литовскому княжеству» [1, 18 — 19]. Присоединение западнорусских княжеств, укрепляя силы Литовского государства, способствовало и успеху его борьбы с немецкой феодальной экспансией [10, 398].
Важно подчеркнуть, что западнорусские земли и в составе Великого княжества Литовского сохраняли свое внутреннее единство и первоначально характеризовались более высоким уровнем развития феодальных отношений, чем земли коренной Литвы [15, 73]. Здесь сохранялись и продолжались традиции древнерусской культуры: еще в период Киевской Руси сложилась определенная педагогическая система, существовали монастырские школы, бытовали другие формы передачи знаний, было широко распространено, в частности, обучение грамоте. С присоединением западнорусских княжеств к Литве некоторые элементы этой системы — и прежде всего славянская грамота — стали доступны литовцам, в том числе и населению коренных литовских земель.
Вступив в соглашение с западнорусскими феодалами, литовские князья гарантировали их привилегии, сохраняли автономию многих русских земель, поддерживали православную церковь. Некоторые литовские князья и их дружины, поселившиеся в восточнославянских землях, довольно быстро восприняли элементы русской духовной культуры. Так, уже сын основателя литовской монархии Миндовга — Войшелк — принял православие и даже (на некоторое время) монашество [11, 26 — 28; и др.]. Православие принимали и другие представители литовского княжеского дома1 2, часть литовской знати, осевшей в западнорусских княжествах. При этом они воспринимали не только христианское вероучение, но и определенные традиции древнерусской книжной образованности. Даже в тех случаях, когда литовцы, поселившиеся на славянских землях, сохраняли язычество, их контакты со славянским окружением не проходили бесследно. Они усваивали некоторые местные обычаи, изучали славянский язык и славянскую грамоту. Одновременно славянское население появи-
1 Здесь и далее имена и фамилии литовских политических и исторических деятелей указываются в форме, утвердившейся в русской и советской исторической литературе; в скобках указывается современное литовское написание.
2 Например, многие сыновья великого князя Ольгерда (Альгирдаса) (43].
лось на землях самой Литвы. В литовской столице (с 1323 г.) Вильнюсе (тогда Вильно) оно проживало в особой части города — Civitas Rutenica, где имелись православные церкви и монастыри (35, 63, 65].
В многонациональном Великом княжестве господствующее положение занимала литовская династия Гедиминовичей, ведущую роль играли литовские феодалы. Но, выступая преемниками Рюриковичей на западнорусских землях, Гедиминовичи унаследовали сложившуюся еще в древнерусский период систему управления княжествами. На территории коренной Литвы получила распространение кириллическая письменность западнорусских земель. Для Литвы древнерусский (западнорусский, старобелорусский) язык стал на некоторое время тем, чем была латынь для Западной Европы, — языком документов, летописей. Это положение сохранялось на протяжении нескольких веков, даже после принятия Литвой католичества. В Статуте Великого княжества Литовского 1588 г. записано, что на всей территории государства «писар земский маеть по руску литерами и словы русскими все листы, выписы и позвы писати а не иншим языком и словы» [4, 57]. Кириллическое письмо активно употреблялось в делопроизводстве и на территории этнической Литвы вплоть до XVII в. [13]. Знание русского языка и русской письменности уже в XVI в., судя по актовому материалу, было чрезвычайно распространено среди литовской шляхты и даже среди мещан. Литовские историки знали русские летописи [21; 14]. Кириллическая письменность позволила великокняжеской канцелярии осуществлять управление не только восточнославянскими, но и собственно литовскими землями, оформлять пожалования не только западнорусским, но и литовским феодалам, облегчала контакты Литвы с землями Северо-Восточной Руси. Но в отличие от латыни — мертвого языка — восточнославянский язык письменных документов являлся родным для части населения этого государства, оставаясь иностранным для коренного населения Литвы. В этих условиях усвоение значительной частью господствующего класса Литвы русской письменности, изучение русского языка вели к отрыву литовских феодалов от национальных корней, препятствовали развитию собственно литовской письменности. Языковая славянизация части литовских феодалов, хотя и не всегда сопровождавшаяся утратой ими национального самосознания;, по-видимому, явилась одной из предпосылок последующей полонизации литовской шляхты (что еще более углубило разрыв между господствующим классом Литвы и основной массой литовского населения — крестьянством, выступавшим в качестве хранителя традиций литовской народной педагогики).
Тем не менее развитие кириллической письменности в Литве способствовало появлению принципиально нового типа образования, одним из важных элементов которого являлась грамотность.
Обращаясь к деятельности восточнославянских (а возможно, и литовских) педагогов, способствовавших распространению в Литве славянской грамоты, исследователь находится в чрезвычайно сложном положении. С одной стороны, налицо вполне масштабные результаты их деятельности. Уже в первой половине XVI в. круг лиц, владевших в Великом княжестве кириллической письменностью и славянским языком, очень широк. Это многочисленные должностные лица — воеводы, старосты, наместники, державцы, королевские придворные, в значительной своей массе — литовцы по происхождению и католики по вероисповеданию. (Они получали документы из великокняжеской канцелярии, сами составляли на славянском языке «листы» литовским, украинским и белорусским боярам — шляхте, горожанам, распоряжения крестьянам и т. п.) Это еще более многочисленные рядовые бояре, горожане, способные не только прочесть, но и составить аналогичные документы, т. е. обладающие умением читать и писать. Но с другой стороны, вплоть до второй половины XVI в. мы не располагаем документальными сведениями о существовании в Литве каких-либо школ или иных форм организованного обучения славянской грамоте.
Известно, впрочем, что индивидуальное обучение такой грамоте в XVI в. велось в великокняжеской канцелярии [29, 272 — 289]. Возможно, что аналогичный метод подготовки кадров будущих чиновников применяли и другие органы управления, существовавшие при воеводах и наместниках. Но разумеется, число лиц, изучивших грамоту таким образом, не могло быть велико. Канцелярии отнюдь не ставили своей целью обучать грамоте всех желающих, да и физически не могли бы обучить славянскому письму сотни и тысячи людей, владевших им в Литве уже в XVI в. По-видимому, большинство изучали славянскую грамоту другим способом. Какую-то роль при этом могли сыграть православные церковные приходы в Вильнюсе. Хотя о существовании в Литве православных школ вплоть до второй половины XVI в. нет документальных данных, православное духовенство, несомненно, в той или иной форме обучало детей катехизису, могло привлекаться и для обучения чтению и письму. Но по-видимому, основной формой обучения славянской грамоте являлось все же домашнее обучение — у родителей, у других грамотных людей, может быть, у странствующих учителей. При этом нельзя исключить и возможность существования не только индивидуальных, но и групповых форм обучения. Какие при этом применялись методы обучения, какие тексты (вероятно, церковные) использовались в качестве учебных пособий, судить трудно.
Католические школы в Литве с конца XIV до начала XVI в. и обучение литовцев за рубежом
Влияние на Литву западноевропейской педагогики вплоть до конца XIV в. было минимальным, в сущности ничтожным. И это вполне объяснимо. Ведь Орден, смертельный враг языческой Литвы, был авангардом западноевропейского рыцарства, в набегах на литовские земли участвовали феодалы чуть ли не всей католической Европы, вдохновляемые папством.
Впрочем, первые контакты литовского общества с западным христианством относятся уже к середине XIII в. В 1251 г. князь Миндовг, заключив соглашение с Ливонским орденом, принял католичество, получил от папы королевскую корону и основал в Литве епископство. Хотя вскоре (около 1260 г.) Миндовг вернулся к язычеству, попытки католической церкви проникнуть в Литву не прекращались. Уже в первой половине XIV в. в Вильнюсе существовали костелы францисканцев и доминиканцев, которым покровительствовали некоторые представители литовской знати [35, 48 — 51, 67]. Не исключено, что католическое духовенство уже в этот период могло практиковать и какие-то простейшие формы учебной деятельности, прежде всего среди католического населения литовской столицы (выходцев из Западной Европы), может быть, и среди отдельных представителей литовской знати.
Поддерживая дипломатические контакты с Ливонским и Тевтонским орденами, с Польшей, с другими европейскими странами, литовские князья испытывали нужду в людях, знавших латинский язык и способных составлять от их имени послания, грамоты и другие документы. Эти функции в то время выполняли прежде всего иностранцы (нередко монахи), принятые на литовскую службу. Но очевидно, и некоторые литовцы, в частности члены княжеской семьи, изучали западноевропейские языки, прежде всего немецкий, а также польский. По всей вероятности, изучение языков осуществлялось в результате непосредственных контактов с языковой средой или под руководством лиц, владевших этими языками. С помощью домашнего образования представители знати могли приобретать знания и о жизни других стран, обычаях и нравах чужеземных народов. Но в этот период латинская грамотность, достижения духовной культуры западноевропейского средневековья были доступны лишь единичным представителям литовского народа. Постепенное развитие домашнего образования, сочетание в нем традиций народной педагогики с элементами школьных знаний (чтением, письмом, прежде всего славянским) в языческой Литве не привели к оформлению системы образования, к созданию специальных учебных заведений — школ. Первые элементы этой системы возникнут лишь в конце XIV — начале XV в.
Этот период в истории Литвы ознаменован событиями, имевшими огромное влияние на все стороны общественно-политической жизни страны. Угроза со стороны Тевтонского и Ливонского орденов заставила правящие Круги Литвы искать союза с Польшей. Этот союз был заключен в форме династической унии. Литовский великий князь Ягайло (Иогайла) женился на польской королеве Ядвиге и в 1386 г. был коронован польским королем под именем Владислава. Крещение Литвы по католическому обряду в 1387 г. должно было лишить крестоносцев предлога для постоянных нападений на литовские земли. В том же году Ягайло издал грамоту об основании Вильнюсского епископства, получившего богатые пожалования, и предоставил значительные привилегии литовским боярам-католикам [30, 60 — 66).
Предпринятое по инициативе Ягайлы крещение затронуло только литов-цев-язычников. Литовцы, ранее принявшие православие, в том числе некоторые братья Ягайлы, сохранили прежнее вероисповедание. Правительство придерживалось веротерпимости, т. е. проводило политику, наиболее приемлемую в условиях многонационального государства с преимущественно православным населением. Однако введение в Литве католичества, его насаждение в народных массах способствовали включению литовских земель в иной, западноевропейский культурный ареал. Дальнейшее развитие литовской культуры, общественной мысли, и в том числе педагогики, протекало уже в русле западноевропейской культурной традиции. Первоначально влияние католичества на литовские земли было, впрочем, незначительно, затрагивало преимущественно верхушку литовского общества. В сознании народных масс, в их обычаях, обрядах сохранялись многочисленные пережитки язычества.
Изменения, протекавшие в литовском обществе, оформление привилегий феодалов, создание католической иерархии и церковных приходов, рост государственного аппарата, развитие отношений Литвы с другими странами Европы вызывали острую потребность в квалифицированных кадрах. Как отмечалось выше, сложившаяся ранее традиционная система обучения славянской грамоте сохраняла свое значение и продолжала играть видную роль в подготовке кадров для центральной и местной администрации. Но в новых условиях этот тип образования не мог полностью удовлетворить запросы литовского феодального государства. Ему были необходимы чиновники, знавшие западные языки — латынь, польский, немецкий. В еще большей степени потребность в лицах, получивших образование западноевропейского типа, испытывала в Литве католическая церковь.
Деятельность созданных на литовских землях католических приходов, пропаганда христианского вероучения могли быть эффективны лишь при условии знания проповедниками и священнослужителями местного языка. Хроники рассказывают, что в момент крещения Литвы Ягайло, сам принявший католичество за год до этого, лично разъяснял населению по-литовски догматы 1
1 Крещение Западной Литвы — Жемайтии — состоялось лишь в 1413 г.
католической религии [40, 312]. И дело не только в том, что тем самым король подкреплял авторитет новой религии собственным авторитетом. Приехавшие из Польши священнослужители, не зная литовского языка, были лишены возможности общаться с местным населением, а литовцев, способных занять церковные должности, еще не было, так как они не знали латыни.
Именно католической церкви и была поручена организация школьного дела. На литовских землях стала складываться система образования, обычная в средние века для католических стран Европы.
В средневековой Европе система образования, как правило, состояла из двух основных ступеней, организационно не связанных между собою. Первая — начальное образование — непосредственно подчинялась церкви и ее органам. Наиболее важным звеном этой системы были школы при кафедральных соборах в центрах епархий, подчиненные специальным должностным лицам — кафедральным схоластам. Как и школы, возникавшие в монастырях, это были прежде всего школы латинского типа, готовившие к духовному званию.
В ряде католических церковных приходов создавались также приходские школы. Они подчинялись настоятелям приходских храмов, но в некоторых городах представители мещанства (городские советы), выступая против гегемонии церковных властей, добивались частичного контроля над деятельностью приходских школ.
По своему характеру приходские школы были бессословными. В них обучались представители почти всех сословий и групп — дети и горожан, и феодалов, и даже крестьян, и все они, по крайней мере формально, пользовались одинаковыми правами. Одинаковой, не зависящей от сословной принадлежности учащихся была и программа обучения. В приходских школах сначала обучали только чтению (как правило, латинских текстов), письму и церковному пению. Однако в городских приходских школах мещане добивались учета своих практических нужд (обучения ведению записей деловых операций, судебных дел, переписки и т. п.) и изучения грамматики, риторики и диалектики, которые составляли низшую ступень в цикле семи свободных искусств — тривиум. Высшая ступень этого цикла — квадривиум — была доступна исключительно кандидатам в духовное звание. Основными учебными книгами были катехизис и молитвенники, которые заучивали наизусть. В этих школах обучались только мальчики; девочкам, даже из знатных семей, было открыто только домашнее или монастырское обучение. В начальных школах приобретались знания, необходимые для обучения в европейских университетах [19, VI — VII; 39, 825 — 826].
Первой католической школой в Литве ,стала кафедральная школа при вильнюсском соборе св. Станислава, упоминаемая уже в 1397 г. и созданная, видимо, вскоре после образования в 1387 г. Вильнюсского епископства [29, 17]. Дети обучались здесь чтению и письму, катехизису, пению, исполнению религиозных обрядов. Школа служила прежде всего задаче подготовки будущих католических священников, участников церковного хора и т. п. Лишь в начале XVI в. в ней был расширен объем общеобразовательных знаний, в частности было введено изучение латинской грамматики и чтение на латинском языке классической литературы. В это время и позже в школе было три класса со своими учителями и кантором — учителем пения.
Кафедральная школа долгое время была единственной в Вильнюсе. Вторая школа в литовской столице (при костеле св. Яна, созданная по инициативе магистрата) возникла лишь в 1513 г. [29, 18]. После 1409 г. школа была создана и в другом административном (воеводском) центре Литвы — Троках (Тракай) [27, 125].
В XV в. сеть католических приходских школ Литвы развивается еще очень медленно. Одной из причин этого было отсутствие преподавателей, знавших литовский язык. Так, в Жемайтии первая школа (готовившая и к продолжению образования) возникла в Медниках (ныне Варняй) в 1469 г. [30, 136]. В 1495 г. упоминается школа в Каунасе (Ковно). Несколько новых школ возникло и в начале XVI в. в Таураге (Таурогах) — 1507 г., в Жежмаряй (Жижморах) и Аукштадварисе (Высоком дворе) — 1512 г., в Эйшишкес (Эйшишках), — 1524 г., в Даугелишкисе — 1526 г., в Ионишкисе (Янишках) — 1526 — 1530 гг. и др. Позже приходские школы были созданы в целом ряде других населенных пунктов [29, 28 — 32].
В 1528 г. церковные власти обратили специальное внимание на состояние школьного дела. Вильнюсский епископ Ян распорядился, чтобы при каждом костеле сооружались дома для обучения молодежи, которую надлежит учить «полезным наукам, добрым нравам и главным католическим добродетелям», объясняя ученикам Евангелие и Послания апостола Павла, что рекомендовалось делать на польском и литовском языках1 [18, 86 — 87].
Главное внимание в преподавании (это нашло отражение в инструкции епископа) уделялось закону божьему. Основной задачей обучения в школах, призванных готовить церковные кадры, было изучение основ католицизма. Но при этом ученики приобретали некоторые познания в латинском языке, математике, других науках, необходимых и в светской жизни.
По количеству приходских школ Литва и в XV, и в XVI в. еще сильно уступала передовым странам Европы. Нехватка школ в какой-то мере восполнялась с помощью индивидуального и частного обучения. В рассматриваемый период продолжало развиваться и начальное обучение в монастырях, зародившееся, возможно, еще до официального принятия Литвой католичества. Литовские католические начальные школы, хотя и выполняли важную роль в распространении в Литве католической идеологии и способствовали развитию литовской системы образования, не были способны самостоятельно подготовить действительно квалифицированные кадры, необходимые литовскому феодальному государству. Это заставило литовское правительство искать пути скорейшего решения данной проблемы.
Поскольку из-за отсутствия собственных научных кадров создание в Литве высшего учебного заведения в тот момент было невозможно, возникла идея использования одной из европейских высших школ. Первоначально выбор был остановлен на пражском Карлове университете. 10 ноября 1397 г. польская королева Ядвига основала при нем бурсу (общежитие) для литовских студентов, выделив на ее содержание значительный капитал [5, 23]. Бурса, открытая только в 1411 г., не оправдала возложенных на нее надежд: литовских студентов в Праге обучалось мало. Это было связано с тем, что уже в 1400 г. выполнение данной задачи взял на себя другой научный центр — краковский Ягеллонский университет. Созданный в 1364 г. королем Казимиром III, этот университет к концу XIV в. пришел в упадок и был возрожден по инициативе Ядвиги и Ягайлы в качестве общего для Польши и Литвы высшего учебного заведения. Одной из его задач было содействие христианизации Литвы. Образцом для университета во многом послужила парижская Сорбонна. В нем существовали 42 кафедры (И — теологии, 8 — права, 1 — медицины и 22 — свободных искусств) [38, 126 — 127]. Как и в остальных европейских университетах, в Ягеллонском университете было четыре факультета: свободных искусств
1 Епископ требовал также, чтобы настоятели костелов имели викариев, хорошо знавших литовский язык. Очевидно, именно на ннх возлагались обязанности заниматься с литовскими учащимися.
(фактически выполнявший роль подготовительного отделения), права, медицины и теологии. На факультете свободных искусств изучались тривиум и квад-ривиум. Обучение велось, как всюду в Европе, на латинском языке, в форме лекций и диспутов. После овладения курсом тривиума и сдачи соответствующего экзамена присуждалась степень бакалавра искусств, после квадривиу-ма — магистра искусств. На высших факультетах, куда можно было поступить лишь после окончания факультета свободных искусств, присуждались степени магистра или доктора права, медицины, богословия. Студенты жили в особых общежитиях — коллегиях, здесь же проживали преподаватели и проводились занятия. Как и другие университеты, Ягеллонский университет пользовался широкой автономией, хотя и находился под контролем коронного канцлера.
На протяжении XV в. лекции в Кракове прослушали примерно 18 500 студентов, в XVI в. — 19 500, причем число иностранных студентов в 1433 — 1509 гг. достигало 44% [3, 230]. Среди них студенты из Литвы в XV — XVI вв. составляли 1,1% (в XV в. известен 201 человек, в XVI в. — 229). Вплоть до середины XVI в. число литовских студентов в Кракове росло1. Роль Краковского университета в подготовке кадров для Литвы была довольно значительной.
Большинство студентов, в том числе и литовцев, ограничивались изучением нескольких курсов. Далеко не все они добивались даже первой ученой степени — бакалавра. В XV в. эту степень, предоставлявшую право преподавания на начальных курсах, получили 67 «литвинов», т. е. выходцев из Великого княжества Литовского. 17 «литвинов» тогда же получили звание магистра искусств, некоторые из них добились степени доктора права, в 1443 г. профессором права в университете стал магистр Андрей Госковиц из Вильнюса, впоследствии вильнюсский епископ [24, 5]. Некоторые студенты, получив в Кракове первые ученые степени, продолжали затем образование в других европейских высших школах. Например, белорусский просветитель Ф. Скорина, поступив в Краковский университет, получил там степень бакалавра, а затем степень доктора медицины в Падуанском университете. Ян Филиппович из Вильнюса в 1495 г. получил в Болонье степень доктора церковного права [3, 235]. Обучались литовцы и в других европейских университетах [29, 20).
Значение Краковского университета для Литвы было велико еще и потому, что эта высшая школа способствовала усвоению литовской молодежью передовых для своего времени научных знаний и идей Возрождения и гуманизма. Распространение их стало предпосылкой формирования у передовых представителей литовского общества критического отношения к официальной церковной доктрине, восприятия идей Реформации.
Таким образом, в рассмотренный период в развитии образования и просвещения в Литве были достигнуты определенные успехи. Однако система образования переживала еще период становления. Немногочисленные католические приходские школы были не в состоянии дать образование всем желающим. Сеть их была развита недостаточно, они обеспечивали лишь получение начального образования, а уровень преподавания в них не удовлетворял передовую часть литовского общества. Латинская грамотность, составлявшая основу средневекового школьного образования, распространялась довольно медленно, была доступна сравнительно узкому кругу людей. Недостаточное развитие школьной системы отчасти компенсировалось домашним
1 Во второй половине XVI в. их число снижается, что связано с распространением в Литве идей Реформации и обучением литовских протестантов в протестантских университетах Германии, а также с созданием в Литве собственной высшей школы.
обучением «латинского» типа. Эта форма обучения, первоначально доступная преимущественно представителям знати, к началу XVI в. получила более широкое развитие, и большинство шляхетской молодежи, обучавшейся в XV — XVI вв. в заграничных университетах, было подготовлено к этому в домашних «школах». Осенью 1528 г., например, в Краковский университет были зачислены шестеро юношей из Литвы, в числе которых находились ставшие позднее видными деятелями просвещения А. Кульветис, Ю. Заблоцкий, С. Раполенис. Из имматрикуляционных записей видно, что к поступлению в университет они готовились в имении в Жемайтии, неподалеку от Расейняй. В числе этих лиц не было ни одного представителя знати, следовательно, домашнее обучение практиковалось и в среде мелкой и средней шляхты.
Но сравнительно слабое еще в первой половине XVI в. распространение латыни в государственных учреждениях, дальнейшее развитие в Литве кириллической письменности свидетельствовали о том, что обучение славянской грамоте оставалось одним из основных элементов начального образования независимо от конфессиональной принадлежности учащихся. Следует подчеркнуть, что и образование «латинского» типа и обучение славянской грамотности могли успешно сочетаться. Но только изучение латыни создавало для литовцев и других жителей Великого княжества возможность получить высшее образование за пределами Литвы, в Ягеллонском университете или в других европейских высших школах.
Развитие литовской педагогики шло в направлении усвоения и распространения западноевропейской средневековой католической культуры и идеологии. Однако уже в конце XV — начале XVI в. эта идеология переживала кризис, и зародившиеся в Западной Европе идеи Реформации, проникая в Литву, оказывали самое непосредственное влияние на все стороны ее общественной жизни, в том числе и на педагогику.
Распространение в Литве гуманистических идей.
Первые попытки совершенствования системы обучения
Развитие экономических и культурных связей Литвы с другими странами Европы, обучение литовцев в европейских университетах способствовали проникновению в Великое княжество новых идейных течений, усвоению образованной частью литовского общества идей Возрождения, гуманистического мировоззрения.
В начале XVI в. в Литву пришло книгопечатание [8, 13 — 14]. Уже в правление великого князя Александра Ягеллона (1492 — 1506) при литовском дворе проходила деятельность ряда гуманистов, в том числе из других европейских стран. Особое покровительство культуре оказывали король Сигизмунд I (1506 — 1548), его жена, итальянка по происхождению, королева Бона, а затем их сын Сигизмунд II Август (1548 — 1572). Он был создателем одной из первых в Литве картинных галерей и богатой библиотеки в Вильнюсе (1546), которая в 1552 г. насчитывала уже 1273 тома, в том числе и сочинение Николая Коперника «Об обращении небесных тел» [35].
Представители передовой части литовского общества, понимая важность школьного образования, осознавая ценность научных знаний, культурного наследия античности, выступали за создание в Литве школ нового типа. О 1
1 После окончания университета они вернулись в Литву и стали домашними учителями или священниками.
необходимости для Литвы гимназий, т. е. школ повышенного типа, писал в трактате «О нравах татар, литовцев и москвитян» в середине XVI в. Михалон Литвин (28). О создании такой школы (коллегии) в Вильнюсе или Каунасе ходатайствовала на сейме 1568 г. литовская шляхта [12,478]. Литовские просветители предпринимали попытки улучшить преподавание в существующих учебных заведениях и создать новые школы, отвечавшие возросшим потребностям и запросам литовского общества. Примером может служить уже упоминавшаяся школа для детей горожан, основанная в 1513 г. при костеле св. Яна в Вильнюсе по инициативе городских властей. Контроль над этой школой, где одновременно обучалось 20 — 25 детей, осуществлял не только настоятель костела, но и магистрат. Школьники изучали помимо католических догматов грамоту, письмо, латинский и немецкий языки, арифметику [14а, 20 — 21]. Объем преподавания в ней был заметно расширен в 60-е гг. XVI в., когда школу возглавлял юрист и поэт испанец П. Ройзий (Руиз де Морос). Особое внимание при этом уделялось юридическим наукам: в школе изучалось не только городское (магдебургское), но римское и саксонское право. Однако после смерти П. Ройзия (1571) преподавание этих предметов прекратилось [31, 66, 29, 18 — 19, 37].
Огромное влияние на школьное образование в Литве оказала Реформация, уже в первой половине XVI в. затронувшая значительную часть горожан и феодалов. Литовское крестьянство, среди которого сильны были пережитки язычества, было довольно равнодушно к идейной борьбе внутри церкви, и реформационные идеи затронули его слабо. Деятели Реформации в Литве, сознавая огромную роль школы в формировании мировоззрения, предприняли усилия с целью создать собственную, независимую от католиков школьную систему.
Протестантские школы Литвы в XVI — XVII вв.
Попытка организовать литовскую школу реформа-ционного направления была предпринята в Вильнюсе в середине 30-х гг. секретарем литовского канцлера Ю. Вилямовским и магистром Юрием (Юр-гисом) из Эйшишек. Но эта школа так и не была открыта из-за сопротивления вильнюсского капитула, защищавшего монополию кафедральной церковной школы.
В 1539 г. выдающийся литовский просветитель Абраомас Кульветис (Кульвец) (ок. 1510 — 1545) без разрешения церковных властей открыл в Вильнюсе школу гуманистического направления. В создании школы принял участие и другой видный литовский гуманист — Станислав Раполенис (Рапаге-ланус). Предполагают, что в ней преподавали такие литовские просветители, как Юргис Заблоцкий (Заблоциус), Мартинас Мажвидас, впоследствии создатель первого литовского букваря. Школа просуществовала 3 года, за это время в ней обучилось около 60 человек. Однако деятельность Кульветиса вызвала преследования со стороны католического епископа. В 1542 г. Кульветис был привлечен к церковному суду как еретик и был вынужден покинуть Литву [20, 22 — 69].
В течение нескольких лет представители различных течений протестантизма не имели собственных школ. Однако вскоре Реформация нашла в Литве могущественных покровителей: в 1553 г. принял кальвинизм наиболее влиятельный литовский магнат М. Радзивилл (Радвила) Черный, канцлер и вильнюсский воевода, его примеру последовали другие представители этой семьи и многие литовские магнаты [35, 142]. Оказавшись под покровительством крупных феодалов, Реформация во многом потеряла свое прогрессивное
содержание. Однако в период наибольшего влияния Реформации в Литве, во второй половине XVI — первой половине XVII в., сложилась довольно развитая система протестантских школ разных направлений. Среди них преобладали кальвинистские школы, поскольку именно это течение Реформации было поддержано литовскими Магнатами и шляхтой.
Литовские магнаты-кальвинисты с самого начала были озабочены проблемой организации образования своих единоверцев. М. Радзивилл Черный выделил средства на 10 стипендий для литовских кальвинистов в протестантских университетах Кенигсберга, Марбурга, Лейдена и Оксфорда [14а, 154], а уже в 1568 г. в Вильнюсе была организована кальвинистская школа. Другой литовский магнат — М. Радзивилл Рыжий в 1576 г. приобрел дом в Вильнюсе и передал его школе; там же разместился и кальвинистский храм. Эта вильнюсская школа была пятиклассной, в ней обучались не только дети литовских протестантов, но и выходцы из Польши, Пруссии, Ливонии, Курляндии. Школа обеспечивала довольно высокий для своего времени уровень образования. В 60-е гг. XVI в. существовал даже проект организации на ее базе протестантской академии. В 1611 г. школа сгорела, но уже через 2 — 3 года была полностью восстановлена. На собранные общиной средства было сооружено и общежитие для воспитанников школы и учителей. Усиление влияния католической церкви, успехи контрреформации затрудняли деятельность кальвинистской школы в литовской столице, и в 1640 г. по решению сейма она была закрыта [14а, 156; 31, 176]. Основное внимание руководители местных кальвинистов обратили на школы, расположенные во владениях Радзивиллов.
Во второй половине XVI в. Радзивиллами в их частновладельческих городах Биржай (Биржи) и Кедайняй (Кейданы) были созданы две кальвинистские школы, в 20 — 30-е гг. XVII в. преобразованные в средние школы — гимназии. Так, в 1631 г. Христофор Радзивилл выделил значительную сумму для приобретения в Кедайняй дома, половина которого была передана для классов, а вторая половина — для жительства проповедников. Один из них должен был служить на польском, а другой — на литовском языке; оба они читали в школе богословие; кроме них преподавали ректор и три его помощника. После 1647 г. в этой гимназии насчитывалось 9 учителей [14а, 156 — 162].
В конце XVI — XVII в. на территории Литвы существовал ряд других кальвинистских начальных школ, созданных при церковных приходах, где дети изучали религию, а также счет, чтение, письмо [9, 23 — 24].
Обучение в кальвинистских школах находилось под контролем религиозных властей — синодов, которые разрабатывали план обучения, назначали ректоров и учителей, определяли им жалованье, рекомендовали способных молодых людей в качестве домашних учителей в семьи знатных единоверцев. Они же избирали так называемых сеньоров или схоларов — духовных и светских попечителей школ, которые присутствовали на экзаменах, наблюдали за добропорядочностью и усердием учеников и учителей, заботились об удовлетворении текущих нужд школ и ежегодно отчитывались перед синодом. Синоды же составляли уставы школ и контролировали их выполнение [14а, 172 — 173].
Протестантские школы носили конфессиональный характер, и основы христианского вероучения были в них важнейшим учебным предметом. Первоначально даже изучение классической латыни и древнегреческого языка велось по катехизисам, составленным Ж. Кальвином и Р. Стефано. При изучении древних языков использовались труды и античных авторов (Цицерона, Катона, Демосфена, Лукиана и др.). Еженедельно проводились диспуты на латинском языке, на котором учащиеся должны были сочинять похвальные тексты в прозе и стихах по случаю различных торжественных дат. Изучались также риторика, поэзия, диалектика, математика, история (преимущественно древняя), иногда право, философия, этика, или «моральная философия».
Заслугой протестантских школ следует признать сравнительно широкое использование в начальном обучении родного языка. Он применялся, в частности, при изучении катехизиса. Протестантами были переведены на литовский язык многочисленные религиозные песнопения, появились литовский Катехизис и Букварь М. Мажвидаса (1547), а затем и другие издания на литовском языке. Протестанты, пусть не очень последовательно, развивали литовскую письменность, литературу, в противовес универсалистской доктрине средневекового католицизма обращались к народному языку, заставляя следовать своему примеру и идейных противников, идеологов контрреформации. Однако гораздо активнее, чем литовский, применялся кальвинистами польский язык. В 1617 г. кальвинистские духовные власти Литвы официально рекомендовали использовать церковные книги на польском языке. Литовский язык применялся в. преподавании только в некоторых кальвинистских приходских школах (преимущественно на территории Жемайтии, значительно менее, чем Восточная Литва, затронутой процессом славянизации). Одной из причин был довольно пестрый национальный состав и учащихся, и преподавателей. Об употреблении в рассматриваемый период литовского языка в кальвинистских школах повышенного типа (в Биржай, Кедайняй и Вильнюсе) достоверных данных нет. В них преобладала латынь, и, например, в Кедайняйской гимназии даже в начальных классах запрещалось говорить на родном языке. Лишь в начале XVIII в. в Кедайняй в связи с подготовкой проповедников для литовских приходов было введено специальное изучение литовского языка [9, 16, 21 — 24]. Но все же приходится констатировать, что, хотя протестантские школы много сделали для развития литовского языка, литовской культуры, они так и не стали действительно литовскими ни по языку, ни по содержанию образования.
В кальвинистские школы мальчики поступали приблизительно в возрасте 10 лет. Школьники из бедных семей принимались в бурсы, существовавшие, в частности, при школах в Вильнюсе, Кедайняй. В них же помещались и пансионеры, которые различались по степени состоятельности.
Привилегии, создаваемые для детей из богатых и знатных семей, с детства должны были воспитать у школьников сознание неравенства, освященного авторитетом кальвинистской церкви. Для обучения детей наиболее влиятельных магнатов привлекались дополнительные преподаватели и воспитатели [12, 16 — 19].
Менее развиты были в Литве лютеранские школы. К их числу принадлежала упоминавшаяся школа А. Кульветиса. В середине XVI в. в Вильнюсе Ян Винглер устроил лютеранский храм и основал в доме купца Морштина школу, которая просуществовала, однако, недолго. Во второй половине XVI в. лютеранская школа в Вильнюсе была создана вновь; она упоминается в 1614 г., а в 1633 г. ее права официально подтвердил король Владислав IV [14а, 153].
В Вильнюсской школе преподавание велось на латинском, польском и немецком языках. В лютеранской школе Каунаса употреблялся преимущественно немецкий язык (лютеранство в Литве исповедовали в основном горожане немецкого происхождения). Лютеранские школы управлялись религиозными общинами. Во главе Вильнюсской школы был поставлен совет из числа наиболее уважаемых прихожан в количестве 30 человек, которые из своей среды избирали 6 старейшин. Они приглашали учителей, следили за занятиями, присутствовали на экзаменах, проходивших раз в полгода. Для постоянного надзора за
1 1 Зак. 1530
церковными делами избирались два провизора, которые каждый квартал представляли церковной коллегии отчет о школьных делах. Один из лютеранских пасторов являлся инспектором и помощником провизоров. В 1638 г. в Вильнюсской школе было три преподавателя: ректор, конректор и кантор [14а, 160 — 170].
Основным предметом, как и в кальвинистских школах, был закон божий. Катехизис изучался на польском и немецком языках, литовский язык в преподавании предусмотрен не был. Любопытно, что регламент рекомендовал учителю быть с учениками терпеливым, выслушивать каждого спокойно, не гневаясь, избегая телесных наказаний [14а, 169 — 171].
Развитие системы протестантского образования в Литве позволило сторонникам Реформации добиться значительных успехов, существенно повысить качество образования, ввести в содержание обучения значительный материал, обогащавший учащихся знанием античного наследия, классических языков, риторики, поэтики, отчасти философии. Однако обучение в протестантских школах нередко было оторванным от жизни, приобретаемые школьниками знания — во многом книжными, мало применимыми на практике.
Литовским протестантам удалось выработать новую модель школьного образования, отвечавшую гуманистическим представлениям о задачах школы. Но в реальной практике протестантских школ гуманистическая направленность образования нередко отходила на второй план, так как основное место занимало религиозное обучение. Протестантам не удалось завершить свою систему образования созданием высшей школы. В 1565 г. М. Радзивилл Черный завещал значительную сумму на открытие в Вильнюсе протестантского университета [6, 12], но проект этот не был осуществлен из-за сопротивления короля, поддерживаемого католической церковью. В связи с этим литовские протестанты должны были продолжать образование в высших учебных заведениях за рубежом.
В процессе формирования литовского феодального государства часть литовского населения оказалась за его пределами, на землях, в XIII — XV вв. захваченных немецкими феодалами. Под властью Тевтонского ордена, в период Реформации, в 1525 г., преобразованного в Прусское герцогство, литовцы, как и потомки коренного населения этой территории — пруссы, являлись угнетаемым национальным меньшинством, объектом германизации. Однако вплоть до конца XVIII в. большинство населения Восточной Пруссии говорило по-литовски, и до 1739 г. во многих прусских школах преподавание велось на литовском языке [34, 320].
При церквях возникали приходские школы, составлявшие начальное звено средневековой системы образования. В середине XVI в. в Восточной Пуссии насчитывалось около 20 таких школ [34, 320]. Кроме уже упоминавшегося литовского Катехизиса с Букварем М. Мажвидаса в XVII в. в некоторых школах использовалась и изданная в 1653 г. «Грамматика литовского языка» Д. Клейна, что содействовало распространению среди местных литовцев письменности. Известен и четырехъязычный Катехизис Лютера 1670 г.
Церковные школы в Пруссии нередко находились в трудном материальном положении. Их содержание было возложено на прихожан, преимущественно крестьян. Ухудшение положения прусского крестьянства привело к резкому уменьшению числа школ и учащихся. В начале XVIII в. это явление приняло такие размеры, что власти потребовали в 1736 г. от каждой деревни посылать в школу по одному ученику.
В целом система начального образования в Восточной Пруссии находилась на довольно низком уровне и не внесла сколько-нибудь значительного вклада в развитие литовской школы и педагогики.
Иначе обстояло дело с высшей школой. Распространение в Восточной Пруссии Реформации, борьба католического духовенства Литвы с последователями реформационных идей привели к тому, что именно в Восточной Пруссии, в непосредственной близости от литовских земель, нашли убежище видные литовские просветители и педагоги А. Кульветис, С. Раполенис, Ю. Заблоцкий, М. Мажвидас.
Укрепляя свою власть, прусский герцог Альбрехт стремился усилить позиции протестантской церкви, содействовать распространению протестантских идей не только в Пруссии, но и в соседних странах (прежде всего в Польше и Литве), претендуя на роль одного из лидеров Реформации. С этой целью он в 1542 г. основал в столице герцогства Кенигсберге высшую школу (партикуля-риум), в 1544 г. переименованную в университет (при этом были учреждены новые факультеты). В момент открытия университета там насчитывалось 11 профессоров и 200 студентов. Одним из профессоров нового университета стал С. Раполенис, преподавал там и А. Кульветис. Являясь единственным в этом регионе протестантским высшим учебным заведением, Кенигсберский университет привлекал многих литовских протестантов и сыграл видную роль в подготовке кадров литовской протестантской интеллигенции. В Кенигсберге развивалось и литовское книгопечатание, что имело огромное значение для изучения в школах литовского языка.
Однако развитие литовской филологии и изучение литовского языка в Кенигсбергском университете было возможно лишь постольку, поскольку это отвечало политическим и религиозным задачам прусских правителей. Протестантская церковь в Пруссии испытывала нужду в священниках, владевших литовским языком, а прусские герцоги поддерживали активные отношения с литовским протестантским лагерем. Но германизаторские устремления немецких феодалов резко ограничивали возможности развития в Пруссии литовской культуры, литовской школы и педагогики.
Католические школы в период контрреформации
Успехи Реформации в Литве потребовали от католической церкви немедленной мобилизации всех сил. Боевым отрядом католицизма явился орден иезуитов, который в 1568 г. по просьбе вильнюсского епископа В. Протасевича был призван и в литовскую столицу [6, 10].
В деятельности иезуитов особое место было уделено школе и педагогике. Именно с помощью школы, воздействуя на умы детей и юношества, иезуиты надеялись достичь поставленной цели: воспитать преданных сынов католической церкви, способных защищать ее интересы в столкновениях с иноверцами. Эта цель иезуитского образования наложила отпечаток на всю иезуитскую методику и дидактику.
При организации школ иезуиты, вынужденные учитывать конкуренцию со стороны протестантских учебных заведений, должны были использовать достижения современной им педагогической мысли. Учитывая веяния эпохи, они ввели в программу школ изучение классической, а не средневековой латыни, древних языков (греческого, древнееврейского), риторики, логики, философии и некоторых других предметов.
Для привлечения молодежи в школу иезуиты установили бесплатное обучение. Благодаря этому, а также официально провозглашенной терпимости к вероисповеданию учащихся в иезуитские школы нередко поступали и протестанты, и православные. Однако под воздействием школы многие из них в конце концов принимали католичество. Только до 1620 г., т. е. всего за 56 лет сущест-11*
вования в Польше и Литве иезуитских коллегий, через них прошло до 10 тыс. человек [35, 150].
Первая иезуитская коллегия была создана в 1569 г. в Вильнюсе (официальное открытие состоялось в 1570 г.). Вскоре иезуитские коллегии возникли в Белоруссии, на Украине, в Эстонии (Дерпт, ныне Тарту), в Латвии (Рига, Дина-бург), даже в захваченном польско-литовскими феодалами в 1611 г. Смоленске [16]. В самой Литве были основаны коллегии в Кражяй (Крожах), в Жемайтии (1614), Каунасе (1648) и в Пашяуше, около Шяуляя (1654).
Во главе всей иезуитской системы образования в Европе стоял генерал ордена, ему подчинялись орденские провинциалы, возглавлявшие иезуитов каждой провинции ордена (литовская провинция включала земли Литвы и Белоруссии). Глава коллегии — ректор — обладал сравнительно небольшой властью. За учебно-воспитательный процесс непосредственно отвечал префект коллегии, которому подчинялись учителя. Преподавательский состав в коллегиях был немногочисленным, так как каждый учитель преподавал не отдельные предметы, а целый курс наук в определенном классе. В помощь преподавателям из числа учащихся назначались так называемые цензоры, деку-рионы (иначе — преторы), корректоры, выполнявшие некоторые учебно-воспитательные функции. Префект обязан был посещать уроки, просматривать тетради учеников, организовывать диспуты и публичные экзамены. Он принимал в школу новых учеников, переводил в высшие классы, назначал старост.
Большое внимание уделялось подготовке учительских кадров. Наиболее способных учащихся иезуиты стремились привлечь в новициат — послушничество при ордене. Новиции продолжали образование отдельно от остальных учеников и через два года уже могли преподавать в низших классах. Затем они вступали в орден и получали высшее образование, ученые степени, участвуя в преподавательской работе.
Организация, программа и методика преподавания во всех иезуитских учебных заведениях определялись в строгом соответствии с общим положением, разработанным руководством ордена иезуитов в последней четверти XVI в. и опубликованным в 1600 г. [23]. Иезуитские учебные заведения делились на две ступени: учащиеся могли получить среднее, а затем и высшее образование.
Полная иезуитская гимназия (коллегия) представляла собой среднее учебное заведение и состояла из 5 классов: низшего, среднего и высшего грамматических, поэтического и риторического. Обучение в каждом классе продолжалось год, а в классе риторики — два года.
В грамматических классах изучались латинская этимология, начала синтаксиса. Основным учебником была грамматика испанского иезуита Альвара. Учебный день делился на 4 учебных часа: по два до обеда и после обеда; по вторникам и четвергам послеобеденные занятия не проводились. В течение первого часа ученики повторяли наизусть отрывки из Цицерона и другие тексты, пока учитель исправлял их письменные работы. На втором уроке они читали Цицерона, писали под диктовку учителя упражнения, заучивали уроки из Альвара. После обеда ученики отвечали наизусть уроки греческого и латинского языков, а учитель, слушая, исправлял ошибки; второй час был отведен для занятий грамматикой.
В субботу до полудня учитель проверял усвоенное за неделю, а после обеда ученики занимались переводом сравнительно легких текстов Цицерона на польский язык, делали латинские и греческие упражнения. Тогда же проводились диспуты по .грамматике, что должно было способствовать развитию у школьников духа соревнования и активизировать их интерес к учебе. С этой целью учитель делил класс на две части и во главе каждой половины ставил самого сильного ученика, получавшего звание «консула». Затем и остальные учащиеся разбивались на пары, приблизительно равные по своим знаниям и способностям. Каждая из двух партий, равных по численности, получала название, обычно заимствованное из античной истории (римлян и карфагенян или греков и македонян и т. п.). Если учитель спрашивал кого-то из «римлян», а тот не мог ответить, вставал его соперник «карфагенянин» и отвечал за него; если оба не могли ответить, учитель поднимал следующую пару. Хороший ответ засчитывался как плюс для «партии» данного ученика, и наоборот. В конце месяца подводился итог, и отмечалась победа одного из лагерей и поражение другого. Такая форма соревнования применялась и в других классах.
В среднем грамматическом классе продолжалось изучение грамматики Альвара, греческих склонений и спряжений. Ученики читали тексты по-латыни и по-гречески. Во втором полугодии к этому прибавлялось изучение катехизиса. Письменные упражнения состояли в переложении продиктованных учителем польских стихов на латинский язык.
В высшем грамматическом классе завершалось изучение грамматики. Из классиков учащиеся читали Саллюстия, Тита Ливия, Цицерона, Овидия, Катулла, Тибулла, Проперция, Вергилия, по-гречески изучали части речи и синтаксис, переводили Эзопа, Иоанна Златоуста. Кроме обычных письменных упражнений раз в месяц дома или на уроке проводились специальные письменные упражнения на соискание школьных званий — декурионов и цензоров.
В поэтическом классе совершенствовалось владение латинской речью, как прозаической, так и поэтической, приобретались некоторые необходимые сведения по «вспомогательным» предметам — истории, мифологии, географии, «археологии» (под этим подразумевалось знание реалий античной эпохи). На «вспомогательных» занятиях сообщалось то, что было необходимо для понимания изучаемых авторов. Объяснение проводилось на родном (обычно польском) языке. Ученики поэтического класса должны были уметь писать стихи и прозу на латинском и греческом языках.
В курсе риторики излагалась теория красноречия, прежде всего на классических античных образцах. Учащиеся пятого класса читали Демосфена, Платона, Фукидида, Гомера, Гесиода, Пиндара и тех же греческих богословов, что и в четвертом классе. Одним из распространенных видов самостоятельных работ учащихся были сочинения на заданную тему.
В отличие от протестантских школ иезуитские коллегии сравнительно немного времени уделяли богословским вопросам, Священному писанию, даже катехизису. Воспитание учащихся в католическом духе проводилось путем привлечения школьников к участию в ярких и красочных церковных праздниках, процессиях, театрализованных представлениях, различного рода религиозных обществах. Используя в преподавании произведения древних авторов, иезуиты подвергали их цензуре, устраняя из текстов все противоречащее католической доктрине. Ими подготавливались специально исправленные издания (14а, 96).
Изучение классической литературы было в основном средством совершенствования знания языков и ораторского искусства. Национальные языки также использовались в преподавании: на них переводились классические тексты, на них сочинялись стихи. Для миссионерских нужд в Вильнюсской и Кражайской коллегиях сохранялось обучение литовскому языку (хотя польский заметно преобладал). В Вильнюсе литовским языком владели и читали на нем проповеди не только преподаватели-литовцы, но и иностранцы (например, Э. Вега). Хотя ряд деятелей иезуитских школ (К. Ширвидас, Й. Якнавичюс и др.) внесли значительный вклад в развитие литовского литературного языка, в целом ему уделялось там мало внимания, основным языком преподавания был латинский, а вспомогательным — польский.
Кроме хорошего знания латинского и греческого языков, умения литературно (в том числе и в поэтической форме) излагать свои мысли, навыков ораторского искусства выпускники иезуитских коллегий приобретали и некоторые знания из области древней истории, богословия, философии, других предметов. Все это вполне удовлетворяло интересы шляхты, а бесплатное обучение способствовало популярности иезуитских школ. Существенным недостатком иезуитского образования следует признать его заметную односторонность, отрыв от современности. Оно было преимущественно формаль-. но-филологическим, развивало у учащихся прежде всего память. Даже некоторые католики в конце XVI — начале XVII в. критически оценивали эту систему, считая, что она препятствует свободному развитию способностей молодежи [14а, ИЗ].
Избрав Вильнюсскую коллегию центром своей идеологической деятельности на землях Великого княжества Литовского, иезуиты прилагали максимум усилий, чтобы вести преподавание на высоком уровне, привлекая опытных педагогов из других стран. Опасаясь, что попытки протестантских магнатов открыть в Вильнюсе университет могут увенчаться успехом, католические круги создали на базе Вильнюсской коллегии собственную высшую школу. 1 апреля 1579 г. король Стефан Баторий выдал грамоту об основании в Вильнюсе университета. 30 октября того же года папа римский Григорий XIII специальной буллой утвердил открытие университета, присвоив ему наименование «Almae academia et universitas Vilnensis societatis Jesu», т. e. «Благодетельная академия и Виленский университет общества Иисуса», которое отражало положение университета как католического учебного заведения и научного центра [17, 14 — 27]. Из-за противодействия магнатов — сторонников Реформации университет был открыт лишь пол года спустя. С его созданием в Литве сложилась система католического образования, включавшая школы трех ступеней: начальные (приходские), средние (коллегии) и высшую школу — университет. Первым ректором академии стал выдающийся иезуитский проповедник поляк Петр Скарга.
По грамоте Стефана Батория Вильнюсскому университету были предоставлены все привилегии, которыми пользовался упоминавшийся выше Краковский университет. Но в отличие от большинства тогдашних европейских учебных заведений в академии было только два факультета: философский и теологический. Медицинский и юридический факультеты, обычно существовавшие в университетах, здесь первоначально не были созданы. Это объяснялось, по-видимому, стремлением сосредоточить основное внимание на подготовке кадров, способных активно противостоять реформационным идеям, отсутствием у иезуитов интереса к развитию светского образования. На многие десятилетия (до 1644 г.) затянулась и организация юридического факультета, а медицинский факультет был создан лишь после закрытия иезуитского ордена в Литве (в конце XVIII в.).
Созданный на базе Вильнюсской коллегии, университет сохранил с ней определенную организационную связь, хотя действовали они самостоятельно и во главе коллегии и университета стояли отдельные префекты. Коллегия являлась не только средней школой, но и своего рода подготовительным факультетом университета.
На философском факультете обучение продолжалось первоначально два, а затем три года. Его выпускники получали разностороннее и глубокое для своего времени образование. Они совершенствовали знание древних языков, основательно изучали логику, античную и средневековую литературу и философию.
Являясь единственным высшим учебным заведением Великого княжества Литовского, академия привлекала студентов не только из Литвы, но из Белоруссии, Украины, учились в ней и иностранцы. Среди студентов были не только католики, но и православные, а в первые десятилетия деятельности академии — даже протестанты. Число студентов постоянно росло. В 1570 г. в коллегии было 160 учеников, а к 1590 г. вместе со студентами университетских факультетов их число достигало 600. В 1618 г. в коллегии насчитывалось уже 1100 человек, на философском и теологическом факультетах — 110 человек [41, 58].
Основными формами обучения в академии являлись лекции и диспуты. Лекции часто носили схоластический характер. Из-за нехватки или отсутствия учебников нередко преподаватели диктовали студентам свои лекции, построенные обычно в форме вопросов и ответов. На диспутах студенты выдвигали аргументы, призванные подтвердить или опровергнуть тезис профессора. Дважды в году проводились публичные диспуты, где присутствовали и посторонние.
В конце курса сдавались экзамены. Они проводились и при окончании философского и теологического факультетов. Заключительной формой проверки знаний была «защита тезисов», подобная современной дипломной работе. Тезисы, защищаемые студентом, вывешивались на всеобщее обозрение. Как и остальные европейские университеты, Вильнюсская академия получила право присуждать ученые степени бакалавра и магистра свободных искусств и философии, бакалавра, лиценциата и доктора теологии, а затем и права. Состав лиц, удостоенных в Вильнюсской академии ученых степеней, был довольно разнообразным. Так, например, до 1650 г. (по неполным данным) званий доктора и лиценциата теологии было удостоено 46 человек, в том числе 12 немцев, 11 поляков, 11 литовцев, 5 украинцев и белорусов, 4 испанца, португалец, итальянец и англичанин. Гораздо большему числу студентов были присуждены более низкие ученые степени, прежде всего бакалавра свободных искусств, философии [37, 29 — 32].
Необходимо отметить роль Вильнюсской академии в обеспечении педагогическими кадрами всех коллегий литовской провинции ордена. Ее преподаватели обязаны были по распоряжению орденских властей несколько лет проработать в иезуитских учебных заведениях, в том числе и за пределами Литвы.
Подготовленные академией высокообразованные для своего времени люди вносили свой вклад в развитие литовской, белорусской, украинской, польской культуры, способствовали развитию в Литве науки, просвещения, литературы и искусства.
Избрав школу ареной своей деятельности, иезуиты успешно осуществляли возложенную на них Римом задачу. Переход на сторону католицизма литовских магнатов и шляхты сопровождался резким ослаблением позиций протестантских церквей и упадком их школ, особенно заметным во второй половине XVII в. Вынужденные конкурировать с протестантами, иезуиты должны были сохранять высокий уровень преподавания, так или иначе учитывать достижения современной науки, запросы литовского общества, прежде всего шляхты, заинтересованной в светском гуманистическом образовании. Провозгласив веротерпимость по отношению к своим ученикам, открыв в школы доступ протестантской и православной молодежи, уделив в самом преподавании в коллегиях религиозным вопросам сравнительно небольшое внимание, иезуиты одновременно разработали целый ряд мер, эффективно влиявших на мировоззрение учащихся. Когда же контрреформация победила, а многие протестантские школы лишились могущественных покровителей и были закрыты или влачили жалкое существование, иезуитские школы, практически обеспечив себе монополию в области высшего и среднего образования, заметно снизили уровень преподавания, все более приобретавшего схоластический характер.
Братские школы
В исследуемый период Вильнюс являлся ведущим центром не только литовской, но и белорусской культуры. Деятельность в Литве белорусских просветителей, таких, как Франциск Скорина (ок. 1490 — ок. 1541), находила живой отклик в литовском обществе, способствуя взаимному обогащению литовской и белорусской культур, педагогической мысли и практики, укрепляла связи и дружбу двух народов.
Историческая общность судеб литовского и белорусского народов, общие социально-экономические и культурные процессы, протекавшие в исследуемый период на землях Белоруссии и Литвы, несмотря на религиозные и национальные различия, способствовали сближению систем образования, существовавших у представителей разных конфессий. Формирование в Великом княжестве Литовском в XVI в. ренессансно-гуманистической культуры, общая атмосфера идейных исканий и идеологической борьбы оказали заметное влияние не только на литовскую, но и на белорусскую школу. Развертывание во второй половине XVI в. деятельности белорусских школ (в том числе и на литовских землях) совпало по времени с попытками протестантского и католического лагеря реформировать и усовершенствовать существовавшие в рамках данных конфессий системы школьного образования. Все эти явления были гранями одного процесса, отражали возросший общественный интерес к системе школьного образования, назревшую потребность общества в его совершенствовании, в развитии школьной сети, в распространении школьных знаний. Отчетливо сознавая эту задачу, белорусские просветители активно использовали опыт католических и протестантских школ, достижения европейской педагогической мысли. При этом движение за совершенствование системы образования возглавила не православная иерархия, а национально-религиозные организации горожан, возникавшие вокруг православных церквей, — братства. Братство при монастыре святой Троицы в Вильнюсе было старейшим в Великом княжестве Литовском. Именно оно в 80-е гг. XVI в. первым развернуло активную деятельность в области просвещения, предназначив часть доходов монастыря на школьное дело. В работе школы, созданной Вильнюсским братством, принимали участие выдающиеся белорусские просветители, в частности Л. Зизаний, М. Смотрицкий, Л. Карпович, И. Бобрикович, С. Коссов, И. Козловский и другие. Это учебное заведение, расположенное в столице Великого княжества Литовского, активно использовало достижения современной литовской педагогики, опыт католических и протестантских школ, что позволило Вильнюсской братской школе по уровню образования приблизиться к коллегии. Это во многом обусловило ведущую роль Вильнюсской школы, и достижения вильнюсских белорусских педагогов применялись в других братских школах Белоруссии и Литвы1.
Стремление православного населения Великого княжества Литовского добиться резкого повышения уровня образования отражал выдвинутый будущим константинопольским патриархом Кириллом Лукарисом проект создания в Вильнюсе православного университета [2, 49 — 50]. Эта идея так и не была осуществлена. Однако немало белорусов и украинцев сумели получить высшее
1 О деятельности братских школ в Белоруссии и Литве подробнее см разд. III, гл. 3.
образование в Вильнюсской академии и затем активно способствовали распространению достижений европейской научной и общественной мысли среди восточнославянского населения Речи Посполитой.
В целом период борьбы между представителями различных вероисповеданий вплоть до середины XVII в. характеризуется оживлением идейной жизни страны, быстрым развитием школьного дела на всей территории Великого княжества Литовского, у всех основных конфессиональных групп населения этого государства.
Внутриполитические противоречия в феодальной Речи Посполитой, резко обострившиеся в середине XVII в. с началом национально-освободительной борьбы украинского, а затем и белорусского народов, разрушительные войны оказали огромное влияние не только на социально-экономическое, но и на культурное развитие Литвы. Закрылись многие приходские школы разных вероисповеданий. Пришла в упадок система протестантских школ. Школа в Биржай к концу XVII в. опять превратилась в начальную, ухудшилось положение в Кедайняйской школе. Победа контрреформации привела к застою в созданной иезуитами системе образования, заметно терявшей первоначально достигнутый достаточно высокий научно-педагогический уровень. Значительный урон литовской школе был нанесен также в годы войны. В 1655 — 1661 гг. Вильнюсская академия прервала занятия и возобновила деятельность только после освобождения литовской столицы. Чтобы наладить преподавание, потребовалось немало времени. На юридическом факультете занятия вновь начались только в 1697 г. [35, 168 — 169]. Однако добиться прежнего уровня преподавания академии в этот период так и не удалось.
Попытки как-то исправить положение в области образования в обстановке кризиса, переживаемого в тот период феодальным государством, были малоэффективны, а уже вскоре, с конца XVII в., Литва вновь пережила десятилетие, ознаменованное гражданскими войнами, участием в Северной войне, эпидемиями и неурожаями. Лишь по мере выхода страны из тяжелого социально-экономического и политического кризиса, в 20 — 30-е гг. XVIII в., в литовской системе образования наметятся первые, еще незначительные сдвиги.
2. ЦЕХОВАЯ СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
В исследуемый период во многих городах Великого княжества Литовского возникли профессиональные объединения ремесленников, типичные для западноевропейского средневековья, — цехи. Их уставы вводили процесс обучения ремеслу в определенные организационные рамки, и ученичество являлось ступенью к приобретению прав мастера1.
Первый цех — ювелирный — был образован в Вильнюсе уже в 1495 г. В 1509 г. в литовской столице возникает цех цирюльников, около 1523 г. — цех сапожников, затем — цех кожевников, во второй половине XVI в. создаются еще 6 цехов, объединявших представителей 8 ремесел. К концу XVII в. число цехов достигает в Вильнюсе нескольких десятков. Цех, как правило обеспечивавший себе монополию на внутригородском рынке, объединял полноправных мастеров, имевших право принимать заказы, держать подмастерьев и учеников.
1 Аналогичные ремесленные корпорации существовали в других городах Прибалтики, Белоруссии, Украины, в Смоленске. Принципы их деятельности, порядок обучения в них ремеслу в основном совпадали.
Для поступления в ученики желающий проходил у мастера испытательный срок (в вильнюсских цехах составлявший обычно 4 — 6 недель) и лишь после этого, если мастер был им доволен, официально зачислялся в ученики на общем собрании цеха или в присутствии цеховых властей. За внесение его в цеховой реестр ученик должен был заплатить в казну цеха небольшой взнос. Уставы, как правило, требовали от кандидатов в ученики свидетельства о законном происхождении от свободных родителей. Последнее условие затрудняло доступ к обучению в цехах крестьянским детям. Впервые упоминание о запрещении детям крепостных крестьян поступать в ученики появилось в уставе цеха вильнюсских ткачей 1579 г. в связи с тем, что «из-за этого частые скандалы и ссоры происходили, так как паны — шляхта — силой забирали из мастерских своих подданных и невольников». Крестьянские дети могли быть допущены к цеховому ремеслу, только получив от своего господина отпускной лист, т. е. вольную.
Срок ученичества в цехах составлял от 3 до 6 лет. В большинстве случаев ученик должен был выполнять все поручения мастера совершенно бесплатно, получая только еду и иногда одежду. Плата за обучение давалась мастеру вперед. Это делалось на случай бегства ученика, который при этом не только терял всю внесенную сумму, но и лишался выслуги, т. е. срок учебы ему не засчитывался. Срок обучения по усмотрению мастера мог быть несколько сокращен или увеличен, хотя отдельные уставы это запрещали. Систематического обучения учеников ремеслу, как правило, не велось.
Закончив срок ученичества и освоив ремесло, ученик должен был просить цех об исключении его из списка учеников и внести за это особую плату. Только потом он мог просить о записи его в список подмастерьев и при этом также уплачивал взнос в цеховую казну. Подмастерье работал наравне с мастерами, занимая положение наемного работника и получая от мастера плату за работу. Права полноправного мастера подмастерье получал только после приема в цех, а для этого требовалось выполнить ряд условий, проработать определенный срок подмастерьем, изготовить показательное изделие («шедевр», в цехах Литвы именовавшийся обычно «штукой»), продемонстрировав свою высокую квалификацию, устроить угощение для мастеров. Заслуживает внимания еще одно условие: подмастерье должен был совершить «странствие», т. е. в течение определенного срока (он составлял год и одну неделю) посетить другие города (чаще всего на территории Белоруссии, Украины и Польши) и работать по специальности в тамошних цехах. Это должно было помочь ему повысить квалификацию, изучить в других городах новые ремесленные приемы, может быть, освоить новую ремесленную продукцию, т. е. рассматривалось как своеобразное дополнение к его профессиональному образованию. При этом, странствуя за пределами родного города, подмастерье расширял свой кругозор, мог увидеть другие страны, узнать обычаи других народов, что несомненно должно было способствовать и его общему развитию. Однако многие исследователи полагают, что обычай отправлять подмастерьев в «странствие» был прежде всего дополнительным препятствием, призванным затруднить их доступ в цех.
Ученики мастеров, не входивших в цехи (прежде всего сельских ремесленников), были свободны от выполнения всех перечисленных выше формальностей, хотя и они, видимо, нередко должны были вносить плату за обучение или заключать с мастером договор о службе (7; 33].
3. РАЗВИТИЕ В ЛИТВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ
Обращаясь к истории литовской педагогической мысли периода феодализма, мы должны отметить особую роль в ее развитии деятелей литовской Реформации. Это отнюдь не случайно.
Реформация пробудила у некоторых представителей литовской феодальной интеллигенции интерес к национальному языку, национальной культуре. Из рядов протестантского лагеря вышли многие выдающиеся просветители, сыгравшие важную роль в развитии литовской письменности, литературы, подлинно национальной педагогики. Выше упоминался значительный вклад в развитие литовской школы А. Кульветиса, С. Раполениса, Ю. Заблоцкого и других деятелей начального периода литовской Реформации. Они и их последователи способствовали перестройке и развитию школьной системы Литвы, усвоению литовской педагогикой идей передовых для своего времени протестантских педагогов. В их числе хотелось бы особо выделить Мартинаса Мажвидаса (ок. 1510 — 1563). В 1546 — 1548 гг. он учился в Кенигсбергском университете, который окончил со степенью бакалавра. Еще обучаясь в университете, он подготовил и издал в 1547 г. первую литовскую книгу — «Cathechismusa prasty szadei» («Простые слова катехизиса») [20, 22 — 53]. Значение ее для Литвы заключается не только в том, что эта книга являлась печатным изданием на литовском, языке, но и в том, что в приложении к Катехизису был помещен первый литовский букварь. Таким образом, М. Мажви-дас являлся автором первого учебного пособия, специально предназначенного для изучения родного языка.
Букварь Мажвидаса был составлен по образцу латинских букварей; готический латинский алфавит был использован им для передачи звуков литовского языка. Построен он по методу силлабизации, в то время повсеместно распространенному: в нем помещены таблицы соединения в слоги гласных и согласных. В букваре даны и начала методики обучения чтению.
Хотя книга Мажвидаса была издана за пределами Литвы (в Пруссии) и сравнительно небольшим тиражом (200 — 300 экз.), она предназначалась для всех литовцев и стала ценным пособием для обучения детей грамоте. Катехизис выражал определенные педагогические воззрения, идеи Реформации в области воспитания подрастающего поколения (хотя, разумеется, в первую очередь в области религиозного образования и нравственного воспитания).
Значение Катехизиса Мажвидаса и других публикаций этого автора 1 и его последователей, принадлежавших к протестантскому лагерю, трудно переоценить. Издатели литовских книг доказали, что литовский, народный язык, которым до тех пор нередко пренебрегали2, способен выражать сложные религиозные, философские идеи, быть литературным языком. Обращение литовских протестантов к народному языку заставило последовать их примеру и представителей католического лагеря. Некоторые из них также сыграли видную роль в развитии литовской литературы, педагогики, школы.
В 1595 г. литовский просветитель ксендз Миколай Даукша (ок. 1527 — 1613) опубликовал в Вильнюсе в своем переводе на литовский
1 Кроме Катехизиса М. Мажвидас, уже будучи пастором в Пруссии (в Рагайне), подготовил на литовском языке еще три сборника церковных песен и молитв.
2 Еще в середине XVI в. Мнхалон Литвнн, защищая в своем трактате теорию римского происхождения литовской шляхты (одним из важнейших доводов в пользу этой точки зрения он считал сходство литовских и латинских слов), призывал ее оставить литовский язык, который он считал испорченной латынью, и «вернуться» к классическому латинскому языку.
язык Катехизис Я. Ледесмы. В 1599 г. он же издал на литовском языке сборник католических проповедей. В предисловии к нему М. Даукша подчеркнул значение для литовцев их родного языка, высказал пожелание, чтобы литовский язык использовался не только в религиозной, но и в государственной жизни, при издании законов литовского и других народов, иначе говоря, в общественных и научных целях [26].
Развиваясь, литовская школа испытывала большую потребность в учебных пособиях. Применявшиеся в учебных целях катехизисы и другая религиозная литература, сохраняя свое значение в начальном обучении, не могли, разумеется, удовлетворить школы повышенного типа и тем более университет. В них, как отмечалось, использовались учебники зарубежных авторов. Но уже в XVII в. талантливые преподаватели литовской высшей школы — Вильнюсской академии — разрабатывают собственные учебники. В их числе можно упомянуть учебник математики О. Крюгера (1635) [25], сочинение С. Лауксмина (1590 — 1670) по ораторскому искусству (1648), тринадцать раз переиздававшееся за рубежом — в Мюнхене, Франкфурте, Кельне, Праге, Вене, его же учебники и грамматику греческого языка (1655), учебник по музыке (1667) [36, 444; 35, 180].
Активная издательская деятельность академии позволяла обеспечивать учебный процесс литературой, изучение которой предусматривалось программой: произведениями греческих и латинских классиков, средневековых авторов. С той же целью использовались и труды самих преподавателей академии по логике, философии, риторике и т. п.
В конце XVI — XVII в. продолжалось издание книг и на литовском языке, при этом не только религиозной литературы [32, 36 — 37], но и филологических трудов, букварей. Преподаватель Вильнюсской академии Константин Ширвид (Ширвидас) опубликовал в 1629 г. трехъязычный латинско-польско-литовский словарь, впоследствии несколько раз переиздававшийся, подготовил, но не сумел издать грамматику литовского языка [6, 40 — 41; 30, 193]. Впервые литовскую грамматику опубликовал в 1653 г. в Восточной Пруссии магистр Кенигсбергского университета пастор Даниэль Клейн (Клейнас) (1609 — 1666). В предисловии к грамматике Д. Клейн говорит о большом будущем литовского языка, о необходимости для его изучения четких грамматических правил [32, 181 — 182].
Создание букварей и грамматики, разработка определенных методических рекомендаций и приемов с целью обучения литовцев грамоте на литовском языке имели важное значение для будущего преодоления отмеченного выше недостаточного внимания школ Литвы к родному языку. Однако в исследуемый период борьба передовых представителей литовской педагогики за национальный характер литовской школы еще не принесла действительно заметных и прочных результатов.
В XVI в., как уже отмечалось, рядовой шляхтич, даже литовец по происхождению, часто составлял документы по-белорусски, так как владел только кириллической письменностью. Латинское письмо употребляли в этот период в некоторых случаях великокняжеская канцелярия, католическая церковь; в местном делопроизводстве, в быту оно применялось еще очень редко. В XVII в. белорусский язык постепенно исчезает из официальных, а потом и из частных документов, и на смену ему приходит польский язык с многочисленными латинскими вкраплениями, реже — собственно латынь, что свидетельствует о новом типе образования, полученного чиновниками многочисленных литовских судов и канцелярий.
Вся система преподавания в Литве в исследуемый период, независимо от религиозной принадлежности школ, в принципе практически не учитывала запросов и интересов основной массы литовского народа, ориентируясь на образованную, привилегированную часть общества и в силу этого способствуя еще большему удалению ее от национальных корней. При этом литовская письменность находилась в очень неблагоприятном положении. Изучив ее, крестьянин мог читать катехизис, сборник церковых песен, но был лишен возможности прочесть официальный документ какого-либо государственного органа, расписку об уплате им налога, решения суда, распоряжения своего феодала, составленные, как правило, по-белорусски или по-польски.
Отмечая негативные черты в развитии литовской педагогики исследуемого периода, подчеркивая значительное влияние, оказанное на нее идеями зарубежной педагогики, мы не должны забывать и несомненные достижения литовской педагогической мысли этого времени.
В целом литовская школа феодального периода проделала в своем развитии очень значительный путь, добилась заметных успехов. Особенно активно школьная система развивалась во второй половине XVI в., когда в Литве возникли школы повышенного типа и даже собственная высшая школа. Развитие системы образования, увеличение численности и учащихся и учителей, повышение уровня подготовки учащихся способствовали формированию в Литве собственных педагогических кадров, владевших методикой преподавания, учитывавшей достижения тогдашней европейской методической мысли. Разумеется, такое развитие литовской школы явилось прежде всего результатом перенесения на литовскую почву идей европейской педагогики. Однако творческое использование достижений зарубежной педагогической мысли являлось необходимой и неизбежной предпосылкой развития в Литве собственной передовой системы образования. В свою очередь литовская школа оказала заметное влияние на развитие педагогики других народов Восточной Европы. Применение на практике идей европейской педагогики, разработка в Литве своих учебных книг и пособий, воспитание педагогических кадров, развитие сети школ всех ступеней свидетельствуют о поступательном развитии литовской педагогики, протекавшем в русле западноевропейской педагогическом мысли. Дальнейшие успехи в этой области будут достигнуты уже в XVIII в.
Глава V ПРОСВЕЩЕНИЕ, ШКОЛА И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ В ЛАТВИИ
Процесс образования латышской народности совпал с разложением первобытнообщинного строя и переходом к классовому обществу в конце I тысячелетия, что вызвало большие изменения в экономической и социальной жизни населения. Древние городища превращаются в центры ремесленного производства и торговли. Развивается самобытная латышская культура-
У балтийских этнических групп начиная с IX в. установились тесные политические, экономические и культурные отношения с русскими землями — Полоцкой и Псковской. Об этих контактах свидетельствуют термины восточно-славянского происхождения, вошедшие в латышский язык. Они образованы от таких слов, как «грамота», «божница», «крест», «волость», «рубеж» и др. Ливы и древние латыши заимствовали у русских денежную систему и систему мер. Из Древней Руси в Латвию пришло христианство и стала распространяться письменность.
Ученые полагают, что на территории Латвии уже в первой половине I тысячелетия н. э. существовали примитивные знаки, необходимые для меновой торговли, календаря, магии и т. п., т. е. применялись элементы примитивного письма. Очевидна связь таких знаков с орнаментом: не случайно в латышском языке слово «писать» является синонимом слова «украшать». Отдельные элементы орнамента, весьма развитого на территории Латвии, могли сочетаться с древними записями. Установлено, что различные знаки, имевшие магическое значение, были хорошо известны латышскому населению еще в IX в. В Риге археологи обнаружили посуду XII в. и другие предметы с особыми знаками. Однако в то время, когда Западная Европа уже имела развитую латинскую письменность, а латгалы в Восточной Латвии были тесно связаны со славянской письменностью — кириллицей, местное примитивное письмо распространения не получило [8, 20].
Процессы развития производительных сил и материальной и духовной культуры Латвии оказались заторможенными с вторжением на ее территорию в конце XII в. немецких агрессоров. Археологические, этнографические и другие источники свидетельствуют о том, что у местных племен ко времени прихода завоевателей была развита богатая материальная и духовная культура.
В роли вдохновителя и организатора агрессии выступил глава римско-католической церкви папа Иннокентий III (1198 — 1216). Он объявил крестовый поход против прибалтийских племен и призвал германских феодалов и купцов оказывать всемерную поддержку епископу Альберту, возглавлявшему этот кровавый поход с 1199 г. до своей смерти в 1229 г. Местные племена оказывали захватчикам упорное сопротивление. Совместно с литовцами они в 1236 г. разгромили Орден меченосцев. Но через год был создан новый, Ливонский орден (в составе Тевтонского ордена), который продолжил захватническую агрессию в Прибалтике. Лишь в конце XIII в. (в 1290 г.), после того как все опорные пункты — замки — и большая часть местного населения были уничтожены, захватчикам удалось завершить завоевание территории Латвии. В конце XIII в. на завоеванной территории возникла конфедерация феодальных княжеств, именовавшихся Ливонией [17, 35 — 43].
Крестоносцы «огнем и мечом» внедряли чуждые местному населению религию и образ жизни. На несколько столетий задержалось развитие латышской письменности и культуры в целом. В Прибалтике крестоносцы создали жестокий режим угнетения и порабощения, длившийся многие столетия. Этим событиям яркую характеристику дал К. Маркс. В своих «Хронологических выписках», говоря о народах Восточной Прибалтики, он отметил, что «вследствие соприкосновения с немцами и скандинавами они получили язву христианства (christenseuche), крепостное право, и их стали истреблять» [1, 340].
В ходе Ливонской войны (1558 — 1583) Ливония с ее орденским и епископскими государствами была уничтожена. Большая ее часть — Лифляндия перешла под власть Польско-Литовского государства, а образовавшееся в западной и южной части нынешней Латвийской ССР Курляндское герцогство оказалось в зависимости от него. Во время польско-шведской войны (1600 — 1629) Рига была занята шведскими войсками (в 1621 г.). Согласно перемирию, заключенному в 1629 г., основная часть Лифляндии стала колонией Швеции, а юго-восточная ее часть, получившая название Польской Лифляндии (Инфлянтское княжество), осталась во власти Польши. В этот период особенно обострились классовые и национальные противоречия между захватчиками и латышскими крестьянами. Лишь в XVIII в. завершилось объединение отдельных областей Латвии в составе Российской империи. Присоединение Прибалтики к России, завершившееся в конце XVIII в. присоединением Курляндии (1795), сыграло прогрессивную роль в исторических судьбах латышского народа.
С XIII в. на территории Латвии одновременно развивались две культуры — латышская и немецкая, которые по своей сущности противостояли друг другу. Латышский народ, лишенный возможности получить даже самое элементарное образование, в течение многих веков продолжал придерживаться своих старинных обычаев и традиций. Господствовавшие в Прибалтике немецкие феодалы всячески ограничивали и задерживали развитие латышской культуры. Взаимному влиянию двух культур — латышской и немецкой — препятствовало бесправие крепостных крестьян, лишение латышей образования и возможности культурного роста, экономического сотрудничества с другими народами и, конечно, враждебность двух этносов в исторически сложившейся ситуации. Латыши видели в немецких феодалах своих поработителей, а немцы считали латышей рабами, не имевшими права на образование и культурное развитие. Обмен культурными ценностями, безусловно, затруднялся и языковым барьером.
Немцы на территории Латвии вместе с католичеством распространяли латынь и средненемецкий язык. На этих языках писались первые книги. Первые памятники средневековой культуры Латвии — хроники, которые относятся к XIII в. Старейшая из них — Ливонская хроника Генриха. Она охватывает период с 80-х гг. XII в. до 1227 г. Хроника написана на латыни, ее автор — проповедник в Имерской латышской общине, а затем в Эстонии; упоминается он в некоторых источниках и как Генрих Латыш. В тридцати главах хроники подробно рассказывается о местных племенах, их жизни, обычаях, вождях, о битвах крестоносцев с латышами и эстонцами. Генрих сообщает, что немецкие рыцари захватили страну с развитым сельским хозяйством, с крепкими деревянными замками, страну, где строятся корабли, существует меновая и денежная торговля с Русью, со скандинавами и другими народами Прибалтики. Генрих, как приверженец христианства, хладнокровно повествует об уничтожении тысяч язычников, о том, как сжигали их жилища, угоняли в рабство их жен и детей [3].
Истребление и подчинение местного населения превозносилось как подвиг, угодный богу, и в другой древнейшей хронике [9]. В средневековье это сочинение использовалось для идеологического воспитания новой смены рыцарей — членов Ливонского ордена. Для обеих хроник XIII в. характерна одна и та же цель — оправдание и прославление кровавой немецкой колонизации Восточной Прибалтики. Эти хроники, говоря словами германского историка Э. Бертоуха, «преподносят нам длинный ряд мерзких дел, совершенных как будто по необходимости в интересах христианства, а в действительности для корыстных целей шайкой необузданных бродяг, которым было чуждо всякое рыцарство, единственным стремлением которых была дикая рубка, погоня за богатством, любимым занятием — грабеж, убийство и поджоги» [10, 53].
В монастырях, особенно доминиканских, занимались и литературным трудом — писались сочинения в духе схоластической философии, в поэтическую форму перелагались отдельные фрагменты Библии (главным образом, для учебных целей).
Первые печатные книги в Риге появились в конце XV в. [8, 27]. Они привозились из Германии, Голландии, Италии, Франции и Англии. Книги знакомили верхушку местного населения с западноевропейской культурой, как схоластического, так и гуманистического направления. Самым популярным из европейских гуманистов в Латвии был Эразм Роттердамский [13, 28 — 81].
Немецкие, польские и шведские феодалы приглашали в свои владения мас-теров-ремесленников, музыкантов, архитекторов, скульпторов и учителей из других стран Европы. Юноши из господствующей верхушки Прибалтики обучались в университетах Европы. Некоторые из них сумели оказать заметное воздействие на культурную жизнь страны. Под влиянием их деятельности на территории Латвии распространялись идеи гуманизма, развивались наука, архитектура, изобразительное искусство, были заложены основы сценического искусства. Создавались типографии, и ширилось книгоиздательское дело. В 1524 г. было положено начало библиотеке Риги, ныне фундаментальной библиотеке Академии наук Латвийской ССР, одной из старейших в Европе.
Памятники письменности на латышском языке появились лишь в период Реформации, в первой половине XVI в. Это были молитвы, проповеди, религиозные песни и другие богословские и назидательные тексты, написанные на «неправильном» латышском языке. Первой латышской книгой считают католический Катехизис, который был в 1585 г. напечатан иезуитами в Вильнюсе в количестве тысячи экземпляров. Он был переведен с немецкого на среднелатышский диалект, который позднее лег в основу латышского литературного языка. Второй латышской книгой стал изданный в 1586 г. в Кенигсберге лютеранский Катехизис «Enchiridion». В 1587 г. здесь же были напечатаны еще две лютеранские книги — Псалтырь и Евангелие. Эти первые печатные книги духовного содержания долгие годы использовались для учебных целей — обучения детей грамоте и церковным песнопениям.
Наряду с религиозной литературой в XVII в. стали появляться книги учебные — грамматики, песенники, словари и первые азбуки. Наиболее значительные труды этого периода — латышской перевод Библии, сделанный немецким пастором Э. Глюком, и его же латышская азбука. Перевод Библии — крупнейший литературный памятник XVII в., представляющий ценный материал для изучения истории латышского языка. В конце XVII в. возросло внимание к вопросам просвещения, в частности к школьному обучению.
В то же время продолжала развиваться на основе культурного наследия местных народностей самобытная латышская культура. Латышский народ, на протяжении многих столетий находившийся в порабощении у немецких захватчиков, создавал оригинальный фольклор и прикладное искусство. Важной составной частью народной культуры была народная педагогическая мудрость. I.
I. ШКОЛА В ЛАТВИИ В XIII- XVII ВВ.
Первые учебные заведения в Латвии были основаны в начале XIII в: в 1211 г. в Риге при Домском соборе учрежден соборный капитул и при нем Домская школа. На базе этой школы в 1631 г. возникла Рижская академическая гимназия [2, 1 — 2]. В 1226 г. в Риге была основана еще одна школа — при церкви св. Георгия. Эти учебные заведения готовили церковных служителей. До середины XVI в. занятия в школах велись на латинском языке. Изучались богословие, грамматика, риторика, а также другие учебные предметы, характерные для средневековой школы.
Рижские бюргеры только в 1353 г. смогли добиться создания школы, не подчинявшейся архиепископу. Это была Петровская школа, которая готовила детей бюргеров к службе в магистрате. В дальнейшем для немецких купцов, бюргеров и ремесленников открылись школы с обучением на немецком языке. В них учили чтению, арифметике, молитвам и пению псалмов. В основном учащихся готовили к торговой и предпринимательской деятельности.
Завоеватели не заботились об организации школ для порабощенного народа. Но с целью распространения католицизма немецкое духовенство иногда посылало в Германию детей местных жителей для обучения их церковному служению и пению. Так, в Ливонской хронике есть упоминание о том, что в 1200 г. 30 латышских мальчиков-заложников были отправлены в Германию для обучения.
Возникновение первых школ для латышей связано с распространенем ре-формационного движения в Европе. Одним из центров его была Рига. Стремясь к усилению своего влияния на народные массы, протестантское духовенство поставило вопрос о создании в Ливонии крестьянских школ. В 1558 г. пастор Цесиского прихода Г. Меллер в своем заявлении на имя магистра Ливонского ордена В. Фюрстенберга писал, что пороки, укоренившиеся среди крестьян, могут быть искоренены только лишь при помощи школ. Магистр ввел ежегодный налог с крестьян, который назывался «школьные деньги». Однако эти средства были израсходованы не по назначению, их истратили на военные нужды, а строительство школ так и не началось [15, 32].
Первая школа для латышских детей в Риге была основана сначала при церкви св. Якова, а затем при церкви св. Иоанна (конец XVI в.). В ней учили детей петь псалмы и читать молитвенник лютеранского вероисповедания. В 1632 г. при церкви св. Гертруды была открыта вторая школа для латышей. Известно, что учителем в этой школе был кюстер Мартын Бакит [21, 46]. Большое значение для латышей имело то обстоятельство, что лютеранство требовало вести богослужение на родном языке. Необходимо было научить детей читать на нем духовные песни и молитвы [24].
После признания политической зависимости Риги от Польского государства (1581) рижская ратуша вынуждена была разрешить деятельность иезуитского ордена, который стремился восстановить пошатнувшиеся позиции католической церкви, используя для этого и школьное обучение. В 1582 г. иезуиты учредили в Риге школу, куда принимались и дети лютеран. Учителя этой школы владели латышским языком, который они преподавали учащимся. Есть свидетельство о том, что в конце XVI — начале XVII в. существовала подобная школа и в Цесисе (бывш. Венден) [14, 12 — 13]. Католическая контрреформация, возглавляемая иезуитами, давала себя знать и в Курляндском герцогстве, где во второй половине XVI в. для детей католиков были учреждены три школы.
Рижская Домская школа в период Реформации (1528) перешла в ведение городского магистрата и в дальнейшем стала протестантским средним учебным заведением. В конце XVI в. эта школа была преобразована в пятиклассное училище, которое с 1631 г. действовало как академическая гимназия. Большое внимание в Рижской академической Домской гимназии уделялось преподаванию богословия и философских наук, а в 1640 г. здесь была учреждена кафедра юриспруденции. В академической гимназии для теологов и юристов преподавались и некоторые дисциплины высших учебных заведений. Академическая гимназия просуществовала до 1657 г., когда во время чумы умерло много гимназистов и профессоров. Городская казна далее оказалась не в состоянии содержать это учебное заведение [2, 1 — 2].
В деятельности Рижской академической гимназии можно проследить определенные зачатки высшей школы в Латвии. Начиная с 1632 г. здесь создавались на латинском языке научные сочинения о явлениях природы, проблемах физики, астрономии и другие. Наиболее популярной среди этих работ была энциклопедия С. Губерта «Экономическая стратагема» (1645), которую спустя сто лет на русский язык перевел М. В. Ломоносов [217, 18 — 19].
В 1675 г. по указанию шведского короля Карла XI в Риге был открыт лицей, задачей которого являлась подготовка лютеранских священнослужителей высшего ранга. В лицее преподавались древние языки, богословие, логика, риторика, история, география и другие учебные предметы.
Как лицей, так и академическая Домская гимназия были недоступны представителям латышского населения Риги, заниматься в них могли лишь учащиеся с хорошей предварительной подготовкой. Однако следует отметить, что деятельность этих учебных заведений оказала незначительное влияние на местную культурную жизнь.
В 1681 г. городской совет Риги дал согласие на открытие латышских школ, установив при этом высокую плату за обучение, что сделало эти школы недоступными для большинства детей горожан. На содержание школы отпускались мизерные средства; помещения для школ были непригодными, учителя получали скудное жалованье. Однако ревизия рижского совета в 1684 г. констатировала, что ученики в школе при церкви св. Иоанна хорошо обучены. Сведения об уроках в этой школе имеются от 1689 г., а об остальных рижских школах — от 1691 г. [24, 15].
По инициативе латышских рыбаков и ремесленников во второй половине XVI в. в предместьях и на окраинах Риги (в восточном предместье — Торнякалнсе, Ильгуциемее, Агенскалнсе и др.) стали открываться латышские школы. К концу века действовали 8 таких школ. Самое большое количество детей (в 1681 г. — 70, в 1692 г. — свыше 100) посещало Ильгуциемскую школу, которая находилась в районе рыбацких поселений. Но учебная работа в этих школах была поставлена плохо, о подготовке учителей для школ никто не заботился, поэтому количество учащихся в них стало сокращаться. Наиболее состоятельные латыши посылали своих детей в немецкие школы, куда их принимали в целях онемечивания.
Наряду с официально разрешенными школами в Латвии существовали также «домашние» школы, в которых наиболее грамотные люди на свой страх и риск обучали маленьких детей.
В 1650 г. Лифляндская высшая консистория ввела в каждой церкви должность кюстера (помощника пастора, церковного служителя, дьяка для выполнения ежедневных церковных обрядов). Некоторые из них посещали крестьянские дома и обучали детей и взрослых основам христианской веры [7, 280]. Таких кюстеров-учителей называли катехетами, так как они применяли для обучения катехизацию, т. е. метод вопросов и ответов. Согласно распространенному на Лифляндскую губернию новому церковному уложению (1693), от учителя требовалось умение читать, петь, писать и обучать этому искусству других. Подобных учителей было мало, поэтому в большинстве случаев ими работали люди, занимавшие должность церковных кюстеров.
Развитие сети школ активизировалось во второй половине XVII в. под влиянием шведского правительства. Руководствуясь целью добиться упрочения шведского господства в Лифляндии, а также усилить влияние лютеранской церкви, шведский генерал-губернатор Гастфер (F. Hastfer) потребовал от лифляндского ландтага в 1687 г., чтобы во всех приходах были учреждены школы. Цель этих школ — укрепление позиций лютеранской церкви и борьба с пережитками язычества, широко распространенного среди латышских крестьян. Ландтаг формально принял это требование, но не торопился с его выполнением. С 1694 г. по распоряжению шведского короля при каждой церкви учреждалась приходская школа. Постепенно к содержанию школ стали привлекаться крестьяне, которые платили учителям за их труд зерном, а иногда и деньгами [22, 16].
Первые сельские школы в Лифляндии были основаны в Матишском, Рубенском, Лиелсалацком и Виенталвском приходах. Особенно известной стала школа в местечке Алуксне (бывш. Мариенбург), а также Зелтиньская и Апу-калнская приходские школы.
В конце XVII в. в Лифляндии насчитывалось несколько десятков приходских школ. Их задачей являлось обучение детей чтению и молитвам на латышском языке, но так, «чтобы не отрывать их от крестьянской работы». Под школьные помещения отводились брошенные крестьянские дворы, риги и корчмы. Количество учащихся в них было незначительным: в Лимбажи — 12, в Умурге — 11, в 1
1 По исследованию А. Салминя, в 80-х гг. XVII в. было 40, а в конце столетия — 68 приходских школ. См.: [24, 23].
Рубене — 8, в Ледурге — 3, в Сигулде — 10, в Ропажи — 10, в Кримулде — 11, в Аджи — 13, в Кокнесе — 24 ученика [19, 43].
В Курляндском герцогстве, находившемся по властью польско-литовского государства, развитие школ осуществлялось с большими трудностями. Созванный в 1567 г. ландтаг принял решение об учреждении школ, однако немецкие помещики не собирались его исполнять. На бумаге остались и другие решения курляндского ландтага об учреждении школ для крестьян. К этому времени в Курляндии уже существовало несколько школ, например в Лиепае (Либава) и Гробине. Здесь обучали чтению и письму на немецком и латинском языках. Но эти учебные заведения были доступны лишь для помещиков и состоятельных горожан.
Первое упоминание о сельской школе в Курляндии содержится в завещании пилтенского епископа Магнуса (1570), согласно которому селение Пенкши «на вечные времена» передавалось церкви для содержания школы [19, 36]. Среди сельских приходов выделялся Добельский, в котором школа была основана не позднее 1637 г. В нее принимали детей местных немцев, а также латышских крестьян, обучали их чтению и письму. Здесь существовали и домашние школы.
В 70 — 80-е гг. XVII в. активную деятельность в Курляндии развернули иезуиты, пользовавшиеся поддержкой польского правительства. При костелах они открыли несколько школ, куда принимали и детей латышей. Задача этих школ — подготовка проповедников католицизма.
Из городских школ в Курляндии наиболее известной была школа при церкви св. Анны в столице герцогства Елгаве (бывш. Митава), основанная в 1633 г. Население прихода этой церкви составляли крестьяне герцогских и частновладельческих имений, а также горожане — латыши и немцы. Дети прихожан совместно посещали одну школу, обучение происходило на немецком языке, а учителем был церковный органист. В Лиепае существовала школа для латышей. Обучение здесь велось на латышском языке, основной контингент учащихся составляли дети портовых рабочих [23, 40].
В Инфлянтах, польской части Лифляндии, возникновение церковных школ относится к XVII в., а крестьянских школ — только к XIX в. Старейшим учебным заведением в этой части Латвии была иезуитская коллегия в Даугавпилсе (бывш. Динабург), основанная в начале 30-х гг. XVII в.1. Учебный план школы включал древние и новые языки, богословие, историю, риторику, географию, математику и другие предметы [12].
Первоначально обучение в латышских народных школах ограничивалось разучиванием церковных песнопений, но постепенно содержание обучения расширялось. В начале XVII в. в латышских школах преподавали чтение, а во второй половине XVII в. учили письму и арифметике. Однако часть детей по-прежнему изучали только молитвы и псалмы, так как за обучение письму и арифметике ученики должны были вносить дополнительную плату.
Первые учебные пособия были составлены немецкими пасторами, как отмечалось выше, на искаженном латышском языке. Такие пособия не могли способствовать развитию родного литературного языка и правильной речи учащихся. В 1682 г. был опубликован «Малый катехизис» Мартина Лютера, переведенный на латышский язык пастором Г. Дреселем под названием «Священное учение ребенка».
Учебными книгами в полном смысле этого слова были латышские буквари, начало издания которых относится к 80 — 90-м гг. XVII в. Из числа этих буква- 1
1 Иезуитские коллегии на территории Латвии являлись эвеном общей системы школ, созданной иезуитами литовской провинции ордена. Подробнее см. в главе, посвященной образованию в Литве.
рей сохранилось лишь несколько экземпляров. Их содержание и методический аппарат свидетельствуют о том, что составители в первую очередь стремились добиться, чтобы учащиеся научились читать молитвы и псалмы; задача научить письму не ставилась. Обучение чтению проходило в течение 2 — 3 лет [20, 7 — 8]. Все латышские буквари основывались исключительно на катехизисе, в них ис-. пользовался буквослагательный метод. Во многих крестьянских семьях дети и взрослые путем буквосложения читали Псалтырь, молитвенники и другие издания религиозного содержания. Буквари, издававшиеся небольшими тиражами, были дорогостоящи и доступны лишь немногим.
Содержание и методы обучения
Представление о содержании и методах обучения в школах для местного населениия в конце XVII в. дают некоторые документы. В своем отчете, представленном консистории 14 ноября 1689 г., учитель Ильгу-циемской школы X. Волденшер сообщал, что школьный день он начинает с общей утренней молитвы, после нее дети поют хором по-латышски, потом то же самое — по-немецки. После пения прорабатывается катехизис на латышском языке. При изучении катехизиса дети стоят. Учитель одну заповедь с разъяснением и вопросами читает несколько раз, а дети прочитанное повторяют хором до тех пор, пока все хорошо не запомнят. Перед изучением следующей заповеди повторяется предыдущая. После занятий по катехизису учитель велит ученикам тихо и прилежно перечитать текст и, если время позволяло, дважды или трижды пересказать прочитанное вслух. Потом ученики твердили наизусть и пели хоралы, несколько куплетов песен на латышском, потом — на немецком языке. После обеденного перерыва занятия начинались с церковных песнопений на латышском и немецком языках, после чего изучался катехизис. Далее учитель около часа занимался с детьми, начавшими обучаться навыкам письма. Другие в это время читали и повторяли катехизис. В конце школьного дня следовали вечерняя молитва и чтение хоралов на немецком и латышском языках.
Ученикам, умевшим читать, по средам необходимо было учить катехизис, по субботам они под руководством учителя пели хоралы, а по воскресеньям читали Евангелие, выучивали наизусть отрывки из него. После окончания обучения ученики экзаменовались в полученных знаниях [26, 375).
Учитель обучал группу учащихся разное о возраста и разной подготовки. Поэтому каждый из учеников практически занимался индивидуально. Учитель коротко объяснял задание, а ученик изучал материал самостоятельно.
В конце XVII в. подготовкой учителей из юношей местного населения занимался немецкий пастор Алуксненского прихода Эрнст Глюк. В 1683 г. он основал по одной приходской школе в Алуксненском, Зелтынском и Апукалнском приходах. Э. Глюк требовал, чтобы от каждого имения в Алуксненской школе обучались по два наиболее способных крестьянских юноши, которых он вместе со своим помощником Загиным обещал в течение года подготовить настолько, чтобы юноши были способны обучать других. Содержание обучения ограничивалось умением читать и знанием молитв. Такая подготовка считалась вполне достаточной. В Алуксненской школе было подготовлено 22 учителя. Это была первая попытка подготовки учителей из среды латышских крестьян [15, 33).
Требование создания школ для местного населения в большинстве случаев не было выполнено. Учителями в основном оставались кюстеры, находившиеся в полной зависимости от духовенства. В Лифляндии и Курляндии было широко распространено домашнее обучение. Духовенство стало поддерживать этот вид обучения, так как он не требовал средств ни на строительство школ, ни на подготовку учителей.
Школ было крайне мало не только для бедноты, их было недостаточно и для молодого поколения господствующих классов. Во многих дворянских семьях и семьях духовенства, особенно в сельской местности, дети основы элементарного образования обычно получали от своих родителей или у пастора местного прихода. Лишь в XVII и XVIII вв. эти функции стали выполнять домашние учителя [16, 19 — 48].
С XV в. часть молодежи привилегированной знати продолжала свое образование в западноевропейских университетах — в Праге, Кельне, Эрфурте, Ростоке, Хейдельберге, Виттенберге, Марбурге, Лейдене, Эрлиндене, Кенигсберге, Йене, Галле. Большинство из них обучались в Ростокском и Пражском университетах. Интересно отметить, что один из прибалтов — Николай Эргимесс в 1390 г. стал ректором Пражского университета [25, 58 — 59].
Некоторые факты подтверждают, что в западноевропейских университетах уже в XVI в. были и юноши латышского происхождения, которые получили высшее образование. Но в дальнейшем они, как правило, теряли связь со своей родиной [11, 35 — 36; 25, 55 — 56].
Первый университет в Лифляндии был основан шведами в 1632 г. в Дерп-те (Тарту). Хотя при открытии университета было объявлено, что он будет доступен всем, однако дети латышей и эстонцев туда попасть не могли: у них не было соответствующего предварительного образования и денег для оплаты обучения. Известен только один латыш — Янис Рейтер, который в 1656 г. окончил университет. Он был священником, врачом, профессором права во Франции. Работая в Латвии, Рейтер защищал интересы крестьян, пытался добиться, чтобы книги издавались на правильном латышском языке. В историю латышской культуры Я. Рейтер вошел как легендарная, чрезвычайно одаренная личность [4, 61 — 62; 18,.381].
Для выходцев из Латвии был доступен и Вильнюсский университет, организационно связанный с иезуитскими коллегиями на территории Латвии.
2. РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ В ЛАТВИИ
Средневековая культура в Латвии не оставила каких-либо трактатов, посвященных теории воспитания и образования, но в ее источниках можно найти некоторые педагогические идеи и суждения.
Передовые идеи западноевропейской педагогики оказывали весьма значительное влияние на педагогическую мысль в Латвии. Влияние гуманизма чувствуется в произведениях немецких писателей и публицистов XVI в. Буркард Вальдис (ок. 1490 — 1556), Альберт Кранц (1450 — 1517), Базилий Плиний (? — 1605) и другие выступали поборниками свободы личности, светской, независимой от церкви культуры и просвещения. В то же время они стояли далеко от нужд народа, а некоторые из них проявляли откровенное презрение к латышскому населению.
Идеологом бюргерской оппозиции против дворянства и духовенства был таллинский лютеранский священник и учитель Балтазар Руссов (ок. 1540 — 1601), который в своих «Хрониках провинции Ливонии» разоблачал ужасы крепостного рабства. Руссов подчеркивал, что в Ливонии процветает излишество, высокомерие и разврат, дурно влияющие на молодое поколение помещиков и господ, губящие духовные силы, способности и таланты. Он советовал создать широкую сеть школ (в том числе и высших), дать молодежи полноценное образование. В духе идеалов гуманизма он верил в большие возможности воспитания, считал, что в каждом сословии
есть одаренные люди, которым присущи серьезные интересы, но окружающая жизнь не дает им возможности применить свой талант.
Дети эстонских и латышских крепостных крестьян должны, по мнению Руссова, учить по воскресным дням катехизис и овладевать полезными для жизни знаниями. Руссов называл крепостных «непонятливыми туземцами», не понимая, что в их отсталости повинно то самое крепостничество, которое он и критиковал.
Далек был от идеалов гуманизма Паул Эй н горн (ок. 1590 — 1655), хотя он и ссылался в своих работах на выдающихся гуманистов X. Л. Вивеса и Э. Роттердамского. В вышедшей в 1649 г. книге «Historia bettica» он подчеркивал, что порабощение латышей немцами — явление закономерное. Но, характеризуя истинное положение крепостных крестьян, он не мог не заметить, как беспощадно выжимают из них пот и кровь, с одобрением отзывался о мастерстве и сообразительности крепостных. Эйнгорн не был согласен с теми, кто утверждал, что дети латышей не могут обучаться в школе. Некоторые, писал он, придерживаясь принципов истинного христианства, считают необходимым предоставить латышам школы, где они смогут обучаться чтению и письму, как и немцы. Другие полагают, что латышей необходимо держать в еще большей строгости, ибо если они получат знания, то начнут читать хроники и историю своей страны и убедятся, что они были первоначальными обладателями этих земель, и тогда начнутся восстания и попытки свергнуть крепостничество. Сам же Эйнгорн придерживался мнения, что латышей надо держать в послушании при помощи религиозного просвещения и образование их следует ограничить изучением катехизиса и церковного пения. Эта «идея» стала ведущей во всей последующей школьной политике остзейцев.
Немецкий пастор, проповедовавший и писавший на латышском языке, Георг Манцель (1593 — 1654) стремился «утолить духовную жажду» латышского народа только при помощи религиозного воспитания. Для этих целей он составлял тексты духовного содержания, использовавшиеся для домашнего чтения. Роль школы он расценивал только с позиции церкви. Г. Манцель был одним из первых, кто начал исследования в области латышского языка; ему принадлежит заслуга в создании педагогической терминологии, таких, например, понятий, как школа, школьник, учитель, учение.
В конце XVII в. в Прибалтике стали распространяться идеи Я. А. Комен-ского. Это было связано с деятельностью Эрнста Глюка (1652 — 1705). Получив образование в Германии, Глюк в 1673 г. приехал в Лифляндию и был привлечен к переводу Библии на латышский язык. В 1683 — 1702 гг. он работал пастором в Алуксне, где организовал первые латышские школы. О целях, которые преследовал Э. Глюк, открывая школы для латышских крестьянских детей, он писал: «Как печально тут обстоит дело с верой не-немцев — это легче оплакивать, нежели описать. Из десятка лишь один знает «Отче наш», а из сотни один — ту малость, которую они изучили из катехизиса. Поэтому церковь и алтарь пустуют... Против этого зла могут помочь только школы» [6, 28].
В отличие от крепостников Э. Глюк верил в возможность просвещения, воспитания и образования широких народных масс. Он стремился создать школы для детей русских и немцев, мечтал организовать латинскую школу в Алуксне. Заслуга Э. Глюка состоит в том, что он впервые начал подготовку учителей из латышских крестьянских юношей для школ Лифляндского края. В это же время Глюк подготовил к изданию труды Я. А. Комен-ского «Orbis sensualium pictus» на.греческом, латинском, немецком и русском языках [6, 28] и «Vestibulum».
Рассматривая школу как могучее средство утверждения благочестия и нравственного самоусовершенствования, Глюк утверждал в ней идеи гуманизма. Он выражал симпатии крепостным крестьянам, верил, что благодаря воспитанию возможно развитие духовных сил и способностей всех детей. Глюк считал, что все дети должны получать элементарное образование на родном языке, независимо от их принадлежности к какой-либо нации и религии. Школу он называл «вратами мудрости», где преподают нужные знания, развивают ум и пробуждают человеческие силы. Глюк подчеркивал, что в детские годы ребенок «изменяется, как воск». Только под руководством учителя воспитанники могут успешно овладевать знаниями. В этот сложный для Латвии период Глюк начал подготовку учителей из среды крестьян. Он был педагогом-оптимистом, высоко оценивал роль школы и учителя в деле воспитания и развития детей. Во всех делях и стремлениях Э. Глюка чувствуется плодотворное влияние педагогических идей Я. А. Коменского1.
3. ЛАТЫШСКАЯ НАРОДНАЯ ПЕДАГОГИКА
Опираясь на фольклорный, этнографический и другой материал, в педагогической мудрости латышского народа можно выделить основные идеи, в духе которых воспитывались подрастающие поколения.
Идеалом трудящихся всегда был человек-труженик. Лишь упорным трудом народ мог обеспечить свое существование, и всякий, кто не участвовал в труде, считался тунеядцем. «Кто хочет есть, тот должен трудиться», «Труд — долг человека», «Труд — основа всех нравов» — таковы латышские народные пословицы. Идея трудолюбия часто выступает в фантастическом, гиперболизированном образе труженика-великана. В радостном, свободном труде побеждаются силы тьмы и зла и утверждаетсявсе доброе, прекрасное, благородное. Слово «работать» в латышском народном фольклоре отождествляется со словом «жить»: «ты жила большую работу», «прожить трудную работу», «работа прожита» [19а]. С трудом связано представление о смысле жизни, чести, справедливости, доброте и красоте. Созидательный труд человека — необходимое условие его духовного роста. «Кто трудится, тот живет», «Труд — здоровье жизни», «Труд — это жизнь», — гласит народная мудрость. Лень, недобросовестное выполнение работы, баловство детей подвергаются осуждению. Исключение делается лишь для подневольного труда на помещичьем поле. Проявляемое там излишнее усердие высмеивается в народных сказках и пословицах.
Особо восхваляется любовь родителей к детям, уважение и любовь детей к родителям. С презрением говорится о детях, не уважающих своих родителей, оплакивается горькая судьба сирот.
Народная мудрость возвеличивает взаимопомощь людей, заботливое отношение к больным и престарелым, солидарность, чуткость, вежливость и бескорыстие.
Наряду с чувством дружбы к другим народам и солидарности людей труда произведения народного творчества отстаивают право на ненависть и презрение к иноземным захватчикам, поработителям и угнетателям, а еще более — к предателям своего народа. Восхваляются отвага, смелость и мужество.
1 События Северной войны приводят Глюка в Москву, где ему по указанию царя Петра I в 1703 г. поручается организация учебных заведений. Он особенно заботится об издании трудов Я. А. Коменского. Приемная дочь Э. Глюка Марта Скавронская становится женой Петра I, а после его смерти — царицей Екатериной I.
Чтобы жить содержательной жизнью, человеку необходимы ум, знания, умения, глубокое понимание окружающего мира. Существенный признак ума — любознательность, стремление к учению, овладению опытом старших поколений.
«Человек должен учиться до гробовой доски», — говорит народная мудрость. Чтобы бороться с хищными зверями, подчинять силы природы, выполнять тяжелую крестьянскую работу и противостоять злу, кроме мудрости надо иметь крепкое здоровье. Народ считает необходимым воспитывать таких людей, которые «грудью сдвигают горы, на руках несут дубы».
Очень много внимания в народной педагогической мудрости уделяется воспитанию любви к прекрасному, умению видеть, что «листья ольхи серебряные, а крылья птиц золотистые», и умению самому творить красоту. Красота юности приобретает истинную ценность тогда, когда она сочетается с нравственной красотой.
Основным средством народного трудового воспитания является своевременное включение детей в производительный труд. Ни словесные уговоры, ни даже личный пример не воспитывают трудолюбия столь успешно, как непосредственное участие в труде. В труде приобретаются умения и навыки, оказывается помощь семье. В описании латышских народных обычаев можно проследить определенную последовательность привлечения детей и подростков к выполнению трудовых заданий: в возрасте от 5 до 8 лет дети пасут домашнюю птицу, свиней и овец, с 9 до 12 — коров. Подростки старше 12 — 14 лет трудятся уже наравне со взрослыми [5]. Большое значение в народном трудовом воспитании имеет родительский пример. Народная мудрость учит, что подготовка детей к труду успешнее там, где они добровольно, по примеру взрослых приступают к делу и выполняют без принуждения.
Своеобразным фактором трудового воспитания являлось участие детей в коллективном труде взрослых. Если в одиночку серьезный труд кажется ребенку трудным и скучным, то рядом со сверстниками и взрослыми этот же труд становится приятным и увлекательным: «На миру работа спорится».
Интересной формой народного трудового воспитания подростков и юношества были посиделки — своего рода «крестьянская школа труда». Эта традиция известна также у древних пруссов, литовцев, славян и эстонцев. На посиделках старшее поколение обучало молодежь различным ремеслам. Здесь вместе пели, рассказывали сказки, отгадывали загадки, высмеивали неповоротливость и медлительность.
Народная педагогика своими средствами помогла латышскому народу сохранить и развить свой родной язык, традиции национальной культуры и искусства. В течение долгих столетий мрачного крепостного права народная педагогическая мудрость стала важным идейным оружием в борьбе против поработителей латышского народа, против их идеологии и насаждавшейся ими чуждой культуры.
Глава VI ПРОСВЕЩЕНИЕ, ШКОЛА И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ В ЭСТОНИИ
I. ПРОСВЕЩЕНИЕ И ШКОЛА В ЭСТОНИИ В XIII — XV ВВ.
Начиная с середины III тысячелетия до н. э. территорию нынешней Эстонии населяли прибалтийско-финские племена — предки эстонцев, которые занимались охотой, рыболовством и скотоводством. К I тысячелетию н. э. основной сферой деятельности стало земледелие. К XIII в. начали формироваться феодальные отношения, которые в общих чертах сохранялись до конца XVIII в. [4, 34, 40; 44, 419].
Торговые (а через их посредство и культурные) связи эстов с развитыми соседями — Скандинавией и Русью — были весьма оживленными. К X — XI вв. относятся первые непосредственные контакты с Русским раннефеодальным государством. Юго-Восточная Эстония в XI в. недолго входила в состав Киевского княжества, в XII в. — в сферу влияния Новгорода. Восточные контакты оставили след в эстонском языке, например слова «raamat» (книга — от русского слова «грамота»), «rist» (крест). Распространению христианства среди эстов способствовали и морские контакты со Скандинавией. Из Скандинавии и Северной Германии исходило насильственное крещение эстов, ставшее предлогом для захвата торговых путей, ведших на Русь.
Захваченная в XIII в. территория Прибалтики (Ливония) стала ареной борьбы различных враждовавших между собой феодальных государств, наиболее сильным из которых был Ливонский орден. Этому сопутствовало онемечивание зажиточной и влиятельной части крестьянства.
Начавшийся в XIV и углубившийся в XV в. кризис католицизма заставил князей церкви принять выдвинутые «еретиками» (гуситы и др.) требования отправления церковной службы на родном языке и воспитания народа в духе строгого соблюдения католических догм. Появились первые распоряжения об «обучении» ливонского крестьянства. В 1422 г. ливонский ландтаг постановил, что священники обязаны обучать коренное население молитвам, символу веры и десяти заповедям, исповедовать его и причащать. Под угрозой жестокого наказания от местного населения требовали крестить детей и посещать церковь по воскресеньям и большим церковным праздникам. В 1428 г. провинциальный консилиум решил, что на должность священника можно принимать лишь тех, кто владеет языком коренного населения, не владевшие же языком народа священники должны были брать себе в помощь знавшего язык капеллана [22, 52, 55]. Большинство священников все же языка коренного населения так и не освоили; содержание и смысл богослужений на латинском языке оставались крестьянству чуждыми.
Первые домские (соборные) школы возникли в центрах епископатов: в Таллине (1319), Тарту (1299) и Старом Пярну (1251), Хаапсалу (1320) [31, 133; 23, 2 — 4; 15, 216; 17,61]. Наряду с подготовкой будущих священников домские школы должны были давать начальное образование детям горожан (преимущественно немцев). Подробных данных об учебной программе дом-ских школ не сохранилось. Учение ограничивалось приобретением некоторых навыков чтения на латинском, элементарных знаний по арифметике и усвоением церковных обрядов [17, 59]. Учащиеся домских школ составляли большую часть певчих в хорах кафедральных соборов.
Монастыри церковных орденов (к концу первой четверти XVI в. на территории Эстонии их насчитывалось И) давали образование преимущественно членам ордена и другим обитателям монастырей; в числе тех и других были эстонцы. Только доминиканцы допускали в школу своего монастыря в Таллине светских лиц; их обучали светские учителя. Вероятно, именно конкуренцией со стороны доминиканцев объясняется привилегия, дарованная датским королем Эриком VI Менведом Таллинскому домскому капитулу в 1319 г. и предписывавшая горожанам посылать своих детей на учебу только в домскую школу. В 1365 г. домский капитул добился перевода всех светских учеников доминиканцев в домскую школу, и доминиканцы обязались впредь светских лиц не обучать. Однако в 1421 г. по этому вопросу вновь разгорается конфликт, дошедший до папы римского. В результате доминиканцам пришлось закрыть школу для светских детей [23, 6, 8 — 20].
Доминиканцы, основной задачей которых была миссионерская деятельность среди покоренного коренного населения и борьба с ересью, давали членам своего ордена довольно хорошее образование. Принятие в орден предусматривало знание латыни и основ вероучения. Послушники должны были пройти годичный курс для закрепления прежних знаний и трехлетний курс теологии. Кандидаты на руководящие посты в ордене и учителя (лекторы) должны были пройти шестилетний курс философии и трехлетний курс «свободных искусств», а затем так называемое общее обучение в одном из университетов. Так, лектор Таллинского доминиканского конвента Маури-циус в 1268 — 1270 гг. учился в Кельне у выдающегося лидера тогдашней схоластической мысли Альберта Великого и затем еще год совершенствовался в Париже (17, 41 — 42].
Бюргерство не удовлетворяла латинская учебная программа соборных школ. Ремесленникам и мелким торговцам требовались школы, в которых обучали бы чтению, письму и счету на родном (т. е. немецком) языке. Уже в 1372 и 1413 гг. появляются сведения о том, что магистрат Таллина пытается основать собственную школу, но домскому капитулу удалось воспрепятствовать этому. Только в 1424 г. магистрат добился от папы Мартина V буллы, дозволявшей основать начальную школу при одной из городских церквей. В 1428 г. папа вновь подтвердил разрешение на открытие школы. Она начала работать при церкви Олевисте.
Известно также, что существовала начальная школа в Нарве, в которой в 1501 г. преподавал городской писарь [40, 304].
Начатки профессионального образования формировались в рамках цехов. Низкооплачиваемые тяжелые профессии (извозчики, носильщики и т. д.) были уделом эстонцев, шведов и финнов. В простейших ремесленных профессиях мастером можно было стать после годичного обучения в качестве подмастерья или слуги. Обучение сложным ремесленным профессиям начиналось с ученичества, затем следовали годы работы в подмастерьях, сначала в родном городе, потом у какого-нибудь мастера на чужбине, после этого — подготовка «шедевра» и вступление в цех [30, 1028 — 1029]. Подобный порядок профессиональной подготовки оставался в силе до конца эпохи феодализма.
Одним из главных источников доходов городов Эстонии была транзитная торговля между Русью и Западной Европой. Таллин, Тарту, Вильянди и Пярну входили в Ганзейский союз. Чтобы приобрести знания и навыки, необходимые для торговой деятельности, поступали в приказчики к богатому купцу. Знание языков, необходимое для международной торговли, получали во время длительных зарубежных торговых поездок.
Сохранилось очень мало сведений об учебных книгах Эстонии. Известно, что для изучения латыни использовались элементарная «Грамматика» Элия Доната и ее переработки. «По Донату» в городских школах Эстонии латынь изучали вплоть до XVII в. Использовали также распространенный учебник Александра де Вилла Деи «Поучение мальчикам» («Doctrinale puerorum»), дававший нормы средневековой так называемой «вульгарной» латыни. Рукописный фрагмент этой книги XIV в. был найден и в Таллине.
Через монастырские библиотеки дошли до Эстонии и отзвуки схоластической и раннесхоластической теологически-философской мысли Западной Европы.
Для священников и купцов составлялись словари и разговорники. Странствующие проповедники (доминиканцы и францисканцы), а также ксендзы нуждались в текстах богослужений и проповедей на эстонском языке. Домини-
канцы составляли латино-эстонские словари и учебные тексты для изучения эстонского языка [35, 19 — 20). Для купцов составлялись словари русского языка. Первый известный в Эстонии немецко-русский словарь (конец XV в.) нечто среднее между учебником и словарем-справочником (исследователям он известен по рукописи 1546 г.). Словарь и 42 текста бесед «Русской книги» («Ein Russisch Buch») имели преимущественно торговое содержание. В разговорной части наряду с названиями товаров (напитков, хозяйственных и письменных принадлежностей, одежды и тканей) и мер приводились также названия танцев и песен, пословицы и поговорки [14].
На рубеже XV — XVI вв. через посредство отдельных высокопоставленных священнослужителей, получивших образование в Западной Европе, в Эстонию проникают идеи гуманизма. Известны попытки рижского архиепископа И. Линде, сааре-ляэнских епископов Иоанна III Оргаса и Иоанна IV Кювеля основать на территории Эстонии в первой четверти XVI в. школы, но они остались только попытками.
2. ШКОЛА В ЭСТОНИИ В XVI в.
Идеи Реформации достаточно быстро достигли Прибалтики. В 1523 — 1524 гг. началось чтение лютеранских проповедей в городах Эстонии. Лютеранство распространилось прежде всего среди горожан. Веру крестьян определял помещик, на земле которого они жили. Целью Мартина Лютера и его последователей было вовлечение широких народных масс в духовную жизнь на родном языке. Чтобы читать Библию и другую религиозную литературу, народ должен был овладеть элементарными знаниями. В странах, принявших лютеранство, в том числе и в Эстонии, заметно расширялся круг лиц, получавших образование.
По примеру Германии в городах Эстонии сформировались два вида учебных заведений: немецкая школа (или «детская») и латинская школа. Немецкая школа давала начальное образование на родном языке — чтение, письмо, счет, вероучение и церковные псалмы. Этим ограничивалось образование подавляющей части бюргеров-ремесленников. В крупнейших городах, где число лиц, нуждавшихся в образовании, превышало возможности школы, с разрешения магистратов открывались так называемые вспомогательные школы. Люди победнее отправляли своих детей учиться в частные школы, работавшие без официального разрешения, — их называли «школы на углу».
Наиболее обеспеченная часть бюргерства отдавала своих детей в латинские школы, в которых помимо вероучения и латыни преподавались основы «свободных искусств». По проекту основоположника лютеранской школьной системы Ф. Меланхтона, латинская школа должна была быть трехклассной: во II классе в учебную программу включалась музыка, в III — диалектика и риторика. Желающие поступить в университет должны были обучаться в высшей школе (прототип поздней гимназии), где к углубленному изучению пройденных ранее предметов добавлялись математика и греческий язык. Проект Ф. Меланхтона был принят за основу устройства городских школ в Эстонии. Однако нередко в рамках одной школы объединялись различные типы школ, что требовало соответствующей переработки учебных программ. Различия между типами и ступенями школ сложились в Эстонии лишь в XVII — XVIII вв.
Для обучения лютеранских священнослужителей и чиновников нужны были латинские и высшие школы. В 1527 г. в Пярну на заседании парламента городов Ливонии бургомистр Риги отметил, что в Ливонии не хватает образованных людей, поэтому в Риге, Таллине и Тарту следует открыть школы с преподаванием древних языков. Представители Таллина и Тарту поддержали рижанина. В 1528 г. городская школа в Таллине была реорганизована в трехклассную латинскую (тривиальную) школу. Первые ее ректоры И. Вальтер (1528 — 1531) и X. Гронау (1532 — 1543) получили образование в Виттенберге — центре Реформации; Гронау прибыл на ректорскую должность с рекомендательными письмами от М. Лютера и Ф. Меланхтона [22, 681, 687 — 689].
Таллинская «тривиальная» школа оставалась трехклассной до конца XVI в. В основу учебной работы была положена программа, разработанная северогерманским реформатором И. Бугенхагеном для пятиклассной латинской школы [1, 8 — 9]. Подробные сведения о преподавании в этой школе дает отчет ректора М. Лео за 1546 г. [38, 1, 5]. В школе (ректор именовал ее гимназией) занятия начинались с пения псалмов и общей молитвы, чтения десяти заповедей и Аугсбургского символа веры; важнейшие молитвы и религиозные обряды изучались дважды в течение дня; занятия завершались совместным пением псалмов. В низшем (III) классе некоторые ученики занимались на латыни, большинство же — на немецком языке. Учащиеся приобретали навыки чтения и письма, разучивали катехизис. Во II и I классах основным предметом была латынь. Во II классе ее изучали преимущественно по учебнику Доната и морализующим дистихам «Катона». В I классе использовалась и грамматика Меланхтона. Словарный запас пополнялся чтением басен Эзопа. Морально-нравственные положения черпались из «Бесед» Эразма Роттердамского. Христианскую мораль изучали по сборнику «Всеобщих истин» («Locos communes») Л. Корвинуса, у которого в свое время учился сам ректор. По субботам прорабатывали избранные места из Евангелия и Посланий. Для I и II классов проводился совместный урок пения, на котором давались начала теории музыки. Очевидно, успевавшие ученики изучали произведения известнейших античных авторов. Обучали ли счету (а если обучали, то как), неизвестно.
Тартуская «тривиальная» школа была также трехклассной (по данным 1550 — 1554 гг.). В 1553 г. магистрат разрешил открыть вспомогательную школу. Во избежание конкуренции с «тривиальной» школой в ней запрещалось обучать детей младше 10 лет и преподавать латынь [18, 122; 41, 57].
В лютеранских школах, основанных в других городах — Пярну, Пайде, Нарве и Вильянди, учебный процесс оставался на уровне немецкой школы. Католические домские школы продолжали существовать до середины XVI в.
• Открывались и женские школы. По инициативе магистрата Таллина женский монастырь св. Михаила в 1543 г. был преобразован в воспитательное учреждение для девочек. Согласно введенному лютеранскому уставу, от воспитанниц «во избежание безделья» требовалось изучение рукоделия, чтение катехизиса и псалмов; они должны были обучать и других девушек [27, 59 — 60; 36, 287]. В Тарту женская школа была открыта при женском монастыре св. Екатерины в 1555 г. [41, 57].
Реформация положила начало книгопечатанию на эстонском языке, причем первыми были изданы катехизисы, которые оставались для эстонцев основным учебником на протяжении трех столетий. Механическое заучивание вопросов и ответов Катехизиса стало непременным условием для допуска к причастию и вступления в число взрослых членов общины.
Отдельные попытки открыть школы высшего типа для обучения священников из числа коренного населения в условиях сложного внешне- и внутриполитического положения Ливонского орденского государства успехом не увенчались. Подготовка священников, владевших языком коренного населения, оставалась по преимуществу заботой городов. Более всего в этом смысле было сделано в Таллине. С основания «тривиальной» школы в ней обучались и эстонцы. Многие из них за счет ратуши были подготовлены к получению священнической должности. Некоторые учащиеся эстонского происхождения (переводчик катехизиса И. Коэль и хронист Б. Руссов) как стипендиаты магистрата продолжили образование в Германии. В 1540 — 1550 гг. учащиеся городской школы эстонского происхождения занимались переводами Евангелия и псалмов на эстонский язык [45, 25].
В 1542 г. Таллинский магистрат постановил, что уличные мальчишки-сироты (преимущественно эстонцы и прочие «не-немцы») должны быть либо отданы в школу, либо изгнаны из города. В 1552 г. из числа церковных старост приходов Нигулисте и Олевисте была избрана опекунская комиссия (в основном для опекунства над сиротами). Так было положено начало существовавшему полстолетия институту «бедных школьников» [29, 358 — 359]. В 1555 г. опекунская комиссия постановила: школьники, получившие образование за счет города, должны поступать на службу в церкви или школы города, в противном случае с них следует взыскивать расходы за обучение. Известно, что до 1603 г. образование получили 57 мальчиков, приписанных к приходу Олевисте (данные по приходу Нигулисте не сохранились). Большинство из них были эстонцы. «Бедные школьники» обучались в объеме полного курса латинской школы. Начиная со второй половины 1550-х гг. им предоставляли учебники (в отдельных случаях до 10 книг) для индивидуального пользования. Наряду с латинской грамматикой, религиозной литературой, сочинениями авторов античности и Ренессанса в отдельных случаях для школьников приобретали греческую грамматику и учебники диалектики. Датированное 1575 г. сообщение о приобретении «ненемецкого» Катехизиса позволяет предположить, что «бедным школьникам» эстонского происхождения преподавали закон божий на родном языке. Последнее упоминание о «бедных школьниках» датировано 1603 г. Формально институт был ликвидирован в 1621 г. [1, 4 — 19].
В результате Ливонской войны (1558 — 1583) Северная Эстония отошла к Швеции, Южная — к Польше и Сааремаа — к Дании. В попавшей под власть Польши Южной Эстбнии началась католическая контрреформация, особая роль в которой принадлежала ордену иезуитов. Одним из центров контрреформации в Прибалтике стал Тарту, откуда предполагалось распространить католичество на русские и шведские владения. Иезуиты прибыли в Тарту в 1583 г., в 1586 г. их резиденция получила права коллегии.
В деятельности коллегий иезуитов (к 1616 г. их насчитывалось 372) важное место занимало школьное обучение. Школы были открыты и для светских лиц, учение было бесплатным, а самых бедных учеников коллегии брали на содержание. Так как Тартуская коллегия была одной из самых малочисленных, здесь была открыта школа, которая в период шести-семи-летнего обучения давала гимназическое образование и являлась первой гимназией на территории Эстонии. Гимназия состояла из пяти классов. В низшем — grammatica infima — обучение велось 1 — 2 года; далее следовали grammatica media (1 год), grammatica superiora, или синтаксис (1 год) (все эти классы имели общее название — грамматические), дальше шли humanitas, или поэтика (1 год), риторика (2 года). От поступавших в школу требовалось умение читать и писать.
Основными предметами были закон божий (в старших классах еще и начатки теологии) и латынь. В грамматических классах успевавшие ученики начинали изучение греческого языка. В старших углубляли полученные ранее знания, а также изучали риторику и поэтику.
Выбор и преподавание
прочих предметов из числа «свободных искусств» зависели от местных потребностей и условий.
В Тарту грамматические классы открылись в 1583 г., в 1586 г. к ним прибавился класс поэтики, а в 1593 г. — класс риторики. Светские лица обучались лишь в пределах первых четырех классов. В класс риторики поступали по большей части учащиеся из других центров орденской провинции; их было мало (5 — 7 человек в год), и пребывание их в Тарту было кратким. Неизвестно, учились ли в иезуитской гимназии эстонцы. Большинство учащихся (в 1583 г. — 30, в 1585 г. — 80, в 1592 г. — 70) были польского или немецкого происхождения.
Хотя иезуитская гимназия осталась в истории образования в Эстонии лишь эпизодом, методика преподавания иезуитов (лекции, диспуты, ежедневное повторение) имела серьезные достоинства и гимназия давала хорошее для своего времени гуманитарное образование. Естественно, что оно было подчинено целям религиозного воспитания.
В 1585 г. при коллегии иезуитов была основана семинария, готовящая переводчиков и светских чиновников. Влиятельный деятель ордена, папский легат А. Поссевино определил конкретные задачи семинарии. В первую очередь она должна была готовить лиц, владевших эстонским, затем русским и белорусским (русинским) языками, а по возможности латышским, финским и шведским. При приеме в семинарию предпочтение отдавалось более младшим по возрасту кандидатам. Для преподавания закона божьего Поссевино рекомендовал составить пособие из сочинений теологов, римского катехизиса и пр. Учащиеся должны были научиться читать католическое издание Библии и избранные места из теологических трактатов, знать католические и наиболее распространенные лютеранские псалмы. По истечении определенного срока учебы семинаристы должны были в качестве странствующих книготорговцев распространять католическую литературу. Проживавшие в семинарии беднейшие и иногородние учащиеся вели все необходимые работы по хозяйству и учились переплетному и сапожному делу. Учащиеся носили униформу. Желавших стать священниками посылали продолжать образование в Вильнюсской семинарии.
Учащихся-эстонцев было мало. В основном обучались немцы, владевшие эстонским и русским языками.
В 1601 — 1603 гг. Тарту находился в руках шведов. Иезуитская гимназия была восстановлена в 1611 г., но занятия проводились только в грамматических классах и всего одним преподавателем. Около 1615 г. была восстановлена и семинария. В 1625 г. шведы вновь захватили Тарту, и деятельности иезуитов был положен конец.
Иезуиты издавали религиозную литературу на эстонском языке, необходимую для миссионерской деятельности. В 1585 г. в Вильно был отпечатан эстонский католический катехизис. В 1622 г. в Браниево был издан справочник для священников, в который входили и тексты на эстонском языке.
Школьная деятельность иезуитов побудила лютеранские церковные и светские власти в последние десятилетия XVI в. к особой активности в сфере образования. Северная Эстония (Эстляндия) попала под владычество Швеции, в которой лютеранская религия была государственной; лютеранскими оставались и магистраты городов Южной Эстонии. Наряду с уцелевшими во время Ливонской войны таллинскими школами (Домская школа также стала лютеранской) в Северной Эстонии удалось в 1580 — 1590-е гг. открыть вновь или восстановить ранее действующие школы в Нарве, Хаапсалу, Лихула
и Раквере. В Южной Эстонии на рубеже XVI — XVII вв. работали Тартуская латинская школа и Пярнуская школа.
В конце XVI в. в Тарту возникла эстонская школа. Возможно, что лютеранский магистрат основал ее в противовес деятельности иезуитов. Школой руководил Бартоломеус Гильден, который окончил „тривиальную” школу в Тарту, а затем обучался в Магдебурге. В 1593 г. магистрат принял его на работу «при эстонской школе» и назначил кистером церкви св. Иоанна. В 1609 г. он был посвящен в пасторы эстонской общины. В 1616 г. Гильдену под давлением иезуитов пришлось покинуть Тарту. Очевидно, с его уходом прекратилась деятельность эстонской школы [25, 236; 13, 270]. Можно предположить, что эта школа давала лишь начальные знания.
На рубеже XVI — XVII вв. несколько увеличилось количество лютеранских книг на эстонском языке: наряду с прилагаемыми к катехизисам текстами псалмов издавались сборники псалмов, Евангелия и Послания [7, 97]. Книги распространялись среди эстонцев-горожан.
В 1600 г. магистрат утвердил Таллинское школьное право [38, 25 — 38]. Это был первый известный в Эстонии самостоятельный школьный устав. В соответствии с Таллинским школьным правом обязательному обучению подлежали дети с шестилетнего возраста. Школьный день должен был начинаться с молебна, молитвы и чтения глав из лютеранского катехизиса. Учащимся был предписан ряд правил поведения в школе, на улице, дома, на похоронах и в церкви. В каждом классе учителю должны были помогать двое учащихся-дежурных, которым вменялось в обязанность записывать отсутствующих и опоздавших, убирать классные помещения, готовить розги.
От учителей при вступлении в должность требовалось удостоверение об их принадлежности к лютеранской религии и. безупречном поведении. Каждый вступавший в должность давал пробный урок в присутствии школьных инспекторов (аколархов), назначаемых магистратом, членов магистрата и духовных лиц.
Ректор (сам преподававший в старших классах) обязан был проверять знания поступавших в школу учащихся и в соответствии со способностями распределять их по классам. Каждую шестую неделю ректор в присутствии школьного инспектора проводил во всех классах письменный экзамен. Дважды в год следовало проводить публичный экзамен в присутствии представителей магистрата и духовенства.
Автором школьного устава был, по всей вероятности, ректор «тривиальной» школы Вестринг, в 1603 г. представивший магистрату учебный план, на основании которого школа работала уже пять лет [38, 6 — 24]. Из этого плана следовало, что в младших классах (в начальном — «инфиме» и в какой-то мере в IV) обучение велось по программе немецкой школы. В «инфиме» как большие, так и малые дети (мальчики и девочки) обучались чтению и письму на немецком языке, счету, а также воспитывались «в богобоязненном духе». В V классе еще до обучения чтению полагалось под руководством кого-то из старшеклассников вызубрить краткий катехизис, важнейшие псалмы и изречения из учебника закона божьего и Евангелия. Для учеников, выучивших буквы, материалом для чтения являлись Катехизис М. Лютера, учебники закона божьего М. Юдекса и И. Виганда и Новый завет, а также переведенные Лютером басни Эзопа.
Обучение письму начиналось с разучивания похожих букв готического шрифта. Только после этого переписывали весь алфавит. Каждую вторую и четвертую неделю следовало представлять работы по чистописанию разного объема. Каждые шесть недель писали «пробный шрифт», который учитель оценивал по красоте и правильности. Письменные работы в порядке их
качества развешивались на веревке, протянутой через класс, для всеобщего обозрения, поощрения лучших и назидания небрежным.
В IV классе учили счету. На уроках закона божьего помимо названных выше учебников М. Юдекса и И. Виганда изучался Символ веры. На этом завершалось образование для тех, кто готовился к обычным практическим профессиям. Продолжавшим образование в латинской школе преподавались основы латыни (чтение, письмо, склонение, спряжение, образование степеней).
В III классе начиналось изучение синтаксиса, проводились устные и письменные упражнения по переводу текстов, по словарю заучивали распространенные слова, читали моралистические стихи «Катона». На уроках закона божьего приступали к латинскому катехизису. Продолжались письменные работы по немецкому языку, проводились уроки пения.
В зависимости от успехов учащихся, II класс разделялся на младший и старший. Основным учебником была «Грамматика» Китрея, которую следовало выучить наизусть в три приема. На уроках пения занимались и музыкальной теорией.
Ученик, заканчивавший II класс, должен был свободно владеть устной и письменной латынью. Для перевода в I класс нужно было сдать публичный экзамен. В учебной программе ведущее место занимали грамматика, диалектика и риторика. Теорию закрепляли и иллюстрировали примерами из сочинений и речей Цицерона, комедий Теренция, поэм Овидия и Вергилия. При изучении прозы следовало проанализировать стилистические и логические приемы и дать верный перевод текста на немецкий язык. На примере таких текстов выполнялись упражнения на имитацию и составлялась деловая речь в манере автора. Стихи и речи, написанные с целью совершенствования в стилистике, исполняли на занятиях по декламации. Для совершенствования в стиле немецкого языка писали сочинения. В качестве упражнения в диалектике раз в шесть недель проводился диспут. За два-три года учащиеся должны были достичь умения составлять большую письменную работу поучительного содержания (эпистулу) и беседовать на любую тему по-латыни.
Чтобы учиться в университете, требовалось владеть и греческим языком: необходимо было уметь сочинять стихи, имитировавшие произведения античных авторов. Продолжались занятия законом божьим и музыкой. По мнению ректора Вестринга, 18 — 20-летние юноши, прошедшие курс I класса, оказывались созревшими для университета. В присутствии магистрата и духовенства они сдавали публичный экзамен.
Таллинское школьное право и учебная программа ректора Вестринга легли в основу деятельности основанной в 1631 г. Таллинской гимназии. Ее учебная программа характерна и для школ других городов.
В начале XVII в. Эстонию опустошили чума, недород и бедствия шведско-польской войны. Закрылись школы в небольших городах, да и в крупных они находились в трудном положении.
3. ШКОЛА И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ В ЭСТОНИИ В XVII В.
В период шведского владычества, начиная с 1625 г., в Эстонии усилился процесс закрепощения крестьян. Городские власти, защищая интересы немецкого бюргерства, окончательно оттеснили эстонцев от участия как в общественной, так и в экономической жизни. Центральная власть, нуждаясь в преданных кадрах, стала открывать лютеранские учебные заведения высшего типа — гимназии и университеты.
В 1630 г. в Тарту в помещении бывшей иезуитской гимназии открылась гимназия академического типа. В 1631 г. началась реорганизация ее в университет, и в октябре 1632 г. был открыт Тартуский университет («Академия Дорпатензис» или «Академия Густавиана»), До 1638 г. при университете работала подготовительная «тривиальная» школа (открыта в 1631 г. как подготовительная к гимназии). В 1656 г. из-за русско-шведской войны университет был переведен в Таллин. С 1690 г. он снова в Тарту (теперь его называют «Академия Густаво-Каролина»), но накануне Северной войны университет переезжает в Пярну (1699), где функционирует до 1710 г.1.
В 1631 г. была открыта Таллинская 4-классная гимназия. В двух младших классах (IV и III) учитель (коллега) преподавал предметы латинской школы. Ему помогали преподаватели письма и счета «тривиальной» школы (на этих уроках обязаны были присутствовать и старшеклассники с плохим почерком) и учитель пения — кантор. В 1655 г. магистрат предпринял попытку согласовать учебные программы младших классов гимназий и городской «тривиальной» школы и превратить последнюю в подготовительную к гимназии школу. Перед учащимися этой школы ставилась задача овладения латинской грамматикой и написания упражнений «почти без ошибок». Учащиеся должны были уметь склонять и спрягать простейшие греческие слова. Каждый год в «тривиальной» школе предполагался экзамен; сдавшие его могли поступить в гимназию. В то же время ученики начального класса гимназии для достижения нужного уровня элементарных знаний отправлялись в «тривиальную» школу [28, 32].
Учеба в старших (II,I) классах гимназии преследовала цель подготовки к поступлению в университет. Преподаватели старших классов — профессора — обучали своему предмету и смежным дисциплинам. Важнейшим предметом была теология, преподавание которой поручалось обычно ректору как «первому профессору»; затем шел греческий язык, поэзия и риторика. Принятый в 1632 г. преподаватель математики также именовался «экстраординарным профессором». О характере обучения в старших классах гимназии можно судить, пользуясь постановлением инспекторов гимназии от 1678 г. и результатами проверки гимназии в 1692 г. [28, 45 — 55, 64 — 79]. Богословие изучалось по «Позитивной теологии» И. Ф. Кенига. Во II классе прорабатывались простейшие положения вероучения, учащиеся приобретали навыки обосновывать религиозные догматы, опираясь на знание учебника и цитаты из Священного писания; в I классе рассматривались более сложные положения вероучения. В курсе философии изучали логику (по учебникам Я. Кирхманна и А. Иттера), физику (по учебнику И. Шперлинга) и этику; усвоившие курс философии приступали к изучению истории и политики.
В основе изучения греческого языка лежала грамматика И. Веллера. В I классе изучались сочинения Демосфена, Сократа, знакомились с творчеством Гомера или Гесиода. Древнееврейский язык преподавался по учебнику М. Тростиуса и X. Опица. Основным учебником латинского языка-была «Грамматика» Рениуса. Изучались также тексты Цицерона, Овидия и Корнелия Непота, из новейших авторов — Э. Роттердамского, И. Микрелиуса и А. Бухнера. Одновременно изучались труды двух авторов. Раз в два-три месяца учащиеся обменивались литературой. Два урока в неделю отводилось изучению античной мифологии.
Поскольку к знанию латыни предъявлялись высокие требования (старшеклассники в общении друг с другом должны были пользоваться этим
1 О деятельности Тартуского университета подробнее см.: [3, 14 — 65]. 12 Зак. 1530
языком), ее преподавал ректор; профессора поэзии и риторики проводили занятия по своим предметам на латинском языке. Ректор преподавал также богословие, философию и древнееврейский язык; профессор математики — правоведение (римское право и действующее в Прибалтике законодательство) и политику. Преподавание истории входило в компетенцию профессора риторики.
Из названного выше постановления 1678 г. явствует, что особое значение придавалось самостоятельной работе учащихся и выполнению ими практических заданий по курсам латыни, философии, истории, правоведения и других дисциплин. Риторика предусматривала ежедневные упражнения во II классе, а в качестве подготовительных упражнений давались переводы басен и повествований; в I классе раз в неделю задавались письменные работы и раз в месяц учащиеся публично произносили речи. По греческому языку раз в неделю выполнялись письменные домашние задания, а раз в три месяца учащиеся должны были подготовить пространную речь либо стихотворение в рамках предложенного профессором материала. В каждом классе было 30 уроков в неделю.
Акцент на классическое гуманитарное образование отвращал от гимназии дворянских юношей, стремившихся к военной карьере. Поэтому с 1688 г. учащиеся старших классов дворянского происхождения освобождались от изучения древнееврейского и греческого языков, но обязаны были посещать уроки профессора математики.
Большинство выпускников гимназии поступали в университет. Так, более четверти (25,5 %) прибалтийских студентов Тартуского университета в 1632 — 1655 гг. были таллинцами, большинство из них, вероятно, окончили гимназию.
Гимназия занимала видное место в культурной жизни Таллина и всей Эстонии. Важнейшую роль для развития эстонской культуры сыграла типография гимназии (основана в 1633 или 1634 г.). Первоначальная цель основания типографии состояла в удовлетворении потребностей самой гимназии (печатались труды профессоров, программы торжественных актов и т. д.), а также городских и государственных властей. Наряду с выпуском печатной продукции на иностранных языках, преимущественно немецком (календари, псалтыри, первые в Эстонии газеты и т. д.), в типографии печатались книги для церковного и домашнего чтения на эстонском языке, что способствовало распространению грамотности среди эстонцев. Здесь были напечатаны и первые эстонские буквари.
Тартуский университет и Таллинская гимназия сыграли большую роль в истории культуры и образования в Эстонии. Однако дети большинства горожан по-прежнему получали скудное образование в городских школах. Церковный синод Эстляндии в 1627 г. отмечал, что в губернии имеется лишь несколько школ в Таллине, в Хаапсалу и других городах, где обучают мальчиков только чтению [26, 582]. В 1630 — 1640 гг. сеть городских школ несколько расширилась. Заметно улучшились условия школьного дела в Нарве, присоединенной в 1642 г. к Ингерманландской губернии и по-прежнему игравшей важную роль в торговле с Россией. Известно, например, что в 1637 г. в Нарвской городской школе 12 мальчиков обучались русскому языку за счет государства. В 1643 г. городская школа являлась «тривиальной». Ее совместно содержали городская и государственная власти. Основное внимание здесь уделялось начальному образованию на родном языке. Наряду с преподавателями старших классов — ректором и конректором имелись кантор, преподаватель письма и счета, учитель девичьей школы и еще три коллеги — немец, швед и русский. Русский коллега (на этой должности находились переводчики городского магистрата и диаконы) преподавал
также в 2-классной школе для русских детей, но здесь программа ограничивалась чтением, письмом и счетом [5, 2; 6, 12, 38, 104, 131, 155, 201]. Расцвет Нар-вской «тривиальной» школы был, однако, недолог. Уже в 1653 г. магистрат разделил ее на немецкую и шведскую школы.
Сравнительно крупные школы (с тремя учителями) работали в середине XVII в. в Таллине (городская «тривиальная» и Домская), в Тарту (городская школа и казенная школа для шведов и финнов) и в Пярну. В других городах и поселках были школы с одним-двумя учителями, от способностей и умения которых зависело выполнение учебной программы.
Экономические последствия войн, которые Швеция вела в 1650-е гг. с Польшей, Данией и Россией, эпидемия чумы в 1657 г. резко ухудшили состояние образования. Только к последнему десятилетию XVII в. школьная сеть была восстановлена. В некоторых школах успевающим ученикам наряду с латынью и сопутствовавшими предметами преподавали и основы греческого языка и философских дисциплин. Так, в Тартуской городской школе, по данным 1677 г., изучалась логика и риторика, а годом раньше, ректор преподавал этику и основы греческого языка [12, 11]. В 1694 — 1697 гг. ректор Тартуской объединенной казенно-городской школы (4-классная школа была создана в 1689 г. путем объединения немецкой городской и шведской казенной) М. Бертлефф проводил с учащимися диспуты и ставил собственные пьесы. Против него выступило руководство университета, усмотревшее в этом конкуренцию со стороны школы.
В ходе Тридцатилетней войны (1618 — 1648), разорившей Германию, жители многих городов, пострадавших от войны, переселились в Прибалтику. Нехватка здесь образованных людей позволяла переселенцам сравнительно проще, чем в Германии, найти должности домашних учителей в семьях дворян, пасторов и наиболее обеспеченных бюргеров. Увеличился приток учителей в городские школы. Из Германии прибыло большинство первых преподавателей Тартуского университета [43, № 9, 490; № И, 588]. Преподавательский состав Таллинской гимназии также в значительной степени комплектовался за счет выходцев из Германии.
В состав преподавателей городских школ в конце 1630-х гг. входили выпускники и Тартуского университета («Академии Густавиана»). Это в первую очередь относится к школам, работавшим под контролем или на дотации государства. Так, из шести ректоров таллинской Домской школы в 1639 — 1669 гг. пятеро учились в Тарту. В школах Таллина, Нарвы, Пярну, Курес-сааре, Хаапсалу на преподавательские должности принимались выпускники Тартуского университета, хотя и реже, чем выходцы из Германии.
Распространявшиеся с 1630-х гг. идеи Яна Амоса Коменского достигли и Прибалтики. Так, в Тартуском университете точку зрения Коменского на преподавание языков разделял и пропагандировал профессор Й. Гецелиус (впоследствии епископ Туркуский в Финляндии). В 1648 г. в Тарту он издал в качестве учебника греческого языка с параллельным латинским текстом учебник Я. А. Коменского «Janus sensualium pietus» [21, 342 — 343]. Однако сведений об использовании этой книги как учебного пособия вне университета не обнаружено.
В школы попало сочинение Коменского «Orbis sensualium pietus», применявшееся для начального обучения как латыни, тдк и родному языку. В последние десятилетия XVII в. немецкие издания этой книги продавались в Эстонии (по крайней мере, в Таллине) [20, 8].
С усилением национального гнета возможности эстонцев попасть в городские школы оказались крайне ограниченными. Во второй четверти XVII в. 12*
эстонцы упоминаются только среди учащихся таллинской Домской школы [48, 3 — 10].
В Эстляндии начатки образования пытался распространять суперинтендант И. Еринг. В 1639 г. в приходе Козе (недалеко от Таллина) были основаны две крестьянские школы [19, 22], которые, судя по всему, просуществовали недолго. В 1641 г. Еринг издал букварь на эстонском языке, который распространяли в сельских приходах с тем, чтобы им пользовались на мызах и в селах. В первой половине XVII в. церковь считала необходимым заставить крестьян заучивать катехизис и молитвы. Отдельные пасторы требовали и умения читать. Помещики всячески противились просвещению крестьянства, порою вступая на этой почве в конфликт с церковными властями, отказывались обеспечивать принятого на службу кистера землей и другими источниками существования.
Несмотря на то что в первой половине XVII в. началось издание эстонской церковной литературы (как на североэстонском, так и на южноэстонском наречиях), школ для эстонцев было очень мало. В Таллине открылась школа эстонской общины Пюхавайму (около 1640 г.). Известно, что в 1677 г. в Тартуском уезде Р. Броокманн открыл школу, которая существовала более двадцати лет. Однако методы обучения здесь были несовершенны; чтению, например обучали полтора года. Для крестьян эти сроки пребывания детей в школе были тягостны, и школа временно заглохла [32, 125].
В 80-е гг. XVII в. вопрос о массовом обучении народа грамоте встал достаточно остро. Генерал-суперинтендант Лифляндии И. Фишер поддерживал создание казенных школ в городах, пытался распространять церковную литературу среди крестьянства. В 1675 г. он основал в Риге частную типографию, имевшую привилегию на издание эстонских книг в Лифляндии [24, 352 — 354]. Во время ревизий, проведенных консисторией в Южной Эстонии в 1680 и 1683 гг., выяснилось, что хотя в большинстве приходов есть кистеры, но это в основном немцы, финны, шведы, которые лишь с грехом пополам могут обучать народ, так как не знают эстонского языка. Для того чтобы обучить народ чтению, требовались кистеры и школьные учителя — эстонцы.
Начало крестьянским школам в Эстонии, а следовательно, и распространению грамотности положил Б. Г. Форселиус. (Его отец — финский швед И. X. Форселиус был ректором Домской школы в Таллине, а затем пастором в приходах Харью-Мадизе и Ристи со смешанным шведско-эстонским населением.) Б. Г. Форселиус хорошо владел эстонским языком. В 1679 г. он поступил в Виттенбергский университет. По возвращении в отцовский дом в 1683 — 1684 гг. он обучал 50 шведских и эстонских мальчиков в школе прихода Ристи [42, 681 — 682].
Вероятно, именно тогда Форселиус пришел к мысли организовать обучение крестьянства в широком масштабе. Он стал осуществлять свои планы при поддержке церковной верхушки Лифляндии (а опосредованно и королевской власти). Зная педагогические воззрения Я. А. Коменского, Б. Г. Форселиус разработал новые принципы обучения чтению на эстонском языке, которые легли в основу его попытки реформировать эстонскую письменность [20, 4 — 5].
В 1684 г. Б. Г. Форселиус открыл школу для крестьян в отведенной для этой цели Карлом XI мызе Пийскопимыйза, под Тарту. На следующий год школа переехала в предместье Тарту. Она финансировалась за счет казны, руководителем ее и, по имеющимся сведениям, единственным учителем был сам Форселиус. Из учащихся готовили кистеров и учителей. Курс обучения
был двухлетним, но на второй год оставляли лишь наиболее способных учеников. Наряду с вероучением, чтением и церковным песнопением они, очевидно, обучались письму, счету, немецкому языку (по крайней мере, псалмам на немецком языке) и переплетному делу (последнее обеспечивало им в будущем побочный заработок).
Первые ученики школы Форселиуса уже в 1685 г. были назначены на учительские должности. Зимой 1686/87 г. воспитанники школы служили в 11 приходах Тартумаа, еще семь пасторов обещали принять на службу учеников Форселиуса [46, 71, 94). Уже в 1686 г. король издал указ о выделении каждой церковью по четверти гака для содержания школьного учителя. На следующий год генерал-губернатор Лифляндии именем короля потребовал от рыцарского ландтага основать школу в каждом приходе. Рыцарство вынуждено было пообещать построить здания для школ и платить жалованье кистеру или школьному учителю [39, 90 — 91]. К весне 1688 г. школы были открыты в большинстве приходов эстонской части Лифляндии (имеются данные о наличии 38 школ в 30 приходах, в большинстве из которых работало по одной школе) [33, 15 — 17, 20, 22 — 30, 32, 35, 38, 41 — 42, 45].
Метод преподавания у воспитанников Форселиуса был значительно эффективнее, чем у других кистеров и учителей: они обучали ребенка чтению за одну зиму, а не за две-три, как обычно. По прежней методике сначала заучивался алфавит, при этом назывались согласные буквы (а не звуки). Затем слова заучивались по буквам и повторялись под диктовку учителя. По методу Форселиуса согласные заучивали, произнося их вместе с предыдущими и последующими гласными, а слова читали по слогам.
Директор верховной консистории Лифляндии Ф. фон Платер в 1687 отмечал, что 14-летний воспитанник Форселиуса за зиму обучил чтению учащихся, многие из которых были старше его. За два года до того Платер послал в Пяр-нускую эстонскую школу одного способного 18-летнего крестьянского парня, и тот с трудом добился таких же успехов за два года. Зимой 1687/88 г. в Пярну в эстонской школе к 40 крестьянским детям, полностью овладевшим методом Форселиуса, добавилось еще 10 мальчиков из «старой школы». Они овладели методом Форселиуса за восемь дней и могли обучать других детей по обоим методам. По оценке сангастеского пастора X. Раушерта (пробста южной части Тартумаа), воспитанники Форселиуса за одну зиму ушли в учебе дальше, чем дети, проживавшие в латышской части Лифляндии, которых немцы обучали два года. Большинство школьников за час усваивали алфавит, через пять недель они уже не нуждались в букваре, а через десять недель бегло читали [46, 98 — 99, 106].
Звуковой метод требовал соответствующего учебника. В 1685 г. такой букварь, составленный Форселиусом, был издан как на южноэстонском, так и на североэстонском наречии [37, 132]1. Трудности обучения чтению, вызванные тем, что эстонское правописание приспосабливалось к нормам орфографии немецкого языка, заставили Форселиуса выработать свои принципы письменности. Он добивался максимального приближения орфографии к народной речи.
Эстляндская и Сааремааская консистории отрицательно относились к новшествам Форселиуса. В 1686 г. он с двумя учениками из тартуской школы побывал в Стокгольме, продемонстрировал достоинства своего метода самому королю и заручился принципиальной поддержкой находившегося в Стокгольме епископа Эстляндии Й. X. Терта. Но сломить сопротивление Эстляндской консистории ему не удалось. При поддержке государства весной 1688 г.
Л. Андрезен считает датой выхода букваря 1684 г.
на родине Форселиуса, в Харью-Мадизе и Ристи, были построены здания для школ, и оба школьных учителя стали получать жалованье от казны. Но только в шести приходах остальной Эстляндии пасторы взяли в учителя воспитанников Форселиуса [46, 70, 92 — 93]. В 1689 г. Эстляндская консистория издала букварь североэстонского наречия, в котором был применен компромиссный, так называемый «медиумный» способ правописания [16, 600 — 601; 34, 114].
В 1688 г. Форселиус предпринял решающие шаги для того, чтобы обеспечить поддержку своим начинаниям в области народного образования со стороны митрополии. Он обратился к пасторам, поддерживающим его методику обучения и языковые новшества, с просьбой прислать отчеты о работе его учеников [47, 55 — 56]. В результате он добился, что в сентябре 1688 г. ему была выдана королевская доверенность, согласно которой он был назначен инспектором народных школ Лифляндии и Эстляндии. Его уполномочили под наблюдением епископа Эстляндии и генерал-суперинтенданта Лифляндии основать школы всюду, где в них явится необходимость, и на эти расходы ему выделялось по 400 серебряных талеров в год [47, 89, 127, 128]. Но в Эстонию Форселиус не вернулся. Кораблекрушение на обратном пути оборвало его жизнь.
В народных школах, основанных при жизни Форселиуса, получили образование около тысячи детей эстонских крестьян. Через них грамотность проникла в крестьянские семьи и распространялась путем домашнего обучения и в последующих поколениях даже в самое трудное для народа время.
Церковные и светские власти издали ряд распоряжений об обучении крестьянства, оставшихся в силе и в последующие столетия. В 1689 г. в Эстонии по примеру Лифляндии было дано аналогичное распоряжение об открытии школы в каждом приходе. В 1692 г. в Эстляндии, а в 1694 г. в Лифляндии было введено шведское церковное законодательство 1686 г., требовавшее установления в каждом приходе должности кистера и обязывавшее кистеров обучать детей грамоте.
Эти распоряжения поначалу дали весьма скромные результаты. В Лифляндии, где при жизни Форселиуса в большинстве приходов были открыты школы, в первой половине 1690-х гг. усугубились трудности, имевшие место еще при основании школ. Большинство крестьянских школ работали в неприспособленных помещениях. Из-за отсутствия средств к существованию многие школьные учителя вынуждены были отказаться от обучения детей.
В Эстляндии, где крестьянские школы были созданы позднее, в последнее десятилетие XVII в. школьная сеть несколько расширилась1. В ряде приходов, не имевших школ, началось распространение грамотности через домашнее обучение. На Сааремаа достоверно известна лишь одна эстонская школа, основанная в г. Курессааре по почину суперинтенданта Г. Скрагге в 1706 г.
В 1695 — 1697 гг. из-за большого голода была прервана работа большинства народных школ; сократилось число школ и в городах. Вслед за недолгой передышкой последовала Северная война (в Эстонии с 1700 по 1710 г.). Восточная часть Эстонии срезу же оказалась в зоне боевых действий. Когда в 1704 г. русские войска окончательно закрепились в Восточной Эстонии, здесь работали только городские школы в Нарве и Тарту [8, 91; 9, 96, 113; 10, 324; 11, 212]. В 1708 г. прервалась и их деятельность. В Западной Эстонии школы крупнейших городов и отдельные крестьянские школы продолжали работу до 1710 г., пока боевые действия не были перенесены и сюда. Разразившейся в том же году чумой завершился упадок шведской власти.
По данным Л. Андрезена. в конце XVII в. в Эстляндии работали 11 крестьянских школ [2, 131 ].
Глава VII ПРОСВЕЩЕНИЕ, ШКОЛА И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ В ГРУЗИИ
I. ПРОСВЕЩЕНИЕ И ШКОЛА В ГРУЗИИ В IV — XII ВВ.
В VI — IV вв. до н. э. в Грузии возникло классовое общество и государство [12, 103]. Археологические раскопки свидетельствуют о высоком уровне развития хозяйства, ремесленного производства, торговли. Эти данные подтверждаются и греческими историками — Геродотом, Страбоном и другими. На морском побережье Грузии существовали довольно значительные греческие торговые поселения. Они стимулировали развитие торговли в Западной Грузии (Колхиде), которая в это время поддерживала отношения со многими странами, чему способствовало существование издавна пролегавших через Грузию важных торговых путей. По свидетельству Страбона, один из таких путей — из Индии — был связан с портами Черного моря, в частности с Фазисом (Поти); часть его проходила по рекам Куре и Риони. Другие шли с севера, по Дарьялу и Арагви, через Мцхета, который находился на перекрестке всех этих путей. В Колхиде, по свидетельству Плиния (I в.), в устье реки Риони было много цветущих городов [22, 104].
При раскопках на территории Грузии обнаружены археологические материалы, свидетельствующие о развитии ремесел с древнейших времен. Изделия грузинских мастеров распространялись далеко за пределы страны. Так, в Афинах найдено изделие второй половины VI в., на котором имеется надпись «Сделано колхом» (т. е. жителем Западной Грузии).
Судить о грузинской письменности можно только начиная с раннего феодального периода, так как литературные памятники дофеодальной эпохи не сохранились.
Историк XI в. Леонтий Мровели указывает, что в глубокой древности в Картли помимо грузинского говорили и на других языках [7, т. 1, 16]. Справедливость этих сведений подтвердила билингва, датируемая II в. и содержащая текст на арамейском и греческих языках [25, 16]. При археологических раскопках в Мцхета были обнаружены другие образцы греческой и арамейской письменности. Вероятно, мцхетская аристократия пользовалась этой письменностью как международной для того времени — на гробницах представителей высшего сословия встречаются надписи на греческом и арамейском языках.
Изучение различных источников раннефеодального периода позволяет сделать также вывод о том, что в Грузии были ученые-философы с оригинальным мировоззрением. В частности, Бакури — широко эрудированный философ неоплатонического направления IV в., живший в изгнании [8]. Значительный след в истории культуры оставил Петр Ивер, создавший школу в Сирии; он был знаком с различными философскими направлениями классической эпохи (учением Платона, Аристотеля, Прокла Диадоха), а также других периодов.
В целом грузинская теолого-философская мысль имела схоластическое направление. Яркий пример этому — сочинение Георгия Мерчуле «Житие Григория Хандзтели» (X в.) [4, 16 — 17]. Автор резко противопоставляет небесный и земной мир, что характерно для теологии в целом. В теолого-философском плане дана теория души, в которой по существу излагаются платонические воззрения.
Помимо «Жития Григория Хандзтели» из сочинений периода раннего феодализма привлекают внимание и другие произведения агиографического жанра, например: «Мученичество святой Шушаники» Якова Цуртавели (V в.), «Мученичество Евстафия Мцхетского» неизвестного автора (VI в.), «Мученичество Або Тбилели» Иоанна Сабанисдзе (VIII в.), «Житие Серапиона» Василия Зарзмели (X в.). Эти сочинения писались по заранее выработанному плану, так как уже был разработан литературный этикет.
Несмотря на малочисленность дошедших до нас письменных памятников эпохи раннего феодализма в Грузии, они дают опеределенные представления о характере обучения и воспитания в стране. Так, греческие источники свидетельствуют о том, что в первой половине II в. иберийская аристократия проходила специальное воинское обучение; особое внимание уделялось физическому воспитанию [11, 622]. Параллельно с ним молодежь получала и общее образование. Как сообщает греческий философ IV в. Фе-мистий (317 — 388), вблизи Фазиса существовала Колхидская школа риторики, где его отец и он сам получили «риторическое образование» [3, 23 — 24, 64, 129, 172]. (В литературе существование этой школы относят к III — IV вв.)
Так же как в римских риторических школах, программа Колхидской школы включала литературу, астрономию, возможно, элементы музыки и математики и, главным образом, основы философии и права. Предполагается, что обучение в школе велось и на греческом языке: знание его было обязательно, так как владение искусством риторики требовало обращения к классической греческой литературе.
В риторическую школу поступали молодые люди, уже владевшие греческим языком, которому они обучались либо в учебных заведениях типа грамматических школ, либо в домашних условиях. Сам факт, что в III — IV вв. р Колхиде существовала высшая школа риторики, которая, возможно, была не единственной, свидетельствует, что в Грузии имелись и подготовительные школы, а также было распространено домашнее обучение. При этом сына обычно отдавали на воспитание в другую семью, глава которой брал на себя обязанность следить за воспитанием вверенного ему ребенка (обычай существовал в Грузии с древнейших времен). Воспитанника обучали различным предметам специально приглашавшиеся учителя, «философы». Среди изучаемых предметов как в дохристианский период, так и после принятия христианства одно из главных мест занимала философия, но после принятия христианства она изучалась вместе с теологией.
Сопоставительное изучение источников показывает, что в Грузии до X — XII вв. основными предметами обучения были грузинская литература, теология, философия, гимнография, литургика (в школах при церквах и монастырях), родной язык и другие языки, краткая история родной страны и зарубежных стран и, наконец, природа человека. Школы в основном существовали при церквах и монастырях. Учить детей начинали с 6 — 7-летнего возраста, оканчивалось же обучение в 16 лет [17, 373; 4, 50; 15, 286 — 287]. Обучение велось групповым методом под руководством специально выделенных преподавателей. Обращалось внимание на возрастное и умственное развитие юношества. Обязательными условиями успешности обучения считались последовательность, усидчивость, твердость характера ученика.
Учебные книги существовали в Грузии, по-видимому, уже в V — VI вв. Так, например, Шио Мгвимели для своих учеников составил рукописный учебник по теологии, включавший 160 глав. Определенное представление о типах учебных книг дает «Учебная книга» Шатбердского сборника, созданного в известном монастырском центре [24]. Кроме «Учебной книги» в Шатберд-ский сборник включены: произведение Григория Нисского «Сотворение человека», летопись «Обращение Картли», сочинение Василия Великого о поведении животных, толкование древних и новых священных книг Ипполитом
Римлянином, сочинение Епифания Кипрского о двенадцати драгоценных камнях, псалмы Давида в переводе Дачи, хронологические сведения о выдающихся иудейских, персидских, римских и византийских императорах и т. д. Судя по этим источникам, кроме перечисленных выше предметов (теология, философия, церковное песнопение, иностранные языки) в программу входила и история Грузии, для изучения которой предназначалось «Обращение Картли». Изучалась также краткая история (хронология) выдающихся царей других народов.
Сочинение Григория Нисского «Сотворение человека» предназначалось для изучения природы человека, его анатомии и физиологии. Вопросы, рассматриваемые в этом сочинении, отражали уровень естественнонаучных и антропологических знаний эпохи, почерпнутых в основном из работ Гиппократа, Аристотеля и Галена, и были поданы в форме, приемлемой для христианской религии.
Указанные выше сочинения использовались в качестве учебников при получении среднего образования. По своему содержанию и манере повествования они были вполне доступны для учащихся старшего возраста.
В конце X — начале XI в. в Грузии образовалось централизованное государство. Объединение страны способствовало экономическому сближению разных районов Грузии. Возникли новые города (Атани, Гори) и населенные пункты, большое внимание уделялось строительству дорог, благоустройству городов и т. д. Интенсивно начали развиваться сельское хозяйство, ремесла, торговля. Как в Грузии, так и за ее пределами строились монастыри, в которых занимались и литературно-просветительной деятельностью. В этом отношении особую роль сыграл Афонский Иверский монастырь (на территории Греции), который прославили жившие там Евфимий и Георгий Мтацминдели, и Петрицонский монастырь (на территории современной Болгарии), где семинарию возглавлял известный грузинский философ Иоанн Петрици. Эти монастыри стали центрами развития грузинско-византийских культурных связей. Все монастыри, находившиеся за пределами Грузии (на Черной горе, Синайский, Крестовый в Иерусалиме), были тесно связаны друг с другом и с Грузией, куда посылалась для распространения переводная и оригинальная литература.
С объединением Грузии возникла необходимость подготовки обобщающего исторического труда, и во второй половине XI в. был создан монументальный летописный свод «Картлис цховреба» («История Грузии»). В дальнейшем этот памятник добавляется сочинениями историков более поздних времен. Высокого развития достигает в XII в. светская литература. До нас дошли такие выдающиеся памятники, как прозаический перевод «Висрамиани», «Абдул-Мессия» Иоанна Шавтели, «Тамариани» Чахрухадзе и гениальное произведение Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре».
Политический, экономический и культурный подъем Грузии сопровождался значительными социальными сдвигами.
В XI в. царская власть объединенной Грузии в борьбе против крупных феодалов опиралась на служилых дворян. Этот социальный слой сыграл важную роль в процессе объединения и укрепления страны. Царская власть использовала дворянство как опору для подавления оппозиции крупных феодалов и предоставляла ему значительные привилегии. Социальные сдвиги, сопутствовавшие политическому объединению Грузии, нашли выражение в мировоззрении и идеологии общественных деятелей XI — XII вв. Одной из наиболее характерных черт их мировоззрения была направленность против крупной знати. В ряде случаев они поднимались даже до осуждения существовавшей сословности.
Тенденция к демократизации общества зародилась среди служилого дворянства и как общеидеологическое течение проявлялась в той или иной форме едва ли не во всех общественных сферах — философии (Ефрем Мцире, Иоанн Петрици), истории (Георгий Мтацминдели, Георгий Мцире, Леонтий Мровели) и социально-политической жизни страны. Например, историческое сочинение Георгия Мтацминдели начинается с утверждения, что любой человек может проявить себя в этом мире, если обладает соответствующими данными. Этой же идеологии придерживался историк XI в. Леонтий Мровели [2, 133 — 143].
Естественно, что это социально-политическое и идеологическое направление нашло отражение и в просветительско-педагогической деятельности грузинских мыслителей XI — XII вв.
В это время в Грузии учителя называли «модзгуари». Учителя жили при церквах и монастырях, где существовали церковные школы, занимавшие специальные здания. Обучение проводилось по групповой системе, при которой ученики распределялись по возрастному принципу, т. е. учащихся различных возрастов обучали разные учителя и каждый «модзгуари» имел дело с определенным количеством учащихся одного возраста. Это подтверждается многими документами. Так, например, рассказывая о педагогической деятельности Георгия Мтацминдели, его биограф Георгий Мцире отмечает, что Мтацминдели разделил учеников на три группы в соответствии с возрастом — дошкольную, начальную и среднюю.
В памятниках того времени не содержится определенных сведений об учебных планах и программах. Имеется лишь одно указание, на основании которого можно судить о том, что изучались в основном те же предметы, что и в эпоху раннего феодализма, — теология и философия, гимнография, ли-тургика (в школах, созданных при монастырях), а также грузинская литература и иностранные языки. Помимо церковно-монастырских школ в Грузии XI — XII вв., по-видимому, продолжало развиваться частное домашнее обучение, в основном для детей знати.
Представители знати были обычно просвещенными людьми. Мелкое и среднее дворянство, как правило, ограничивалось получением только среднего образования, а дети знатных родителей, желавшие получить высшее образование, уже с XI в. отправлялись в Византию, в Манганскую академию1.
После объединения Грузии в 1066 г. по инициативе и при содействии царя Давида Строителя была основана Гелатская академия. В Гелати были собраны крупнейшие ученые того времени, что дало основание современникам назвать его «вторыми Афинами» [7, т. 1, 331]. Во главе Гелатской академии находилось специальное должностное лицо, носившее титул «модзгуарт-модзгу-ари» — «наставник наставников». Он исполнял обязанности ректора академии. Большие права, которыми пользовался «модзгуарт-модзгуари» явно должны были соответствовать значению самой Гелатской академии. Наряду с другими учеными был приглашен и грузинский философ Иоанн Петрици, деятельность которого протекала в семинарии при Петрицонском грузинском монастыре. Исходя из его философской концепции, и в частности из взглядов на просвещение, о которых можно судить по составленным им комментариям, а также по предисловию и послесловию к выполненному им переводу сочинения Прокла Диадоха «Элементы теологии», можно утверждать, что обучение в Гелатской академии находилось на высоком уровне. Интересны его рассуждения о тех научных дисциплинах, которые изучались
1 Академия, созданная в 1045 г. императором Константином в.Константинополе при монастыре св. Георгия.
в высших учебных заведениях Византии и, по-видимому, легли в основу учебной программы Гелатской академии. Они составляли цикл trivium-quad-rium.
Помимо указанного цикла дисциплин в Гелатской академии, вероятно, изучалась и медицина (как в университетах Западной Европы). Переведенная в то время «Врачебная книга» могла служить учебником для высших учебных заведений Грузии, в частности Гелатской академии. Об этом свидетельствует как само построение книги, так и замечания автора и переводчика, указывающие на ее учебное назначение [10].
Сохранились сведения о том, что в Грузии между 1117 и 1123 гг. была открыта Икалтойская академия, которой руководил Арсен Икалтоэли. О существовании этой академии повествуют и народные предания; о ней свидетельствуют также сохранившиеся следы постройки, имевшей скорее светское, чем монастырское, назначение.
Единственное учебное заведение среди грузинских поселений за пределами страны — семинария при Петрицонском монастыре, в период пребывания в нем Иоанна Петрици готовившая священников для этого монастыря. Выпускники получали довольно широкое образование, позволявшее им в дальнейшем заниматься творческой деятельностью. Свидетельством этого является литературная школа, известная в научной литературе под названием «петрицонской» и сыгравшая определенную роль в формировании грузинского философского языка и терминологии.
Весьма своеобразно решались в Грузии вопросы, связанные с образованием женщин. Сведения об образовании царицы Тамар отражают не частный случай: судя по некоторым, относительно немногочисленным материалам, в Грузии того времени женское образование носило общий характер. В знатных семьях образование получали не только сыновья, но и дочери. Женщины часто выступали в роли воспитательниц, наблюдавших за обучением детей. Например, отца царицы Тамар Георгия III, воспитала его тетка Тамар (дочь Давида Строителя) [7, т. II, 10]. Воспитательницей Георгия II была его бабушка Гурандухт (дочь Георгия I) [7, т. I, 304).
Дочерей, как и сыновей, обычно отдавали на воспитание в другие знатные семьи. Из биографии Георгия Мтацминдели мы узнаем, что его сестру Теклу в семилетием возрасте отвезли в Тадзрийский монастырь и отдали на воспитание игуменье, которая ее и «взрастила в благочестии». Когда же исполнилось 7 лет самому Георгию и пришло время учиться, его первоначальное обучение взяла на себя Текла, которая успела к тому времени получить образование. «Георгий изучил Священное писание под руководством этой женщины» [15, 287].
В тот период грузинские женские монастырские и культурно-просветительские центры существовали как в Грузии, так и за ее пределами. В них велась приблизительно такая же работа, как, скажем, в монастырях Афонском, Иверском, Улумбо, Петрицонском и др.
Привлекает внимание одно сведение, которое дает основание предполагать, что в женских монастырях занимались также воспитанием и обучением. Переписчик по имени Василий обращается к монахиням: «...благородные девы, молит вас воспитанный вами Василий». Однако, как осуществлялось в женском монастыре воспитание и обучение, неизвестно. Возможно, здесь получали начальное образование, как это имело место в случае с Георгием Мтацминдели. Женские грузинские монастыри являлись культурно-просветитель- 1
1 Г1о мнению проф. Л. А. Оганесяна, медицина как предмет изучалась в XI — XII вв. в армянских академиях Тарона и Сангина [13, 17].
сними центрами и вносили посильный вклад в дело культурно-просветительской работы, осуществляемой в тесной связи с Грузией и грузинскими монастырями за границей.
Георгий Мтацминдели (начало — вторая половина XI в.) внес ценный вклад в развитие национальной культуры. В Афонском Иверском монастыре он выправил или перевел заново на грузинский язык некоторые книги. Труды Георгия Мтацминдели характеризуют его как человека разносторонне образованного для своего времени — переводчика, теолога, историка и общественного деятеля. В 1060 г. Мтацминдели вернулся из Афонского монастыря на родину. Во время пребывания в Грузии Георгий собрал 80 сирот и детей бедняков для отправки в Иверский монастырь и сам занялся их обучением. Подробно об этом повествует его биограф Георгий Мцире: «Он обучал такое огромное количество учеников не с помощью других педагогов; он не привлекал помощников даже для того, чтобы хотя бы немного отдохнуть, а всему обучал сам и по группам и по возрастам. Своим самоотверженным трудом Георгий достиг того, что к лучшим приравнял последних, т. е. отстающих, и малолетних подтянул до лучших из старших учеников и, наконец, несмотря на разницу в возрасте, сделал всех одинаково знающими» [15, 326]. По данным биографа, «школа» Георгия предусматривала распределение учащихся по группам и классам в соответствии с возрастом. Дети различного возраста занимались вначале по различным программам, когда же он подтянул младших и отстающих учеников до уровня лучших, то стал повышать уровень их знаний и таким образом в результате достиг поставленной цели. Можно предположить, что Георгий составил соответствующую программу, как это было вообще принято в грузинских монастырских школах, и пользовался определенной методикой обучения, иначе за столь короткий срок (4 — 5 лет) он вряд ли достиг бы намеченной цели. Для разных возрастных групп у Георгия была разная программа и специфический подход. Своим ученикам он давал минимум знаний, углубить которые призван был уже Афонский Иверский монастырь.
Практическая деятельность Мтацминдели была основана на его педагогических воззрениях, о которых сообщает биограф — его ученик и единомышленник, приверженец и последователь его педагогической системы, везде сопровождавший своего наставника.
Особое внимание уделялось возрастному развитию учащихся. «Учить взрослых уже невозможно, — писал Георгий Мцире. — В это время ум уже не так восприимчив», и наоборот, «природа юношей мягка и податлива, и обучение воспринимается как отпечаток воском» [15, 327]. Как раз в это время и следует воспитывать и обучать ребенка. Исходя из этого, начальной ступенью развития является дошкольный возраст (первая группа), когда ребенок предоставлен матери. Вторая группа — это дети школьного возраста: «Другие, вошедшие во вторую возрастную группу, лишь незадолго вышли из младенческого возраста». Следующую группу биограф характеризует как среднюю: «Третья группа, третьего возраста, ожидающая отрочества». Четвертая группа представлена взрослыми людьми — теми, кто сам пожелал «пойти в ученики» [15, 325].
Георгий Мтацминдели и Георгий Мцире ввели понятие «воспитание ребенка», причем это понятие у них более общее по сравнению с понятием «обучение» [15, 286, 288]. Воспитание и обучение подчиняется особым закономерностям. Воспитание ребенка должно отвечать его природе, поэтому они считали, что в начальной школе ребенок нуждается не только в обучении, но и в игре: «Есть привычка у отроков выходить на поле играть и резвиться» [15, 287].
Ребенка необходимо развивать не только умственно, но и физически, но возможно и нарушение соответствия между физическим и умственным развитием.
В успешном обучении существенную роль играют природные способности. Более способные среди сверстников часто добиваются больших успехов. Но одних способностей недостаточно: необходимы также трудолюбие, стремление к знаниям. Все эти черты считались необходимыми компонентами успешного обучения.
Заслуживает внимания то обстоятельство, что Георгий Мтацминдели считает образование делом всеобщим и доступным каждому. Так, в одном из своих сочинений он говорит: «Богу угодно, чтобы каждый человек мог жить и постигать истину, Божий промысел предопределяет, кому быть лучшим, во все времена благостью своей отмечает самых достойных и добродетельных — на пользу роду человеческому и для прославления Бога своего» [5, 13].
Таким образом, по мнению Георгия Мтацминдели, каждый человек мог служить истине. Понятие «каждый человек» выражает общую мировоззренческую тенденцию Георгия Мтацминдели. «Постижение научной истины» каждым человеком возможно только путем просвещения и обучения. Но идея всеобщего равноправия, выдвинутая Г. Мтацминдели, фактически означала лишь уравнение в правах крупных феодалов и служилых мелких дворян — азнауров.
Иоанн Петрици (1050 — конец первой четверти XII в.). Сфера интересов Иоанна Петрици была весьма обширной, включая такие разнообразные области знания, как философия, история, грамматика, география, астрономия и астрология. Его деятельность в основном протекала в Петрицонском монастыре и Гелатской академии.
В Гелате он перевел труды Немезия Эмесского «О природе человека» и Прокла Диадоха «Элементы теологии». В сделанных им предисловии, послесловии и комментариях к переводу Диадоха изложена оригинальная философская концепция ученого.
Петрици выделяет два источника человеческого познания — душу и разум. Преимущественное значение придается разуму, который в процессе познания проявляет максимальную активность, проникая в глубину явлений. Фактически он должен возвыситься до познания «единого», но в состоянии ли разум познать все до конца? [14, 47]. Пользуясь диалектическим методом доказательства, Петрици постепенно приходит к богу («единому»), который сам по себе непознаваем. При этом он использует положения античных философов, но лишь в той мере, в какой они ему нужны.
Не может не привлечь внимания определение понятия у Петрици, которое почти не отличается от современного. Понятие у Петрици выражает обобщенность, всеобщность. Одно определенное понятие подразумевает целую систему, совокупность понятий. Он приводит пример: «Сердце, печень, мозг, селезенка и все остальное являются разными по составу и деятельности, но выполняют функции одного животного, скажем человека» [14, 96] т. е. характеризуются «всеобщностью». Если отнять у понятия хотя бы одну существенную черту, оно перестанет быть понятием. Это касается всех понятий. Например, если у понятия «человек» отнять способность к речи или смертность и т. д., то мы уже будем иметь дело не с человеком.
Иоанн Петрици рассмотрел, как понятия выражают сам процесс познания. Понятие служит орудием, с помощью которого разум познает предметы и явления окружающего мира, однако оно не дает возможности познать мир до конца. Оно имеет определенный предел, за который «не в состоянии распространить свое разумное сияние» [14, 122].
В своих комментариях Иоанн Петрици напоминает, что в процессе усвоения знаний нужно соблюдать некоторые правила, т. е. определенный педагогический принцип (например, обучение должно идти от простого к сложному, чтобы сделать это сложное понятным) [14, 84].
Петрици уделяет внимание вопросу культуры чтения в процессе обучения и считает, что чтение вслух препятствует быстрому усвоению прочитанного. В первую очередь он подчеркивает необходимость глубокого проникновения в смысл прочитанного: тот или иной вопрос или понятие можно усвоить, только основательно разобравшись в его содержании. Хорошие результаты дает чтение материала, его повторение и др.
Все эти указания нужны Петрици для того, чтобы должным образом направить процесс обучения. Здесь со всей очевидностью проявляются его педагогическое чутье и наблюдательность. Он учитывает любую деталь этого процесса, начиная с самой первой ступени и кончая теми высокими идеалами, в мире которых он живет.
Педагогические взгляды Петрици представлены в комментариях лишь в той мере, в какой это было необходимо для исследования чисто философских вопросов. Возможно, перу ведущего «профессора» Петрицонской семинарии и Гелатской академии, каким был Иоанн Петрици, принадлежали и специальные общепедагогические трактаты. В любом случае сама система его мировоззрения, метод изложения вопросов свидетельствуют о том, что Петрици был выдающимся педагогом, передававшим свои глубокие познания слушателям в последовательном, систематизированном виде.
Шота Руставели (XII в.). В бессмертном произведении великого грузинского поэта Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре» нетрудно усмотреть отражение определенной системы педагогических воззрений и общего уровня постановки учебно-воспитательного дела в Грузии.
Идеальные герои его произведений — всесторонне развитые личности. Они принадлежат к высшему сословию, но в их образовании важную роль сыграли веками складывавшиеся народные традиции воспитания.
Руставели был знаком также с сократовской и платоновской нравственными нормами. Платон, как известно, высшим счастьем признает благо, для достижения которого необходимо пройти целый ряд ступеней. Это подразумевает наличие определенных добродетелей: мудрости, мужества, скромности. Последняя подразумевает умение владеть собой. Что же касается мудрости, то она связана с рассудком и предусматривает правильное направление его деятельности, тогда как мужество подразумевает силу воли, выносливость и др. Благо не может быть достигнуто без справедливости, поэтому справедливость — первейший атрибут нравственности. Знание также связано с благом. Каждый поступок человека и вся система его нравственных воззрений подчиняются рассудку. Поэтому важнейшей составной частью воспитания Руставели считает умственное воспитание. Оно управлят нравственными нормами человека, его действиями вообще.
Руставели неоднократно подчеркивает в своем произведении роль разума (имея в виду разум, обогащенный знанием) в действиях и поступках человека.
Для чего и мудрость людям, коль не чтить ее даров?
Знанья мудрых приобщают нас к гармонии миров [18, 101].
Идельным героем Руставели является Автандил — рыцарь и просвещенный человек, обладающий познаниями весьма широкого диапазона. В нем привлекают внимание в первую очередь черты человека и гражданина, олицетворяющие идеалы автора и вызывающие симпатии читателей. Это активная, деятельная личность, его девиз — самоотверженная помощь другу и сокрушение врагов, стремление к торжеству добра и справедливости. Он предпочитает действовать вместе с другими, в коллективе, в рамках того общества, членом которого он является. Следовательно, в борьбе со злом, помимо таких личных качеств, как интеллект и образованность, высшая нравственность, физическая красота и сила, необходимы также связь с обществом, действия вместе с людьми.
В произведении Руставели имеется ряд реалий, по которым можно судить о постановке учебно-воспитательной работы в Грузии в то время. Так, обучение индийской царевны Нестан-Дареджан началось в семилетием возрасте. Ее отдали в обучение к родной тетке Давар. Оба эти момента (начало обучения в семилетием возрасте и передача детей на воспитание близким родственникам) являлись правилом, существовавшим в Грузии с древнейших времен и характерным также для XII в. Так, воспитательницей царицы Тамар была ее тетка Русудан. В доме этой же Русудан воспитывался Давид Сослан, в дальнейшем муж Тамар. [7, т. 1, 24].
Педагогические идеи, отраженные в «Витязе в тигровой шкуре», служат воспитанию не только индивида, но и всего общества. Они лежат в основе народной педагогики как ее составная часть.
Шота Руставели проповедует добрые отношения между людьми, основанные на возвышенном чувстве любви. Ему чужды какое-либо затворничество и аскетическая замкнутость: человек является частицей общества, и общественную жизнь он представляет как совокупность отношений между отдельными людьми. Только через общение с людьми может быть достигнуто земное благо: «Вне людей живет безумец, чуждо все ему людское»; «Кто себе друзей не ищет, самому себе он враг» [20, 843); «Надо другу ради друга не страшиться испытаний, откликаться сердцем сердцу и мостить любовью путь» [19, 103].
Человек никогда не должен забывать своего гражданского долга. Он обязан быть щедрым, неустанно трудиться ради своего общества. Руставели чужды классовая замкнутость и эгоизм: его герой — гражданин, руководствующийся человеческими, гуманистическими идеалами. Формула Руставели — человек для общества и общество для человека, а высшая цель — борьба за благо.
3. ПРОСВЕЩЕНИЕ И ШКОЛА В ГРУЗИИ В XIII — XVII ВВ.
ОБУЧЕНИЕ РЕМЕСЛУ
Со второй половины XIII в. политическая обстановка в Грузии резко изменилась. Монгольские орды, покорившие страны Востока, в течение многих лет господствовали и в Закавказье. На смену монголам, иго которых тяжелым бременем легло на плечи грузинского народа, пришли персы и турки. Такое положение, длившееся несколько веков, естественно влекло за собой расстройство политической и экономической жизни страны, препятствовало ее культурному развитию. Грузинскому народу приходилось теперь отстаивать свою национальную культуру и самобытность.
Но, несмотря на политический и экономический упадок в стране, явившийся результатом непрерывных войн и rfa6eroe, культурная жизнь Грузии XIII — XV вв. в определенной мере продолжала развиваться, о чем свидетельствует, в частности, и такая важная область культуры, как образование и просвещение.
Период XVI — XVII вв. в истории Грузии характеризуется весьма тяжелой политической обстановкой. Внутренние междоусобицы, а также нашествие турок и персов привели экономику и без того обессиленной страны в полнейший упадок. Грузия вынуждена была платить персидскому шаху и другим захватчикам дань, тяжелым гнетом ложившуюся на изнемогающее под феодальным ярмом население. Даже царей возводили на престол только с разрешения шаха. Все это приводило к восстаниям, служившим поводом для новых вражеских нашествий.
В XVII в. русско-грузинские политические взаимоотношения становятся особенно интенсивными. В 1658 г. у русского царя просил помощи приехавший в Москву Теймураз I; в конце века, потерпев неудачу на политическом поприще, царь Арчил навсегда переезжает в Россию; переселиться сюда пришлось также выдающемуся деятелю Возрождения Грузии царю Вахтангу VI и другим.
Экономическое положение Грузии в этот период не раз менялось в зависимости от политической ситуации. С прекращением вражеских нашествий и установлением мира оживилась и экономика страны. Об этом сообщают побывавшие в стране иностранцы (в том числе русские послы Е. Мышецкий и И. Ключарев [16, 160; и др.].
В Грузии XIII — XIV вв. существовали школы, отделенные от церкви; они были проводниками светских тенденций, хотя церковь и сохраняла над ними свой контроль. Массовое создание таких школ, по-видимому, началось еще в XII в, В одном документе говорится о существовании семи училищ только в одной епархии [9, 314]. Эти школы имели руководителей, пользуясь современной терминологией — директоров, которые назывались «тавемдгоми». Сама школа называлась «сасцавлели».
Учебная программа этих школ в отличие от школ при церквах и монастырях предусматривала изучение не только закона божьего и житий святых отцов, но и философии (в качестве отдельного предмета), истории Грузии и краткой истории той местности, где находится школа.
Общее руководство делом просвещения, по-видимому, по-прежнему принадлежало патриарху, который в период нашествия монголов издает специальный приказ об усилении обучения в церковных и светских школах.
С XII в. в Грузии получает развитие светско-рыцарское воспитание. Этот вид воспитания был распространен здесь с глубокой древности. Так воспитывались представители высших сословий страны в периоды рабовладельчества, раннего и развитого феодализма. Однако в Грузии уже в ранний период отчетливо проявляется тенденция придавать умственному образованию преимущественное значение в процессе воспитания.
Особое внимание умственному воспитанию уделяется в эпоху христианства. Это и понятно, потому что христианство выработало своеобразное отношение к миру, к человеку. Физическое естество человека, как и все земное, объявлялось греховным. Церковь начала проповедовать примат души и терпение, отказ от своего «я». Безусловно, было бы ошибочным считать, что христианство совершенно исключало физическое воспитание. В феодальном обществе это было невозможно, ибо для могущества страны, для преодоления внутриклассового антагонизма и отпора внешним врагам нужна была военная сила. Таким образом, если теология была той областью знаний, которую церковь признавала необходимой, обязательной для всех, в том числе и для детей феодалов, то получение военного воспитания было вызвано жизненной необходимостью.
В воспитании грузинской знати одно из основных мест занимало, по выражению монаха Егнаташвили, «воспитание в рыцарстве». Рыцарь должен быть хорошим «ратоборцем», «всадником-воином», «охотником», «стрелком», «игроком в мяч», «пловцом», «мужественным», «сильным», «прекрасным лицом и сложением». Для обозначения совокупности всех этих качеств использовался дошедший до нас термин «самамацони знени» («воинское искусство»), овладение которым происходило в процессе обучения, воспитания [21, 62; 7, т. II, 284, 440]. Обладателем этих качеств должен быть грузинский рыцарь, получивший специальное воспитание для овладения «рыцарским искусством».
Недостаток материалов затрудняет подробное изложение общей системы образования и просвещения в Грузии в XVI — XVII вв. Имеющиеся сведения позволяют воссоздать лишь общую картину, т. е. представить, каким был общий уровень образования в периоды тяжелой политической обстановки, какую роль сыграла культурная деятельность католических миссионеров в экономически ослабленной стране, где система образования и просвещения в результате беспрерывных вражеских вторжений пришла в полное расстройство, каким было обучение детей феодалов и т. д.
Католические миссионеры в Грузии появились еще в XIII в., позднее их деятельность здесь приобретает особенно интенсивный характер. Оказывая поддержку миссионерам, грузинские политические деятели хотели привлечь внимание папы римского и европейских государей, от которых они ждали помощи в борьбе против Османской Турции и Персии. Сами же миссионеры ловко пользовались этими устремлениями местных властей, насаждая в Грузии католическую веру. С целью облегчить себе задачу и добиться успеха они изучали грузинский язык и переводили различные теологические книги, занимались религиозной пропагандой среди населения, открывали частные школы, посылали способных молодых грузин в училище Римской коллегии церковной пропаганды, где они наряду с теологией изучали философию и после возвращения в Грузию способствовали распространению католической веры.
Из писем миссионеров видно, что в Грузии того времени наблюдалась сильная тяга к получению образования. Многие юноши выражали желание продолжить учение в Римской церковной коллегии; фактически желающих было больше, чем мест. Кроме юношей, направлявшихся в Римскую церковную коллегию по ходатайству миссионеров, многие отправлялись в Рим для получения образования по собственной инициативе. Конечно, позволить себе это могли только дети из состоятельных семей.
Католические священнники, стремясь насадить в Грузии католичество и укрепить свое влияние, прилагали все силы, чтобы создать условия для просвещения молодежи, открывали школы в различных городах и селах страны. Можно предполагать, что священники и школы при церквах находились на содержании у сельского населения. В сельских школах большей частью преподавали сами священники: у них дети получали начальное образование, обучались чтению и письму, родному языку, грамматике, теологии.
В городских школах учителей было больше [23, 436]. Здесь дети получали и среднее образование. Помимо родного языка, грамматики и теологии изучали латинский язык и философию. К сожалению, в указанных документах нет никаких специальных сведений о структуре и программах школ. Можно предположить, что обучение детей среднего возраста не ограничивалось перечисленными предметами. Целью этих школ наряду с получением общего образования было воспитание молодежи в духе католического вероисповедания, что было невозможно без изучения истории католицизма.
Некоторые учебники, предназначавшиеся для школ, часто составлялись самими миссионерами и печатались в грузинской типографии в Риме. Здесь были напечатаны, например, первый грузинско-итальянский словарь, а также грузинская грамматика, катехизис и др. [23, 95, 298].
Анализ приведенных выше сведений позволяет заключить, что католические миссионеры внесли определенный вклад в дело образования и просвещения п Грузии в XVI — XVII вв. Их роль в этом отношении тем значительнее, что работать им приходилось в крайне тяжелых условиях и нередко от них требовалась самоотверженная преданность своему делу. Их притесняли не только руководители местной православной христианской церкви, но и утвердившиеся в Западной и Восточной Грузии турецкие и персидские власти.
К сожалению, в документах представленного периода ничего не говорится о местных церковных школах. Письма католических миссионеров о них умалчивают. Сам факт создания в Грузии миссионерами школ и их заботы об образовании молодежи свидетельствуют о несомненной нехватке школ. Однако существование школ при местных церквах также явление бесспорное. Об этом сообщает, например, Иесе Осешвили [6, 7].
Заслуживают внимания сведения, содержащиеся в письме католического миссионера патера Карло от 1667 г., в котором он после рассказа о школе, основанной в Тифлисе, сообщает, что «в грузинских домах очень много монахов» [1, 3 — 16] и что миссионерам едва удалось собрать в своей школе 25 учеников. Несомненно, патер Карло имеет в виду тех монахов, которые выполняли роль «гувернеров» в домах людей высшего сословия. Этим и объясняется, что в Тифлисе католические миссионеры «с трудом набрали 25 учеников».
Как уже отмечалось, школы, созданные миссионерами, содержались за счет населения. В них учились в основном представители низших сословий, дети же феодалов получали домашнее образование. Монахи давали детям начальное образование, обучали их грамоте, грамматике родного языка и закону божьему. В отроческом же возрасте дети феодалов начинали изучать «рыцарские искусства». Наиболее способных отправляли для продолжения учебы за границу.
Определенных сведений о том, как происходило обучение ремеслам в древней Грузии, нет. Относительно ясное представление об этом нам помогают составить лишь документы о цехах более позднего периода.
В процессе обучения мастер постепенно объяснял ученику приемы и секреты ремесленного производства и таким образом приобщал его к ремеслу.
В обучение отдавали обычно детей крестьян, и каждый ремесленник мог набирать неограниченное количество «шегирди» (учеников). Чтобы принять ученика, мастер должен был получить разрешение цехового старейшины, после чего заключал с «шегирди» определенный договор в письменной или устной форме. Обучать ремеслу детей начинали в разное время, в зависимости от вида ремесла. Так, например, кузнечному ремеслу начинали обучать не ранее 13-летнего возраста. Обучение ремеслам, не требовавшим большой физической силы (шитье, вязание ит.д.), начиналось с более раннего — 9 — 10-летнего, а иногда и с 8-летнего возраста.
Обучение было бесплатным (изготовленная же учеником продукция оставалась мастеру) и продолжалось иногда 8 — 10 лет, хотя чаще занимало 4 — 5 лет. Срок обучения зависел от усвоения учеником того или иного ремесла и от сложности самого ремесла. Документы свидетельствуют о том, что, до тех пор пока ученики не усваивали ремесла основательно, они не получали права работать самостоятельно (которое после окончания учебы и проверки выполненной учеником работы давалось ему управителями цеха).
Интерес представляют требования, предъявлявшиеся к самому ремесленнику. Ремесленник, имевший учеников, обязан был проявлять сдержанность, подавать им пример своим поведением, последовательно передавать свое искусство и т. д.
Обзор документов XVII в. показывает, что в Грузии ремесла были широко распространены и дети представителей социальных низов, так или иначе связанных с ремесленными центрами, старались овладеть тем или иным ремеслом.
Безусловно, обучение ремеслам имело чисто практическое назначение и носило характер трудового воспитания, однако включало в себя также определенные элементы нравственного воспитания. Это хорошо видно из инструкций, дававшихся самому мастеру. В них требовалось соблюдение таких нравственных норм, которые позволяли ему служить для ученика образцом, достойным подражания.
Определенная группа мастеров-ремесленников, деятельность которых была связана с книгами, занималась также и образованием учеников. Эта группа получала подготовку главным образом в церковных центрах и наряду с ремеслом изучала грузинскую грамоту, грамматику и литературу.
4. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ В ГРУЗИИ В XVII в.
Арчил II (1647 — 1713). Если в начальный период грузинского Возрождения, начиная с XVI в., национальноое самосознание находило свое выражение в идеализации прошлого и пессимистическом отношении к окружающей действительности (главным образом, в историческом эпосе), то в дальнейшем оно приобретает реалистический характер и стремление критически осмыслить отрицательные стороны окружающей жизни.
«Нравы Грузии», написанные Арчилом в форме учебника, показывают, каким должен быть минимум знаний, традиционно обязательный для грузинского просвещенного рыцаря. Требования Арчила фактически были отражением традиционно существовавших норм, собранных им и представленных в виде учебника [6, 3 — 16]. Заслуживает внимания, что Арчил подчеркивает роль учителя в самом процессе обучения и делает по этому поводу несколько замечаний. Примечательно замечание об обучении, которое должно идти от простого к сложному, о регламентации самого обучения (этому весьма важному условию успешного обучения особое внимание уделял еще Иоанн Петрици в XI в.). Арчил занимает одно из самых почетных мест в истории педагогической мысли эпохи грузинского Возрождения. Несмотря на то что в «Нравах Грузии» затрагивается только рыцарское воспитание, значение этого сочинения как памятника, отражающего определенную эпоху, весьма велико.
Интересно и второе морально-дидактическое сочинение Арчила — «Беседа человека и мира» [6, 159 — 261]. В нем говорится о том, каким должен быть царь-правитель, священник, рыцарь, купец, крестьянин, какие отношения должны существовать между членами общества. Хотя при трактовке этих вопросов Арчил не выходит за рамки феодальной идеологии, в его представлении общество, несмотря на дифференциацию, должно сохранять принципы гуманизма и жить в духе гармонического взаимопонимания.
Отмечая различные недостатки общественной жизни, Арчил одним из основных средств их искоренения считает воспитательную работу. По его мнению, важным условием урегулирования общественной жизни является «нравственное» сознание и образование. Именно поэтому в сочинениях Арчила так много поучений нравственного характера.
В «Беседе человека и мира» Арчил говорит, что в этом мире есть и добро и зло. Однако общество и человек должны сами определять свой путь, от людей зависит, пойдут ли они путем добра или зла. «Избирайте лучшее, не следуйте советам лживых хвастунов», — призывает Арчил [6, 259 — 261].
Арчил проповедует гуманные идеи. Идеал общественной жизни у Арчила в известной мере соответствует воззрениям просвещенного абсолютизма. Могущество и процветание государства в значительной степени обеспечиваются воспитанием человека, считал он. Такое понимание роли воспитания сближает
его с Платоном и Аристотелем. Однако его взгляды сформированы исторической действительностью современной ему Грузии. Он стремился пробудить национальное самосознание народа. Для спасения страны недостаточно победы над внешним врагом. Главное — единение народа, сохранение его.духовных ценностей, высокая гражданская сознательность.
Арчил был первым деятелем так называемого грузинского Возрождения XVI — XVIII вв., поднявшим знамя просвещения. Его достойными продолжателями в XVIII в. были Вахтанг VI, Сулхан-Саба Орбелиани и Давид Гурамишвили.
Глава VIII ПРОСВЕЩЕНИЕ, ШКОДА И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ В АРМЕНИИ
1. ВО ПИТАНИЕ, ПРОСВЕЩЕНИЕ И ШКОЛА ДО СОЗНАНИЯ АРМЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ
Остатки материальной культуры племен Армянского нагорья II тысячелетия до н. э. доказывают наличие здесь высокоразвитой культуры: люди добывали и обрабатывали металл, изучали движение небесных тел, пользовались лунным календарем. Эти и другие сохранившиеся свидетельства предполагают наличие соответствующих форм знания, навыков, опыта и определенной системы их передачи от поколения к поколению.
В IX в. до н. э. создается централизованное государство Урарту (Айрарат). Высокий уровень развития хозяйства, культуры, наличие письменности (клинопись) в Урарту свидетельствуют о существовании учебно-воспитательных учреждений. Вероятно, школы действовали при храмах, а преподавание и воспитание находилось в руках жрецов. В этих школах обучались дети духовной и светской знати. Важнейшим компонентом учебно-воспитательной программы являлась военно-физическая подготовка, что было обусловлено постоянными войнами.
В VI — III в. до н. э. Армения или была независимым государством, или, сохраняя свою государственность, входила в состав Мидии, Ахеменидской Персии или Селевкидской державы. В начале II в. до н. э. Арташес I основывает централизованное государство — Великую Армению, которая достигла наивысшего расцвета при Тигране II Великом (I в. до н. э.). Однако непрерывные войны ослабили страну, и в начале I в. Армения теряет государственную независимость.
В эпоху Арташесидов Армения была вовлечена в сферу эллинистического культурного мира. Армянские цари, в особенности Тигран Великий и Артавазд 11, способствовали развитию науки, искусства и литературы. О царившей при дворе духовно-культурной атмосфере и интеллектуальной ориентации говорит то обстоятельство, что в Армении находили приют и поддержку многие известные поэты и ученые, бежавшие из Рима. Античные источники сообщают, что царь Артавазд сам «сочинял трагедии и писал речи и исторические сочинения» [31, XXXIII] (часть из них сохранилась).
По свидетельству Плутарха, Лукулл во время похода в Армению взял в плен крупного армянского ритора и грамматика Тирана Айказна. Благодаря своим глубоким познаниям в области риторики и грамматики последний приобрел в Риме большую популярность. Известно, что он собрал библиотеу из 30 000 книг, а также по просьбе Цицерона привел в порядок его личное книгохранилище и открыл в его доме грамматическую школу, в которой, вероятно, сам читал курс лекций по грамматике и риторике.
Сказанное дает все основания утверждать, что в Армении того времени существовали риторические и грамматические школы. Светская наука и литература развивались на греческом и арамейском языках, на которых велось и делопроизводство при царском дворе. Содержание обучения в светских школах эллинистического типа включало изучение грамматики, риторики, музыки, философии, математических дисциплин, а также различные спортивно-гимнастические занятия. В основном это были риторические школы, программа обучения в которых помимо риторического искусства включала грамматику, поэтику, историю и философию.
Помимо светской науки и литературы существовала и развивалась храмовая наука и литература. При храмах действовали духовные школы.
С воцарением на престоле Трдата I начинается эпоха Аршакидской Армении (66 — 428). Страна вновь приобретает государственную и политическую независимость, происходит разложение рабовладельческих и формирование феодальных отношений. Военно-экономическое и политико-идеологическое соперничество Персии и Римской империи за господство в Армении привело к разделу страны между ними (385). В византийской части Армении царство было ликвидировано сразу, а в персидской оно просуществовало до 428 г.
Члены царской фамилии и представители княжеских родов Аршакидской Армении получали эллинистическое образование. Исследования показывают, что «эллинистический город древней Армении и многочисленные языческие храмы не испытывали недостатка в образованных людях и жрецах» [6, 25]. Большой славой пользовался знаменитый ритор и философ Паруйр Айказн (276 — 367) — учитель римского императора Юлиана, христианских мыслителей и церковных деятелей Василия Кесарийского (Великого) и Григория Назиан-зина. Он был руководителем Афинской риторической школы, где обучались также армянские юноши.
До изобретения армянского алфавита (405) в Аршакидской Армении действовали иноязычные школы наподобие греческих и сирийских. Делопроизводство при царском дворе, особенно при последних Аршакидах, велось на греческом, сирийском и персидском языках. В школах наряду с армянами преподавали и приезжие педагоги (например, известный писатель, ритор и педагог II в. Ямблих Бабелонаци).
Школы делились на государственно-светские и храмово-духовные. В первых, предназначенных для более широкого круга сословий, обучали и подготавливали кадры для несения царской и государственной службы, а в храмоводуховных, где обучались дети жрецов, готовили духовных деятелей и ученых. Кроме того, имелись специальные учебные центры по военному обучению и воспитанию детей нахараров (князей больших областей) и азатов (феодалов) с целью подготовки их к военной службе. Эти центры действовали независимо от указанных типов школ и были в основном государственными, реже — частными. Как и в предшествующий период, школьное обучение и образование распространялось только на юношей. Воспитание и образование девушек было сугубо домашним.
С принятием христианства в качестве государственной религии (301) в Армении, как и в других странах, началось преследование языческой религии и культуры, насаждение христианской идеологии. Вместо храмовых школ основываются приходские и монастырские школы. Наряду с этим утверждаются светские школы, разветвленная сеть которых охватывает более широкие круги населения. Они финансировались государством, находились под его опекой и должны были способствовать распространению христианства.
Народная педагогика
Определенные сведения о воззрениях древних армян на нравственность и воспитание содержатся в древнейших мифах и сказаниях. Народ создал образы героев, наделенных физическими достоинствами и нравственными добродетелями и являвшихся образцом для подражания. В древнеармянском фольклоре отражена борьба армянского народа против чужеземцев, за свободу и независимость, за победу добра над злом. Так, в мифе о Гайке и Бэле народ воплотил идею борьбы света и тьмы, в ходе которой добро побеждает зло. Гайк с горсткой храбрецов выступает против исполина Бэла и в бою убивает его, избавив страну от порабощения. В представлении народа Гайк — носитель морально-этических и физических совершенств, которые в мировоззрении древнего человека составляли нераздельное единство. В мифе об Ара Прекрасном и Шамирам народ воспевает героя, властелина Армении, не согласившегося стать мужем ассирийской царицы-красавицы. Разгневанная отказом царица идет войной на Армению, и Ара Прекрасный погибает.
Касаясь генезиса эпоса, академик М. Абегян отмечал, что «если мифы очень мало подвергались историческому влиянию и зачастую являются заимствованиями, то эпос, напротив, своим происхождением, в общем и целом, является исконным национальным, самостоятельным творчеством» [1,30]. Главными героями древнеармянского народного эпоса выступают цари и правители Армении, сыгравшие историческую роль в судьбах страны: Тигран Великий, Ерванд, Арташес, Артавазд и другие. В эпосе превозносится мужество и физическая сила, мудрость и рассудительность, красноречие и красота, честность и другие добродетели героев, их стремление к благоустройству и обогащению страны, а тем самым — к возвышению своего народа, к защите страны от вторжений внешних врагов; обличается зависть, обман, коварство, нарушение наследственных прав и т. д. Так, о Тигране говорится: «Он владел своими страстями, был велемудр и красноречив во всем полезном для человечества», «не завидовал лучшим (мужам), не презирал простолюдина, а старался равномерно простирать на всех покров своей заботливости» [18, 24].
В народном эпосе центральной идеей является борьба против экспансионистских притязаний Сасанидской Персии [1, 110]. Воспевается воинская доблесть, преданность родине и государю, самопожертвование во имя величия страны и царя, победа добра над злом. Такое восхваление героев и их деяний преследовало определенные цели: внедрить в сознание широких народных масс эти возвышенные и благородные идеи и образы, способствовать единению народа, чтобы вести борьбу за национальную независимость.
2. ПРОСВЕЩЕНИИ, ШКОЛА И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ В V- X ВВ
С упразднением Аршакидской династии Армения надолго попала в зависимое положение от Сасанидской Персии, Византии, Арабского халифата. Народно-освободительные войны 450 — 451 и 481 — 484 гг. против персидских захватчиков позволили Восточной Армении приобрести полунезависимое положение до конца 60-х гг. VI в. В 571 г. началась народно-освободительная борьба против усилившихся притязаний Персии, в которую по просьбе армян включилась и Византия, что привело к присоединению Восточной Армении к Византийской империи. Возникшая длительная война между державами за господство в Армении завершилась вторым разделом страны — на этот раз большая часть ее отошла к Византии. В середине VII в. Армения подверглась нашествию войск Арабского халифата. По заключенному в 652 г. договору Армения признала верховную власть халифата и в течение определенного периода пользовалась рядом привилегий и сохраняла внутреннюю самостоятельность и целостность. Однако в конце VII в. страна была полностью завоевана арабами (698).
В IX в. начинается процесс разложения халифата и усиления княжеского рода Багратидов. В 885 г. халиф признал Ашота Багратуни царем Армении. Возрождение государственной и политической независимости сыграло важную роль в восстановлении и развитии хозяйства, городов, ремесленного производства, торговли, культуры. В 961 г. столицей Багратидской Армении становится г. Ани.
После насильственного раздела Армении в 385 г. и окончательной потери государственной независимости (428) на первый план был выдвинут вопрос национальной самозащиты, который требовал объединения всех сил страны. В этот период главную роль в политико-идеологической и культурной жизни народа начала играть армянская церковь, которая и взяла на себя эту историческую миссию. С усилением духовного и идеологического влияния церкви на широкие массы встал вопрос об освобождении ее от засилья иноземного духовенства и принятии официальным языком церкви армянского языка (вместо сирийского и греческого). Но этому мешало отсутствие национальной письменности, богослужебных книг. Только созданием армянского алфавита можно было вытеснить из церковного и культурного обихода чужие языки.
Эта задача была выполнена гениальным ученым и просветителем Месропом Маштоцем (361 — 440). Он служил в царской канцелярии, затем перешел на воинскую службу, а с 394 г. посвящает себя миссионерской деятельности. На деле он убеждается в том, что недоступные простому народу сирийский и греческий языки препятствуют распространению христианства и влиянию новой идеологии на народные массы. Маштоц приходит к мысли о необходимости создания армянского алфавита и национальной письменности. Он находит поддержку и одобрение со стороны католикоса Саака Партэва, царя Врамшапу-ха и всеармянского собора.
На основе изучения алфавитов разных народов Маштоц создал армянский алфавит.
Это сыграло неоценимую роль в духовном и интеллектуальном развитии народа, создало прочный фундамент для развертывания борьбы за сохранение или восстановление национальной и государственной независимости (6, 33].
Маштоц развернул учебно-просветительскую и литературно-переводческую деятельность, открыл многочисленные школы для обучения на родном языке. Центром образования, просвещения и подготовки учительских кадров и наставников становится столица Вагаршапат. Здесь обучали также придворную знать и азатов. По окончании учебы юноши направлялись в разные области Армении для обучения народа армянской грамоте и распространения христианства, а наиболее одаренные — в культурные центры Византии, Сирии и Александрии для совершенствования в науках, языках и подготовки к переводческой работе.
Маштоц создает алфавиты также для иверского и агванского языков и при непосредственной помощи царей и епископов этих народностей налаживает школьное образование и перевод книг, оставив в качестве наставников и надзирателей своих учеников. Церкви этих соседних дружественных народов были тесно связаны с армянской церковью [2, 183].
Маштоц и особенно Саак Партэв усиленно работали со своими учениками над переводами, дабы «облегчить просвещение своего народа» [2, 213]. Они перевели на армянский язык Библию, что способствовало превращению этого языка в общенациональный литературный язык и дало «официальное признание живому разговорному языку...» [6, 35]. Анализ деятельности первой армянской переводческой школы показывает, что она в своей работе руководствовалась определенной программой, переводя книги из основных разделов христианской литературы: библики, герменевтики, литургики идр. Богатая переводная литература послужила базой для становления оригинальной армяне-кой христианской литературы.
С 60-х гг. V в. возникает серьзная опасность духовно-идеологической экспансии Византии. «Именно эти причины и обусловили необходимость создания специальной философской и иной светской научной литературы...» [6, 142]. Данная задача была осуществлена грекофильской школой, крупнейшими представителями которой были Давид Керакан (Грамматик), Мовсес Хоренаци, Давид Анахт (Непобедимый). Благодаря деятельности этой школы была создана богатая историческая, философская и другая оригинальная литература, сформировалась философско-эстетическая терминология. Грекофилы следовали разработанной программе, опиравшейся на античную классификацию наук, в частности аристотелевскую, которая легла в основу системы средневекового образования и была принята в учебных и научных центрах того времени. Проблемы, разрабатывавшиеся в грекофильской школе, широко освещаются в трудах Давида Анахта,
Первым переводным памятником стало «Искусство грамматики» Дионисия Фракийского. После грамматики был переведен труд по риторике «Книга Хрий» («Книга пользы»).
Деятельность грекофильской школы охватывает почти 3 столетия. За это время было переведено более 35 произведений и созданы десятки оригинальных трудов. Благодаря грекофильской школе были заложены прочные основы светского направления в армянской теоретической мысли.
Школа и обучение
Первая армянская школа, открытая Маштоцем в Ва-гаршапате, стала местом подготовки учителей и наставников. Вторую подобную школу он открывает в Сюникской области. Постепенно Маштоц создает широкую школьную сеть по всей Армении, а функционирующие до того греко- и сироязычные школы превращает в армяноязычные, сохраняя при этом преподавание греческого и сирийского языков. В школах изучали языки, арифметику (теорию чисел)1, историю, музыку, богословские дисциплины, приобщались к естественнонаучным знаниям. В школах высшего типа помимо перечисленных предметов изучались грамматика, риторика, философия, литература. Ученики приобретали, по-видимому, и определенные педагогические навыки и умения.
Все новооткрытые учебные заведения по их уровню и назначению можно подразделить на школы, училища, семинарии и вардапетараны. Первоначально они основывались государством и церковью, а после низложения династии Ар-шакидов — при содействии церкви и общин. В начале V в. важную роль играли государственные светские школы, находившиеся под опекой и на содержании государства и предназначавшиеся для относительно широких слоев общества — как знати, так и трудового люда.
Доминирующее положение занимали духовные школы — церковно-монастырские. Здесь помимо изучаемых в государственных светских школах предметов — правописания, арифметики, музыки, религии — в программу входили также грамматика, риторика, философия, богословие. Эти специальные учебные заведения назывались вардапетаранами. В числе наиболее известных вардапе-таранов в V — VII вв. были школы областей Айрарата, Сюника, Аршаруника.
1 В армянских школах обучение буквам и искусству числа проходило одновременно: буквы армянского алфавита имели как фонетическое, так и арифметическое значение.
После успешной сдачи соответствующих выпускных экзаменов слушатели получали степень вардапета (ученого) и право на преподавание и проповедничество.
После ликвидации Армянского царства (428) государственные светские школы были закрыты; вместо них основываются новые церковно-монастырские и частные школы, содержавшиеся на средства общины.
Важной формой получения высшего образования и приобщения к достижениям мировой науки и культуры явилось обучение молодых армян в зарубежных центрах науки и просвещения.
В V — VII вв. происходят определенные сдвиги в области преподавания и изучения семи свободных искусств — предметов тривиума и квадривиума. Важную роль в деле внедрения в школьное образование арифметики, геометрии, астрономии, музыки (теории музыки) сыграла школа Ширакаци. Церковномонастырские школы были доминирующими вплоть до IX в., т. е. создания Баг-ратидского царства. В этот период светская школа отступила на задний план, а в некоторых областях страны перестала существовать.
С конца IX в. вновь открываются светские школы. Государство, создавая учебные заведения, определяло круг изучаемых предметов, финансировало школьное дело, заботилось о распространении образования и просвещения. Существенному изменению подверглось содержание образования. Наряду с доминирующими в системе образования духовными науками начинают уделять большое внимание грамматике, логике, философии, естественноматематическим дисциплинам, медицине, теории календаря и т. д.
Существовавшие в средневековой Армении различные школьные, учебные заведения можно классифицировать следующим образом: по характеру — а) духовные, б) светские; по форме — а) государственные, б)общественные, в) монастырские, г) церковно-епархиальные, д) частные (домашние); по уровню — а) начальные (элементарные), б) средние, в) высшие.
Педагогическая мысль в Армении в V — X вв.
Выдающимися представителями культурно-просветительской мысли рассматриваемого периода являются Месроп Маштоц, Саак Партэв, Езник Кохбаци, Мовсес Хоренаци, Давид Анахт, Анания Ширакаци, Степанос Сюнеци и другие. В своих учениях они выразили главные педагогические идеи своего времени, того или иного идейного направления. Развитие педагогической мысли не всегда осуществлялось по восходящей линии, а было обусловлено конкретными социально-политическими и историческими условиями в политической истории страны.
Месроп Маштоц (361 — 440) — гениальный ученый и мыслитель, создатель армянского алфавита и письменности, основатель первых армянских школ, «первый учитель» и «первый переводчик». На склоне лет, не будучи в состоянии непосредственно выступать перед народом, он сочинял поучительноназидательные «многовещательные речи», размноженные списки которых рассылались во все концы Армении. Таким образом он поддерживал духовную связь с народом, просвещая и наставляя его. Маштоц считал, что человек, наделенный разумом и свободой воли, может по своему усмотрению стремиться как к добру, так и к злу, ему «дана свобода воли, дабы он поступал, как пожелает» [32, 140]
Он выдвигает и обосновывает идею активного сопротивления злу, что в первой половине V в. приобретало особое социальное и национальное звучание,. 1
1 Цитаты из трудов Маштоца даются в переводе С. С. Аревшатяна.
ибо «идея сопротивления злу, с целью его пресечения и искоренения, являлась выражением назревшей схватки с иноземными захватчиками» [6, 66].
Учение, постижение мира есть длительный и многоступенчатый процесс. Мир устроен богом как большая школа, чтобы человек сумел научиться постепенно познавать окружающую природу. «Само познание созданных творений» происходит «наподобие обучения знакам письменности», и им даны «наименования, дабы наименования давали возможность отличать буквы друг от друга» [27, 69]. Следовательно, по Маштоцу, методы и способы познания мира и обучения совпадают, составляют единый процесс.
Человек — единственное существо, наделенное разумом, познающим интеллектом. Однако мыслительно-познавательные способности человека проявляются не сразу. Эти прирожденные способности необходимо развивать и воспитывать. Каждый возраст требует соответствующих форм и методов воспитания и обучения. Раскрытие и развитие потенциальных интеллектуально-познавательных способностей находятся в прямой зависимости от уровня воспитания и обучения. «Когда тело, — пишет Маштоц, — благодаря питанию растет и переходит в совершенный возраст, с помощью обучения искусствам, назиданий учителей по мере роста тела разумная и мыслящая душа соответственно проявляет знание и мудрость» [27, 150]. Воспитание, обучение и познание внешнего мира в своей совокупности способствуют развитию и совершенствованию мыслительно-познавательной способности и деятельности, а тем самым и знаний.
Таким образом, цель воспитательно-образовательной деятельности человека Маштоц видит в соответствующей подготовке людей к изучению материального мира (и на этой основе — к постижению сущности его творца). В этом — основное содержание и направленность научно-просветительской и проповеднической деятельности Маштоца.
Саак Партэв (348 — 439) — выдающийся деятель культурно-просветительского движения IV — V вв., один из первых переводчиков. Будучи католикосом Армении (387 — 439), он в своей деятельности уделял большое место проблемам воспитания и просвещения, которые были подчинены одной цели: сделать доступным и понятным для широких народных масс христианское учение. В сохранившихся «Канонах Саака Партэва» отмечается, что «школы в монастырях», церквах и «других достойных местах» должны стать очагом просвещения народа [10, 372], так как от уровня организации школьного дела зависит и дело просвещения. Просвещенность и любовь к наукам — обязательное условие для духовных чинов, так как от этого зависит просвещение всего народа.
Езник Кохбаци (ок. 360 — 450) — крупный мыслитель и просветитель, духовный деятель и переводчик, ученик Маштоца и Партэва. Соавтор принятого на Арташатском соборе (449) «Ответа персам», где обосновывается требование о свободе совести и вероисповедания, о праве народов на самостоятельное политическое и культурное развитие. По Кохбаци, всякое зло — результат свободной воли человека, и поэтому от ответствен за совершаемые деяния. Порабощение — проявление злой воли людей. Поэтому необходимо организовать всенародное сопротивление злу. Цель Езника — преподать истинное учение, наставлять и обучать побеждать в теоретических спорах посредством убеждения и доказательства. Он поставил много этических и педагогических вопросов, подчеркивал значение как природной способности, так и внутреннего стремления к приобретению знаний. Важное место отводится им не только приемам и способам обучения, но и наставлению, формированию в учениках духовно-психологической установки, воспитанию чувства уверенности в успехе [16, 58], силе воздействия живого примера. Учитель должен поучать, наставлять, а иногда и заставлять способного ученика. В качестве крайней меры он считал возможным и телесное наказание. Процесс обучения мыслился им как двуединый процесс.
Способности, знания, добротели сами по себе ничего не значат, если не становятся достоянием других людей, общества. В наибольшей мере это относится к учителю, функция которого в постоянной передаче знаний ученикам. Тем самым ставится вопрос о социальной значимости и ценности знаний, о преемственности в развитии и передаче их. Физическое и духовно-интеллектуальное развитие человеческого индивида он делит на три основных периода, каждому из которых присущи определенные познавательные возможности и уровни.
Мовсес Хоренаци (ок. 410 — 492) — крупный мыслитель и просветитель, отец армянской историографии, один из основателей грекофильской школы. Учился в Вагаршапатской школе, а затем в Александрии, Эдессе, Италии, Афинах. Венцом многолетнего труда явилась его «История Армении», завершенная накануне нового антиперсидского народного восстания (80-е гг. V в.) и написанная на основе разработанной им научно-философской и политико-исторической концепции. Автор стремится примерами героического прошлого своего народа воодушевить соотечественников, внедрить в их сознание и воспитать в них чувство патриотизма, вооружить идеей национальной и государственной независимости, показать культурную самобытность народа, убедить, что всенародная борьба во имя свободы и независимости страны не только правомерна, но и оправдана всем ходом истории (18, 3 — 4]. Обращение к историческому прошлому не самоцель, оно имеет актуальное воспитательное значение, ибо прошлое должно служить уроком, наказом, предупреждением, образцом для подражания в настоящем и будущем. Труд самого Хоренаци на протяжении столетий являлся основным учебным пособием по истории в средневековых армянских школах и универститетах.
Хоренаци — убежденный сторонник распространения просвещения и образования, развития наук и искусств. Менее развитые в тех или иных областях науки и культуры народы должны обращаться к помощи более цивилизованных народов, приобщаться к их культурным ценностям, исходя из потребностей интеллектуального развития своего народа.
Он выдвигает ряд методологических и методических принципов научно-исследовательского и педагогического характера. Основные из них: из множества мнений должно приниматься достоверное; из различных источников наиболее авторитетными являются письменные свидетельства и мнение сведущих людей; при изложении материала или в процессе обучения надо отталкиваться от основных фактов, не нагружая слушателей второстепенными сведениями; критическое отношение к используемому материалу; необходимость повторов с целью прочного усвоения и закрепления материала; познание и обучение должны быть нацелены на выявление сущности; любое знание должно основываться на предыдущих разысканиях; освещение изучаемого факта в его развитии; изложение истории может идти как в хронологической последовательности (от начала до конца), так и в обратном направлении.
Только теоретически подготовленный и морально безупречный человек имеет право быть учителем и наставником. Хоренаци особо подчеркивает значимость народного языка в деле распространения просвещения и воспитания: «Эту Историю мы изложили языком общеупотребительным, дабы (читатель), не ища красноречия, полюбив правдивый наш рассказ, чаще и чаще и с жадностью предавался чтению отечественной нашей истории» [18, 143].
Давид Анахт (Непобедимый) (70-е гг. V в. — середина VI в.) — великий армянский философ, просветитель и педагог. Образование получил в Александрийской неоплатонической школе Олимпиодора Младшего. По завершении учебы посвящает себя научно-педагогической работе. Он побывал также в Афинах и Константинополе, участвовал в философских диспутах с видными философами того времени и удостоился титула «Непобедимого философа». По возвращении в Армению он развернул научно-просветительскую и переводческую деятельность с целью приобщить армянскую интеллигенцию к светским научно-философским знаниям и античной образованности.
Сочинения Давида содержат почти все области философской науки того времени: логику, гносеологию, онтологию, эстетику, этику, учение о человеке, натурфилософию и т. д., однако все они подчинены одной идее — интеллектуального и морального совершенствования личности. Духовное совершенство, по Давиду, выше всякого знания. Это — конечная цель философии [6, 299]. Процесс познания мира (и обучения) предполагает поэтапный переход от чувственно-конкретного к бестелесному и затем к абсолютно нематериальному. Данная гносеологическая установка и определяет очередность изучения наук: естествознание (физика) — математика — метафизика (или теология). Как в философском, так и в педагогическом плане здесь следует отметить акцентирование необходимости связующего звена между двумя крайностями, невозможности прямого перехода от одной полярности к другой. Это — один из основных принципов давидовской классификации наук, которая «легла в основу средневекового образования и способствовала кристаллизации различных отраслей знания» [7, 27] в Армении, так как она отражала также основные этапы процесса обучения, программу и содержание изучения наук.
Знание Анахт подразделяет на разумное и практическое. Разумное состоит из двух ступеней — низшей и высшей. К низшей относятся грамматика, риторика, логика (или диалектика); к высшей — формальная логика, теоретическая и практическая философия. Процесс обучения начинается с изучения грамматики, затем через риторику приступают к логике, которая, с одной стороны, завершает цикл предметов первой ступени, а с другой — создает предпосылки для усвоения цикла высшей ступени. Каждая дисциплина второго цикла в свою очередь делится на три части. Так, теоретическая философия подразделяется на естествознание, математику и метафизику (теологию). Математика же делится на арифметику, музыку, геометрию и астрономию [15]. Практическая философия состоит из этики, экономики и политики и направлена на изучение человеческого поведения, достижение истинно духовного совершенства и добродетели.
Таким образом, Давид Анахт не только разработал стройную классификацию наук, но и выдвинул целостную, всеобъемлющую программу обучения, которой следовали (с определенными сокращениями) в высших школах и университетах Армении. Она предусматривала постепенное восхождение от одной дисциплины к другой, от одного уровня к другому, более высокому.
Вопрос приобретения знаний Анахт рассматривает, исходя из аристотелевских категорий «возможности» и «действительности». Овладение знаниями требует длительного обучения и воспитания, так как человек, появившись на свет, «еще ничего не знает действительно, а всего-навсего знает о возможности» [15, 67]. Но в человеке, особенно в детях, заложен зародыш стремления к знаниям, любознательность — «теоретическое начало» [15, 81 — 82]. Следовательно, человек in potentia обладает способностью познания, однако ее актуализация требует соответствующего воспитания и обучения.
Ученый подразделяет человеческие качества на приобретенные и прирожденные добродетели. Прирожденные — это те качества, которые «зависят от состава тела и не связаны друг с другом... Такие качества называются рабскими и неразумными» [15, 69]. Приобретенные же качества — добродетели причинно осознанные, благодаря чему между ними устанавливается связь. Добродетели называются приобретенными, так как они выработаны «обычаем и наставлением». Анахт подчеркивает воспитательную силу искусства, в частности музыки, которая «повергает душу в различные состояния и придает ей настроение» в зависимости от вида и содержания музыки, соответственно настраивающих душу человека [15, 88 — 89].
Ученый выдвигает ряд методических принципов исследования и изложения материала, многие из которых имеют также дидактический характер. Он считает, что анализ какого-либо сочинения или изложение работы должны исходить из определенной системы принципов, что обусловлено «желанием вызвать усердие у читателя» [15, 103]. Так, ознакомившись с целью, читатель или слушатель «в сжатом виде» воспринимает «все положения» произведения, а усвоив полезность ее, выясняет, каким запросам отвечают содержащиеся в книге сведения, чтобы «с еще большей охотой» взяться за ее изучение. Анализ названия произведения обусловлен тем, что «хотя название и должно быть созвучным цели и сжато выражать ее», однако иногда оно неадекватно выражает содержание. Исследование подлинности необходимо, так как многие люди, не будучи в состоянии сами «отличить истинное от ложного, полезное от бесполезного... предпочитают следовать мнениям (знаменитого) учителя», известного своими познаниями [15, 104]. Разделение на главы обусловлено тем, что, «познавая главы как части», можно «с легкостью познать и целое» [15, 105]. Очередность освещения проблем позволяет составить систематическое и полное, логически выдержанное представление о содержании всего труда.
Следует особо остановиться на методах и способах преподнесения материала, ибо «имеется множество способов преподавания» [15, 105]. По Давиду, существует четыре способа наставления: разделительный, определительный, доказательный и аналитический. В основе возникновения желания к исследованию и приобретению знаний лежит изумление: тот, кто «не изумляется, тот и не начинает исследовать и не философствует». В процессе обучения (изложения) необходимо следовать принципу ясности, что способствует более легкому усвоению материала.
Идеи и положения, выдвинутые в трудах Давида Анахта, сыграли определяющую роль в дальнейшем развитии армянской теоретической мысли, легли в основу учебно-образовательных программ высших школ и университетов.
Анания Ширакаци (ок. 605 — ок. 685) — великий мыслитель, педагог, математик, космограф, географ, картограф, основоположник естественнонаучного направления в армянской теоретической мысли. Образование получил в Ширакаванской школе, одном из лучших учебных заведений того времени, где обучали языкам, искусству письма и чисел, грамматике, риторике, философским, естественнонаучным, богословским и другим дисциплинам [33]. Ширакаци приходит к выводу, что глубокое овладение философской наукой невозможно без соответствующей математической подготовки. С целью более основательного изучения естественнонаучных и математических наук он путешествует по разным странам и городам Востока. В течение 8 лет учился в Трапезуйте у известного византийского ученого-математика Тюхикоса (в первые 4 года прошел курс «среднего» образования, а в последующие 4 года — «высшего»), изучил многочисленные рукописи его богатейшей библиотеки, и особенно те, которые не были еще переведены на армянский язык [3, XIX]. После 11 лет странствований он возвращается на родину. В конце 30-х гг. разворачивает бурную научно-просветительскую деятельность, основывает школу высшего типа, где главное внимание уделяется изучению математических дисциплин — арифметики, геометрии, астрономии и теории музыки. Обучали также теории календаря, космографии, географии, философии, армянскому языку и другим наукам. Хотя в армянских школах и преподавались семь свободных искусств, но наиболее распространенным было преподавание гуманитарных дисциплин. Созданная Ширакаци школа была призвана восполнить пробел, существовавший в системе образования, реализовав тем самым одну из назревших социально-культурных потребностейнарода; она стала очагом распространения свободолюбивых идей и просвещения молодого поколения.
С целью внедрения в систему высшего образования естественнонаучных и математических дисциплин Ширакаци написал в соответствии с разработанной им новой учебной программой труд «Киникон», включающий все основные разделы этих наук. Отдельные части этого труда впоследствии рассматривались в качестве самостоятельных произведений [22, 67], важнейшими из которых являются: «Космография», «География», «Теория календаря», «Автобиография», учебник по арифметике — один из древнейших памятников подобного рода в истории мировой математической мысли. В них обобщены, систематизированы и осмыслены многие достижения античной и национальной философии и науки. В условиях господства религиозного мировоззрения Ширакаци обращался к наследию античности как источнику знаний.
Одна из особенностей научно-философского наследия Ширакаци — связь с жизненными реалиями. Мыслитель и педагог Ширакаци, не игнорируя роли генетического фактора, выступал против преувеличения роли прирожденных способностей, придавая решающее значение воспитательному фактору — школьному и индивидуальному обучению и воспитанию, широкому социальному воздействию на человека в процессе становления его морально-духовного облика.
Ширакаци разработал новую методику и программу обучения, в частности естественнонаучным и математическим дисциплинам. Сбзданная им система обучения предполагала по завершении изучения наук квадривиума вновь обратиться к изучению предметов тривиума, но уже на другом, качественно ином уровне, с привлечением ряда тесно связанных с науками тривиума и имеющих прикладное значение дисциплин [12, 7 — 8; 22, 71].
К числу важнейших дидактических принципов и методов Ширакаци, некоторые из которых были новы для того времени, относятся: 1) простота и ясность формы преподнесения материала, составления учебников и методических указаний с целью более глубокого и легкого усвоения изучаемого материала (метод доступности); 2) акцентирование внимания слушателей на наиболее узловых вопросах (метод прочности); 3) обращение к данным наблюдения и опыта, привлечение иллюстративного материала из окружающего мира и жизненной практики для наглядного раскрытия содержания и объяснения рассматриваемых теоретических положений (принцип наглядности); 4) «упрощение» преподносимого материала с целью избежания повторов, но не во вред его научности; 5) логически правильное построение знаний; 6) систематизация и классификация материала, приведение его в логически стройную и целостную систему; 7) использование различных литературных источников в процессе преподавания и изложения учебно-методических работ должно быть подчинено одной цели — раскрытию содержания данной дисциплины и ее лучшему усвоению; 8) обучение должно строиться как процесс восхождения от низшего к высшему, от простого к сложному, от легкого к трудному; 9) учет образовательного и интеллектуального уровня слушателей; 10) каждодневный настойчивый труд — основа обучения и приобщения к наукам [33, 210, 214, 337 и др.]. Перечисленные дидактические принципы и педагогические требования Ширакаци осуществлял в своей научно-педагогической деятельности.
Программа и методика обучения Анании Ширакаци определили пути развития школьного дела в средневековой Армении. Его научные труды оказали влияние не только на армянских, но и на византийских ученых.
3. ПРОСВЕЩЕНИЕ, ШКОЛА И ПЕДАЕОГИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ В АРМЕНИИ В X — XIV ВВ.
С восстановлением независимости Армении (885) начинается новая страница в политической и культурной истории армянского народа. Столица Багратидской Армении город Ани (с 961 г.) становится крупнейшим центром политической, экономической и культурной жизни страны. Наряду с развитием производительных сил происходят изменения и в социальной структуре общества. Появляется городское сословие; в общественную и культурную жизнь проникают светские мотивы. Одним из главных стимулов роста городов, расцвета городской жизни, а вместе с ней и ремесленного производства была международная транзитная торговля между Востоком и Западом [21, 35].
Однако Багратидам не удалось объединить под своей эгидой все армянские земли. Феодальная раздробленность являлась одной из главных причин внутренней слабости и неустойчивости Армении, затруднявших сопротивление частым вторжениям завоевателей. В 1045 г. Ани пал под ударами византийцев, н страна подпадает под власть Византийской империи. Вскоре возникает новая грозная опасность со стороны турок-сельджуков, которые овладели большей частью Армении. Ряд армянских княжеств сумели сохранить свою независимость, другие вели неравную борьбу против завоевателей. С конца XI — начала XII в. происходит ослабление сельджукского государства и распад его на эмираты. Объединенные армяно-грузинские войска под командованием князей Закарэ и Иванэ Захарянов постепенно освобождают территорию Грузии и северо-восточную Армению (в том числе г. Ани), вошедшую в состав Грузии и получившую определенную самостоятельность. За время недолгой мирной передышки была вновь восстановлена экономика страны, оживились ремесленное производство, внешняя и транзитная торговля. Но развитие культурно-экономической жизни Армении было нарушено нашествием татаро-монгольских орд. В 40-е гг. XIII в. Армения подпала под их власть.
Еще в XI в. (1080), когда большая часть Армении находилась под чужеземным игом, в далекой Киликии образовалось новое армянское государство, просуществовавшее до 1375 г. [26]. Армяне поселились в этих местах еще при Тигране Великом (I в. до н. э.), однако их численность резко увеличилась в XI — XIII вв. вследствие сельджукского, а затем татаро-монгольского нашествий. Вскоре после образования Киликийское Армянское государство становится центром политической и культурной жизни армянского народа. Но непрекращающиеся войны против соседних государств, а также внутренние междоусобицы ослабили Киликийскую Армению и привели ее к падению.
Подъем экономической и политической жизни Армении, расцвет городов и ремесел, изменения в структуре общественных отношений, духовные потребности, возникшие в связи с этими процессами, породили и соответствующую культуру, отразившую всю сложность и противоречивость эпохи. Усиливается интерес на только к гуманитарным, но и естественнонаучным и техническим знаниям. Исследования показывают, что в средневековой Армении получили развитие такие области знания, как химия, медицина, биология, математика, строительная механика, астрономия и др., которые непосредственно были связаны не только с теоретическими изысканиями, но и с практическими нуждами армянского общества; они опирались на ремесленную практику и исходили из нее.
Школа и обучение
Расцвет науки и культуры был невозможен без хорошо разработанной системы школьного обучения и образования. С восстановлением армянской государственности появились благоприятные условия для развития школьного дела, распространения образования и просвещения. В средневековой Армении существовало несколько типов школ. В народных и частных школах в основном обучали чтению, правописанию, пению и счету. Основным же очагом распространения образования являлись монастырские школы — элементарные и высшие. В школах высшего типа (университетах) изучали почти все известные к тому времени науки и искусства. В этот периоде Армении насчитывалось несколько десятков высших школ, среди которых особенно выделялись Нарекская риторическая школа, Анийская философская школа, высшие школы Санаина и Ахпата. Впоследствии большую роль играли Гладзорский и Татевс-кий университеты [9]. Крупными очагами средневековой армянской культуры, центрами подготовки ученых, учителей-наставников были монастырские школы и библиотеки.
Остановимся на программах обучения и образования, принятых в Гладзор-ском и Татевском университетах и определивших пути дальнейшего развития школьного обучения и просвещения. Действовавшая в университетах учебнообразовательная программа была разработана грекофильской школой в V — IV вв., в частности Давидом Анахтом. Все слушатели в течение 7 — 8 лет должны были пройти весь курс и усвоить целую систему богословских и светских наук.
Учебная программа включала 12 частей философии: естествознание, математику, этику, экономику, политику, арифметику, музыку, геометрию и труды по риторике, 7 книг по философии, 72 книги Ветхого и Нового заветов, писания святых вардапетов и 51 эпическое сказание [30, 1 — 2]. Стержнем светского образования являлось преподавание семи свободных искусств. Курс высшего образования начинался с изучения грамматики, которая включала не только вопросы, связанные с языком, но и теорию литературы, поэтику и теорию искусства. После грамматики следовало изучение риторики, в содержание которой входили правила и принципы риторического искусства, сведения о литературном творчестве, стиль, правила составления или изложения произведений различных жанров и т. д. Учебником по этой дисциплине в основном являлась «Книга Хрий», включающая как риторические сочинения Афтония, Теона Александрийского и Николая Мюрского, так и самостоятельные разделы практического назначения.
Вслед за риторикой изучалась логика (или диалектика), которая, с одной стороны, завершала первый этап высшего образования, а с другой — вводила студентов в область философских наук. Овладение логикой открывало путь к изучению философии со всеми ее разделами и подразделами.
В Гладзорском и Татевском университетах последовательно изучали части теоретической и практической философии. В теоретическую философию входили естествознание, математика и теология. Преподавание начиналось с приобщения студентов к естественнонаучным знаниям, затем приступали к изучению четырех математических дисциплин и в конце к самой сложной части — теологии, что объяснялось необходимостью ступенчатого восхождения от познания материального к познанию абсолютного, нематериального.
В число математических наук входили: арифметика, музыка, геометрия и астрономия. Арифметику («искусство исчисления»), которую в качестве учебной дисциплины армянских школ ввел Анания Ширакаци, изучали по составленным им арифметическим таблицам. Затем шло обучение музыке, во время которого студенты знакомились с принципами искусства пения, а также приобретали знания по теории музыки. Геометрию изучали параллельно с географией. Наряду с теоретической преподавалась и прикладная геометрия. После овладения астрономией студенты приступали к изучению метафизики. Успешное завершение курса теоретической философии давало возможность перейти к изучению частей практической философии: этики, экономики и политики.
В Гладзорском и Татевском университетах обучение велось на основе сочинений как христианских авторов, так и античных мыслителей и их толкований.
Завершив полный курс обучения, студенты обязаны были сдавать выпускные экзамены, проанализировать в письменной форме какое-либо сочинение по выбору наставников и подготовить выпускную речь, которая произносилась в присутствии учителей и выпускников университета, а также приглашенных представителей духовенства, светской власти и покровителей. Выпускники по случаю окончания учебы должны были или сами переписать одну рукописную книгу, или заказать на свои средства писцу [9, 44]. Выпускнику присваивалась ученая степень вардапета и вардапетский посох, дававшие право на самостоятельное преподавание. Вардапетская степень считалась «более высоким титулом», чем церковный чин.
Формы и методы обучения в средневековой Армении
В средневековых армянских школах в зависимости от эпохи, характера школы и других факторов продолжительность срока обучения была различной. Сроки обучения в общественных школах составляли 2 — 5 лет, в церковных 4 — 5 лет, в монастырских — 4 — 6 лет, а в школах высшего типа — 7 — 8 лет. Школьный возраст мог длиться с 6 до 25 лет. Затем следовал университетский возраст. Люди, посвятившие себя науке, и после окончания курса совершенствовали свои познания в том или ином университете или у известного вардапета-учителя в индивидуальном порядке.
Занятия в школах проводились по группам или классам. При этом различные группы вели занятия в одном помещении (в основном это касается элементарных и средних школ) и под руководством одного учителя, обучаясь разным предметам. Разделение на группы проводилось в соответствии с возрастом и знаниями учеников [28, 67].
К числу общепринятых достаточно разнообразных методов и форм обучения относились: коллективная работа с группой и индивидуальные занятия с учеником, чтение — индивидуальное и коллективное, письмо — отдельно и совместно с группой, одновременное обучение чтению и письму, лекция, беседа — коллективная и частная, самостоятельная работа над книгой, повторы и упражнения, опыты, опрос и оценка, историко-описательный, толковательно-объяснительный, демонстративно-иллюстративный и другие методы.
Важнейшими формами и способами нравственного воспитания были: личный пример учителя, назидательные беседы и речи, коллективные и индивидуальные наставления, поощрение выделившегося своими знаниями и примерным поведением ученика и наказание отстающего, телесные наказания провинившихся учеников и т. д.
На выбор учителей и наставников обращалось особое внимание. Он регулировался целым рядом законов и постановлений, суть которых сводилась к тому, что учитель несет ответственность за судьбу ученика и отвечает перед народом. Так, в «Канонических установлениях» армянского католикоса Константина (1221 — 1267) отмечается, что «учителя, обучающие грамоте, должны назначаться по свидетельству многих лиц, дабы были они ученые и образованные, сведущие и опытные во всех отношениях, точно так же и ученики, обучающиеся грамоте, должны выбираться самим (учителем) и с большим тщанием и осмотрительностью» [20, 189].
Иноземное засилье мешало естественному историческому развитию страны, прерывало процесс развития культуры, в частности школьного дела. Армянские школы часто действовали в недоступных горных районах страны или в областях, пользовавшихся определенной привилегией или независимостью. Были и странствующие учителя, которые открывали временные частные и народные школы, где обучали элементарным знаниям — чтению, письму, пению и счету. Многие из них были мирянами и не имели духовного сана.
Начинается развитие школьного дела и за пределами страны — учреждаются школы, училища, семинарии в густо населенных армянами городах и районах: Константинополе, Тифлисе, Крыму и др.
Педагогическая мысль в Армении в X — XIV вв.
Анания Нарекаци (начало — конец X в.) — известный педагог, ритор, поэт, основатель Нарекской риторической школы. Он возродил преподавание семи свободных искусств. Задачу обучения Нарекаци видел в передаче определенной суммы знаний и их усвоении учениками, а также приобретении ими навыков и умений творческого применения их. Он подчеркивает значение опытной реализации знаний, которая играет роль критерия усвоения учениками знаний. Большое внимание Нарекаци уделяет воспитательно-формирующей силе искусства. Искусство оперирует образами, несущими эмоциональный заряд, благодаря чему оно воздействует на духовный мир человека, порождая различные чувства-состояния. В процессе художественного творчества и обучения важное место отводится примерам, взятым из окружающего мира. В творчестве Нарекаци явственно выступают характерные для его эпохи тенденции к обмирщению науки, искусства и образования.
Григор Магистрос (ок. 990 — 1058) — выдающийся философ, ученый, просветитель, педагог, военный деятель. Получил блестящее образование в Анийской высшей школе и Константинополе, овладел философскими, естественнонаучными, математическими и богословскими науками, получил основательное военное образование. Прекрасно разбирался в древнегреческой, византийской, персидской, сирийской и арабской науке, философии и литературе. Был удостоен высокого воинского титула магистра и назначен наместником императора Константина в Междуречье.
Магистрос сыграл огромную роль в деле распространения светской науки и образования, развития школьного дела и просвещения в Армении. Он открыл несколько школ, сам преподавал и занимался научно-литературной работой. Его имя тесно связано со школами Ани, Бджни, Кечариса, Санаина и др. Он основал и высшую школу, которая, «по-видимому... была передвижной и сопровождала наставника-князя при его переездах в разные провинции Западной Армении» [8, 171].
Магистрос резко критиковал односторонность религиозно-богословского образования, выступая поборником изучения светских наук. В деле просвещения важное значение придавал разветвленной сети народных школ, что вынудило всерьез заняться вопросами упорядочения и реформы учебно-воспитательного процесса с учетом возрастных и умственных способностей учеников, разработки и уточнения содержания, программ и плана обучения.
По Магистросу, обучение — длительный, многоступенчатый процесс, стержнем которого является изучение семи свободных искусств. Однако предварительно надо овладеть искусством чтения и письма, содержанием Ветхого и Нового заветов, знанием древней мифологии, отрывков из важнейших памятников античной литературы, приобщавших учеников к литературному стилю и языку античной классики [12, 105], к светскому мышлению.
Этот подготовительный этап предваряет изучение наук тривиума. Затем необходимо усвоить грамматику, искусство риторики и лишь потом перейти к изучению философии, т. е. данная программа обучения в основном опирается на принципы классификации наук и учебной программы грекофильской школы. Важное значение Магистрос придает переводам памятников науки и философии, полагая, что при этом надо руководствоваться определенной разработанной программой, отвечающей потребностям учебно-образовательного процесса. Он перевел на армянский язык «Геометрию» Евклида, приступил к переводу «Федона» и «Тимея» Платона.
Подобно другим деятелям армянской науки и просвещения, Магистрос глубоко сознавал значение государственной и политической самостоятельности в деле развития школы и образования, распространения просвещения в народе.
Ованес Саркаваг Имастасер (1045 — 1129) — один из универсальных умов и энциклопедически образованных людей средневековья. За свои многогранные и глубокие познания он был прозван современниками «великим философом», «божественным философом», «ритором», «поэтом», «святым вар-дапетом» и т. д. Первоначальное воспитание и образование получил в Ахпат-ском монастыре, а затем у вардапета Урчаци [34, 119; 19, 15]. Свои знания он совершенствует в г. Ани, где существовала развитая школьная система, преподавались светские науки. Получив солидную теоретическую подготовку, он приступает к самостоятельной научно-педагогической работе. Вероятно, в 70-е гг. он становится руководителем Анийской школы.
Об уровне обучения в Анийской школе Саркавага говорит тот факт, что здесь изучались грамматика Дионисия Фракийского, ее армянские толкования, искусство риторики, логика и философия Аристотеля, математика (в частности, по трудам Филона Александрийского, Никомаха и Ширакаци), календароведение, музыка, богословие и другие научные дисциплины. Саркаваг сам преподавал многие из названных наук и учил «прежде всего грамматике, ключу науки, наставнику чтения и источнику десятка интонаций, с помощью которой разделяются мысли, распознается сила талантливых и услаждающих слух внимающих, которая знакомит с долгими и краткими слогами, с гласными и согласными, со смысловым ударением... с восходяще-нисходящей интонацией и употреблением апострофа, дабы не начинать строфу с середины и, поставив запятую в конце взнак окончания мысли», получить «иной смысл» [19, 16 — 17].
Саркаваг обучал риторике и философии, космографии, теории календаря, математическим дисциплинам и астрономии.
Судьба вновь связывает Саркавага с Ахпатским монастырем, где продолжалась его плодотворная научно-литературная и педагогическая деятельность. Вероятно, в Ахпате он и реформировал армянский календарь (1084), положив начало новому армянскому летосчислению, которое было названо его именем. Благодаря его стараниям школа при Ахпатском монастыре превратилась в школу высшего типа, программа обучения в которой совпадала с программой Анийской школы. Саркаваг уделял большое внимание изучению письменного наследия прошлого, проделал огромную работу по выявлению затерявшихся или полузабытых произведений древних авторов.
Он явился реформатором школьного образования в средневековой Армении, внедрив новую систему и методы обучения.
Саркаваг воспитал целую плеяду талантливых учеников, сыгравших заметную роль в развитии армянской письменности и просвещения. Он пользовался славой великого ученого-философа и просветителя и за пределами Армении, оставив богатое научно-философское и литературное наследие. Сар-каваг одним из первых выдвинул положение о необходимости непосредственного естественнонаучного познания внешней природы, опытного знания. Наука должна быть нацелена на исследование причинно-следственной связи, так как не «может называться знанием то, что основано на мнении без познания причин, как и (не может быть) науки без достоверного знания» [34, 256]. К числу основных методов научного исследования относятся наблюдение, опыт, объяснение.
Познавательной способностью (интеллектом) обладает только человек. Приобретение знаний находится в прямой зависимости от этой способности.
Важнейшими методико-дидактическими принципами Саркавага являются: 1) необходимость использования практических занятий и упражнений «для (развития) внимания и наблюдательности» [19, 17); 2) обучение должно идти от простого к сложному, от менее сложного к более сложному, от известного к неизвестному; 3) учитель должен так преподнести изучаемый материал, чтобы «возбудить и заострить ум любознательных» отроков [34, 148]; 4) «способы обучения» не являются вечными, они подлежат изменению в зависимости от конкретных обстоятельств [34, 239]; 5) процесс обучения должен быть построен по принципу доступности и наглядности, что определяет и прочность усвоения материала учениками; 6) в основе совершенствования знаний лежат учение и трудолюбие, так как «всякое знание и искусство приумножается и укрепляется, становится прекраснее по природе одним путем — усиленным учением и усердным трудом. Одновременно учение и труд исправляют ошибки, (идущие) от любознательности» [34, 253]; 7) всякая сумма знаний или истина, до которой на определенном этапе доходит обучение или познание, одновременно заключает в себе момент «абсолютности» и «относительности»; 8) обучение (и познание) идет от незнания к знанию, от неполного знания к более полному и совершенному, от относительных знаний к менее относительным, от мнения к знанию. Относительные знания — необходимое условие, ступень в достижении более полных и адекватных знаний [25, 179 б); 9) знание любого порядка должно пройти опытную проверку, после чего только оно становится истинным знанием; необходимо учиться самому добывать знания; 10) в научном споре или дискуссии необходимо учитывать специфику и методы той области знания, к которой относится обсуждаемая проблема. Смешивание же методов различных наук и искусств не может привести к взаимопониманию и выявлению истины [25, 144 а]; 11) каждому виду ремесла, искусства или научной дисциплины свойственны специфические методы и способы обучения. Это касается также систематизации, обработки и обобщения приобретенных знаний в рамках отдельной области знания [24, 111 б — 112 а]; 12) в процессе обучения должна соблюдаться смысловая определенность, ибо «двусмысленность — мать заблуждения» [23, 285 б]; 13) «родительницей» всех наук, искусств и ремесел является природа; она — высший учитель; надо учиться у природы, следовать образцам природы и воспроизводить их в своих творениях [29, 360; 34, 319 — 324]; 14) в художественной деятельности возможна и даже необходима творческая фантазия, вымысел. Цель искусства — творческое воспроизведение действительности [34, 360]; 15) подлинное искусство требует таланта, природного дарования, но имеет значение и обучение искусству; 16) искусство выполняет объединяющую, познавательно-просветительскую и воспитательную функции, тем самым служа интересам общества [29, 360].
Саркаваг впервые в истории армянской школы и педагогики ввел метод единовременного обучения чтению и письму.
Труды Ованеса Саркавага использовались в качестве учебных пособий вплоть до XV в.
Мхитар Гош (ок. ИЗО — 1213) — мыслитель, правовед, писатель, педагог и общественный деятель. Учился у известного вардапета Ованеса Тавушеци, дважды удостаивался ученого звания вардапета. Он — автор первого «Армянского Судебника». В нем и в других своих произведениях Гош высказывает мысли, имеющие непосредственное отношение к школе, обучению, просвещению и воспитанию: «В возрасте 3 лет ребенок начинает говорить, в 7 лет — обучаться знаниям, в 14 лет отрок приобретает способность к деторождению, в 20 лет — способность к военной службе, в 25 лет — может стать священником...»; необходимо не укорять за допущенные ошибки, а «исправлять их»; критерий подбора учителей — знания, стремление к самосовершенствованию, честность, непорочность, преданность науке; обучение детей должно быть бесплатным, «учителям приличествует брать на себя полное содержание детей-сирот»; функция учителя — в наставлении, обличении и исправлении и т. д. [ 11 ].
В своих притчах Мхитар Гош возвеличивает добродетель, скромность, знание и мудрость, осуждает невежество, алчность, трусость. Гош считал, что притчи имеют большое значение для наставления, обучения и воспитания широких кругов читателей и слушателей.
Ованес Воротнеци (1315 — 1386) — выдающийся философ, педагог, общественный деятель, основатель Татевского университета (1373). Образование получил в Гладзорском университете. Наряду с богословскими дисциплинами он изучил грамматику, риторику, логику, естественнонаучные и математические науки, философию, языки — греческий и латинский и т. д. Он воспитал и обучил плеяду талантливых учеников, которые продолжали дело просвещения в Армении. В богатом творческом наследии Воротнеци, объемлющем почти все области средневекового знания, продолжается и углубляется демаркация научно-философского и богословского знаний, наметившаяся еще у Ованеса Саркавага.
К числу важнейших методологических, педагогических и методических принципов Воротнеци относятся: 1) обучение наукам и искусствам должно идти от «привычного» к «непривычному», от известного к неизвестному; 2) необходимо критическое отношение к употребляемым или создаваемым понятиям;
3) всякое сравнение правомерно и осмыслено лишь в пределах «одного рода»;
4) основа обучения и приобретения знаний — упорный, ежедневный труд, повторение усвоенного и укрепление его в памяти; 5) акцентирование роли сомнения в процессе обучения и исследования, в определении достоверности приобретаемых знаний; 6) на пути к обучению «имеются 4 помехи» — болезнь, занятость, нужда и нелюбовь к учению; 7) качества человека бывают «природными» и «благоприобретенными» в процессе длительного обучения и воспитания; 8) учение — источник морального и интеллектуального совершенствования человека; 9) мера — основа всех человеческих добродетелей и поступков; 10) мысль человека только в процессе обучения и познания заполняется знаниями; 11) обучение должно вестись как в устной форме (лекции, беседы), так и в письменной [17, 27, 129, 145, 147, 159 и др.].
Научно-философское наследие Воротнеци — одно из высших достижений средневековой армянской теоретической мысли, которое получило развитие в трудах его знаменитого ученика Григора Татеваци. Современниками он был удостоен титула «трижды великого армянского философа и учителя».
Григор Татеваци (1346 — 1409) — крупнейший педагог, философ, ученый, музыкант, живописец и церковно-политический деятель. Родился в городе-крепости Тмкаберд Гугаррской области, в семье ремесленника. Был зачислен в Татевскую школу, где около 20 лет учился у Ованеса Воротнеци, по завещанию которого принял руководство Татевским университетом и занял кафедру главного наставника. Помимо ректорства в университете Татеваци
исполнял функции руководителя Апракунисской высшей школы, читал курс лекций по различным научным дисциплинам в Мецопской, Сагмосаванкской и Ереванской школах, выступал с речами и проповедями. Он был не только педагогом и просветителем, но и идейным вождем, выступая против идеологического воздействия католической церкви.
Татеваци оставил многочисленные труды, в которых рассматриваются проблемы почти всех областей средневековой науки. Многие из его трудов были написаны в учебных целях и служили в качестве школьных пособий. Немало внимания он уделяет вопросам обучения, образования и воспитания, проявляя оригинальный подход к решению многих из них. Человек рождается от природы голым и лишенным как телесных, так и духовных благ, пишет Татеваци. Все это приобретается человеком после своего рождения — «святость и знание для души» и материальные блага [14, 105]. Душа человека (разумеется, это в первую очередь касается ребенка) «подобна неисписанной доске или вымытому пергамену», которая наполняется содержанием в процессе длительного воспитания, обучения, наблюдения и исследования внешнего мира [14, 454]. В человеке заложена «способность к познанию», которая актуализируется лишь в процессе соответствующего воспитания и образования, к тому же не сразу, а постепенно.
В раскрытии потенциальных способностей ребенка, в формировании его внутреннего, духовного мира важное место занимает учитель-наставник, функции которого заключаются в ограждении ученика от порочных влияний, в привитии любознательности и в незаметном, постепенном заполнении его души, что невозможно без предварительного расположения «сердца ученика». Обучение необходимо начать с раннего детства — семилетнего возраста, когда органы чувств ребенка весьма восприимчивы ко всему, а душа свободна и «чиста» от злободневных тягот и ненужных знаний. В процессе обучения учитель должен руководствоваться принципами наглядности, ясности, доступности.
Подобно тому как природа «постепенно поднимается от несовершенного к совершенному» [13, 254), точно так же процесс обучения должен строиться по принципу перехода от простого к сложному, от известного к неизвестному. При этом учитель-наставник должен принимать во внимание как индивидуальные умственные способности учеников, так и фактор их физического развития.
Принцип гармонического развития ребенка требует сочетания нравственноинтеллектуального и физического воспитания, так как духовное и телесное начала тесно взаимосвязаны: «Если не действует телесное, то не действует и духовное» [14, 115]. Преподавание должно вестись в определенной последовательности, иметь внутреннюю логику. Обучение — многоэтапный процесс; переход от одного этапа к другому возможен лишь тогда, когда учитель убедился в том, то предшествующий объем знаний полностью усвоен учениками. В качестве крайней меры наказания и крайней формы воспитания может применяться телесное наказание. Ребенок с детства должен приобщаться к труду, обучиться ремеслу. Показателем степени усвоения учениками знаний является не «словесное заучивание», а их непосредственное практическое применение, использование знаний. Критерием истинности знания является реальная действительность, соответствие знания познаваемому объекту.
Творчество Григора Татеваци — вершина средневековой армянской теоретической мысли, которая аккумулировала в себе достижения предшествующих эпох и в значительной степени вышла за рамки средневековой науки и философии.
4. ПРОСВЕЩЕНИЕ, ШКОЛА И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ В АРМЕНИИ В XV — XVII вв.
В конце XIV в. Армения была разорена полчищами Тимура, а после распада его государства страна подверглась грабежу и насилию со стороны кочевых туркменских племен, которые и господствовали в Армении в XV в. В начале XVI в. начались длительные войны между Османской Турцией и Сефевидской Персией, в результате которых Армения была вновь разорена. По мирному договору 1555 г. Западная Армения перешла к Турции, а Восточная — к Персии. Однако и после этого страна неоднократно завоевывалась враждующими сторонами, до заключения в 1639 г. мирного договора между Турцией и Персией. Социальный гнет сочетался с национально-религиозным, и народные массы Армении неоднократно-с оружием в руках выступали против него.
До середины XV в. наука, культура, образование в Армении сохраняли традиции предшествующих периодов. Видными деятелями школы и воспитания в этот период являлись Товма Мецопеци, Аракел Сюнеци, Акоп Крыпеци и другие. С середины XV в. наметился упадок армянской культуры. Со второй половины XV в. центры образования и просвещения перемещаются в армянские колонии.
С конца XVI в. и особенно с начала XVII в. вновь возрождается тенденция к оживлению школьного дела и образования. К числу учебных центров, которые достигли определенного расцвета, относятся монастырская высшая школа Большого Анапата в Сюнике и Багешская Армдольская высшая школа. В Сюникской школе, основанной в конце XVI в., кроме богословских дисциплин преподавались грамматика, риторика, литература, философские науки. Для ведения занятий приглашались многие известные ученые того времени. Здесь обучали также искусству письма, рисованию, переплетному делу, изготовлению красок и чернил. Многие выпускники этой школы впоследствии стали духовными и школьными деятелями. Армдольская высшая школа была основана Барсегом Гавареци. Школа действовала по разработанной им учебно-образовательной программе. Важное место в ней отводилось изучению грамматики, литературы, истории и философии. Кроме этого, здесь обучали каллиграфии и рисованию. Благодаря широкому кругу изучаемых предметов, наличию сведущих и опытных педагогов школа начала привлекать внимание как любознательных юношей, так и многих передовых людей. Выпускники школы стали распространителями просветительских идей, создателями новых школ, организовывали книгохранилища-библиотеки. В XVII в. эта школа превратилась в университет.
Подобные школы в XVII в. открывались в Агулисе, Нор-Джуге, Исфагани и других местах. В Кутинской школе, построенной и содержавшейся на средства населения, обучалось 250 учеников. Характерной особенностью школы было то, что обучение мальчиков и девочек было совместным.
Выдающимся событием в культурной жизни армянского народа явилось начало армянского книгопечатания. В 1512 г. в Венеции увидела свет первая армянская книга, содержавшая сведения по медицине. В следующем году было издано уже 5 книг. Создателем первой армянской типографии и основателем армянского книгопечатания является Акоп Мегапарт. Впоследствии его дело было продолжено Абгаром Тохатеци в Венеции, а потом в Константинополе. В XVII в. одним из основных центров армянского книгопечания становится Амстердам. Типографии были основаны также в г. Джуге (Джульфа), Львове, Мадрасе и других.
На поприще литературы и искусства появились такие деятели, как поэт Мкртич Нагаш (XV в.), крупный представитель светской поэзии Григорос Ахтамарци (XVI в.), выдающийся поэт Наапет Кучак (XVI в.), поэт, певец и художник Нагаш Овнатан (XVII в.) и другие. В произведениях этих авторов содержатся сведения о состоянии школьно-образовательного дела в Армении, культуры, науки и искусства, выдвигаются идеи и положения педагогического, методического и дидактического характера, что свидетельствует о том, что, несмотря на общий культурный упадок, в различных уголках страны, а также за ее пределами продолжали существовать отдельные очаги образования и культуры.
В XVII в. возрождается интерес к философским, естественнонаучным, математическим, логическим, историческим, грамматическим, эстетическим знаниям. Появляется значительное количество оригинальной переводной и комментаторской литературы, имевшей как научно-философское, так и образовательное значение. Видными представителями науки, философии и педагогики рассматриваемого периода являются Степанос Лехаци, Симеон Джугаеци, Ованес Джугаеци, Аракел Даврижеци и другие.
В этот период появляется «Книга историй» крупнейшего историка и одного из просвещеннейших людей того времени — Аракела Даврижеци (1670). Книга нацелена на пробуждение национального самосознания армянского народа, воспитание высоких чувств гражданственности и патриотизма. Она призывала к борьбе против иноземных поработителей, к политическому и военному единению всех сил народа. Труд Даврижеци проникнут верой в созидательную и духовную силу армянского народа. В нем есть главы, посвященные школьно-просветительскому движению, начавшемуся в XVII в. Просветительскую и наставническую деятельность ученых-вардапетов среди молодежи и народа в целом, основание школ различного типа, возрождение и включение в учебные программы светских наук: философии, логики, грамматики, астрономии и др. Даврижеци характеризует как героический подвиг во имя настоящего и будущего армянского народа, закладывающий фундамент духовного возрождения нации, и мощный фактор сохранения национальной самобытности.
Даврижеци касается некоторых методических и исследовательских принципов: добросовестное отношение к объекту исследования; необходимость критического отношения к излагаемому материалу и сообщаемым сведениям; искренность, честность и объективность исследователя; исследовательский материал и само изложение должны быть подчинены определенной концепции (для Даврижеци это идея национальной независимости); знания должны стать достоянием народа; для необразованных и неопытных отроков и «мужчин-тугодумов» необходима специальная программа обучения; логика является введением ко всем «внешним наукам»; изложение по правилам грамматической науки облегчает чтение и усвоение материала [5, 39, 211 — 212, 307 — 308 и др.].
Труд Аракела Даврижеци, написанный разговорным языком, стал одной из распространенных и любимых книг армянских читателей, выполнил поставленную автором просветительно-воспитательную задачу.
Обобщая сказанное, можно дать следующую характеристику рассматриваемому периоду: XVII век — период восстановления прерванных под влиянием внешних факторов национальных культурных традиций, возрождения духовных ценностей прошлого с учетом ряда достижений европейской теоретической мысли и создания на этой основе соответствующей культурно-образовательной и научно-философской базы для дальнейшего духовно-интеллектуального развития армянского народа. Этот культурно-возрожденческий процесс осуществлялся не только, а точнее, не столько в пределах исторической Армении, сколько за ее пределами — в многочисленных армянских колониях, разбросанных по всему свету.
Глава IX ПРОСВЕЩЕНИЕ, ШКОЛА И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
I. ПРОСВЕЩЕНИЕ И ШКОЛА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО КОНЦА XVII В.
В глубокой древности на территории Азербайджана возникали города, развивались ремесла, торговля, земледелие, скотоводство. Это послужило предпосылкой зарождения и развития материальной и духовной культуры в Азербайджане, о чем свидетельствуют результаты археологических раскопок, а также наскальные изображения. В Гобыстане обнаружено более 3600 силуэтных, контурных рисунков людей, животных, композиции бытовых сцен, борьбы животных, разные знаки и надписи, выполненные в основном арабским алфавитом.
Развитие культуры в древнем Азербайджане происходило во взаимодействии с культурой сопредельных стран Закавказья и Переднего Востока. История духовной культуры, в частности системы воспитания и обучения детей, в Азербайджане в древние века мало изучена, хотя некоторые исследователи на основе свидетельства античных и восточных авторов утверждают, что в Азербайджане до VII в. существовали зороастрийская и христианская системы школ [37, 12]. Дошедший до нас письменный памятник — Авеста, своеобразная энциклопедия эпохи, — также является свидетельством существования воспитательной системы. Авеста — многовековое творение многих народов Ближнего и Среднего Востока, в том числе и предков азербайджанского народа — мидян [16, 57]. Этот памятник включает в себя не только религиозные, мифологические, но и философские, моральные, социально-политические и экономические идеи.
Авеста имела для своего времени и педагогическое значение, закрепив традицию передачи поколениям религиозных и нравственных идей в систематизированном виде. Как и другие религиозные книги (Псалтырь, Часослов и др.), она, вероятно, служила и учебным пособием.
Создатель религии зороастризма Заратустра придавал большое значение воспитанию. «Воспитание, — писал он, — должно считаться важнейшим столпом жизни. Каждого необходимо воспитать так, чтобы он, научившись читать и писать, поднялся на высокую ступень» [10, 45]. Согласно Авесте, воспитание и обучение детей и молодежи должно состоять из трех частей: а) религиозное и нравственное воспитание; б) физическое воспитание; в) обучение чтению и письму. Особое внимание уделялось воспитанию таких нравственных качеств, как религиозность, трудолюбие, справедливость, доброта. Религиозно-нравственное и военно-физическое воспитание было доступно всем, а обучение чтению, письму и счету — лишь детям высших слоев общества. Для них существовали дворцовые школы, где военному искусству обучали знаменитые полководцы. Письму, чтению и счету учили маги, игравшие важную роль в духовной жизни общества. При обучении они пользовались методами показа, рассказа, беседы.
В III — V вв. в Азербайджане развивались феодальные отношения, возникли крупные города: Дербент, Ширван, Шеки, Барда, Тебриз, Гянджа, Нахичевань и др. В III в. Азербайджан был захвачен Сасанидской династией Ирана и оставался под ее властью до конца V в. В Сасанид-ских владениях население делилось на 4 сословия: жрецов, воинов, писцов (к которым принадлежали составители документов и записей, писатели, учетчики, юристы, географы, астрологи и т. п.), прислуживающих (земледельцы, торговцы, ремесленники и т. п.) [11, 91]. Представители первого и третьего сословий должны были получать определенное образование. В «дебириста-нах» — школах начальной грамоты — в период власти Сасанидов обучение велось на пехлевийском (среднеперсидском) языке. Пехлевийская письменность распространилась в Азербайджане в начале новой эры. В конце V в. народ восстал против Сасанидов под водительством Вачага III. В результате было образовано самостоятельное государство, получившее название Албания. Развитие феодальных отношений и рост городов, усиление борьбы против зороастризма, консолидация албанских племен и создание их межплеменного языка (аранского), распространение христианства привели к некоторым общественно-экономическим и политическим изменениям, сказавшимся и на системе воспитания и обучения детей в Албании.
В начале V в. в Албании был принят алфавит из 52 букв, имеющий некоторое сходство с грузинской и армянской письменностью [17, 41 — 43]. Этот факт имел большое культурное значение, так как создавалась возможность переписки книг, письменного общения, издания законов. Сведений о школах этого периода почти не сохранилось.
В летописи Кавказской Албании «История Агван» имеется следующее сообщение: «Богом венчанный Вачаган приказал собрать детей волхвов, чародеев, жрецов, персторезов и знахарей, отдать в училища, учить их божественной науке и сделать сведущими в христианской жизни для утверждения их в ней. Когда он сам приходил в села для совершения поминок святым, то заходил часто в школы, вокруг себя собирал жрецов и волхвов, кругом его собиралась большая толпа; у некоторых в руках были книги, у других доски; он приказывал всем читать громко и сам радовался более, чем если бы он нашел великое сокровище» [14, 38]. Опираясь на это и другое упоминание о школе, К. В. Тревер пишет, что «как в Армении и в Иберии, так и в Албании в V в. существовали школы» [29, 313], причем речь идет не о городских, а о сельских школах.
Возникновение и развитие мектебов и медресе
В середине VII в. Азербайджан подвергся нашествию арабов и после 90-летней борьбы был покорен ими. С того времени и до начала XIX в. система воспитания и обучения в стране стала иметь главной целью распространение ислама. Все начальные школы были превращены в духовные и учреждались при мечетях, обучение в них вело мусульманское духовенство. Предметами обучения были арабская грамота и чтение Корана. Кто знал текст Корана наизусть, тот считался успешно окончившим школу. На мусульманском Востоке начальная духовная школа имеет название «кетебе» и «мектеб». Школы готовили духовенство и чиновников из местных людей, знавших арабскую грамоту [5, 140 — 147]. В VI — XII вв. арабский язык был не только языком религии, но и языком науки, государственным языком на всем мусульманском Востоке, находившемся под властью халифата. Постепенно он вытеснил местную письменность и школу на родном языке.
Мусульманская система образования развивалась в соответствии с требованиями времени: нужны были грамотные люди, знавшие мусульманское богословие, арабскую философию, нужны были медики, географы и историки, астрологи, математики и др. Первоначально для подготовки таких кадров служили крупные мечети, в частности старейшая соборная мечеть Ал-Мансура в Багдаде. Возник новый тип учебных заведений — медресе, имевший две ступени — среднюю и высшую. В XII в. существовали медресе и в таких городах Азербайджана, как Нахичевань, Гянджа, Тебриз, Шемаха, Хамадаи.
Известно, что в 80-х гг. XII в. в Нахичевани было открыто медресе и издан специальный указ о порядке преподавания в нем [8, 1270]. В этот период высшие учебные заведения были и в г. Марата и Гянджа, а близ Шемахи была открыта высшая медицинская школа — «Медресе-тибб».
В XII в. сформировалась мусульманская система образования в Азербайджане. Она включала следующие типы школ: мектебы — школы начального обучения; медресе — школы, дававшие среднее образование, а некоторые из них и высшее. Кроме медресе существовало обучение и в так называемых ханегях, где наставник-богослов, принадлежавший к той или иной мусульманской секте, обучал своих приверженцев и впоследствии направлял их В разные страны для пропаганды учения. Можно было получать образование в объеме медресе при знаменитых гробницах (духовное) и при обсерваториях (общенаучное) .
Широкое распространение получило и индивидуальное обучение. Существовала также система образования дворцовой молодежи. Начальное духовное образование получали у дворцового муллы. Затем упражнялись в овладении военным искусством под руководством опытных военачальников — атабеков.
Мектебы открывались при мечетях муллами, которые за свой труд получали вознаграждение от родителей учащихся. Медресе, как правило, открывались высшими духовными властями и содержались за счет вакуфных доходов — специальных пожертвований имущими людьми пахотных земель, садов, магазинов. Сеть мектебов и медресе постепенно расширялась, и некоторые из них открывались в частных домах. Нередко медресе учреждались в комплексе религиозных и научных учреждений. Так, в начале XIV в. в Тебризе был учрежден «Эбваб-аль-бирр» («Ворота благотворения»), который представлял собой городок, где находились мечеть, библиотека, обсерватория, учебные, лечебные, санитарные и хозяйственные учреждения. В библиотеке было ценное собрание рукописных книг. При «Эбваб-аль-бирр» существовало медресе — своего рода средневековый университет [27, 228 — 234]. Примерно такой же университет был основан в 1312 — 1314 гг. при шемахинской Джума-мечети.
В процессе археологических раскопок, проведенных в 1983 — 1984 гг. на территории шемахинской Джума-мечети, обнаружен комплекс этого учебного заведения. Здание четырехугольной формы было построено из хорошо обтесанных камней и выжженного кирпича, состояло из 8 келий, в каждой из которых размещалось до 10 студентов [7].
В Тебризе и в некоторых других городах Азербайджана возникли специальные школы художественной каллиграфии, в которых готовились переписчики рукописей ценных научных и литературных произведений и религиозных книг. Поскольку не существовало книгопечатания, профессия переписчиков была очень популярной.
Школа Азербайджана в XIII — XVII вв.
В 1220 г. в Азербайджан вторглись монгольские орды, нанесшие тяжелый урон культуре и экономике страны. Разрушенными оказались большинство городов, в которых находились школы и другие культурные центры. Только к середине XIV в. Северный Азербайджан полностью восстановил свою независимость, а в Южном Азербайджане продолжала стоять военно-кочевая монгольская знать. В конце XIV в. страна опять была завоевана и разорена, на этот раз войсками Тимура.
Тем не менее и в этот тяжелый период истории Азербайджана его культурное развитие не было полностью остановлено. XIII — XVII века отмечены творчеством выдающихся мыслителей и ученых, таких, как Катран Тебризи, Абу Салех Гази Шуейб, Абу Саид Нишабури, Кюхи Мухаммед ибн Бакуи, Хатиб Гусейн ибн Гасан Алармури, Касим Гянджеви, Мухаммад Нахчивани, Абуль Ула-Гянджеви, Абуль Гасан Ансари и многие другие. Монгольские поработители старались использовать знания и умения других народов и охотно брали к себе на службу ученых и поэтов. Связи Азербайджана со Средней Азией, Грузией, Арменией, Ираном и арабским Востоком продолжали развиваться.
Существовавшие в стране в конце XII — начале XIII в. различные типы учебных заведений, такие, как мектебы, медресе, ханегяхи (школы, поэтов) и другие учебные заведения, подвергались разрушению; многие из них прекратили существование. Каждый новый государь, захватив власть, начинал переустройство государства, в том числе и учебных заведений. Во время монгольского владычества при дворцах были открыты военные школы. В них обучали различным физическим упражнениям, метанию копья, диска, стрельбе из лука.
В XIII — XV вв. в азербайджанских городах Нахичевани, Ордубаде, в Карабахской провинции существовали медресе двух видов: «медресейи-Иршадия» и «медресейи-Вехтания». Срок обучения в первом составлял 14, во втором — 16 лет. Они разнились и по содержанию образования. Кроме богословских наук в «медресейи-Вехтания» изучали астрономию, алгебру, грамматику, географию и языки [20, 68].
В средние века в медресе широко пользуются в учебных целях переводной литературой с греческого на арабский и фарсидский языки.
В XIV в. в Азербайджане основывается высшее учебное заведение «Да-руль-Финуи» (Тебриз). Как сообщает историк того времени Рашид-ад-дин, в нем обучалось тыс. студентов, большинство которых составляли азербайджанцы.
В целом в XIII — XIV вв. в стране насчитывалось около 170 мектебов и около 30 медресе. Среди последних особой известностью пользовались Шафиитское, Ханифитское, Газаниййе, Фелекиййе, Насриййе, Музаффариййе. Обучение в мектебах и медресе было платным, поэтому отдавать в них своих детей могли только люди имущие.
Одной из характерных особенностей этого периода является привлечение внимания общественности к созданию литературного наследия на родном языке. В связи с этим ряд просветителей проявили инициативу в осуществлении некоторых практических мероприятий. К ним можно отнести составленные на азербайджанском языке диваны Али Иззаддином Гасан оглы, учебное пособие «Сихахан-аджам» по изучению фарсидского языка Хиндушаха Нахичевани, работу ученого-каллиграфа Гаджи Мирали Табризи.
Во всех учебных заведениях (кроме школы секретарей) уроки велись на двух языках: арабском и фарсидском. Арабский был языком религиозным, а фарсидский — светских предметов. В мектебах, организованных при мечетях, обычно было всего два учителя. Они обучали детей богословию, арифметике, чтению и письму. Обучение проходило по отдельным группам, число учащихся в которых не превышало 8 — 10 человек. Сроки обучения в мектебах определялись их руководителями, и основатель мектеба сам решал, чему и как учить.
Сроки обучения в медресе были различными — от 14 до 16 лет. Преимущественное внимание уделялось преподаванию религиозных предметов. Однако во многих учебных заведениях изучались и светские науки — диалектика («джадл»), математика, геометрия, тригонометрия, астрономия, филология, правоведение, юриспруденция, поэтика, философия. Но «джадл» и философию изучали только с разрешения государя. Преподавал эти науки «катиб» (секретарь), который пользовался не меньшим почетом, чем богословы.
Учебников не было, и на уроках изучали произведения классиков: «Китаб уль-Агани» («Книга песен») Аббаса ибн Тархана, «Китабе-Назмиййе» («Книга стихов») Мухаммеда ибн Баиса, «Урджизе» и «Ганун фитиби» Ибн Си-ны, «Философия» аль-Фараби, «Ахлаги-Насири» («Мораль Насира»), «Ада-буль Мутеелимин» («Поведение учащихся») Н. Туей, «Гюлистан» и «Бустан» Саади, рукописные книги по астрономии и математике Бируни.
Методы преподавания различных наук со временем приобретали все большие особенности. Шел процесс отделения одного предмета (фани) от другого. Например, от богословия отделилось законоведение. Многие знаменитые деятели культуры выступали в роли учителей. Например, автор «Истории Азербайджана» Фахраддин Абуль Фадла ибн ал-Мусанны ат-Табризи читал лекции в медресе «Низамиййе» в Багдаде. Там же преподавал Абуль Фадла Махмуд ал-Ардабили.
Большое развитие получили в Азербайджане школы со специальным профессиональным уклоном. Особое место среди них занимали школы каллиграфии. Азербайджанские каллиграфы создали свою школу художественной каллиграфии, снискавшую всемирную славу. Для каллиграфов писались специальные пособия, например «Книга о художестве и каллиграфии» Казн Ахмеда, в которой содержатся интересные сведения об учебных заведениях.
Наряду со школами каллиграфии существовали школы музыки, где обучались игре на кононе, сазе, зурне, нагаре, школы зодчества, где преподавались математика, геометрия, живопись, рисунок и география. Для всех школ обязательным было изучение основ ислама. Самой известной школой была Нахичеванская, созданная виднейшим зодчим XII в. Эджеми ибн Эбубекром Нахичевани.
В XV — XVII вв. в связи с распространением ислама росла потребность в служителях культа, на которых кроме духовных дел возлагался и ряд мирских обязанностей. Росла потребность и в грамотных людях; правителям нужны были мирзы (писари) для ведения делопроизводства, феодалам — грамотные сборщики налогов, купцам — грамотные помощники для ведения торговых дел. Все это приводило к росту сети медресе, где обучалось большое число учащихся.
В г. Баку, Шемаха, Тебриз, Ардебил создавались учебные заведения повышенного типа. Для них пишутся и переводятся учебники по этике, истории, географии, философским наукам. На ниве просвещения трудились известные ученые и мыслители XV в.: Абдул Гейдар Астрабади, Идрис ибн Исамеддин, Табризли Бадреддин, Амир Сеид Ахмед Лалеви, Мирза Насрулла Хойский, Джалеледдин Мухаммед Довани, Сеид Яхья Ширвани, Абдуррашид Бакуви, Фетуллах Тебризи, Шукруллах Ширвани, Абулфет Тебризи и другие.
В XVII в. число мектебов и медресе росло вместе с ростом крупных городов. По свидетельству турецкого путешественника Овлия Челеби, в 1647 г. в Тебризе функционировали 47 крупных медресе, в которых изучались мусульманское богословие и различные средневековые научные дисциплины. В них преподавали многие ученые и высшие духовные лица. Мектебов в Тебризе было около 600. Описывая Шемаху, Челеби отметил наличие здесь 7 медресе и 40 мектебов [15, 296]. Число мектебов и медресе росло и в других городах Азербайджана — Ардебиле, Марате и Гяндже. В XVIII в. в стране действовало около 1200 начальных школ и около 100 средних и высших учебных заведений. В каждом из них число учащихся колебалось от 50 до 1000. В медресе обучение велось в форме лекций [13, 68], которые читались на родном, азербайджанском языке. Срок обучения в мектебах и медресе зависел от способностей учащихся и подготовленности преподавателей. В мектебах он длился 6 — 8, а в медресе доходил до 15 — 20 лет. Прием и выпуск произ-
водились в течение всего года. В мектебы и медресе поступали дети состоятельных родителей.
До XVIII в. в Азербайджане не существовала система школьного женского образования. В основном девочки получали домашнее воспитание. В поэме выдающегося азербайджанского лирика М. Физули «Лейла и Меджнун» упоминается о совместном обучении юноши и девушки, но также в кругу семьи.
Содержание, формы и методы обучения в мектебах и медресе
С XI в. в Азербайджане стали господствовать турки-сельджуки, а с XIII в. — монголы. Фарсидский язык, которым владели завоеватели, постепенно вытеснил арабский. С XI в. в мектебах изучался фарсидский язык. Но языками обучения как в мектебах, так и медресе были оба названных языка, поскольку на арабском писались духовные и научные книги, а на фарсидском — литературные произведения. Обязательным для всех мекте-бов было изучение арабской письменности, Корана и фарсидского языка. Кроме этих предметов в одних мектебах изучали историю ислама, в других — начатки арифметики, в третьих — каллиграфию. В мектебах господствовала индивидуальная система обучения, один мулла обучал не более 10 — 15 детей.
Как правило, обучение начиналось с элементарной грамоты буквослагатель-ным методом. После овладения ею переходили к чтению Корана. Статьи Корана зазубривались детьми наизусть. Затем приступали к изучению фарсидского языка. Ученику давали маленький азербайджанско-фарсидский словарь, по которому он в течение определенного времени должен был заучить сотни фарсидских слов с переводом на родной язык. Затем шло обучение чтению книги-рукописи на фарсидском языке.
Учебниками для изучения фарсидского языка служили литературные произведения, написанные в дидактическом жанре. Популярным было произведение Саади «Гулистан». Фарсидский язык изучали и по другим произведениям дидактического жанра, в частности по «Бустану» («Огород») Саади, по «Нан-у-халва» («Хлеб и халва») поэта и ученого Шейх-Баха-Итдин Амили (умер в 1631 г.).
Изучали в мектебах и арабско-фарсидский словарь в стихах, письмовник на фарсидском языке. Подавляющее большинство текстов слабо отражало повседневную жизнь людей, их интересы; они были оторваны от практической жизни.
Обучение письму определялось задачей дать необходимые навыки для ведения счетных книг, торговли, составления простых и деловых писем, ведения делопроизводства и т. п.
Начиная с XIII в. в Азербайджане стали появляться литературные произведения и на родном языке. Так, книгу М. Физули «Лейла и Меджнун» (XVI в.), написанную на азербайджанском языке, стали изучать в мектебах как дополнительный учебный предмет.
Биографические данные об известных средневековых поэтах Азербайджана Абуль Ула-Гянджеви, Хагани Ширвани (1120 — 1199), Фелеки (1108 — 1146), Низами Гянджеви (1141 — 1209), Зульфугаре Ширвани (род. в 1190 или 1192 г.), Щебустари (1287 — 1320), Марагаи Авхади (1274 — 1338) дают интересные сведения о характере, содержании и методах обучения в медресе. Опираясь на эти данные, можно утверждать, что в медресе преподавали не только мусульманское богословие, но и ряд научных дисциплин — естествознание, логику, философию. Однако полученные знания в основном использовали в диспутах, другого практического применения они не имели.
В XVII — XVIII вв., в период непрекращавшихся войн между шахским Ираном и султанской Турцией, Азербайджан находился под властью то одного, то другого завоевателя. С победой каждого из них усиливалась пропаганда религиозных догматов той мусульманской секты, которой они придерживались. Пропаганда этих догматов проводилась в ущерб изучению в медресе научных знаний. Так, иранские шахи, открывая учебные заведения, в качестве главной их задачи ставили пропаганду шиизма, а османские султаны заставляли пропагандировать суннизм. В результате ученые покидали Азербайджан и уезжали в другие страны мусульманского Востока, в связи с чем значительно ухудшалась деятельность медресе. Постепенно влияние мусульманской религии настолько усилилось, что в медресе стали готовить исключительно мусульманское духовенство. Эти учебные заведения приобрели узкопрофессиональный, религиозный характер.
Организация и методы обучения не претерпели значительных изменений. Занятия в медресе велись в больших залах, вмещавших нередко несколько сотен студентов. Преподаватель сидел на кафедре, вблизи от него сидели или стояли на возвышении его помощники и передавали слова преподавателя студентам, сидевшим дальше. Студенты имели право задавать вопросы преподавателям [19, 151 — 157). Кроме толкования догм религии преподаватели читали лекции по вопросам богословия. Большое место занимала самостоятельная работа студентов.
Опыт работы мектебов и медресе Азербайджана обобщался и издавался в виде руководств по преподаванию и учению. Так, например, труд историка XIV в. Мухаммеда Хиндушаха Нахичевани назывался «Дастур аль-катиб», т. е. «Руководство для писца».
В средние века, вплоть до присоединения Азербайджана к России (начало XIX в.), школьное образование азербайджанского народа было связано с древней восточной культурой, и в первую очередь с арабской и фарсидской системами образования. В средневековом арабском мире значительное развитие получили многие отрасли науки и культуры, в том числе и математика, астрономия, география, медицина, философия, история и др. Широкое распространение получили мектебы и медресе, составлявшие основу системы народного просвещения. Арабские науки и система образования пускали корни в завоеванных арабами странах, в том числе и в Азербайджане. В школах учащихся обучали восточным языкам, логике и богословию, чистописанию и каллиграфии.
Татаро-монгольское нашествие замедлило развитие школы, науки, литературы и искусства. «... Истинная наука у мусульман замерла, а продвигавшая ее вперед школа окаменела и оставалась в таком же виде, в каком она была в древности, до самого последнего времени, без всякого изменения» [33,3]. Однако Азербайджан даже в период монгольского нашествия продолжал оставаться одним из крупных культурных центров Востока.
На языках мусульманского Востока учителя называли «муаллим», но так как в Азербайджане не было особого сословия преподавателей, а обучали детей моллы, то и учителей в народе называли просто моллами. Слово «муаллим» употреблялось лишь в литературном языке. Подготовку моллы-учителя получали в мектебах и медресе, а также у лиц, имевших высший духовный сан. Многие из них прекрасно владели арабским и фарсидским языками.
Молла, как правило, проводил занятия утром, а вечером ученики должны были безошибочно ответить заданный урок. В мектебах, где было большое число учеников, существовали помощники учителя, которые назывались «халфа». Обычно после урока чтения ученики занимались чистописанием.
С помощью пера, сделанного из тростника и называемого «калам», ученики выводили арабскую вязь.
Пять дней недели ученики изучали новый материал, на шестой день, в четверг, повторяли пройденное за пять дней, а пятница посвящалась отдыху. Летних каникул не было. Самый продолжительный перерыв в учении был во время праздника Уразы.
Учителя-моллы, как правило, были бедны и, чтобы прокормить семью, часто прерывали свою педагогическую деятельность, исполняя обязанности низшего духовенства во время похорон и в других случаях. Ни общество, ни государство, ни высшее духовенство ничего не платили учителям. Они получали лишь месячную плату за обучение от родителей и случайные подарки от учеников. В среднем каждый молла имел 20 учеников.
Никаких государственных программ не существовало, и моллы пользовались полнейшей свободой преподавания. Они были в ответе только перед богом и перед своей совестью.
Курс мектебов подразделялся на три класса: а) класс ознакомления с чтением Корана; б) класс персидского языка и литературы; в) класс арабской грамматики. На чтение Корана отводилось 2 года, на персидский язык и литературу — 5 — 6 лет, столько же на арабскую грамматику. Мальчик, поступивший в 7-летнем возрасте в мектеб, оканчивал курс в 19 — 20 лет и мог поступить в медресе. Как правило, 50 % учеников оставляли мектебы, как только овладевали Кораном, 45 % — познакомившись с персидским языком. В медресе поступали примерно 5 % учащихся мектебов.
В азербайджанских мектебах изучали арабскую азбуку, состоящую из одних согласных букв, общим числом 28. Арабский алфавит был значительно труднее, чем латинский (основной его недостаток — отсутствие гласных букв, которые на письме заменялись точками, ставившимися над или под слогом; число точек соответствовало числу пропущенных гласных); очень немногие могли посвящать долгие годы жизни изучению мусульманской грамоты.
Изучив азбуку, ученики приступали к чтению Корана, который не был переведен ни на один из мусульманских языков. По окончании чтения Корана начиналось ознакомление с персидской литературой. Хотя персидский язык как раньше, так и в XVII — XVIII вв. был государственным языком и языком письменности и литературы, азербайджанцы не потеряли своего родного языка и он оставался языком народа. Овладев арабским языком, ученик начинал изучение персидского. Учителя знакомили питомцев с образцовыми произведениями восточной (в том числе и азербайджанской) литературы. При этом не учитывались педагогические достоинства изучаемых произведений [34]. Содержание чтения не соотносилось с возрастом учащихся, не соблюдалась постепенность перехода от легких текстов к сложным. Предметного преподавания не существовало. Персидскую словесность проходили по сочинениям писателей, принадлежащих к различным эпохам. В качестве учебников персидского языка служили письмовник под названием «Тарассуль» и арабско-персидский словарь в стихах под названием «Нисаб», а также сочинения беллетристического, исторического и религиозного характера. «Тарассуль», например, содержал циркулярные предписания, частные письма, доклады, решения шариата и пр. В европейских училищах, готовивших переводчиков для восточных миссий и консульств, «Тарассуль» был необходим как пособие для ознакомления с персидской перепиской. Он одновременно знакомил молодых ориенталистов и с персидскими образцами выражения мыслей, и с письменным шрифтом персов.
В качестве духовных сочинений в мектебах изучались «Джанен-Аббаси» («Сборник Аббаса»), составленный знаменитым ученым Муштахидом шейхом
Баханд-дином, и «Абвабь-уль-Джинань» («Врата рая»), книга, составленная Ахунд Молла Мохаммед-Рафием, более известным под именем Ваизи-Казвини, что означает «проповедник из Казвина».
Персидская литература изучалась в основном по историческим сочинениям. Особой популярностью пользовалось сочинение «Тарихи-Надир» («История Надира»), составленная известным историографом Надир шаха Мирзой Мех-тиханом (Мирза Магомед Мехтихан Астарабади, умер в 1759 или в 1760 г.). Пособием по изучению исторических событий являлась также «Тарих-уль-маэджем» («История древней Персии»), Изучались и беллетристические сочинения: «Иншаи Мирза-Мехтихана» («Сочинения Мирзы Мехтихана») — сборник писем и государственных бумаг, написанных изящным слогом; «Хазани-Багар» («Осень — весна») — рассказы из жизни известных людей (автор неизвестен); «Гулистан» Саади. Вплоть до Великой Октябрьской социалистической революции эта книга была одной из основных, которые изучались в мектебах и медресе мусульманского мира. «Гулистан» — это сборник рассказов, в которых автор представил жизнь, быт и практическую мудрость людей своей эпохи. По форме изложения Саади как будто смотрит на прошлое, но на самом деле он говорит о настоящем и учит людей лучше жить в будущем. Оценивая это произведение, М. Шахтахтинский писал: «Его мораль везде философская, она никогда не делает нравственность зависимою от религии. Он учит, запрещает и разрешает все во имя человечности, ума и сердца» [34]. Большой популярностью пользовались стихи известного персидского поэта — мастера газели Хафиза Ширази (ок. 1325 — 1389), собранные в сборник, известный под названием «Диван». В мектебах не переводили стихов Хафиза на азербайджанский язык. Красота языка, его благозвучность и музыкальность стиха привлекали людей всех возрастов. Ученики заучивали стихи Хафиза наизусть.
В медресе ученики имели уже несколько лучшие бытовые условия, жили по нескольку человек в комнатках (кельях), где и учились. Преподаванием занимался мудеррис (преподаватель). Обучение в основном было бесплатным. Медресе имели две ступени — начальную и высшую.
2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ в АЗЕРБАЙДЖАНЕ
Народная педагогика
Воспитание детей в основном проходило в семье в процессе трудовой деятельности. К традиционным формам труда ребенок приучался с раннего детства: начиная с 6 лет дети помогали родителям и одновременно осваивали ремесло. Азербайджанские семьи традиционно многодетны, в каждой семье насчитывалось до 10 — 15 детей. Такая семья считалась полной и счастливой. Семья, где количество детей было до 5 считалась бесплодной. Ребенок являлся будущей опорой семьи, он должен был приносить пользу семье, помогать родителям в старости.
Идеи народной педагогики, взгляды народных масс на разнообразные вопросы воспитания отразились в сокровищницах устного народного творчества. Сказки, поговорки, пословицы, предания, загадки и другие образцы народной мудрости являются замечательными памятниками народной педагогики Азербайджана [1; 4; 36; 9].
Самым древним письменным памятником азербайджанской народной педагогики является эпос «Китаби Деде-Горгут» (XI — XII вв.) [3; 2]. Здесь нашли свое отражение и нормы этических поступков, таких, как повиновение сыновей, уважение к старшим, верность долгу.
В азербайджанском устном народном творчестве проводится идея о том, что зло должно быть наказано и уничтожено. Носителями добра, как правило, являются трудящиеся, бедные люди, наделенные благородными нравственными качествами. Носители зла — богачи; народ всегда считал их своими врагами. Отец народного героя — Кероглы-Алы-киши, которому по велению Гасанхана выкололи глаза, говорит своему сыну Ровшану: «Нет, сын мой. Не один Гасанхан наш враг... Все беки, все ханы и все паши — наши враги» [6, 50, 55 — 56]. Одной из важнейших моральных обязанностей человека народ считает патриотизм, любовь к родине. В эпосе «Деде-Горгут», «Кер-оглы», в сказках, в многочисленных пословицах любовь к родине рассматривается как важнейшее нравственное качество, определяющее моральный облик человека.
В материалах устного народного творчества отображено мудрое мышление, мир познания и зрелые взгляды трудового народа на жизнь и историю, события и судьбу человека. Этот материал играл исключительную роль в воспитании подрастающего поколения в течение многих столетий. Основная цель воспитания заключается в подготовке людей к жизни, а для этого необходимо любить труд, уметь противостоять злым силам, побеждать их, жить, строить взаимоотношения с другими на основе добра и справедливости. И именно такими были герои народных произведений. А молодое поколение должно быть похожим на этих героев.
Народная мудрость считает воспитание необходимым в равной мере для мужчин и женщин. В азербайджанском фольклоре редко встретишь такую сказку, поговорку, песню, в которой не воспевались бы наряду с мужеством, силой и смелостью мужчин находчивость и отзывчивость женщин.
В эпосе ярко выражена идея зависимости характера человека от его жизненных условий и воспитания. Народные пословицы учат, что образование — величайшая сила.
Важной идеей, находящей свое выражение во многих памятниках устного творчества, является мысль о том, что человек учится и воспитывается в течение всей своей жизни. Обучение следует начинать с раннего возраста. К 15 — 16 годам человек должен быть зрелым и умным, овладеть профессией и определенным кругом знаний, жить самостоятельно.
В памятниках устного народного творчества нашли отражение и идеи нравственного воспитания. Человек, как бы он ни был учен, унижает свое достоинство, если не выполняет гражданского долга и возложенных на него общественных обязанностей. В этом случае он недостоин носить звание человека, ибо, как гласит народная мудрость, «человеку нужна человечность».
Человек должен быть справедливым, защищать равноправие между людьми, бороться с врагами. Он не должен падать духом в трудных условиях, терять веру в свои силы. Независимо от национальности и расы человек должен уважать людей всех других народов. Он должен быть вежливым и внимательным, скромным, уметь правильно оценивать человеческое достоинство, должен быть верным своему долгу, правдивым и честным. Эти идеи воспитывают человека в духе демократической народной морали.
Большое значение уделяет народная мудрость роли наставника-воспитателя, который своим образованием, умением, поведением должен быть примером для воспитания, ибо «человек становится человеком благодаря человеку». Воспитанники должны внимательно прислушиваться к голосу воспитателя: «Долг наставника — сказать, воспитанника — выслушать», «Ученик, имевший наставника, не споткнется».
Красота, здоровье, сила всегда высоко ценились народом; эти ценные качества люди хотели видеть и в себе, и в своих детях. Согласно педагогическим идеям, заключенным в народном творчестве, физическое и эстетическое развитие нужно всем, оно так же необходимо человеку, как умственное и нравственное воспитание.
Среди многообразия форм народной педагогики особое место занимает творчество ашугов — народных певцов, в песнях которых отражена вся жизнь народа, его радости и страдания. Ашуги воспевали мужество, стойкость, трудолюбие, верность в дружбе, взаимовыручку и другие нравственные качества. В их песнях звучала ненависть к социальному неравенству, призыв к выступлениям против насилия и бесправия, к объединению людей для борьбы с несправедливостью.
Образцами народного творчества являются песни известных ашугов Курба-ни (XVI в.), Диварганлы Аббаса и Сары ашуга (XVII в.), Шикеста Ширина, Хаста Касума и Валеха (XVIII в.).
Демократические идеи, нашедшие свое отражение в фольклоре, представляли собой истоки, почву, на которой в дальнейшем выросли многие положения прогрессивной педагогики. Они, в частности, оказали положительное влияние на воззрения выдающихся представителей азербайджанской педагогической мысли Н. Гянджеви, М. Физули и других. Идеями, почерпнутыми из этой драгоценной сокровищницы, обогащали свои труды Низами, Саади, Физули, создавшие высокохудожественные произведения огромного воспитательного воздействия.
Педагогические идеи выдающихся мыслителей Азербайджана
Основное внимание в памятниках азербайджанской мысли уделяется проблемам воспитания и значительно меньше вопросам обучения. Очевидно, это связано с тем, что организационные формы обучения считались раз и навсегда данными и не нуждающимися в обсуждении и усовершенствовании. Видный азербайджанский поэт Хагани Ширвани (1120 — 1199) писал: «Не каждый воспитатель может быть поэтом, зато каждый поэт должен уметь воспитывать» [12, 96].
Низами Гянджеви (ок. 1141 — ок. 1209). Великий азербайджанский поэт и мыслитель XII в. Низами Гянджеви оставил богатое педагогическое наследие [23].
Шейх Ильяс, сын Юсифа Низами, родился в азербайджанском городе Гяндже (ныне Кировабад). Отсюда и его прозвище — Гянджеви. Его познания в области астрономии, математики, диалектики, химии, медицины, геологии, знание шести языков — неоспоримые свидетельства энциклопедичности образования. Взгляды этого мыслителя формировались на стыке двух культур — западной (византийской) и восточной (мусульманской). Это обстоятельство накладывает на все его творчество совершенно особый отпечаток.
Низами вошел в мировую поэзию, главным образом, пятью поэмами, которые объединены под общим названием «Хамсэ» («Пятерица»).
В своих произведениях Низами выступал против тиранов, осуждал произвол и насилие феодалов, ратуя за гуманного, просвещенного правителя. По его мнению, человеческий род един и все расы равны. Он никогда не был придворным поэтом, пренебрегал дворцовой жизнью, считал унижением человеческого достоинства состоять при дворах владык и восхвалять феодалов и их окружение. Его поэмы имеют острую политическую направленность, они содержат призывы к сопротивлению угнетателям. В одной из поэм, обращаясь к народу, Низами говорит: «Чего склоняешься перед всякой затрещиной, чего соглашаешься на всякое насилие? Как гора, крепко упрись. Угнетение наносит внутренний ущерб, перенесение несправедливости приносит слабость. Будь словно щит с копьем на плече, тогда ты обнимешь охапку роз» [25, 89, 92].
В произведениях Низами мы находим утверждение необходимости труда для всех граждан без всякого исключения, требования обеспечения инвалидов и беспомощных государственной помощью, отказа от налогов и податей, возвышения способных и обуздания плутов.
Прогрессивные социально-политические взгляды Низами оказали большое влияние на характер его высказываний по разным вопросам воспитания и образования. Он считал, что жизнью каждого человека и обществом в целом должен руководить разум. Высоко ценя разум, придавая ему огромное значение, Низами высоко ценил роль умственного образования. «Какое прекрасное имущество — осведомленность! Да не опустеет от нее мир», — читаем мы в «Искандер-наме» [24, 131].
Низами выступает непримиримым противником невежества, беспечного отношения человека к своему умственному развитию. По его словам, у несведущего человека мысли пусты, слова бессодержательны, но «когда душа полна мыслями, то и содержание богато». В своих произведениях Низами значительное место отводит вопросам обучения, подчеркивая огромную веру в силу учения [22, 4 — 11]. Он утверждает, что нет такого человека, природа которого не изменилась бы к лучшему под воздействием обучения. Обучение и просвещение поднимают человека и морально, они способны перевоспитывать людей. Отсюда вывод: обучение необходимо для всех без различия; каким бы природным умом ни обладал человек, он должен учиться: «Всякий, кто не стыдится учения, извлекает жемчужины из воды, рубин из камня».
В отличие от многих своих современников Низами считал, что образование необходимо как мужчинам, так и женщинам. Во всех своих поэмах он показывает женщин грамотными и образованными. В «Искандер-наме» Низами описывает высшую женскую школу, в «Лейли и Меджнун» говорится о школе совместного обучения девочек и мальчиков. Трудно предполагать, что такая школа совместного обучения могла существовать на мусульманском Востоке. Возможно, что это описание выражает идеал Низами.
Герои поэм Низами получают весьма широкий круг знаний. Бахрам Гур из поэмы «Семь красавиц» учителя обучали чтению, письму, греческому, арабскому, персидскому языкам, математике, астрономии, географии, поэтике, стилистике. Низами был сторонником широкого образования, включавшего не только гуманитарные, но и естественные науки.
В поэме «Хосров и Ширин» есть специальные главы, посвященные образовательно-воспитательным вопросам: наставление сыну Мухаммеду, описание воспитания Хосрова, наставление тети Ширин своей племяннице, заключительные главы, в которых рассмотрены нравственные аспекты воспитания. В других поэмах также есть главы педагогического характера в виде назидания учителей-наставников.
Взгляды Низами на мораль и нравственность определялись его непримиримостью к насилию над человеком, глубоким гуманизмом и любовью к народу. Цель жизни, по Низами, служение своему народу. Низами воспевает человеколюбие и гуманность. «Адский служитель — всякий, кто неблагожелателен», — говорит он устами своего героя и призывает к совершению добрых дел. Выступая против индивидуализма и эгоизма, Низами призывает к добродетели, к действиям, полезным для народа и всего общества. Но, призывая к добрым делам, Низами был далек от неразборчивой, всепрощающей любви, у него добродетель имеет определенную социальную направленность. Он предостерегает от того, чтобы проявлять милость и доброту к врагам человечества, к злодеям, считая борьбу со злом добродетелью.
Значительное место во взглядах Низами занимает проблема труда. Смысл жизни людей — в труде, который обеспечивает материальные условия жизни. Трудиться обязаны все. Низами подчеркивает воспитательное воздействие труда на человека, он придает большое значение труду как фактору моральной чистоты и независимости человека. Воспитание трудолюбия должно сочетаться с воспитанием настойчивости, стойкости, мужества в борьбе с трудностями, терпения и усердия: «Если дело пойдет трудно, не будь без надежды, подкрепляй свое сердце могущественным счастьем» [24, 743].
В произведениях Низами имеются интересные высказывания и о содержании образования. Обучение, по мнению Низами, имеет не только образовательное, но и моральное значение, так как оно способно перевоспитывать человека. Обучать следует как гуманитарным, так и естественным наукам. Учение — это труд, требующий упорства и самостоятельности. В его работах много ценных высказываний об учителе, который должен отличаться, во-первых, знаниями, во-вторых, высокими моральными достоинствами.
Педагогические взгляды поэта являются передовыми для своей эпохи.
Мухаммед Насреддин Туей (1201 — 1274). Один из передовых людей своей эпохи, ученый-энциклопедист, Насреддин Туей вошел в историю науки и культуры Азербайджана как крупнейший ученый и мыслитель, внесший неоценимый вклад в становление естествознания, Туей оставил также большое научно-педагогическое наследие, которое до сего времени не изучено достаточно глубоко.
Мухаммед Насреддин Туей родился в г. Туе — одном из культурных центров Ирана. Образование получил в г. Нишапур, изучив мусульманское богословие, математику, философию, естествознание. Всю жизнь он совершенствовал свои познания, особенно в области математики и естественных наук. Свои педагогические идеи он изложил в ряде произведений, в частности в «Ахлаги-Насири» («Мораль Насира») и «Адаб-уль-мутааллимин» («Поведение учащихся»), В этих трудах освещались социальные, экономические, философские, этические и психолого-педагогические проблемы. В течение более 700 лет книгой Туей пользовались в школах многих стран Среднего и Ближнего Востока как учебником нравственного воспитания [21].
В своих научных идеях Туей часто опирался на учение Аристотеля и Платона [35].
В «Ахлаги-Насири» Туей освещает проблему «человеческой души» (подразумевая под ней и психику, и интеллект, и сознание, и познание, и речь), говорит о ее совершенствовании. Он выделяет два пути этого совершенствования: овладение знаниями и практическая деятельность. Туей подчеркивает: «Подобно тому как материя не может существовать без свойств, а свойство без материи, так и наука без практики уничтожится, а практика без науки не может существовать. Значит, наука (знание) — начало, практика — конец, наука — причина, практика — следствие. Поскольку совершенствование, достигнутое от органического соединения этих двух (науки и практики. — Ред.), относится к человеку, мы считаем это целью» [30, 42 — 76], т. е. целью развития человеческой души.
Ученый говорит о совершенствовании нравственности путем практической деятельности человека. В результате активной деятельности человек приобретает счастье — духовное, физическое и культурное.
Останавливается Туей и на вопросах воспитания детей [30, 156 — 169]. Он писал о житейских правилах воспитания: о том, как одевать и кормить, о формировании привычек, о воспитании любви к богу и родителям. Туей
советовал воспитателям объяснять ребенку ценность положительных и вред отрицательных поступков, предупреждал, что дети не любят морализирующих назиданий. Он настоятельно требовал учитывать склонности ребенка и создавать условия для их развития, особенно при овладении ремеслом.
«Адаб-уль-мутааллимин» целиком посвящено вопросам воспитания. В первой главе автор подчеркивает пользу изучения наук, во второй говорит о тех усилиях, которые требуются для овладения знаниями, о порядке в мектебах и медресе. «Студент должен, — писал он, — изучая научные знания, воспользоваться их повторением, заниматься по утрам и между вечерами и ночами, читать много книг, а интересные места сохранять в памяти. Таким путем он будет быстро расти. Но не следует заставлять его читать много книг, так как это может привести к переутомлению» [31, 4а, 46].
Туей специально останавливается на условиях обучения в мектебах, требуя от учителя давать уроки ученикам в доступном для их понимания объеме и постепенно его наращивать. «Учитель, — пишет он, — должен часто повторять урок, объяснять трудные места книг. Не следует заставлять ребенка писать то, что он не понимает, ибо это приведет к ослаблению его интереса к учению» [31, 4]. Характерная черта научно-педагогических сочинений Туей состоит в том, что он связывал вопросы обучения и воспитания ребенка с его особенностями.
Идеи Туей способствовали развитию азербайджанской педагогической мысли в период господства мусульманской средневековой схоластики.
Авхади Марагаи (1274 — 1338). Одним из ярких представителей азербайджанской культуры конца XIII — начала XIV в. был Ахвади Марагаи, творчество которого богато идеями о воспитании и обучении молодого поколения. В его произведениях нашли отражение научно-философские, религиозные, общественные и педагогические взгляды автора [28, 26].
Наибольший интерес с точки зрения педагогики представляют первая и вторая главы «Джами-Джам» («Кубок Джамшида»), где он поднимает вопросы о происхождении живой и неживой природы, об анатомо-физиологических и психологических особенностях человека, роли человека в общественной жизни, его потенциальных природных особенностях. Задолго до Я. А. Коменского, Марагаи ставит вопрос о человеке как о частице природы и объективного мира. Он создает в своих трудах образ идеального человека — здорового, знающего, честного, вежливого, заботливого отца, любящего свою профессию, истинного труженика. Все негативные явления в общественной жизни Марагаи считает результатом отсутствия образования и плохого воспитания. Человек без знаний далек от человечности; наука — это «живая вода для человека», «пить ее надо досыта».
Большое значение он отводил самовоспитанию и роли родителей в воспитании детей.
Эссар Тебризи (1325 — 1390), талантливый поэт и ученый, продолжая традиции литературной школы Низами, создал произведение «Мехр и Мушта-ри», в котором показана жизнь школы в эпоху средневековья. Раскрыто содержание обучения, отношения между учителями и учащимися [18]. В поэме высоко оценивается значение знаний и науки, прославляется высокий гуманизм, любовь к жизни и человечеству, борьба за достоинство и земное счастье.
Имадеддин Насими (1370 — 1417) — поэт, философ и ученый, создал в г. Шемахе общество ученых (меджлис-ул-улема) и музыкантов (муган-нилер), в которых объединились талантливые люди. Насими выразил наиболее радикальное направление суфизма, сторонники которого преследовались и уничтожались как враги ислама. Суфизм был противоречивым учением. Наряду с мистическими в нем были и прогрессивные элементы (протест против религиозных догм ислама, призыв к равенству людей, утверждение свободы воли, пропаганда поэзии и музыки).
Огромная заслуга Насими состоит в том, что он в отличие от многих предшественников и современников творил на родном, азербайджанском языке. Насими считал, что в центре мироздания стоит человек, который формируется под влиянием среды и воспитания. Большую роль в формировании личности Насими отводил духовным наставникам и родителям. Для Насими человек — сознательное существо, обладающее выраженной индивидуальностью, обусловленной генетически и социально. При этом решающее значение имеют приобретенные свойства, а последнее зависит от воспитания и самовоспитания.
Творчество Насими богато и мыслями о значении изучения грамоты, науки; он был сторонником изучения таких наук, как логика, медицина, астрономия, поэзия, история. Он отвергал религию и религиозные догмы, критиковал схоластическое обучение, которое отнимало много времени у учащихся.
Шах Исмаил Хатаи (1485 — 1524) в 1501 г. был провозглашен шахом и, объединив мелких феодалов Ирана и Азербайджана, основал государство династии Сефевидов. Под псевдонимом Хатаи он создал большой сборник лирических стихотворений на азербайджанском языке, а также ряд других произведений назидательного и философского характера.
Во время правления Исмаила азербайджанский язык стал государственным и переживал период бурного расцвета. В ряде своих произведений Хатаи высказывает мысли о подготовке молодых людей к деятельности на пользу родины, о целях, задачах и роли воспитания. Он не отрицает значения природных задатков человека, но считает главной задачей воспитателя выявлять и развивать положительные природные данные.
Науку Хатаи оценивает как бесценное средство воспитания. Учитель для учеников, по мнению Хатаи, подобен солнцу во вселенной. Задача учителя не только научить учащихся письму и чтению, но и воспитать их, сделать вежливыми, учтивыми, благожелательными.
Мухаммед Физули (1494 — 1556). Творчество гениального поэта и великого мыслителя Мухаммеда Физули — вершина азербайджанской классической поэзии [32]. Физули, по его собственным словам, «всегда стремился собрать в своей душе все науки и знания». Избранный им псевдоним Физули полностью отражал это стремление, ибо он означает множественное число от слова «фазл» — образованность. Он был не только крупным поэтом, но и выдающимся мыслителем и ученым. Судя по его философскому труду «Матла-ул-этигад» («Восход верований»), он признавал существование материального мира и возможность его познания, но одновременно верил в существование нематериальных явлений.
В поэтическом творчестве Физули раскрыты система воспитания человека, содержание и методы обучения. Проблема человека всегда стояла в центре внимания Физули. Настоящая, живая, активная любовь его к простым труженикам полна большого социально-философского смысла.
В произведении «Энисул-Гэлб» («Друг сердца») Физули писал, что наука должна служить народу, она раскрывает перед ним тайны жизни и является мощным средством улучшения его благосостояния. Ценна только та наука, которая приносит пользу народу, которая может служить руководством к практическому действию. Наука и знания не являются чем-то недостижимым, их можно приобрести ценой больших усилий и труда. Для этого человеку от природы даны определенные возможности, которые, однако, при отсутствии благоприятных условий могут полностью заглохнуть. Физули видел заложенные в человеке природные возможности и требовал, чтобы создавались соответствующие условия для их развития.
Физули хорошо понимал, что высокие качества человеку не даются в готовом виде. Их следует формировать в определенной последовательности, проявляя при этом упорство и терпение, и при этом особенно велика роль воспитателя, который должен быть широко осведомлен во всех науках и искусствах. Молодое поколение, отмечал Физули, должно изучать науку, вооружаться знаниями. Школа, описанная в поэме «Лейли и Меджнун», — образец средневековой школы. Обучение в такой школе начиналось с 10-летнего возраста. Девочки и мальчики сидели в разных углах классной комнаты. Их учили чтению и письму. Особое внимание уделялось каллиграфии (чистописанию) .
Многочисленные высказывания Физули по вопросам воспитания дают основание сделать следующие выводы: цель воспитания заключается в формировании людей, глубоко чувствующих смысл жизни, умеющих согласовать личные интересы с интересами народа, свято выполняющих свои обещания, верных своим словам, честных, преданных, искренних. В условиях средневековья Физули смело поднял голос гуманиста в защиту личности, потребовал подлинно человеческого отношения к человеку.
Воспитание с самого начала должно быть поставлено правильно, иначе «зеркало разума человека покроется пылью и человек превратится в невежду». Все люди должны быть равны. Невоспитанный человек, будь то богатый феодал или бедный крестьянин, все равно не добьется в жизни сколько-нибудь значительного. Достойны уважения, заботы и похвалы только люди высокой и чистой морали. Достоинство человека измеряется не его происхождением, не его родом, а его деятельностью. Любой человек отличается от других не только чертами лица и внешними признаками, но главным образом богатством духовной жизни. Чтобы воспитать полезного для общества человека, следует немало потрудиться. Чтобы добиться желанной цели, говорил Физули, приходится терпеть лишения, которые неизбежны во всяком большом и благородном деле.
Сознавая определенную зависимость будущего человечества от воспитания нового поколения, Физули неоднократно возвращался к этому вопросу. Он подчеркивал, что каждое новое поколение должно подниматься выше предыдущего, приобретать новые нравственные качества. В «Наставлении сыну» он писал: «Пока не созрел плод, не имеет вкуса... созревши, вступил в противоречие с деревом. Оно выражалось в его цвете и запахе. Дерево не обладало ни цветом, ни запахом своего плода. Конечно, по красоте и иным качествам плод выше дерева, он нежнее дерева. О, мой умный сын, ты хорошо пойми смысл моих слов. Если ближе и лучше присмотреться к жизни, то плод — это ты, я — дерево, а мир — это сад».
Подлинный смысл жизни Физули видел в труде. В произведении «Ринду-Захид» он писал: «О, мой милый и счастливый сын!.. Установлено так, что только трудом и старанием каждый добьется своего. Не будь ленивым. Всем дано одинаковое право для того, чтобы открыть двери счастья и исполнения желаний... Пусть никто ни под каким предлогом для исполнения своих желаний не уклоняется от усилий и труда».
Своим отношением к религии Физули резко отличался от ортодоксальных мусульманских фанатиков. Он критиковал не только религиозных фанатиков, призывавших людей отказаться от радостей жизни ради мифического покоя и счастья в загробной жизни, но и тех, кто удовлетворялся одними земными наслаждениями.
Творчество Физули богато и разнообразно. Оно является неисчерпаемым
источником оригинальных идей и мудрых советов. Возможно, что из сокровищницы его творчества нам удалось взять лишь ничтожно малую долю.
Можно назвать имена еще многих ученых, писателей, художников и философов — азербайджанцев, которые оставили ценные высказывания о воспитании и обучении. Примером могут служить стихи Саиба Тебризи (1601 — 1677), Месихи (1580 — 1656), Говей Тебризи (XVII в.) и других.
Глава х ПРОСВЕЩЕНИЕ, ШКОЛА И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ В СРЕДНЕЙ АЗИИ И КАЗАХСТАНЕ
I. ПРОСВЕЩЕНИЕ И ШКОЛА В СРЕДНЕЙ АЗИИ И КАЗАХСТАНЕ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО КОНЦА XVII В.
Смена рабовладельческого строя феодальным на территории Средней Азии и Казахстана завершилась к началу VI в. Феодализм в Средней Азии прочно сросся с теократией. Главными религиями здесь в этот период были буддизм и ислам. Эпоху феодализма в Средней Азии можно разделить на три периода, историческими рубежами которых были арабское завоевание и нашествие монголов. Оба эти вторжения внесли огромные изменения в жизнь среднеазиатского населения и развитие его культуры.
До арабского завоевания культура Средней Азии характеризуется преобладанием иранских языков, множественностью религий и систем алфавитного письма. После арабского завоевания, продолжавшегося в течение столетия (в 651 г. арабы заняли последний оплот Сасанидов — Мерв; в 751 г. в битве на реке Талас в Киргизии они отбросили из Средней Азии китайцев), в этом регионе господствующей религией стал ислам и большую роль приобрел арабский язык и арабский алфавит, образовались и распространились типы школ, связанные с исламом и арабским языком.
После начавшейся в 1219 г. оккупации монголами всей страны с северо-востока до Каспийского моря в Средней Азии возобладали тюркоязычные элементы, что нашло отражение в литературе, в развитии школы и педагогической мысли.
В раннефеодальный период в Средней Азии было много независимых владений (Хорезмское, Бухарское и др.); юго-запад был в составе империи Сасанидов (226 — 651), которые считались «царями царей». Если не их власть, то их авторитет признавался восточноиранскими царями и царьками.
Знатную феодальную молодежь приучали к службе в царской охране. Вассалы крупного феодала по установленной очереди присылали к нему в замок своих сыновей для несения охранной службы [7] и получения придворного воспитания в соответствии с возрастом.
В наиболее населенных местах росло число ремесленников, дифференцировались виды ремесла, оттачивались умения зодчих, скульпторов, живописцев и других мастеров. Естественно, что такие сложные ремесла требовали систематического обучения у мастеров. Одновременно они же обучали учеников и грамоте. В городах учителя грамоты и счета содержали маленькие частные школы.
В V в. был создан уйгурский алфавит на базе согдийской скорописи (скорое письмо, бесспорно, является показателем роста грамотности).
В культурной жизни Среднего Востока в предисламское время немалую роль играли учебно-научные центры, создававшиеся эмигрантами с запада — сначала представителями античной философии, потом несторианами. Преподаватели Афинской академии (ее разгромил император Юстиниан в 529 г.) обосновались в Джундишапуре, на юго-западе Персии. Ученые из Эдесской школы переселились в Нисибин, близ северо-западной границы с Византией, создали здесь при монастыре большую богословскую школу. Эти центры популяризировали сочинения греческих философов и ученых, в них началась продолженная затем арабами работа по переводу греческих сочинений на восточные языки.
В период между большими иноземными вторжениями — арабским в VII в. и монгольским в XIII в. — начали складываться народности, ставшие затем нациями казахов, таджиков, узбеков, туркменов и др.
Когда Средняя Азия насильственно мусульманизировалась арабами, в Хорезме военачальник Кутейба уничтожил всех ученых, знавших письменность хорезмийцев, хранивших их предания. Запрету и забвению подверглись согдийская и другие письменности Средней Азии как «языческие» с точки зрения ислама. В VIII и IX вв. в официальной переписке и в литературе установилась гегемония арабского языка. Арабский язык Корана был спутником ислама, подобно тому как латынь католической Библии — западного христианства.
В VIII — XII вв. в Средней Азии в обстановке острой социальной борьбы складывалась система мусульманских школ. В рассматриваемый период в основном сложились два типа средневековых школ мусульманского мира: мактаб (дабристан) и медресе. Мактаб — начальная школа — формировался в ряде стран. Медресе — тип средней и высшей школы — в Средней Азии.
Начальные школы создавались при мечетях. Персидско-таджикское дабристан (место писцов) и арабское мактаб (место письма) считаются синонимами понятия «начальная школа». Но явления, скрытые под этими терминами, требуют более пристального рассмотрения.
В больших городах государства Саманидов в X в. имелось довольно много людей, которых современники называли дабиры — «люди пера». Они обычно не только владели арабским и таджикским языками, хорошо знали Коран, основные нормы шариата (мусульманского права), но были начитаны в литературе и имели некоторые научные знания. Из их числа вербовались чиновники.
В XI в. в Самарканде действовала школа, имевшая целью подготовку даби-ров. В «Сиасет-наме» рассказано, что ее ученики («неразумные малыши») читали, как образец, документ, составленный знаменитым султанским дабиром.
На арабской почве первые мактабы как школы письма появились в связи с распространением Корана. Они должны были готовить переписчиков Корана. В дальнейшем термин «мактаб», означавший место пребывания писцов и их школу, становится в городах арабоязычных областей халифата синонимом термина «дабристан», означавшего местопребывание и школу чиновников (в Иране XX в. «мактаб» означает «канцелярия»).
Параллельно со школами письма, которые открывали частные учителя, возникли школы при мечетях для обучения мальчиков чтению Корана. По-видимому, к началу VIII в. надо отнести появление в Арабском халифате правила: при каждой мечети, в городе и на селе, всех мальчиков прихода обучать чтению Корана. Это требование возобновлялось рядом мусульманских государей, в том числе в Средней Азии. За выполнением его следили особые блюстители.
Для чтения Корана нужно было усвоить арабский алфавит. С этой целью в школах при мечетях применяли традиционный метод: мальчики писали буквы, а затем занимались их складыванием. От рядового имама (настоятеля мечети) не требовалось учить мальчиков писать. Он должен был научить читать Коран. Поэтому из системы занятий, сложившихся в школах письма (т. е. в школах 1
1 В Средней Азии чаще употребляется форма «мактаб» (у узбеков, таджиков и в местной русской литературе); «мектаб» — говорят киргизы, казахи; мы сохраняем написания «мактаб». «медресе», узаконенные в русской орфографии.
дабиров и школах переписчиков Корана), в массовом мактабе при мечети применяли лишь минимум письменных упражнений — для овладения буквами и соединениями букв. В дальнейшем дело еще более упростилось: буквы и их соединения ученик мактаба при мечети не писал, а только читал (проговаривал) строки, написанные учителем.
Когда ученику с такой слабой «букварной» подготовкой давали читать Коран, то в кружеве строк арабской рукописи путался даже мальчик-араб, тем более это было непосильно ребенку ираноязычному или тюркоязычному. В рядовой школе при сельской мечети чтение Корана неизбежно сводилось к тому, что ученик механически заучивал текст по частям с голоса учителя или его помощника. При такой методике ученик мог свободно читать Коран (или его часть) наизусть, но плохо знал или совсем не разбирался в буквах.
Некоторые родители добивались, чтобы в мактабе при мечети не ограничивались изучением Корана, а расширяли курс: так было в старом дабристане и в лучших городских мактабах частных учителей. В малой части мактабов при мечетях, лишь у наиболее грамотных учителей и только отдельные ученики обучались письму, счету и читали произведения помимо Корана. Это, конечно, чаще бывало в городах, чем в кишлаках. В кишлачных мактабах встречались учителя (из числа служителей), которые не умели сами написать буквы на дощечке ученика и поручали это «специалисту».
Мактаб при мечети не мог заменить дабристан — школу чиновников. В лучшем случае он готовил писца-копииста. Чиновников более высокого уровня стали подбирать из питомцев медресе. Выпускники дабристанов шли доучиваться в медресе и школу городского частного учителя. В ираноязычных и тюркоязычных районах дабристан стали называть мактаб.
Средневековые мусульманские начальные школы — мактабы, имея много общего, значительно различались по уровню даваемого ими образования. Это отражало различия социальные, а также эволюцию типов школ.
Средние учебные заведения — медресе — первоначально возникали, по-видимому, на средства сект и имели немного учащихся. Во второй половине XI в. известный визир Низамал-Мульк устроил в Багдаде большое медресе на средства правительства с жалованьем для преподавателей и стипендиями для учащихся.
Создавалось ли медресе организацией или же светской властью, материальной базой его служили обычно вакуфы — имущество, чаще всего земля, завещанное в пользу «богоугодного» учреждения. Обеспечение храмов доходами от земельных участков и других имуществ — обычай, известный на Востоке еще в рабовладельческую эпоху [8].
Главными учебными предметами в медресе были мусульманское богословие и основанное на предписаниях ислама правоведение, а также арабская филология, необходимая для понимания Корана. В некоторых медресе факультативно преподавались основы других наук.
Ислам привносил в сословные различия некоторую внешнюю нивелировку. Например, коранические школы иногда посещали сыновья знати вместе с мальчиками из простых семей. Но чаще в знатное семейство для обучения детей Корану приглашался домашний учитель, при этом с детьми феодала могли учиться и его товарищи. Сыновья феодалов с раннего возраста получали в домашних условиях и военно-физическую подготовку [11].
В подвластных Арабскому халифату Иране и Средней Азии сначала было запрещено переводить Коран с арабского на другие языки. Этот запрет строго соблюдался столетиями. В X в. в Бухаре Табари перевел Коран на персидский язык, но его книгу изъяли. В XII в. в Самарканде казнили человека, предложившего перевести Коран на таджикский язык [9].
Мысли национально настроенной персидско-таджикской интеллигенции выразил Хасан Басрийский (умер в 728 г.): «Не тот мудрый, кто больше знает по-арабски и владеет большим числом изящных выражений и слов арабского языка; мудрец тот, кто сведущ в каждом знании». Эти слова процитированы в XI в. и в «Сиасет-наме» [10, 62]. В соответствии с этим педагоги осуществили два учебных мероприятия. Из полного арабского текста Корана отобрали примерно одну седьмую часть из коротких глав. Образовавшийся небольшой школьный учебник под персидско-таджикским именем «Хафтьяк» («Одна седьмая») распространился в неарабских районах, подвергшихся исламизации. Он заменил для начинающих учеников полный Коран, который читался позже.
Для ираноязычных школяров была составлена маленькая религиозная энциклопедия на персидско-таджикском языке, в нее вошли четыре книжечки, написанные стихами и прозой в разное время. Так образовался популярный в мактабах Средней Азии и Южного Казахстана «Чаркитаб» («Четверокнижие»). Популярным учебником тюркоязычных мактабов стал сборник Ахмеда Ясави (XII в.), еще раньше, по-видимому, написан сборник Ахмеда Югнаки.
В рассматриваемый период преподавание наук о природе осуществлялось главным образом посредством уроков. Преподаванию отдавали время ученые, имевшие другие занятия, например врачи, как Ибн Сина. В биографиях Фараби и Ибн Сины упоминаются преподаватели-профессионалы, дававшие частные уроки по отдельным дисциплинам. Роль такого преподавателя сводилась, очевидно, к комментированию разнообразных учебников.
В 1219 г. в Среднюю Азию и Казахстан с востока вторглись огромные кочевые армии Чингисхана, за ними шли обозы с семьями. За три года пришельцы наводнили всю страну. Старые политические границы разрушились, появились новые троны с ветвями монгольской династии. Завоеватели долго удерживали власть в Средней Азии и соседних странах, но со временем почти все группы монголов растворились здесь среди тюрков, оставив след в языках, преимущественно в топонимике и в названиях родовых делений.
В XVI в. на нынешних своих территориях складывались народности: казахская, каракалпакская, киргизская (много киргизов перекочевали тогда на Тянь-Шань с верховьев Енисея). Каждая из них, перекочевывая, впитала в себя разноплеменные группы населения. В послемонгольское время усилилась тюркизация ряда оседлых районов, полностью был тюркизирован Хорезм.
С XVI в. усилились дипломатические и торговые сношения среднеазиатских государств с Русским государством (ранее существовала торговля между Средней Азией и разными владениями Нижнего Поволжья). Но в условиях религиозного фанатизма средних веков и в Средней Азии и на Руси духовенство, насаждавшее подозрительное отношение к иноверцам, сильно затрудняло развитие культурных связей.
Среди туркменских племен в послемонгольский период широко распространялась исламизация. Туркменами вначале называли огузов, которые еще до монгольского завоевания были в той или иной мере связаны с земледелием и приняли ислам. Ряд туркменских племен омусульманились позже, в разное время и на разных территориях. На этих территориях стали создаваться коранические школы. В них в XII в. применялись учебники Ахмеда Ясави, религиозные стихи которого на арабском языке считались среди мусульман художественными образцами. Тюркоязычные религиозные книги послемон-гольской эпохи не могли конкурировать по популярности с учебником Ахмеда Ясави.
В туркменских, как и в узбекских, мактабах укрепился обычай: после арабского «Хафтияка» читать персидско-таджикский «Чаркитаб». Старшие туркменские школьники чаще узбекских читали персидские стихи Хафиза.
В 1464 г. Вафаи написал на старотуркменском языке книгу «Равнак-уль-ислам» («Светоч ислама»), служившую учебником в туркменских мактабах до XX в. В XVII в. в Каттакургане Суфи-Аллаяр изложил основы ислама узбекскими стихами; его книжка стала популярным учебником в мактабах тюркоязычных районов. В XVII в. выходец из Хорезма, основавший медресе на юге современной Башкирии (в Каргале), составил тюркскую азбуку с катехизисом; в предисловии он говорил о праве молиться на родном языке.
Приведенные факты говорят о том, что на протяжении тысячелетия опытные учителя считали, что обучение необходимо начинать на родном языке, ибо это обеспечивает усвоение основ религии и овладение механизмом чтения. Но в мусульманских школах всегда и непременно языком обучения оставался арабский язык. В сменявшихся поколениях на протяжении веков массы юношей под руководством наставников постигали трудности арабской грамматики.
Часть учебной литературы была создана в Средней Азии. Так, популярно было пособие по арабской грамматике таджикского поэта Джами (XV в.). В 1203 г. Бурзануддин Зарнуджи, преподаватель медресе (по-видимому, в Ферганской долине), написал на арабском языке «Наставление учащему на путях обучения». Эта небольшая книжка адресована главным образом юношам, которые после курса провинциального медресе стремились продолжить свое образование в Бухаре, в известных в мусульманском мире медресе.
Труд Зарнуджи показывает, что методическая мысль стремилась добиться того, чтобы ученик усваивал богословское или юридическое содержание книги на арабском языке и параллельно продвигался в лексикологии и грамматике этого языка. В этих целях автор советовал проходить курс неторопливо и с планомерными повторениями, используя древнюю, доисламскую традицию.
Из сохранившихся до середины XIX в. медресе древнейшие относились к XV в. В XV и XVI вв. средоточиями больших медресе являлись Бухара и Самарканд, затем Ташкент. В то время было построено несколько медресе выдающейся архитектуры. Здания трех медресе обрамляют, например, известную площадь Регистан в Самарканде, одном из крупнейших центров культуры и науки, особенно в период правления великого среднеазиатского ученого Улугбека.
Большие медресе в крупных городах в XV — XVI вв. строились обычно ханами или членами ханских семей, они являлись центрами подготовки мусульманских юристов-законников. В первой половине XV в. выделялись медресе, созданные Улугбеком (1394 — 1449).
На портале медресе Улугбека в Бухаре, построенном в 1417 г., выведено: «Стремление к знанию является обязанностью каждого мусульманина и мусульманки». Эти слова встречаются еще в сочинении Бурхануддина Зарнуджи, написанном в 1206 г. Там они приписаны пророку Мухаммеду и относятся к усвоению религиозных знаний.
Астрономические таблицы Улугбека и его каталог 900 звезд (видимых без телескопа) вошли в мировую науку. Если даже считать их результатом многолетних коллективных трудов сотрудников Улугбека, все равно неоспоримы его великие заслуги не только как руководителя обсерватории, первоклассной по тому времени, но и как создателя выдающихся медресе, в которые им были введены как обязательные естественные дисциплины.
Можно предполагать, что в Самарканде имелась давняя традиция занятий
математикой и астрономией. В 70-х гг. там написал трактат по геометрии поэт Омар Хайям. Через двести лет, уже после монгольского завоевания, там трудился Шамсеаддин ас-Самарканди, тоже автор известных трудов по геометрии.
В это время укрепились связи образования и устного народного творчества. Героический народный эпос обрастал вариациями, например у киргизов — народа, позже других в Средней Азии узнавшего грамоту. Население продолжало любить рассказывание сказок. Не только в городах, но и в кишлаках читались стихи больших поэтов, по этим литературным образцам писали свои произведения стихолюбы.
2. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ НАРОДОВ СРЕДНЕЙ АЗИИ И КАЗАХСТАНА
Народная педагогика
Народная педагогика Средней Азии представляет собой синтез педагогической мысли, опыта и традиций разных этнических компонентов, из которых формировались народы этого региона. На народную педагогику Средней Азии определенное влияние оказали достижения народной педагогики стран, с которыми с давних времен Средняя Азия поддерживала тесные торгово-экономические и культурные связи. Генетическая общность, сходные условия общественно-политической и социальной жизни, совместная жизнь на одной территории или в близком соседстве, взаимные связи в различных областях, совместная борьба против угнетателей и иноземных завоевателей порождали в материальной и духовной культуре разных наций и народностей много сходных, общих черт. Что касается народов Средней Азии, то они всегда поддерживали между собой всесторонние оживленные связи. Историко-этнографические и археологические изыскания дали убедительные доказательства того, что взаимовлияние и взаимопроникновение этнических и культурных элементов здесь достигало большой силы.
Свое отношение к роли воспитания народ выразил в пословице: «Дитя — драгоценность, но большая драгоценность — его воспитание».
В народных воззрениях воспитанию отдавалась роль решающего фактора в формировании человека. Народная педагогика признает как положительное влияние хорошо поставленного воспитания и благоприятных условий и среды, так и отрицательное влияние плохого воспитания, неблагоприятных условий и среды. Об этом свидетельствует и пословица: «Дыня от дыни перенимает цвет и плесень». Большое значение придается и самовоспитанию: «Сперва исправь свои недостатки, а потом поучай других».
Народные педагоги располагали многочисленными средствами, методами и приемами воспитания, подготовки подрастающего поколения к самостоятельной трудовой жизни. Им издавна были известны средства и методы как убеждения и приучения, так и стимулирования и оценки поведения, труда и поступков воспитанников.
Одним из основных правил народной педагогики было воспитание детей в среде своих сверстников. А в детской среде широко использовались различные игры. Народная педагогика хорошо понимала, что в процессе игр в детях воспитывается настойчивость, упорство; игры развивают силу, выносливость, дружбу и товарищество и другие положительные качества. Многие игры требуют коллективного участия детей, что имеет большое значение в воспитании чувства коллективизма, навыков согласованных действий, подчинения общеустановленным нормам и правилам.
В детских играх много места занимали игрушки в форме миниатюрных копий орудий труда взрослых, предметов домашнего обихода (фигурки домашних животных, повозки, лопатки, глиняные сосуды и др.), имитация процесса труда скотоводов, земледельцев, ремесленников, охотников и др., что имело большое значение в психологической и практической подготовке детей к труду.
В физическом воспитании большую роль играли подвижные игры, которые разнообразились по мере роста ребенка. С 4 — 5 лет дети уже играли в игры, связанные с бегом, прыжками, метанием камня (игра в снежки, катание на льду, игра в «лошадки», прыжки с высоты, с расстояния и др.). Все они требовали меткости, ловкости, выдержки, быстроты, хитрости, силы и выносливости.
Участие детей в посильном труде народная педагогика рассматривала как одно из эффективных средств эстетического, нравственного и умственного воспитания. Детей очень рано начинали привлекать к семейно-бытовому труду, к участию в полеводстве, скотоводстве, в кузнечном, столярно-плотничном, обувном, шапочном и других делах. Особое значение в воспитании подрастающего поколения имели коллективные виды труда («хашар», «уме», «ёвар»), которые были общепризнанными и надежными формами безвозмездной коллективной взаимопомощи, применявшимися с незапамятных времен в выполнении срочных, ответственных и связанных с большими усилиями и расходами работ и играли весьма важную роль в жизни народа. Они имели большое воспитательное значение. Однако этими замечательными традициями часто пользовались баи — богатые члены родов.
В воспитании детей широко использовалось устное народное творчество. Сказки, легенды и дестаны рассказывались с большим мастерством. Народные педагоги строго учитывали уровень развития у детей воображения, мышления, использовали наглядные методы в сочетании с образным, выразительным изложением, вызывали у слушателей высокое эмоциональное чувство, воспитывали эстетическое отношение к действительности. Они играли также роль образца — дети подражали им. Не удивительно, что в среде простого народа дети сами рано начинали рассказывать сказки.
В умственном и нравственном воспитании большую роль играли также пословицы и поговорки. В них охвачены почти все области человеческих взаимоотношений. Они дают ценные сведения по многим важнейшим отраслям эмпирических знаний.
Большое значение в воспитании детей имели произведения прогрессивных среднеазиатских поэтов (Рудаки, Навои, Мухтумкули и др.), рассказы и анекдоты о Насреддине, Алдар-Косе и других, народные песни и музыка.
Народная педагогика выработала и широко использовала разнообразные средства и методы воспитания: оно носило беспрерывный и систематический характер и было тесно связано с жизненно-бытовыми потребностями и задачами трудящихся.
Педагогическая мысль
Фараби (870 — 950). Выдающийся ученый-энциклопедист Абу Наср аль-Фараби является основателем средневековой философии Востока. Нет почти ни одной отрасли знания, в которой бы Фараби не оставил глубоких суждений, метких наблюдений и гениальных догадок. Еще при жизни он получил название «второй учитель» (второй после Аристотеля) .
Фараби впервые в арабоязычном мире создал стройную систему учения о душе и разработал оригинальную психологическую терминологию. Педагогику Фараби не выделяет в самостоятельную науку, вместе с этикой она входит в состав политической (гражданской) науки. В своих сочинениях он дает определение таким педагогическим понятиям, как обучение, воспитание, похвала, порицание, убеждение, принуждение, счастье, знания, навыки, привычки, умения и т. д. Так, по мнению Фараби, обучение — это наделение теоретическими добродетелями народов и городов, а воспитание — это наделение городов этическими добродетелями и искусствами. Понятие «счастье» является одной из основных категорий его педагогики. Достижение «вечного счастья» — основная цель воспитания. Человек становится несчастным из-за недобрых деяний, поступков, чему причина — плохие качества его характера. Задача воспитания — выкорчевывать отрицательные черты личности и способствовать росту у нее положительных качеств. Хороший нрав достигается при умеренных действиях, а плохой нрав — это душевная болезнь.
Если учитель добивается от учеников правдивости, справедливости, вежливости, то такими качествами должен овладеть он сам.
Настоящим воспитателем (не только детей, но и жителей всего города), общепризнанным вожаком может стать лишь тот, кто удачно соединяет в себе двенадцать врожденных 1 и шесть приобретенных, прирожденных качеств. Мыслитель писал о крайней необходимости для воспитателя таких качеств, как абсолютное совершенство органов чувств, железная логика, феноменальная память, острая наблюдательность, блестящая речь, любовь к познанию, воздержанность в еде, напитках, любовь к правде и ненависть ко лжи, равнодушие к деньгам и прочим благам мирской жизни, справедливость, смелость, отвага.
Учение Фараби повлияло и на последующее развитие психолого-педагогической мысли народов Средней Азии и Казахстана. Это влияние было длительным и многосторонним.
Ибн Сина (Авиценна) (980 — 1037). Абу Али аль Хусаин Абдаллах Ибн аль Хасан Али Ибн Сина, известный в Европе под именем Авиценна, родился в селе Афшана, около Бухары. Отец его, Абдулла, был уроженцем Бал-ха; по приезде в Бухару, столицу Саманидов, он был принят на службу к эмиру. В 985 г. отец поместил 5-летнего сына в начальную мусульманскую школу в Бухаре, где тот учился до 10 лет, обнаружив удивлявшие всех разносторонние способности. Он жадно впитывал знания, мог наизусть читать весь Коран и прочно усвоил грамматику, стилистику, поэтику арабского языка и другие дисциплины, входившие в курс дабристана.
С 16 лет Ибн Сина принялся за самостоятельное изучение творений великих врачей древности Гиппократа, Галена, а также выдающегося врача Ближнего Востока Абу Бакра (864 — 925).
В 1002 г. он приезжает в столицу Хорезма Ургенч, где в это время работал Бируни и развивались светские науки. Здесь Ибн Сина создал основы двух энциклопедий — «Книги исцеления» и «Канона врачебной науки» в 5 т. (много веков последняя в латинском переводе служила учебником для студентов-медиков университетов Европы).
Ибн Сина написал много книг по разным отраслям науки. Среди крупных его произведений кроме упомянутых такие самостоятельные труды, как «Книга знания», «Книга спасения», «Книга указания и пробуждения», «Книга справедливости» в 20 т. (не сохранилась). Помимо этого, им написано много работ по психологии, логике, этике, минералогии и др. По своему мировоззрению Ибн Сина принадлежит к школе перипатетиков. Он называл Аристотеля своим учителем. Огромное влияние на Ибн Сину оказали его среднеазиатские предшественники и современники — Бируни, Фараби и другие. В большинстве его научных трудов не только ставятся, но и решаются педагогические проблемы.
Ибн Сина придавал серьезное значение умственному воспитанию подрастающего поколения, овладению им научными знаниями. Он призывал всех, особенно молодежь, настойчиво изучать науки и стремиться к совершенству.
Содержание воспитания, образования и обучения, предложенное Ибн Синой, включает в себя: 1) умственное воспитание; 2) физическое оздоровление, основанное на данных науки врачевания; 3) эстетическое воспитание; 4) нравственное воспитание; 5) обучение ремеслу.
В педагогических идеях Ибн Сины придается серьезное значение воспитанию и обучению детей в школе. В своей книге «Семейное хозяйство» он посвящает этому вопросу специальную главу. В разделе «Обучение и воспитание детей в школе» он говорит в первую очередь о необходимости охвата всех детей школьным обучением и проводит идею коллективного обучения, выступает против индивидуального обучения детей в домашних условиях.
Совместное обучение, по его мнению, вызывает у детей желание соревноваться между собой, стремление не отставать друг от друга, предупреждает скуку и леность мысли. В беседах между собою ученики передают друг другу что-то интересное, почерпнутое ими из книг и от старших. Учась вместе, дети начинают дружить между собой, учатся уважать других, помогать им в усвоении учебных материалов. Они воспринимают друг у друга хорошие привычки.
В программу обучения детей до 14 лет Ибн Сина включил изучение Корана, арабского языка, грамматики, стихосложения, содержательных нравоучений, физическое воспитание, начатки ремесла. Ибн Сина считал необходимым строить процесс обучения на следующих принципах: не следует сразу привязывать ребенка к книге; проводимые с ребенком упражнения должны быть нормированными и посильными, быть коллективными, сочетаться с физическими упражнениями, учитывать склонности и способности ребенка; обучение должно идти постепенно, от легкого к трудному.
Великий ученый ставит ряд требований перед учителем: в обращении с детьми учитель должен быть сдержанным. Он с особым вниманием должен следить за тем, как ученики претворяют полученные знания в жизнь. В процессе обучения необходимо применять разнообразные методы и формы работы с детьми, учитывать их индивидуальные особенности, заинтересовывать занятиями. Мысли учителя должны быть доступны всем обучаемым. Слово свое он должен сопровождать мимикой и жестом, чтобы обучение было более доходчивым и вызывало у детей эмоциональное отношение.
Все эти мысли Ибн Сины в корне противоречили методике обучения, господствовавшей в школах того времени.
Во многих своих произведениях Ибн-Сина рассматривает существенные проблемы нравственного воспитания. Нравственность, с его точки зрения, не врожденное свойство человека, а важнейшая область воспитания и его существенный результат. Целью нравственного воспитания он считал формирование человека, который должен жить не для себя, а для других людей.
Ибн Сина глубоко понимал сложности и трудности процесса воспитания. Анализ его произведений убеждает в том, что он предлагал разрешить их с гуманистических позиций. Он предпочитает внушение и добрый пример педагогов, воспитателей и взрослых людей. Ибн Сина дает советы, как говорить с детьми об их недостатках и-путях их исправления. Такие разговоры не должны быть назойливыми, надоедать ребенку, тем более задевать его самолюбие. Говорить с ребенком можно, только зная его индивидуальность.
Большое значение придает Ибн Сина трудовому воспитанию детей. Он рассматривает его как необходимый и обязательный элемент наряду с умственным, физическим и нравственным воспитанием, требует, чтобы всех детей обучали ремеслу.
Интересно резюме этических и социологических взглядов Ибн Сины в заключительной части его философской энциклопедии «Китаб-ашшифа». Здесь развивается мысль о (том, что человек — существо общественное и поэтому важнейшим условием жизни людей является их постоянное сотрудничество, обеспечиваемое разумными законами и правосудием. Ибн Сина рисует идеальное государство со справедливым правителем, который заботится о том, чтобы все были заняты обущественно полезным трудом. «Если правитель несправедлив, восстание против него оправдано и должно быть поддержано обществом» (4, 40].
Юсуф Баласагунский, Махмуд Кашгарский, Ахмед Ю г -н а к и. Время укрепления феодальных отношений на территории Казахстана оставило такие выдающиеся памятники культуры, как дидактическая поэма «Кудатгу билиг» Юсуфа Баласагунского (XI в.), «Диван лугат ат тюрк» Махмуда Кашгарского (XI в.), «Подарок истин» Ахмеда Югнаки (XII в.), содержащие немало интересных сведений культурно-исторического и педагогического характера.
Многие страницы поэмы Юсуфа Баласагунского повествуют о роли знаний в жизни человека, о счастье, о хороших и дурных поступках человека. Большое место поэт отводит и вопросам семьи и брака, воспитанию подрастающего поколения, взаимоотношениям родителей и детей. Поэт говорит, что высокие нравственные достоинства прививаются хорошим воспитанием. Если ребенок растет неумелым, капризным, изнеженным, то виноваты в этом его родители. Дети — радость семьи, без них нет счастья. Их надо воспитывать с малых лет, обучать ремеслу, приобретению навыков примерного поведения, умению уважать ст&рших и дорожить честью семьи и родителей.
Призыв к людям «Овладевайте знаниями!» пронизывает почти все главы «Кудатгу билиг». Но поэт утверждал, что учение — достояние привилегированных классов, а простой народ вообще не склонен к приобретению знаний.
В отличие от Юсуфа Баласагунского другой мыслитель этого периода — Ахмед Югнаки в своем произведении «Хикбатуль хикайк» («Подарок истин») подчеркивал, что овладение знанием имеет огромное значение прежде всего для неимущих.
Конечно, этико-педагогические воззрения Югнаки отражают особенности мышления своего времени — абстрактное понимание сущности человека и мотивов его поведения, оторванность идей воспитания от социальных условий. Но его педагогические взгляды воплощают основные черты народных представлений о нравственности, о нормах и правилах поведения простого человека.
Интересен в педагогическом плане и другой памятник древнетюркской письменности — «Диван лугат ат тюрк» («Словарь для тюрков»), созданный Махмудом Кашгарским. В фольклорных материалах словаря (в пословицах, поговорках, легендах, преданиях и др.) немало ценных идей этико-педагогических и морально-психологических идей.
В рассматриваемый период по вопросам обучения и воспитания выступали и представители реакционного направления — дервишские поэты, проповедники ислама. Так, Ходжа Ахмед Ясави (1103 — 1166), один из основоположников суфизма, имевшего известное распространение в средневековом Казахстане, в своем религиозно-философском трактате «Диван-и-Хикмет» («Книга о мудрости») в свете догматов ислама излагает основные нормы этической жизни человека. Только в служении богу и в великом терпении можно обрести вечный покой; если люди будут мучить тебя, молчи, обратив взоры к богу, — вот основное кредо философских рассуждений проповедника суфизма.
Письменные памятники древних тюрков воспевали нравственную чистоту человека и его воспитуемость, благородство простых тружеников. С их страниц звучал величественный гимн человеку.
Саади (1184 — 1291). Муслиходдин Саади родился в персидском городе Ширазе и жил в тяжелые годы монгольского нашествия. Борьба народов Средней Азии и Ирана за освобождение от ига иноземных поработителей оставила большой след в его творчестве.
Саади сначала учился в мактабе. Затем поступил в знаменитое медресе Низамийэ в Багдаде, а после этого долго путешествовал для пополнения образования по странам Востока. В 1255 г. Саади вернулся на родину, в Шираз, и стал учить детей. В возрасте более 70 лет он написал знаменитые сборники стихов и рассказов — «Бустан» («Плодовый сад») в 1257 г. и «Гулистан» («Цветник роз») в 1258 г., обогатившие литературу и педагогическую мысль таджикского и персидского народов. Саади выдвигал идею равенства всех людей, требовал воспитания у молодежи сочувствия и уважения ко всем народам. Вместе с тем Саади был убежден, что идеи равенства, справедливости и гуманности можно осуществить, воздействуя иа царя.
Развивая взгляды своих предшественников Рудаки, Насира-Хисрова — на решающую роль воспитания в формировании личности, Саади критиковал представления- о том, что умственные способности передаются по наследству. Не отрицая природных задатков, он считал их предпосылкой развития способностей.
Исходя из принципа активного участия человека в своем формировании, Саади под умственным воспитанием понимает овладение знаниями, применение их на практике и развитие умственных способностей. Он старается показать жизненное значение знаний и убедить молодых людей в необходимости хорошо знать жизнь. Кто овладевает знаниями, становится развитым, умным, благонравным, а его поведение — красивым. Требование Саади о связи знания с жизнью и практикой в то время, когда обучение в мактабах и медресе было оторвано от жизни, являлось весьма прогрессивным.
При решении вопросов нравственного воспитания Саади исходит из гуманистических принципов, требует воспитывать человека-гуманиста, патриота, мужественного, честного, доброго, скромного, но обладающего чувством собственного достоинства. При этом он подкреплял свои мысли примерами из жизни простого народа, народного творчества.
Саади, как и его предшественники, придавал особое значение овладению ремеслом: человек, не владеющий ремеслом, всегда нищенствует и терпит лишения.
Саади писал об определяющей роли школы и учителя. Он описывает два типа учителя — злого и доброго. Первый своей суровостью, бесчеловечностью мучил невинных детей, не разрешал им не только пошалить, но и высказать свои мысли, лишал их детских радостей, подавлял их самостоятельность и волю. Другой учитель — добрый, благородный и мягкосердечный — говорит очень мало, зато умеет слушать детей, никогда не обижает их. Однако Саади считает, что учитель не должен потворствовать детям 14*
во всем, он должен требовать от них серьезного отношения к учению и в этом случае быть достаточно строгим.
Педагогические взгляды Саади формировались под влиянием его предшественников, особенно Рудаки. Но главным источником его взглядов явилась жизнь и устно-поэтическое творчество народа. Многие его высказывания о воспитании детей вошли в сокровищницу народной мудрости.
Джами (1414 — 1492). Нуриддин Абдурахман Джами родился в Хорджир-де, в округе Джам, в Хорасане. Начальное образование Абдурахман получил дома и в медресе проявил себя как способный и трудолюбивый студент. Профессора Герата не могли удовлетворить его жажду знаний. Он отправился в Самарканд — тогда центр культуры и науки в Средней Азии. Успешно закончив медресе Улугбека, Джами возвращается в Герат.
Скоро Джами становится известным как талантливый поэт и автор ученых трудов. Независимый характер помешал Джами занять государственную должность или вступить в ряды официального духовенства. Он стал членом суфийского ордена Бехауддин Накшбанди [1, 141 — 142].
Он обладал большими познаниями во многих науках, хорошо знал арабский язык, математику, логику, астрономию, космографию, право и был знатоком искусства. Им написан «Трактат о музыке» [3]. Он оставил богатое наследие во многих областях науки и литературы.
Произведение Джами «Бахаристан» («Весенний сад») является одним из лучших педагогических памятников таджикского народа XV в. «Бахаристан» написан по образцу «Гулистана» («Цветника роз») Саади. Каждая из 8 глав называется «равза», т. е. сад. В них помещены рассказы и притчи, составленные из высказываний суфиев, поучений мудрецов о жизни, поведении людей, даны биографии поэтов.
По убеждению Джами, достоинство человека определяется не занимаемой им должностью, не богатством, а честным трудом:
Не золотом, не серебром прославлен человек —
Своим талантом, мастерством прославлен человек [2, 2281.
Джами уделяет много внимания вопросам воспитания. Как и его предшественники, особенно Саади, он считает очень важным для молодого поколения овладение знаниями: знание освещает человеку путь в жизни и помогает ему преодолеть все трудности и препятствия, встречающиеся на его пути. Поддерживая мысль Саади, что знание должно быть связанным с практикой, Джами писал: «Раз занимаешься овладением наукой, старайся применить ее на практике. Ведь наука без практики — это отрава, которую нельзя пить». Целью овладения знаниями должна быть подготовка к тому, чтобы стать полезным для людей. Предшественники Джами говорили о значении знания для практики, он подчеркивал значение практики для закрепления старых и получения новых знаний.
Источником знания, великим учителем и наставником молодежи Джами считал книгу. Он призывал молодежь читать, любить и ценить ее. Через книги передается молодому поколению весь жизненный опыт и вся мудрость старшего поколения, поэтому книга — самый близкий друг человека. Джами высказывал мысль, что знание — продукт жизненной практики и творчества людей, что знание создали люди и оставили его после себя для подрастающих поколений в книге.
Предшественники Джами мало говорили об учителе, отдавая предпочтение воспитанию в семье. Высоко оценивая значение и труд учителя, Джами в «Книге мудрости Искандера» рассказывает о мальчике, который учителю воздает почести больше, чем отцу. Идеальным учителем Джами считает воспитателя Александра Македонского Аристотеля.
Джами верил, что при помощи воспитания можно сформировать такие человеческие качества, как гуманизм, чувство дружбы и товарищества, скромность, правдивость, щедрость и трудолюбие. Он продолжал гуманистические традиции своих предшественников.
Алишер Навои (1441 — 1501). Алишер Навои родился в Герате. Его отец — один из образованнейших людей своего времени — служил при дворе Абуль-Касыма Бабура. В 15 лет Алишер уже прославился как поэт. Он писал стихи на персидском и тюркском, хотя прекрасно знал арабский язык.
Во время обучения в медресе в Мешхеде Навои проявил огромный интерес к знаниям. Он самостоятельно и с большим упорством изучал классическую литературу, труды по философии, знакомился с различными искусствами. Затем Алишер учился в медресе у знаменитого законоведа и знатока арабского языка Ходжи Фазуллы Абу-Лейса.
Педагогические идеи Навои отличаются большим гуманизмом. Он считает человека самым высшим, самым благородным существом мира, а ребенка — светилом, которое освещает дом и приносит в семью радость и счастье. Мало любить собственных детей, человек должен любить всех детей — «будущее поколение», «другие дети являются твоими близкими родственниками», — говорил Навои [6, 625].
Он писал, что дети еще не могут отличать хорошее от плохого, и поэтому они с ранних лет должны находиться под благотворным влиянием воспитателей.
Человек не может жить вне общества, вдали от людей. «Общество является местом, домом событий. Никто не может быть вне его, не может быть независимым от его событий» [6, 513].
Характеризуя подростковый и юношеский возраст, А. Навои говорил: «После детства наступает юношество — период формирования разума. В этот период жизни человеком овладевает или разум, или страсть. Если разум победит, он будет руководить благородными делами» [6, 512].
По мнению Навои, цель воспитания — подготовить подрастающих людей хорошо образованными, овладевшими лучшими человеческими качествами и борющимися за счастье народа. Он призывал молодежь к изучению наук и развитию разума. Ум — одно из основных качеств человека. Человеку необходимо овладеть наукой и ремеслом и постоянно совершенствоваться в них. «Знание и мудрость — украшение человека» [5, 69). Поэт мечтал о разностороннем развитии человека, о воплощении в нем лучших человеческих качеств.
В эпоху, когда попирались человеческие права, Навои вел борьбу за человеческое достоинство: «Я стал искренним другом рабов, я крепко подпоясался, чтобы служить им» [5, 16].
Любовь к человеку тесно связана у Навои с любовью к родине. Но его патриотизму чужда ненависть к другим странам и народам. Навои говорит о дружбе не только между отдельными людьми, но и между народами. В поэме «Фархад и Ширин» (1484) описана дружба китайца Фархада с иранцем Шапуром. Шапур — искренний и преданный друг Фархада и армянки Ширин.
Одним из самых ценных качеств настоящего человека Навои считал трудолюбие. Труд, говорил он, украшает человека, благодаря труду человека со-
1 Герат был столицей западной половины владений Тимуридов.
вершеиствуется. Поэт, описывая труд декхан, подчеркивал: «Благосостояние мира от них, радость человека от них. Где бы они ни работали, они дают людям силу и благодать... Пища народа из-за них обильна» [5, 36]. Труд приносит человеку счастье. В поэме «Фархад и Ширин» даны красочные картины труда. Образ Фархада приобретает глубокий смысл и величие, становится воплощением могущества труда.
В числе лучших качеств благородного человека — вежливость, хорошее поведение и скромность. Первая обязанность человека — искренне уважать своих родителей. Надо уважать старших и быть внимательным, предупредительным и милосердным к младшим и слабым. «Скромность — якорь корабля человека в мире превратностей», — говорил поэт [5, 59]. Навои резко осуждал подхалимство, подлость, трусость, невежество, угодничество, раболепие, двуличие, хвастовство, чванливость. «Чванливый человек — шайтан, возвеличение себя — дело глупого человека» [5, 57].
Бабур (1483 — 1530). Захириддин Мухаммед Бабур, основатель империи Бабуридов в Индии (известной под названием империи Великих Моголов). Он оставил богатейшее литературное наследство: сочинения по законоведению, музыке, трактаты по военному делу и поэтике. Основным трудом этого видного полководца и государственного деятеля средневекового Востока являются знаменитые «Бабур-наме» («Записки Бабура»), а также газели и рубаи.
У Бабура очень много педагогических высказываний, даже в таком труде, как «Мубайин», излагающем взгляды Бабура на налоговую и экономическую политику. Им написано и «Родительское послание» — этико-дидактическое наставление, содержащее рассуждения о воспитании и обучении.
В рубаи и газелях Бабура мы постоянно встречаемся с мыслями о дружбе, Родине, честности, добре и зле, почитании родителей, отношении к женщине, к религии, к богатству, о важности обучения, воспитания, повторении себя в своих учениках.
Педагогические поучения Бабура блестяще раскрыты в прекрасном «Трактате об арузе», где автор дал подробнейшие наставления по правилам стихосложения. Это произведение — своеобразный эталон дидактики, где тщательно раскрываются в сопоставительном анализе узбекского и персидского языков законы фонетики, слогообразования, рифмосложения, смыслового акцентирования. Трактат снабжен историческими справками, примерами стихосложения известных поэтов Востока, подробной аннотацией используемой терминологии.
В XIII — XVII вв. в Казахстане нет еще сложившейся системы научных знаний в области педагогики и психологии. В середине XV в. на территории нынешнего Казахстана стали возникать казахские государственные объединения раннефеодального типа. Именно с этого времени начинается развитие собственно казахской культуры, выделение ее из общетюркской. В XV — XVII вв. Казахстан все еще был изолирован от цивилизованного мира, находился вне сферы влияния Русского государства, западной культуры, переживал трудный, мучительный этап средневекового феодализма.
В воззрениях казахских мыслителей и летописцев педагогические идеи были слиты с нравственными размышлениями. Интересы защиты родины от врагов, борьба с иноземными захватчиками приковали их особое внимание к вопросам военно-патриотического воспитания.
Кочевой образ жизни выработал у казахов своеобразную систему ценностных ориентаций, потребностей, интересов, притязаний. В общине кочевников лепился некий идеальный образ личности, вырисовывался характёр, определялись качества личности, которые считались наиболее ценными, бла-
городными и человечными, формировались нормы межличностных отношений (в семье, в общине). «Педагогика кочевников» имела в своем арсенале немало своеобразных приемов, средств воспитания подрастающего поколения. Неоценимым воспитателем молодежи выступала и народная мудрость (фольклор, пословицы и поговорки).
Характерной чертой общественной мысли Казахстана этого периода является обостренный интерес к этическим вопросам. Морально-психологические идеи были облечены в поэтическую форму поучений и афористических суждений. В рассматриваемый период в Казахстане жила и творила плеяда мыслителей и летописцев: Хорезми, Сараи, Казтуган, Асан-Кайгы, Шалкииз, Дос-панбет, Жиембет, Маргаска и другие.
В дастане поэта Хорезми «Мухаббат-наме» (XIV в.) повествуется об образе жизни, быте и нраве кочевников-кипчаков, даются различные наставления по воспитанию детей и подростков. Характеризуя моральное состояние общества своего времени, акыны утверждали, что мир полон разврата, нравы испорчены. Основным средством улучшения нравов являются воспитание, советы и наставления. Будучи гуманистами, они проповедовали идеи человеколюбия, справедливости. Они считали, что умение слагать речь — один из показателей нравственной воспитанности человека. Оригинальность, конкретность, краткость, образность и глубина были главными особенностями их афоризмов.
Во II в. до н. э. — V в. н. э. в Поволжье происходит разложение родового строя и переход к классовому обществу. В середине I тысячелетия н. э. в Поволжье образуются племенные союзы: в западном Закамье и южной части Предволжья складывается союз племен волжско-камских булгар, который явился одним из компонентов при формировании народностей казанских татар и чувашей. Предки чувашей образовали союз племен в лесной части Поволжья. К юго-западу от них жили буртасские племена, которые дали начало отдельным группам мордвы и другим народностям. В Предкамье, тесно соприкасаясь со всеми племенами лесного севера и северо-востока, сформировались предки современных марийцев и удмуртов. В Приуралье и восточной части Закамья жили башкирские племена.
В VIII в. в Поволжье происходит переход от мотыжного к пашенному земледелию. Земля становится важнейшим средством производства. Постепенно формируется классовое общество.
В воспитании детей главную роль играли народная педагогика, устное народное творчество, традиции воспитания. Народная педагогика Поволжья, отражая социально-экономические особенности хозяйственной жизни и быта, была направлена прежде всего на подготовку к труду, уважительному отношению к своему роду и близким. Значительное внимание в ней уделяется фи-
зической закалке молодежи — подвижным играм, борьбе, верховой езде и скачкам. На народных праздниках устраивались состязания в силе, выносливости, находчивости, смелости, а также соревнования певцов, музыкантов.
Одним из первых государственных объединений в Поволжье стала Волжская Булгария (IX — XIII вв.). В орбите влияния Булгарского государства находились предки современных народов Среднего Поволжья и Приуралья: чуваши, мари, удмурты и часть мордвы. Башкирские племена, кочевавшие по западным склонам Уральских гор, в той или иной степени были зависимы от булгарских властителей. Все эти племена принимали участие в создании средневековой культуры, которую принято называть булгарской.
В Волжской Булгарин господствовали феодальные отношения. Наряду с земледелием и скотоводством большого развития достигли различные ремесла. Существовали крупные города — центры торговли и культурной жизни. Булгария была посредником в торговле Руси со странами Запада и Востока. Уже во второй половине IX в. среди булгар распространяется ислам. Официальной датой принятия ислама считается 922 г. Ранее у булгар была письменность (на основе рунических знаков). Но эта письменность, так же как и языческие верования, не признавалась исламом. Обучение детей проводилось на основе арабского языка.
Первые учебные пособия были направлены против языческих верований доисламского периода. Такие пособия, как «Бэдэвам» («Навсегда»), «Нэсый-хэт-эс-Салихин» («Наставление на добрые дела»), осуждают жертвоприношение, подчеркивают значение молитвы, учения, призывают к уважению старших, наставляют в правилах поведения.
Организованное воспитание и обучение было доступно в основном имущим слоям общества. Арабский писатель X в. Ибн Руст писал: «Большая часть (булгар. — Авт.) проповедует ислам, и есть в их селениях мечети и начальные училища с муэдзинами и имамами» [20, 23]. В городах создавались медресе — средние и повышенные школы.
Знаменитая поэма «Юсуф и Зулейха» видного мыслителя и поэта Булгарин Кул Гали (1183 — ?) использовалась у многих тюркоязычных народов как учебное пособие вплоть до начала XX в.
Целью воспитания Кул Гали считает формирование человека в духе ислама, человека, подчиняющегося предначертанной судьбе. В его произведениях звучат призывы к полнокровной жизни на земле, к активному созиданию собственного счастья. Он выступал за воспитание свободного, гордого, счастливого человека, выдвигал на первый план волевые черты и сильный характер. Настойчивость и упорство в достижении цели, самостоятельность, физическая сила и красота особенно ценились им в человеке. Кул Гали признавал активную роль женщины в жизни общества.
С принятием арабской письменности стали распространяться труды ученых Востока: Фараби, Р. Исфагани, Ибн Мисквея, Газали и других. В Булгарин были известны произведения Ибн Сины, энциклопедиста аль-Бируни, видного математика и астронома Мухаммеда аль-Хорезми. Татарские учителя использовали введение в энциклопедическую педагогику — «Книгу об учении обучающего», которая была написана на арабском языке Бурзанутдином аз-Зарнуджи (XII в.). Она имела хождение в рукописи, а в XVIII в. — в зарубежных изданиях. Книга была написана под влиянием античной педагогической мысли и содержала сведения по основам педагогики.
В IX — XIV вв. влияние восточной педагогической мысли на татар было плодотворным, но в XV — XVI вв. в восточной педагогике превалирующую роль стал играть суфизм. Светские науки постепенно были забыты, и схоластика стала основой всех учебно-воспитательных учреждений. Многие произведения вое-
точной педагогики и философии распространялись у татар в оригиналах или в переводах и пересказах татарских ученых, получивших образование в странах Востока.
В мектебах и медресе изучали Коран, кирагат (искусство чтения), шаф-сир (комментарии к Корану), хадисы (изречения Магомета), язык (главным образом, арабский и персидский), литературу, правоведение, историю, геометрию, географию, астрономию и философию. Во многих медресе был следующий порядок прохождения учебных дисциплин: 1) арабская морфология; 2) синтаксис арабского языка; 3) логика; 4) догматическое богословие (келям); 5) философия (хикмет); 6) практическое богословие (осулы факхэ); 7) мусульманское законоведение (фикхэ); 8) изречения Магомета; 9) толкование Корана (тафеир); 10) наследственное право (фараиз); 11) элементарная арифметика и начала геометрии.
В XIII в. Волжская Булгарин пала под ударами монголо-татарского нашествия. Булгария вошла в состав Золотой Орды, сохранив некоторую автономию.
В XIV в. в Сарае, главном городе Золотой Орды, сосредоточилось много ученых и педагогов. Были восстановлены культурные связи со странами Востока. В конце XIV в. Сайф Сараи перевел «Гулистан» Саади и приложил к нему свои поучения и наставления, призывая молодых к овладению знаниями, ремеслами. Из оригинальных произведений нравоучительно-педагогического характера следует назвать «Открытую дорогу в рай» (1358), автором которой был сын Гали — Махмуд Булгари, и «Книгу Умми Камала» (1428) (подлинное имя автора — Исмагил, Умми Камал — литературный псевдоним). Камал — один из наиболее образованных людей своего времени. В своей книге он восхваляет силу разума, выступает за изучение наук.
В период Казанского ханства (1437 — 1552) воспитание подрастающего поколения, как и в других феодальных государствах, целиком и полностью находилось в руках духовенства. Иерархическая лестница четко определяла обязанности каждого в обществе. Воспитание молодежи осуществлялось в мектебах при мечетях и носило сугубо религиозный характер. Дети более зажиточных родителей учились в медресе. Так, при соборной мечети в Казани имелось крупное медресе, руководимое известным педагогом Кол Шерифом. Пользовалась известностью и школа в селе Авдеево, в которой 36 лет проработал педагог Шейх Шимухаммед, сын Тук-Мухаммеда, написавший несколько педагогических трактатов. Учитель из медресе села Ташбилге Ша-рафутдин Хисаметдин написал оригинальное пособие «История Булгарин» (XVI в.).
Для завершения образования некоторые молодые люди ездили в Египет, Индию и другие восточные страны. Сохранилась, например, рукопись одного неизвестного татарского ученого XV в., который получил образование в Индии и оставил трактат о древнеиндийской философской мысли и воспитании.
В середине XVI в. жил и творил в г. Казани и Булгаре известный мыслитель Махмуд Ходжи углы Мухаммедьяр. Он мечтал о «справедливых правителях», идеализировал просвещенных ханов, но его беспокоила и судьба народа, который страдал от нищеты. Он разоблачал тех, «кто пьет кровь народа». Плохим или злым человек становится в результате влияния на него дурных людей, при отсутствии воспитания, считал Мухаммедьяр. Его идеалы отличались оптимизмом и симпатией к простым людям. Особенно отчетливо это видно в книге «Лучи души» (1539 — 1541). Она состоит из 10 глав, каждая из которых раскрывает одно из нравственных качеств: правдивость, взаимопомощь, доброту и др.
Высокую оценку Мухаммедьяр дал воспитательному значению труда. В своих нравоучительных рассказах он убедительно показывал нравственную силу труда. Счастье, писал он, может быть, добыто только собственным трудом. Мухаммедьяр призывал к нравственному совершенствованию человека, писал о необходимости воспитывать у молодежи чувство патриотизма, любви к своему народу, от которой истинный сын отечества не откажется никогда, даже на чужбине, под угрозой жестоких наказаний. Большое значение он придавал таким методам воспитания, как убеждение, художественное слово, авторитет наставника, пример, упорядоченный режим жизни.
Мухаммедьяр был одним из немногих, кто понимал роль Московского государства в судьбе казанских татар. Об этом он писал за 11 лет до завоевания Казани Москвой. Чуваши и марийцы добровольно присоединились к России в 1551 г.; в 1552 г. войска Ивана IV взяли Казань, и Казанское ханство прекратило свое существование. Вхождение народов Поволжья в состав России было прогрессивным явлением. Чуваши, марийцы, татары, удмурты и другие народы связали свою судьбу с русским народом, стоявшим на более высоком уровне экономического и культурного развития. «...Россия действительно играет прогрессивную роль по отношению к Востоку, — отметил Ф. Энгельс, — ...господство России играет цивилизаторскую роль для Черного и Каспийского морей и Центральной Азии, для башкир и татар...» [1, 241].
В целях упрочения своего положения царское правительство создало на местах монастыри, проводило политику христианизации, насильственного крещения язычников (чувашей, марийцев, удмуртов и др.) и мусульман (татар и башкир). При монастырях обучали нерусских детей. Ученые татары и чуваши использовались в качестве послов и переводчиков: «Благодаря находящимся на русской службе татарам русское правительство для сношений с правительствами мусульманских стран располагало готовыми кадрами переводчиков... Татарский язык был некоторое время языком дипломатических сношений» [6, 182).
Видным татарским мыслителем XVII в. был Мэвла Колый — автор нравоучительных и дидактических хикметов (изречений). До нас дошли 97 его хикметов, написанных в 1677 г. В них автор уделяет внимание и вопросам воспитания и обучения молодежи, подготовке ее к жизни, к участию в трудовой деятельности. Особенно важным он считал овладение основами земледелия: «Земледелие! Достойнее нет ремесла. Ты займись им — снискаешь почет всегда» [4, 70]. Мэвла Колый призывает к овладению знаниями. Он сравнивал педагогов и ученых с солнцем, а учеников — с луной.
В XVII в. усилилось влияние русской и западной педагогической мысли. В татарском обществе шла упорная борьба между сторонниками ориентации на Восток и Запад. Одни педагоги защищали учебную практику Востока и осуждали науку «неверных» (русских и народов западных стран). Другие татарские просветители (С. Хальфин, И. Хальфин, Г. Махмудов, К- На-сыри) держались противоположной ориентации.
На обширной территории Сибири, протянувшейся от Урала до берегов Тихого океана и от Северного Ледовитого океана до границ Центральной Азии, с незапамятных времен обитали предки нынешних многочисленных народов — якутов, эвенков, хантов, манси, сельку-пов, нганасан, кетов, долган (север Сибири), бурят, хакасов, тувинцев, алтайцев, шорцев, тофаларов (юг Сибири), нанайцев, ульчей, гольдов, нивхов, орочей, ороков, удэгейцев (Приамурье и Приморье), эскимосов, чукчей, ительменов, коряков, юкагиров, алеутов, айнов, негидальцев (Камчатка, Сахалин, Крайний Север).
Эти этнические группы прошли большой и сложный путь исторического развития. В середине XIII в. вся Сибирь, кроме крайних северных районов, попала под власть монгольских завоевателей, что почти на 300 лет приостановило экономическое и общественное развитие этого региона, привело к междоусобным войнам.
Жизнь коренного населения Сибири проходила в условиях разобщенности, разбросанности немногочисленной народности на большой территории. Так, к концу XVII в. на площади около 13 млн. кв. км жило лишь 236,6 тыс. человек, т. е. на одного человека из числа коренного населения приходилось более 40 — 50 кв. км площади [19, 16]. Это обстоятельство самым отрицательным образом сказывалось на развитии производительных сил и освоении природных богатств Сибири. Безграничное мужество, трудовая настойчивость, изобретательность и человеческая сплоченность потребовались от древних сибирских обитателей, чтобы выжить в единоборстве с суровой природой, создать свою материальную и духовную культуру.
Сама жизнь, трудовая, преобразовательная деятельность человека требовали обобщений воспитательной практики. По мере усложнения этой практики в народной педагогике складывались морально-оценочные определения ее целей, представления об идеальном образе, ориентируясь на который следует подготавливать человека к жизни. Характерная для народов Сибири стойкость родовых отношений и обычаев способствовала консервации положений народной педагогики, что позволяет соотнести ее содержание и принципы с очень отдаленными историческими временами.
Представления о нравственных достоинствах и идеалах, на которые следует ориентироваться в воспитании подрастающего поколения, находили выражение в древнейшем фольклорном жанре — мифах о героях. С давних времен у народов Сибири было принято передавать от старших младшим рассказы о славных предках, оставивших по себе добрую память. Так, у бурят сохранились имена сильных и ловких руководителей облавной охоты, у эвенков — смелых охотников — промысловиков и следопытов, у ульчей — мастеров рыбацких лодок, у хакасов, бурят, тувинцев — смелых наездников, мастеров оружия и кузнечного дела. Заслуженным почетом окружались в семьях и способности женщин-рукодельниц. Имена всех этих уважаемых людей воспринимались в народе как подтверждение реальности идеальных образов фольклорных произведений. В устной традиции сибирских народов идеальный фольклорный герой получал такие определения, как «настоящий человек», «лучший из мужей», «прекрасный из людей» и т. п.
Объектом народной педагогики является ребенок — ему предназначено стать взрослым, заменить собой старших и крепить свой род и племя. У сибирских народов ребенок считался гордостью и украшением семьи. В потомстве, как полагает народная мудрость, обретается духовное бессмертие человека, возможность людей двигаться к рубежам будущего. Пословицы заключают: «Где гусь не летал — гусенок полетает, где отец не бывал — сын побывает» (якутская), «Ребенок — счастье и надежда человека» (якутская), «Конь падет — коновязь останется, отец умрет — сын останется» (тувинская). Старики-хакасы на свадьбах высказывали молодоженам такое благопожелание: «Годы ваши будут долги, дома ваши да наполнятся детьми!» Особенно радовались появлению мальчика как продолжателя фамилии. Отсутствие детей считалось огромной бедой. Широко бытовал обычай, по которому бездетные супруги брали на воспитание детей-сирот. Многодетные родители пользовались большим уважением. У хакасов было принято со вниманием выслушивать на советах многодетных мужчин. «Послушай, что говорит человек, имеющий детей» [9, 369]. Большим уважением были окружены и женщины, рожавшие много детей.
Но дети могли стать надеждой родителей и опорой всего рода, только будучи хорошо воспитанными. По тому, как воспитаны дети, сородичи судили о самих родителях. Шорцы говорили: «От хорошего мяса — суп хороший, от хорошего человека — дитя хорошее». Плохо воспитанные дети — позор не .только для родителей, но и для всех родичей. Таких родителей не приглашали в гости, не оказывали им почестей.
По обычаю родители и старшие в семье говорили детям о том, что жизнь полна трудностей и испытаний: «Река с волнами, жизнь с ухабами» (якутская пословица). Нельзя стать настоящим человеком, не научившись переносить трудности и жизненные испытания, не закалив себя в испытаниях. Богатырь Сюдей Мирген из хакасского сказания «Сюдей Мирген и Джолтай Мирген» говорит: «Прежде чем мужчина не узнает горя, не станет он человеком». Буряты делали правильное заключение, что «познавшему в юности трудности, в преклонные годы жар и холод не беда».
В фольклорных произведениях, богатырских сказаниях «биография» эпического героя начиналась с раннего детства. Уже в эту пору он совершает невиданные подвиги, переносит огромные трудности и испытания, что способствует его закалке. Сказители стремились вызвать у своих слушателей убеждение, что былинные герои — это реальные лица, нередко живущие среди людей и поныне. Их благородные поступки не придуманы и по плечу каждому настоящему мужчине.
Народная педагогика большое внимание уделяла физическому воспитанию, специальным упражнениям и играм детей. По свидетельству этнографов, у сибирских народов было принято с момента рождения ребенка подвергать его физической закалке. Е. А. Покровский писал о сибиряках: «Остяки, самоеды, вогулы погружают детей после рождения зимой в снег, а летом катают по утренней и вечерней росистой траве, приговаривая: «Учись терпеть стужу и лужу» [17, 24]. Эвенки иногда вместо омывания водой натирают все тело новорожденного снегом, считая, что выдержавшие такую операцию бывают потом выносливы к холоду.
Разнообразными были физические упражнения и спортивные игры, с помощью которых вырабатывалась физическая выносливость и ловкость детей. Так, у эскимосов, чукчей и других северных народов было принято поднимать тяжести, метать копья и камни из пращи, бросать аркан. Дети соревновались в умении управлять байдаркой, оленьей или собачьей упряжкой. Соревнования детей в беге, борьбе и плавании были широко распространены у всех народов Сибири. В южных ее районах подростки принимали участие в конных бегах. У эвенков мальчики упражнялись в ловкости владения луком.
У сибирских народов ценились такие нравственные проявления, как солидарность, сплоченность, взаимовыручка и щедрость. В обиходе народа немало пословиц, прославляющих эти качества: «Единство братьев крепче каменного утеса» (шорская), «Ручьи сольются — реки, люди соединятся — сила» (тувинская), «При единодушии люди и гору своротят» (бурятская), «Одна головешка не горит, человеку в одиночестве не прожить» (хакасская). Пословицы наставляли: «Дай приют старому, утри слезы малому» (тувинская), «У кого лошади нет, тому лошадь подари, у кого одежды нет, того одень» (хакасская). Поведение людей и отношение их друг к другу с глубины времен строились в соответствии с этими высокими нравственными заповедями.
У всех народов Сибири было в обычае содержать за счет рода стариков, инвалидов и сирот. В сибирских селениях издавна существовал обычай выставлять на ночь за окно пищу для странствующих путников. Существенно, что подобные поступки взрослых, их благородство были для детей уроками реальной жизни, конкретными, а потому убедительными примерами повседневного поведения. Не случайно у детей было принято делиться гостинцами: съесть гостинец одному считалось непозволительным поступком.
Традиционным приемом, который использовался для реализации принципа «для жизни воспитывать и жизнью воспитывать», было включение ребенка с малолетства в систему трудовых обязанностей. Так, у эвенков дети 3 — 4 лет начинали помогать родителям по дому, с 6 — 7 лет они выполняли разнообразные хозяйственные работы [7, 174]. У якутов мальчики примерно с 7 лет вели постоянный уход за скотом, смотрели за порядком в доме, а в 12 лет учились охотничьему промыслу [21, 194 — 195]. У ульчей мальчиков с 4 — 6 лет учили стрелять из охотничьего лука, подстерегать зверя, с 6 — 7 лет они ездили с родителями на рыбалку, 7 — 8-летние мальчики и девочки уже умели хорошо грести и править лодкой [18, 121]. У хакасов, тувинцев, алтайцев 9-летним детям поручались чабанские обязанности. Особой заботой ребятишек, особенно девочек, было нянчить своих меньших братишек и сестренок.
К 12 — 13 годам дети становились помощниками родителей во всех трудовых и хозяйственных делах. Нередко в случае смерти одного из родителей дети 14 — 15 лет полностью брали на себя их домашние и трудовые заботы. У хакасов по этому поводу говорили: «Когда нет отца, сын — хозяин, когда нет матери, дочь — хозяйка».
Как правило, от детей старшие требовали в работе исполнительности, точности и ловкости, смекалки. Плохо сделанное заставляли переделывать заново. Именно в труде дети вырабатывали самостоятельность, рассудительность, серьезное отношение к жизни и рано взрослели духовно. Было традиционным педагогическим правилом, чтобы воспитуемый проявлял максимум собственных усилий в своем личностном развитии. «Сам на свои ноги становись», — требовали от детей хакасы. «Если гусь не расправит своих крыльев, не полетает, кто узнает, что он быстро летает?» — гласит алтайская народная мудрость. Уже с малолетства детям поручались довольно ответственные трудовые задания, их ставили в такие жизненные ситуации, где требовалось проявление самостоятельности, находчивости и сообразительности, умение ориентироваться на местности. Так, 4 — 5-летние ребята самостоятельно ходили в тайгу за ягодами и грибами, отправлялись в степь и горы.
У северных народов практиковался обычай отправлять юношу, достигшего определенного возраста, от родного очага в самостоятельную жизнь, где он должен был обеспечить себя пищей, жильем, не рассчитывая на помощь и советы взрослых.
Трудовая выучка детей, осуществлявшаяся применительно к природным условиям Сибири, ориентировалась на то, чтобы человек умел проявлять деловую сноровку, ловкость, настойчивость, а также мог разбираться в сезонных и погодных явлениях природы. Таких умений требовали охотничий промысел и скотоводство. Не меньшие способности нужны были и для ремесленных занятий: кузнечного дела, постройки жилищ и лодок, шитья одежды, обуви, катания войлока, изготовления орудий труда, оружия, посуды, домашней утвари. В условиях патриархально-натурального хозяйства главе семьи приходилось иметь дело со многими ремесленными обязанностями. В силу этого необходимо было обучать детей самым различным видам и формам трудовой деятельности, делать их своего рода универсальными работниками. Такая трудовая подготовка осуществлялась путем конкретного исполнения детьми всего многообразия трудовых дел и практического овладевания секретами ремесла. Дети уже с малолетства умели заниматься многими видами труда.
Древним обычаем у народов Сибири была коллективная трудовая взаимопомощь нуждающимся, больным, многодетным семьям. Как правило, дети совместно со старшими принимали участие в такой работе. Забота о другом человеке приучала детей к бескорыстию, добру и уважительному отношению к людям.
В народной педагогике устанавливалась прямая связь физического труда детей с их умственным развитием и активным познанием окружающего мира. Сибирские народы дают высокую оценку знаниям и уму человека. «Сила огня — в жаре, сила человека — в знании», — говорят хакасы. Повседневный труд объективно требует наблюдательности, изобретательности, догадливости — всего того, что в итоге активизирует познавательные силы юной личности и позволяет ей видеть конкретную пользу умений и знаний, ибо «кузнец-умелец не отшибает палец, швея-искусница в нитках не запутается» (тувинская поговорка). В повседневной жизни народы Сибири пользовались довольно обширным кругом прикладных знаний. Они имели представление о начальных данных географии, ботаники, зоологии, медицины, ветеринарии, физики и др., хорошо разбирались в психологии людей, о чем свидетельствуют глубокие психологические характеристики героев фольклорных произведений.
Трудовая деятельность детей способствовала и эстетическому их развитию. Было в обычае украшать орнаментальными рисунками орудия труда, предметы домашнего обихода. К этому приучали и детей. С ранних лет они начинали заниматься и прикладным искусством, произведения которого отличались большим художественным достоинством.
Как средство воспитания в педагогической практике сибирских народов широко использовалось устное народное творчество. Обращение к эмоциональной сфере человека составляет примечательную сторону народного воспитания и свидетельствует о психологической его вооруженности. Народная педагогика приходила к мысли, что силой принуждения, физическим наказанием в воспитании ничего хорошего не достигнешь: «Палкой детей не учат» (хакасская пословица), «Силой не заставишь быть добрым» (алтайская). Было в обычае уважительно и ласково относиться к детям.
С незапамятных времен было принято организовывать коллективные слушания сказителей, исполнителей песен, которые в народной среде пользовались особым уважением. Нередко такие слушания продолжались в течение 2 — 3 зимних ночей подряд. Сопереживание слушателей, их обостренная реакция на выступление сказителя или певца характерны для тогдашней аудитории. Всегда самыми внимательными слушателями сказителей и сказочников были дети. Сила духовного воздействия фольклора состояла в том, что он формировал активность социальных чувств: любовь к родной земле и к своим сородичам, ненависть к поработителям, угнетателям, непримиримость к несправедливости и тунеядству.
Родительский пример, поведение старших рассматривались народной педагогикой как важный воспитательный фактор. «Задние копыта по следу передних идут», — утверждает тувинская пословица. У сибирских народов родители и вообще старшие являлись примером, образцом поведения. Считалось нарушением правил появление перед детьми в нетрезвом виде, склонность затевать ссоры, произносить грубые слова, оказывать неуважение к старшим. У всех народов Сибири распространен культ матери. Ее авторитет, доброе, поучающее слово, забота о ребенке имели решающее значение в его сохранении и воспитании. Вторым лицом в воспитании детей была бабушка — хранительница педагогической мудрости народа — сказок, пословиц, поучений. Старшие в семье приобщали детей к родовым преданиям, легендам, сказаниям, песням. Считалось обязательным знать историю своих предков до седьмого колена. Неосведомленных или мало знающих историю и фольклор буряты презрительно называли «некто без имени, жук без разума, славы» [5, 106). Трудовое и физическое воспитание мальчиков связывалось с влиянием отца и дедушки. «Без отца — как без друга, без коня — как без ног», — наставляла мальчиков тувинская поговорка.
По мере разложения родо-племенного строя (этот процесс у каждого из народов Сибири имел свои историко-временные рамки) общие черты идеала воспитания, как и цели подготовки к жизни подрастающего поколения, дифференцировались, постепенно поляризовались с появлением имущественного неравенства. Особенно четко это социальное явление обозначилось при формировании феодальной государственности у ряда народов Сибири.
В произведениях фольклора, относящихся к данному историческому периоду, нашло отражение классовое понимание трудовым народом своего подневольного положения.. Характеризуя содержание якутских сказок, Г. У. Эргис пишет, что «с развитием классовых отношений у якутов социальные мотивы протеста против угнетения, критика верхов раннеклассового общества проникают и в сказки о животных, имеющие древнее происхождение» [24, 220]. Отвергая эксплуататорскую мораль баев и найонов, трудящиеся утверждали свои классовые понятия: «Все злодеяния от ханов происходят» (бурятская пословица; «Когда падеж скота — собаки жиреют, когда болеют люди — ламы жиреют» (тувинская).
Воспитание детей в духе классового достоинства было важной целью народной педагогики. Старшие поучали: «С баем говори, да за пазухой нож держи» (хакасская пословица); «Увидев хана, не стесняйся, увидев начальника, не робей» (шорская), «Не бери иноходца на облаву, не следуй за шаманом по пути» (бурятская). Бурятские поговорки утверждали в воспитуемых веру в конечную победу справедливости: «Появится солнце, будет и наш черед».
Решающее значение в исторических судьбах народов Сибири имело их вхождение в состав Российского государства (конец XVI — начало XVII в.). По определению К. Маркса, этим историческим актом «была заложена основа Азиатской России» [2, 166]. А. И. Герцен считал русское движение в Азии важнейшим мировым событием и присоединение Сибири — бескровным завоеванием. Сибирь, как писал А. И. Герцен, стала не колонией России, а ее обширной частью, что явилось следствием вольнонародной колонизации [8, 458].
Ко времени прихода русских в Сибирь у ряда здешних народов (якутов, бурят, хакасов, алтайцев) уже складывались феодальные отношения. Но большинство родов и племен находились на низком уровне экономического развития и не успели консолидироваться в народности. Обстоятельства складывались так, что коренные интересы сибирских народностей действительно требовали прочного объединения на основе более прогрессивных форм хозяйства и культуры, а также «оборонных возможностей, гарантирующих их территориальную целостность» [23, 33].
Несомненно, что со стороны царской администрации, устанавливавшей свою власть в Сибири, проявлялись и беспощадные насильственные, административные меры. Но нигде русские поселенцы не выступали в качестве народа-господина по отношению к коренному населению, а завязывали с ним хозяйственные, дружественные и родственные отношения. Более того, интересы русского трудового народа и трудящихся из числа коренного населения совпадали и их совместные классовые выступления не позволили царизму утвердить в Сибири те жестокие формы крепостничества, которые существовали в центре России.
Культурное развитие Сибири после ее присоединения к России шло в двух непосредственно связанных друг с другом направлениях: формирование культуры русского переселенческого населения и становление самобытной культуры местного населения под влиянием русской культуры, общения с русскими людьми, в том числе с ссыльными.
Заселив и освоив громадную и пустынную территорию Сибири, русский народ создал здесь очаг высокой для своего времени «общерусской национальной культуры, несмотря на то, что Сибирь при царизме находилась на положении окраинной провинции» [15, 201]. Начиная с XVII в. Сибирь стала центром приложения самых активных и деятельных усилий русских людей. Недаром М. В. Ломоносов видел в освоении Сибири результат «неутомимых трудов нашего народа» [14, 448]. Если с этой точки зрения оценивать культурную жизнь Сибири XVII в., то она была отмечена, прежде всего, рядом выдающихся географических открытий, осуществленных землепроход-цами-сибиряками Хабаровым, Атласовым, Поярковым, Москвитиным, Ребровым, Перфильевым и другими. Эти открытия имели огромное научное и общекультурное значение.
Появление в XVII в. сибирских летописей было началом зарождения оригинальной литературы в Сибири. Несомненно, что все эти заявлявшие о себе культурные достижения определенным образом способствовали появлению у населения Сибири повышенного интереса к грамоте, образованности и книге, как источнику знаний.
Н. Г. Чернышевский справедливо отмечал достаточно высокий культурный уровень населения Сибири, не знавшего крепостного права и получавшего «постоянный прилив самого энергетического и часто самого развитого населения» [22, 72]. Можно считать, что в XVII в. в его среде было достаточно большое число людей, знавших грамоту. За Урал шли люди предприимчивые, смелые, любознательные, обученные чтению и письму, чтобы надежно и прочно обосноваться на сибирской земле. Немало грамотных было и среди ссыльных, число которых в XVII в. все возрастало. В этой связи следует сослаться на аргументированное заключение А. Н. Копылова о том, что «никак нельзя согласиться с мнением В. А. Андриевича об отсутствии в Сибири до XVIII в. грамотных людей, за исключением духовенства» [13, 45; 3, 402], так как среди казаков, промысловиков, торговцев, крестьян и посадских людей, двинувшихся осваивать новый край, было немало грамотных. Об этом убедительно свидетельствуют их «рукоприкладства» (росписи) на «скасках», «распросных речах», челобитных и других документах, отражавших взаимоотношения с правительственным аппаратом управления, изготовленные ими чертежи земель и острогов, а также документы частных хозяйственных архивов сибиряков XVII в. [13, 45].
Показателем уровня грамотности русского населения Сибири являются данные о торговле книгами на рынках Тобольска, Енисейска, Верхотурья, Тюмени и других городов. Особенно повысился спрос на «учительные» книги в конце XVII — начале XVIII в. Руководители московского Сибирского приказа, учитывая это обстоятельство, стали закупать учебную литературу в Москве и посылать ее сибирским воеводам для продажи на местах. Известно, например, что 6 февраля 1703 г. начальник Сибирского приказа А. А. Виниус дал распоряжение купить на Печатном дворе 300 азбук, 100 часословов, 50 псалтырей «учительных» и послать из «приказной избы верхотурским всяких чинов людям для научения детей» [10, 164]. Примечательно, что через год в верхотурской смете отмечался особенно значительный спрос на азбуки [16, 220]. Немалым спросом пользовались на местных рынках писчая бумага и письменные принадлежности.
Что касается школьного образования в Сибири, то оно развивалось здесь довольно медленно, хотя по мере хозяйственного освоения сибирских земель необходимость в грамотных людях все возрастала.
Нужно отметить, что начало народного просвещения в Сибири связано не с открытием официальных школ, а с частным обучением. Оно было самой распространенной формой обучения детей элементарной грамоте для большинства русского населения Сибири [11, 91]. Домашние школы существовали преимущественно в городах. Кстати, домашнее обучение и после появления первых школ в Сибири оставалось продолжительное время существенным очагом распространения грамотности. Местное население, особенно мещане и купцы, более охотно отдавали своих детей частным учителям, чем в казенные школы, так как частным образом их дети могли быстрее и дешевле обучиться элементарной грамоте в том объеме, который был необходимым для практического применения в хозяйстве [11, 91]. В качестве частных учителей выступали так называемые мастера грамоты — церковнослужители, писцы, подьячие, отставные военнослужащие, ссыльные приказные люди. «Мастера грамоты» набирали для обучения разное число детей, в зависимости от своих возможностей и обстоятельств. Существовало и обучение детей в семейных условиях грамотными родителями.
Известную роль в обучении грамоте русского населения Сибири, особенно крестьян, играли старообрядцы. В борьбе против официальной церкви раскольники использовали свою грамотность для обучения крестьянских детей преимущественно в целях распространения своего учения. Но в целом грамотность в сибирской деревне того времени по сравнению с городом распространялась очень слабо, и масса крестьян в большинстве своем была неграмотной [11, 93].
Первым учебным заведением в Сибири была открытая тобольским воеводой М. Я. Черкасским в 1701 г. светская начальная общеобразовательная школа. Она «была не только первой в Сибири, но и одной из первых в России, а по составу учеников, по кругу изучаемых предметов и юридическим нормам содержания учеников она предвосхищала цифирные и гарнизонные школы» [12, 52].
Относительно школы при архиерейском доме в Тобольске известно, что указ Петра I о ее открытии был направлен митрополиту Игнатию еще в 1697 — 1698 гг., но открытие ее относится только к 1702 — 1703 гг. Одной из главных задач этой школы была подготовка миссионеров из детей местных народов. Этот факт весьма показателен для характеристики политики царского самодержавия в области просвещения коренного населения Сибири.
Начало XVIII в. отмечено проявлением официального интереса и к развитию в Сибири светского образования, которое должно было содействовать подготовке грамотных людей, требовавшихся для местной администрации, торгового и хозяйственного делопроизводства.
В заключение еще раз подчеркнем, что воспитание и подготовка детей к жизни у коренных народов Сибири опирались на многовековой опыт народной педагогики.
ЛИТЕРАТУРА
1. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 4.
2. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 46. Ч. 1.
3. Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 39.
4. Аверинцев С. С. Поэтика ранневизан-тнйской литературы. М., 1977.
5. Гуревич А. Я. Проблемы средневековой народной культуры. М., 1981.
6. Гуревич А. Я- Категории средневековой культуры. М., 1984.
7. Конрад Н. И. Запад и Восток. М., 1966; 2-е изд. М., 1972.
8. Лихачев Д. С. Развитие русской литературы XI — XVII вв.: Эпохи и стили. Л., 1973.
9. Орлов А. С. К изучению средневековья в русской литературе//Памяти П„ Н. Сакулн-на: Сб. статей. М., 1931.
10. Робинсон А. Н. Литература Древней Руси в литературном процессе средневековья XI — XIII вв.: Очерки литературно-исторической типологии М., 1980.
ИСТОРИОГРАФИЯ
И ИСТОЧНИКИ ИЗУЧЕНИЯ
ДРЕВНЕРУССКОЙ ОБРАЗОВАННОСТИ
И школы
1. Буш В. В. Памятники старинного русского воспитания: К истории древнерусской письменности и культуры. Пг., 1918.
2. Голубинский Е. Е. История русской церкви. Т. I — 2. М., 1900 — 1917.
3. Горский А. В. О духовных училищах в Москве в XVII столетии//Прибавления к изданию творений св. отцов в русском переводе.
Ч. III. М„ 1845.
4. Г ромов М. Н. Памятники древнерусской дитературы как нсточннк изучения раннего yfcna отечественной педагогики//Просвеще-шЛ. и педагогическая мысль Древней Русн. М., 1983.
5. Гуревич А. Я. Проблемы средневековой народной культуры. М., 1981.
6. Де шов М. И. История русской педа-
гогии. Ч. 1. Ревель, 1895.
7. Демков М. И. О древнерусском воспи-танин//Педагогнческнй сборник. 1895. № 10.
8. Днепров Э. Д. Историография школы и педагогической мысли Древней Руси//Совет-ская педагогика. 1984. № 4.
9. Днепров Э. Д„ Кошелева О. Е. Школа Древней Руси в контексте межнациональных педагогических влияний и связей//Историо-графнческие и методологические проблемы изучения истории отечественной школы и педагогики. М., 1987.
10. Забелин И. Е. Характер древнего народного образования в России//Отечествен-ные записки. 1856. Т. 105. № 3 — 4.
11. Каптерев Н. Ф. О греко-лати неких школах в Москве в XVII в. до открытия Славя но-греко-латинской академии//Прибав-ления к изданию творений св. отцов в русском переводе за 1889 г. Ч. 44. М., 1889.
12. Каптерев П. Ф. История русской педагогии. СПб., 1915.
13. Кошелева О. Е. Дореволюционная историография о русских школах XVII в.// Советская педагогика. 1988. № 3.
14. Лавровский Н. А. Памятники старинного воспитания//Чтення в обществе истории и древностей российских (ЧОИДР). 1861. Кн. 3.
15. Миропольский С. И. Очерк истории церковноприходской школы от первого ее возникновения на Руси до настоящего времени. Вып. I — III. СПб., 1893 — 1895.
16. Романов Б. А. Люди н нравы Древней Русн. М.; Л., 1966.
17. Российское законодательство X — XX
в.: В 9 т. Т. 2. М„ 1985.
18. Соболевский А. И. Образованность Московской Руси. СПб., 1892.
19. Струминский В. Я. О разработке истории педагогики Киевской Руси//Советс-кая педагогика. 1938. № 5.
20. Струминский В. Я. Педагогика Киев-
ской Руси как предмет исторического изучения (обзор основных направлений в работах дореволюционной эпохи)//Ученые записки Гос. ин-та школ Ц1П РСФСР. Т. III. М., 1940.
21. Формозов А. А. Историк Москвы И. Е. Забелин. М., 1984.
22. Хрестоматия по истории педагогики: В 4 т./Под общ. ред. С. А. Каменева. Т. IV: История русской педагогики с древнейших времен до Великой пролетарской революции: В 2 ч./Сост. Н. А. Желваков. М., 1936.
23. Хрестоматия по истории школы и педагогики в России (до Великой Октябрьской социалистической революции)/Под общ. ред. Ш. И. Ганелина; Сост. С. Ф. Егоров. М.,
1974.
24. Чернышевский Н. Г. Поли. собр. соч.: В 15 т. Т. 2. М., 1948.
25. Янин В. Л. Я послал тебе бересту... М.,
1975.
РАЗДЕЛ I
ГЛАВЫ I- III
1. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 7.
2. Абрамов А. И. Общие и отличительные черты философствования Иосифа Волоцкого// Философская мысль на Руси в позднее средневековье. М., 1985.
3. Авдусин Д. А., Тихомиров М. Н. Древнейшая русская надпись//Вестник АН СССР. 1950. Вып. 4.
4. Аделунг Ф. Барон Мейерберг н его путешествие по России. СПб., 1827.
5. Акты Русского государства. 1505 — 1526. М„ 1975.
6. Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV — начала XVI в. Т. I. М„ 1952. (Далее — АСЭИ).
7. АСЭИ. Т. II. М„ 1958:
8. АСЭИ. Т. III. М„ 1964.
9. Акты феодального землевладения и хозяйства. Ч. II. М., 1956.
10. Акты феодального землевладения и хозяйства. Л., 1983.
11. Алексеев Л. В. Смоленская земля в IX — XIII вв. М„ 1980.
12. Алексеев Ю. Г. Псковская судная грамота и ее время. Л., 1980.
13. Алпатов М. А. Русская историческая мысль и Западная Европа XII — XVII вв. М., 1973.
14. Апостолов А. Г. Попытки организации обучения за рубежом в первой половине XVII в.//Новые исследования в педагогических науках. М., 1974. № 10.
15. Апостолов А. Г. Школа, образование и учебная книга в России в XVII в.//Советская педагогика. 1974. № 4.
16. Аракин В. Д. Иностранные языки в Русском государстве в XVI — XVII вв.// Ученые записки Московского гос. педагогического института им. В. П. Потемкина. М., 1958. Т. R XXX. Вып. 3.
17. Архангельский А. С. Образование и литература в Московском государстве. Казань, 1898 — 1901. Вып. I — III.
18. Бабишин С. Д. Школа и образование в Древней Руси. Киев, 1973 (на укр. яз.).
19. Бабишин С. Д. Основные тенденции развития школы и просвещения в Древней Руси (X — первая половина XIII в.): Автореф. дис. ...д-ра пед. наук. Киев, 1985.
20. Бахрушин С. В. Торги новгородцев Кошкиных//Научные труды. Т. II. М., 1954.
21. Беляев И. Д. Наказные списки Соборного уложения 1551 г. М., 1863.
22. Белокуров С. А. Адам Олеарий о греко-латинской школе Арсения Грека в Москве в XVII в. М.. 1888.
23. Белокуров С. А. Арсений Суханов. Ч. I. М„ 1891.
24. Белокуров С. А. О Посольском приказе. М., 1906.
25. Богданов А. П. Памятники общественно-политической мысли в России конца XVII в. (литературные панегирики). М., 1983.
26. Богданов А. П. К полемике конца 60-х — начала 80-х годов XVII в. об организации высшего учебного заведения в России: Источниковедческие заметки//Исследования по источниковедению истории СССР XIII — XVIII вв. М„ 1986.
27. Богословский М. М. Земское самоуправление на Русском Севере в XVII в. Т. I. М., 1909.
28. Борисов В. Взгляд на грамотность шуян в XVII и XVIII ст.//Владимирские губернские ведомости. 1854.
29. Браиловский С. Н. Один из пестрых XVII столетия. СПб., 1902.
30. Буланина Т. В. Риторика в Древней Русн: Сведения о теории красноречия в русской письменности XI — XVI веков: Автореф. дис. ... канд. фнлол. наук. Л., 1985.
31. Бычков А. Ф. Описание церковно-славянских и русских рукописных сборников Публичной библиотеки. Ч. I. СПб., 1882.
32. Введенский А. А. Дом Строгановых в XV — XVII веках. М„ 1962.
33. Вздорнов Г. И. Книгописание и художественное оформление рукописей в московских и подмосковных монастырях с конца первой трети XV в.//Труды Отдела древнерусской литературы Т. XXII. М.; Л., 1966. (Далее — ТОДРЛ).
34. Вздорнов Г. И. Искусство книги в Древней Руси. М., 1980.
35. Великие Четии Минеи. Ноябрь, дни 13 — 15. СПб., 1899.
36. Владимиров П. В. Древнерусская литература Киевского периода, XI — XIII вв. Киев, 1901.
37. Водов В. А. Зарождение канцелярии московских великих князей. Середина XIV в. — 1425 г.//Исторические записки. Т. 103. М„ 1979.
38. Волков Л. В. О переводчиках научной лнтературы//Естественнонаучные представления Древней Руси. М., 1978.
39. Высоцкий С. А. Средневековые
надписи Софин Киевской. Киев, 1976.
40. Гавлова Е. Славянские термины «возраст» и «век» на фоне семантического развития этих названий в индоевропейских языках//Этимология: 1967. М., 1969.
41. Гаврюшин Н. К. Книга дналектичныя глубины//Современные проблемы книговедения, книжной торговли и пропаганды книги. Вып. 2. М., 1983.
42. Галактионов И. В. Ранняя переписка А. Л. Ордина-Нащокина. Саратов, 1968.
43. Галкин А. Академия в Москве в
XVII столетии. М., 1913.
44. Гарданов В. К. Кормил ьство в Древней
Руси: К вопросу о пережитках родового
строя в феодальной Руси IX — XIII вв.//Советская этнография. 1959. № 6.
45. Г арданов В. К. Аталычество. М., 1973.
46. Гаркави А. Я. Сказания мусульманских писателей о славянах н русских (с половины VIII века до конца X века по Р. X.). СПб., 1870.
47. Гейман В. Т. Соляной промысел гостя Панкратьева Яренского уезда//Летопись занятий археографической комиссии. Вып. 35. Л., 1929. (Далее — ЛЗАК).
48. Гиббенет Н. Историческое исследование дела патриарха Никона. Ч. II. СПб., 1884.
49. Голубинский Е. Е. История русской церкви. Т. 1 — 2. М., 1900 — 1901.
50. Г олубинский Е. Е. Вопрос о заимствовании домонгольскими русскими от греков так называемой схедографнн, представлявшей у последних высший курс грамотности//Иссле-дования отделения русского языка и словесности Т. IX. Кн. II. СПб., 1904. (Далее — ИОРЯС).
51. Горский А. В. О духовных училищах в Москве в XVII столетнн//Прибавления к творениям святых отцов в русском переводе. Ч. III. М„ 1845.
52. Горфункель А. X. Андрей Белобоц-кнй — поэт и философ конца XVII — начала
XVIII В.//ТОДРЛ. Т. XVIII. М.; Л., 1962.
53. Гранстрем Е. Э. Почему митрополита Климента Смолятича называли «филосо-фом»//ТОДРЛ. Т. XXV. М.; Л., 1970.
54. Греков Б. Д. Киевская Русь. М., 1953.
55. Г ромов М. Н. Памятники древнерусской литературы как источник изучения раннего этапа отечественной педагогики// Просвещение и педагогическая мысль Древней Руси. М„ 1983.
56. Демидова Н. Ф. Бюрократизация государственного аппарата абсолютизма в XVII — XVIII вв.//Абсолютизм в России (XVII — XVIII вв.). М„ 1964.
57. Демидова Н. Ф. Государственный аппарат России в XVII в.//Исторические записки. Т. 108. М„ 1982.
58. Демков М. И. История русской педагогии. Т. 1. Ревель, 1895.
59. Демкова Н. С. Из истории ранней старообрядческой литературы//ТОДРЛ. Т. XXVIII. Л., 1974.
60. Дмитриева Р. П. Светская литература
в составе монастырских библиотек XV и XVI вв.//ТОДРЛ. Т. XXIII. Л„ 1968.
61. Древняя Российская вивлнофика Т. XVII — XVIII. М., 1791. (Далее — ДРВ).
62. Древняя русская литература: Хре-стоматия/Сост. Н. И. Прокофьев. М., 1980.
63. Жезл правления. М., 1667.
64. Житие Константина Фнлософа//Ска-зания о начале славянской письменности. М„ 1981.
65. Забелин И. Е. Материалы для истории, археологии и статистики г. Москвы. Т. I. М., 1884.
66. Забелин И. Е. Две грамотки//По-
мощь голодающим: Научно-лнтературный
сборник. М., 1892.
67. Забелин И. Е. Домашний быт русских царей XVI — XVII вв. Ч. I. М„ 1872.
68. Забелин И. Е. Домашний быт русских царей XVI — XVII вв. Ч. II. М„ 1913.
69. Забелин И. Е. История города Москвы. Ч. I. М„ 1905.
70. Замысловский Е. Е. Царствование Федора Алексеевича. Ч. I. СПб., 1871.
71. Записки де-ла Невнлля о Московии 1689 г.//Русская старнна. 1891. № II.
72. Зимин А. А. К изучению фальсификации актовых материалов в Русском государстве XVI — XVII вв.//Труды МГИАИ. Т. 17. М„ 1963.
73. Зимин А. А. Федор Карпов, русский гуманист XVI века//Прометей. Сб. № 5. М., 1968.
74. Зимин А. А. Дьяческий аппарат в России второй половины XV — первой трети XVI в.//Исторические записки. Т. 87. М., 1971.
75. Зимин А. А. Россия на пороге нового времени. М., 1972.
76. Зимин А. А. Холопы на Руси (с древнейших времен до конца XV в.). М., 1973.
77. Зимин А. А. Крупная феодальная вотчина. М., 1977.
78. Зимин А. А. Россия на рубеже XV — XVI столетий. М., 1982.
79. Идейно-философское наследие Илари-она Киевского. М., 1986.
80. Изборник 1073 года. М., 1983.
81. Иржи Давид. Современное состояние Великой России, или Московии//Вопросы истории. 1968. № 4.
82. История Украинской ССР: В Ют. Т. I. Киев, 1981.
83. Квачала И. Послание Ф. Кампанеллы к великому князю Московскому. Юрьев, 1905.
84. Камчатное А. М. Философская терминология Изборника Святослава 1073 года н ее перевод//Древнерусский литературный язык в его отношении к старославянскому. М., 1987.
85. Каптерев Н. Ф. Патриарх Никон и его протнвннкн в деле исправления церковных обрядов. М., 1887.
86. Каптерев Н. Ф. О греко-латинскнх школах в Москве в XVII в. до открытия
Славяне-греко-латинской академии//Прибавления к творениям св. отцов в русском переводе. Ч. 44. М„ 1889.
87. Каптерев Н. Ф. Сношения иерусалимского патриарха Досифея с русским правительством (1669 — 1707). М., 1891.
88. Каптерев Н. Ф. Характер отношений России к православному Востоку в XVI и XVII столетиях. Сергиев-Посад, 1914.
89. Каптерев П. Ф. История русской педагогии. СПб., 1913.
90. Каштанов С. М. Предмет, задачи и методы дипломатнки//Источниковедение: Теоретические и методические проблемы. М., 1969.
91. Клибанов А. И. «Написание о грамо-те»//Проблемы религии и атеизма. Вып. III. М„ 1955.
92. Клименко А. А. Улица просвещения н книжности древней Москвы//Просвещение и педагогическая мысль Древней Руси. М., 1983.
93. Ключевский В. О. Очерки и речи: Сб. ст. № 2. М., 1913.
94. Колосов Г. В. Старец Арсений Грек// Журнал Министерства народного просвещения. 1881. № CCXVII. (Далее — ЖМНП).
95. Копанев А. И. Книжность северной волости XVI — XVII вв.//Культурное наследие Древней Руси. М., 1976.
96. Копанев А. И. Крестьянство Русского Севера в XVI в. Л., 1978.
97. Костюхина Л. М. Книжное письмо в России XVII в. М., 1974.
98. Котошихин Г. К. О России в царствование Алексея Михайловича. СПб., 1884.
99. Котошихин Г. К О России в царствование Алексея Михайловича. СПб., 1906.
100. Культура Византии. М., 1984.
101. Купреянова Е. Н., Макогоненко Г. П. Национальное своеобразие русской литературы: (Очерки н характеристики). Л., 1976.
102. Лавровский Н. О древнерусских училищах. Харьков, 1854.
103. Лапина М. Латинский язык в жизни и деятельности М. В. Ломоносова//Филологи-ческие науки. 1987. № I.
104. Лаптев В. В. Происхождение и древняя история восточных славян. Л., 1970.
105. Левченко М. В. Очерки по нсторнн
русско-византийских отношений. М., 1956.
106. Леонтович Ф. И. Школьный вопрос в древней России//Варшавские университетские известия. 1894. Кн. V.
107. Литаврин Г., Ангелов Д. Славяне и Византия//Изучение культур славянских народов. М., 1987.
108. Лихачев Д. С. Культура Русн времени Андрея Рублева и Епнфания Премудрого. М.; Л„ 1962.
109. Лихачев Н. П. Площадные подьячне
XVI в.//Сборник статей, посвященных С. Ф. Платонову. Пг., 1922.
ПО. Лукичев М. П. К истории школьного образования в России в XVII в.//Просвещение и педагогическая мысль Древней Руси. М., 1983.
111. Луппов С. П. Книга в России в
XVII в. Л., 1970.
112. Луппов С. П. Читатели изданий Московской типографии в середине XVII века. Л., 1983.
113. Мавродин В. В. Образование Русского национального государства. М.; Л., 1941.
114. Макарий (Булгаков). История русской церкви: В 12 т. Т. VII. Кн. 2. СПб., 1874.
115. Массон В. М. Ремесленное производство в эпоху первобытного строя//Вопросы истории. 1972. № 3.
116. Медынцева А. А. Древнерусские надписи Новгородского Софийского собора. XI — XIV века. М., 1978.
117. Мейербере А. Путешествие в Московию барона Мейерберга. М., 1874.
118. Мещерский Н. А. Источники и состав древней славянской переводной письменности IX — XV вв. Л., 1978.
119. Милов Л. В. Тверская школа книжного письма второй половины XIV в. (из истории Троицкого Мерила Праведного) //Древнерусское искусство. XIV — XV вв. М„ 1984.
120. Мильков В. В. Иларион и древнерусская мысль//Идейно-философское наследие Илариона Киевского. Ч. 2. М., 1986.
121. Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры. Ч. II. СПб., 1896.
122. Миропольский С. И. Очерк истории церковноприходской школы от первого ее возникновения на Руси до настоящего времени. Вып. III. СПб., 1895.
123. Морозов Б. Н. Архив торговых крестьян Шангиных//Советские архивы. 1980. № I.
124. Морозов Б. Н. Делопроизводство и архив в крупной боярской вотчине XVII в. //Источниковедческие исследования по истории феодальной России. М., 1981.
125. Морозов Б. Н. Из истории русской переводной научной технической книги в последней четверти XVII — начале XVIII в.: (Архив переводчиков Посольского приказа)// Современные проблемы книговедения, книжной торговли и пропаганды книги. Вып. 2. М., 1983.
126. Морозов Б. Н. Записная книжка помещика XVII в.//Советские архивы. 1983. № 5.
127. Мулюкин А. С. Приезд иностранцев в Московское государство. СПб., 1909.
128. Немировский Е. Л. Иван Федоров. М„ 1985.
129. Николаевский П. Ф. Московский Печатный двор при патриархе Никоне// Христианское чтение. Ч. II. 1891.
130. Никольский Н. К. О литературных трудах митрополита Климента Смолятича, писателя XII века. СПб., 1892.
131. Новосельский А. А. Вотчинник и его хозяйство в XVII в. М.; Л., 1929.
132. Новосельский А. А. Роспись крестьянских дворов, находившихся во владении высшего духовенства, монастырей и думных людей, по переписным книгам 1678 /Исторический архив. Т. IV. М.; Л., 1949.
133. Олеарий А. Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию н обратно. СПб., 1906.
134. Описание документов н бумаг, хранящихся в Московском архиве Министерства юстиции. Кн. 1. СПб., 1869.
135. Отдел рукописей н старопечатных
книг Государственного Исторического музея. Синодальное собр. № 130. (Далее — ОР
ГИМ).
136. ОР ГИМ. Синодальное собр., № 44/231.
137. ОР ГИМ. Синодальное собр., № 440.
138. ОР ГИМ. Чудовское собр., № 100/302
139. Очерки истории СССР (111 — IX вв.). М„ 1958.
140. Очерки русской культуры XVI в.
Ч. II. М., 1977.
141. Очерки русской культуры XVII в. Ч. I — II. М., 1979.
142. Памятники литературы Древней Руси. XI — начала XII в. М., 1978.
143. Памятники литературы Древней Руси. XII в. М„ 1980.
144. Памятники литературы Древней Руси. XIII в. М., 1981.
145. Памятники старинной русской литературы, издаваемые гр. Г. Кушелевым-Безбородко. Вып. 4. СПб., 1862.
146. Панченко А. М. Чешско-русскне литературные связи XVII в. Л., 1969.
147. Панченко А. М. Русская стихотворная культура XVII в. Л., 1973.
148. Пейчев Б. Философский трактат в Снмеоновом сборнике. Киев, 1983.
149. Першиц А. И., Трайде Б. Воспнта-тельство//Социально-экономические отношения и соционормативная культура. М., 1986.
150. Повесть временных лет. М.; Л.,
1950.
151. Поликарпов Ф. Историческое известие о Московской академнн//ДРВ. Ч. XVI. М., 1791.
152. Полное собрание русских летописей. Т. I. М„ 1962.
153. ПСРЛ. Т. II. М.;Л„ 1962.
154. ПСРЛ. Т. III СПб., 1841.
155. ПСРЛ. Т. V. Л., 1925.
156. ПСРЛ. Т. IX. СПб., 1862.
157. ПСРЛ. Т. XVIII. СПб., 1913.
158. Посольство Кунраада-фан-Кленка к царям Алексею Михайловичу и Федору Алексеевичу. СПб., 1900.
159. Поссевино А. Исторические сочинения о России XVI в. М., 1983.
160. Прилежаев Е. Школьное дело в России до Петра Великого и в начале XVIII в.//Странник, 1881. Т. 1.
161. Прозоровский А. А. Сильвестр Медведев. М., 1896.
162. Прозоровский А. А. Сильвестра Медведева «Созерцание краткое лет 7190, 91 и 92, в них же что содеяся во гражданстве»// ЧОИДР. 1894. Кн. 4. Отд. 2.
163. Пропп В. Я Исторические корни волшебной сказки. Л., 1986.
164. Прохоров Г. М. Прошлое н вечность в культуре Киевской Русн//Человек и история в средневековой философской мысли русского,
украинского и белорусского народов. Киев, 1987.
165. Пыпин А. Н. История русской литературы: В 4 т. Т. II. СПб., 1898.
166. Рождественская Т. В. Письменная традиция Северной Руси по эпиграфическим данным//Древнерусский литературный язык в его отношении к старославянскому. М., 1987.
167. Розов Н. Н. Книга в России в XI — XIII вв. Л., 1978.
168. Розов Н. Н. Книга в России в XV в. Л., 1981.
169. Российское законодательство X — XX вв. В 9 т. Т. 2. М„ 1985.
170. Рукописный отдел Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина. Ф. 173. I, № 68. (Далее — РО ГБЛ).
171. РО ГБЛ. Ф. 218. Поступления 1963
г., № 65. I.
172. Румянцева В. С. Русская школа XVII в.//Вопросы истории. 1978. № 6.
173. Румянцева В. С. Ртищевская шко-ла//Вопросы истории. 1983. № 5.
174. Румянцева В. С. Школьное образование на Руси в XVI — XVII вв.//Советская педагогика. 1983. № 1.
175. Русская историческая библиотека. T.V. СПб., 1878. Далее — (РИБ).
176. РИБ. Т. VI. СПб., 1908.
177. Рыбаков Б. А. Древняя Русь: Сказания, былины, летописи. М., 1963.
178. Рыбаков Б. А. Новая концепция предыстории Киевской Руси: Тезисы//История СССР. 1981. № 1.
179. Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества XII — XIII вв. М., 1982.
180. Савич Н. Г. Изучение иностранных языков русскими в XVII в.//Историографичес-кие и исторические проблемы русской культуры. М., 1983.
181. Сапунов Б. В. Книга в России. XI — XIII вв. Л., 1978.
182. Сахаров А. М. Церковная реформа и раскол//Церковь в России. М., 1967.
183. Сахаров А. М. Русская духовная культура XVII в.//Вопросы истории. 1975. № 7.
184. Свердлов М. Б. Генезис и структура феодального общества в Древней Руси. Л., 1983.
185. Седельников А. Д. Рассказ 1490 г. об инквизиции//Труды Комиссии по древнерусской литературе АН СССР. Т. I. М., 1932.
186. Седов В. В. Восточные славяне в VI — XIII вв. М„ 1982.
187. Семенченко Г. В. Духовные грамоты XIV — XV вв. как исторический источник: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 1983.
188. Синицина Н. В. Федор Иванович Карпов, дипломат, публицист XVI в.: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 1966.
189. Сказания современников о Дмитрии Самозванце. Ч. V. СПб., 1834.
190. Сказание черноризца Храбра «О письменах»//Сказания о начале славянской письменности. М., 1981.
191. Скрижаль. М., 1656. Гл. 7.
192. Сменцовский М. Н. Братья Лнхуды. СПб., 1889.
193. Смиленко А. Г. Военная дружнна в Среднем Поднепровье в VII в. н. э.//Возникновение раннеклассового общества. М., 1973.
194. Смирнов С. К. История Славяно-греко-латинской академии. М., 1855.
195. Смирнова Э. С. Живопись Обонежья. М„ 1967.
196. Соболевский А. И. Образованность Московской Руси XV — XVII вв. СПб., 1892.
197. Соболевский А. И. Переводная литература Московской Руси XIV — XVII вв. СПб., 1903.
198. Собрание государственных грамот н договоров, хранящихся в Государственной коллегии иностранных дел. Ч. IV. (Далее — СГГиД). М„ 1828.
199. Соколова В. К. Фольклор как историко-этнографический источник//Советская этнография. 1960. № 4.
200. Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Ки. III. М., I960.
201. Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Кн. V. М., 1961.
202. Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Кн. VI. М., 1961.
203. Сторожев В. Н. К истории русского просвещения XVII в. Киев, 1890.
204. Судаков Г. В. Грамотность и книжная культура вологжан XVII в.//Матерналы по истории Европейского Севера. Вып. 3. Вологда, 1973.
205. Сявавко Е. I. Укражська етнопедаго-пка в Писторичному розвнтку. Кшв, 1974.
206. Татищев В. Н. История Российская с древнейших времен: В 7 т. Т. II. М.; Л., 1963.
207. Тихомиров М, Н. Средневековая Москва в XIV — XV вв. М., 1957.
208. Тихомиров М. Н. Записки приказных людей XVII в.//Русское летописание. М.,
1979.
209. Трубачев О. Н. История славянских терминов родства н некоторых древнейших терминов общественного строя. М., 1959.
210. Увет духовный. М., 1682.
211. Успенский Б. А. Языковая ситуация Киевской Руси н ее значение для истории русского литературного языка. М., 1983.
212. Устюгов Н. В. Научное наследие. М., 1974.
213. Филин Ф. П. Образование языка восточных славян. М.; Л., 1962.
214. Флоровский А. В. Чудовский инок Евфнмий: Одни из последних поборников «греческого учения» в Москве в конце XVII B.//Nlavia. 1949. XIX. Tes. 1 — 2.
215. Характеры вельмож и знатных людей в царствование Алексея Мнхайловича//Се-верный Архив. 1825. № XX.
216. Харлампович К. В. Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь. Казань, 1914.
217. Хорошкевич А. Л. Русское государство в системе международных отношений. М.,
1980.
218. Хрестоматия по истории школы и педагогики в России (до Великой Октябрьской социалистической революции). М., 1986.
219. Центральный государственный архив древних актов. Ф. 188, on. 1, № 454. (Далее — ЦГАДА).
220. ЦГАДА. Ф. 1182, on. 1. № 67.
221. ЦГАДА. Ф. 1182, on. 1, № 80.
222. ЦГАДА. Ф. 1182, on. 1, № 83.
223. ЦГАДА. Ф. 1182. on. 1, № 84.
224. ЦГАДА. Ф. 1182 on. 1. № 85.
225. ЦГАДА. Ф. 1182, on. 1. № 86.
226. ЦГАДА. Ф. 1182, оп. 3, № 65.
227. ЦГАДА. Ф. 1182, оп. 3, № 229.
228. Частная переписка кн. П. И. Хованского, его семьи и родственников//Старина н новизна. Кн. 10. М., 1905.
229. Чернышева Л. А. Фома Аквинский и особенности схоластического способа фило-софствовання//Проблемы истории домарксистской философии (средневековый способ философствования). М., 1985.
230. Чечулин Н. Д. Несколько данных о книгах по городам Московского государства в XVI в. СПб., 1889.
231. ЧОИДР. 1869. № 2. Отд. V.
232. Шаскольский И. П. Судьба государственного архива Великого Новгорода// Вспомогательные исторические дисциплины. Вып. IV. Л., 1972.
233. Шляпкин И. А. Св. Дмитрий Ростовский и его время. СПб., 1891.
234. Ягич И. В. Рассуждения южнославянской и русской старины о церковнославянском языке//Исследования по русскому языку. Т. I. СПб., 1895.
235. Яковлев А. И. Наместничьи, губные н земскне уставные грамоты Московского государства. М., 1909.
236. Янин В. Л. Я послал тебе бересту... М., 1975.
237. Янин В. Л., Зализняк А. А. Новгородские грамоты на бересте: Из раскопок 1977 — 1983 гг. М„ 1986.
238 Яцимирский А. И. Образованность Московской Руси//Русская история в очерках и статьях: В 3 т. Т. III. Киев, 1912.
239. Яцимирский А. И. Послание Ивана Бегичева о видимом образе божием//ЧОИДР.
1898. № 2.
ГЛАВА IV
1. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 3.
2. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 19.
3. Маркс К.. Энгельс Ф. Соч. Т. 46. Ч. I.
4. Энгельс Ф. Избранные военные произведения. М., 1956.
5. Аксентон Ю. Д. «Дорогие камни» в культуре Древней Русн (по памятникам прикладного искусства и литературы XI — XV вв.): Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 1974
6. Архив Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск н войск связи Ф. 1, on. I, № 241. — (Далее — ВИМАИВиВС).
7. ВИМАИВиВС. Ф. 16. (Архив А. П. Лебедянской). № 16.
8. Архив Ленинградского отделения Института истории АН СССР Ф. 175, on. I, № 205. (Далее — ЛОИИ).
9. ЛОИИ. Ф. 175, on. 1, № 329.
10. ЛОИИ. Ф. 175, on. I, № 461.
11. ЛОИИ. Ф. 175, оп. 3, № 27.
12. Афанасьев И. В. Документальные материалы XVII в. о литейном производстве в России в «Основном собрании грамот»// Проблемы источниковедческого изучения рукописных н старопечатных фондов. Л., 1979.
13. Бабишин С. Д. Данные эпиграфики о грамотности древнерусских ремесленников// Вопросы истории. 1973. № 4.
14. Бахрушин С. В. Ремесленные ученики XVII в.//Бахрушин С. В. Научные труды. Т. 2. М., 1954.
15. Белокуров С. А. Дневальные записки Приказа тайных дел. М., 1908.
16. Белокуров С. А. О Посольском приказе М., 1906.
17. Библер В. С. Мышление как творчество. М., 1975.
18. Богоявленский С. К. О Пушкарском прнказе//Сборник статей в честь М. К. Лю-бавского. Пг., 1917.
19. Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие XV — XVII вв. М„ 1975.
20. Византийская книга Эпарха//Перевод и комментарий М. Я. Сюзюмова. М., 1962.
21. Гейман В. Г., Устюгов Н. В. Ма-нуфактура//Очерки истории СССР. XVII в. М., 1955.
22. Громбах С. М. Русская медицинская литература XVIII в. М., 1953.
23. Г ромов М. Н. Памятники древнерусской литературы как источник изучения раннего этапа отечественной педагогнкн//Просве-щенне и педагогическая мысль Древней Руси: (Малоисследованные проблемы и источники). М„ 1963.
24. Демидова Н. Ф. Государственный аппарат России в XVII в.//Исторические записки. Т. 108. М., 1982.
25. Дневник генерала Патрика Гордона, веденный им во время его шведской и польской служб от 1655 до 1661 г. и во время его пребывания в России от 1661 до 1699 г. Ч. 2. М„ 1892.
26. Жегалова С. К. Обрабатывающие промыслы и ремесло//Очеркн русской культуры XVII века. Ч. I. М„ 1979.
27. Забелин И. Е. Домашний быт русских царей. Ч. II. М., 1915.
28. Кирпичников А. Н. Военное дело на Руси в XIII — XV вв. Л., 1976.
29. Кнаббе В. С. Литейное дело. СПб., 1901.
30. Колчин Б. А. Железообрабатывающее
ремесло Новгорода Великого: (Продукция,
технология)//Материалы и исследования по археологии. № 65. М., 1959.
31. Колчин Б. А., Сайка Э. В. Особенности развития и организации производства// Становление производства в эпоху энеолита и бронзы. М., 1981.
32. Коробкова Г. Ф„ Семенов С. А. Тех-
нологня древнейших производств. Л., 1983.
33. Котошихин Г. К. О России в царствование Алексея Михайловича. СПб., 1906.
34. Кузаков В. К. Особенности науки н техники Средневековой Руси//Естественнонаучные представления в Древней Руси. М., 1978.
35. Лахтин М. Ю. Медицина и врачи в Московском государстве М., 1906.
36. Левыкин А. К. Русские городовые пушкари второй половины XVII в.//Вопросы истории. 1985. № 3.
37. Луппов С. П. Книга в России в XVII веке. Л„ 1970.
38. Луппов С. П. Продажа в Москве учебных псалтырей//Кннготорговое и библиотечное дело в России в XVII в. — первой половине XIX в. Л., 1981.
39. Маркузон В. Ф. Современные проблемы древнегреческой архитектуры//Культура и искусство античного мира: Материалы научной конференции (1979). М., 1980.
40. Массон В. М. Ремсленное производство в эпоху первобытного строя//Вопросы истории. 1972. № 3.
41. Материалы для истории медицины в России. Вып. II. СПб., 1883.
42. Материалы для истории медицины в России. Вып. III. СПб., 1884.
43. Материалы для исторнн медицины в России. Вып. IV. СПб., 1885.
44. Морозов Б. Н. Из нсторин переводной научной и технической книги в последней четверти XVII — начале XVIII в.: (Архив переводчиков Посольского приказа) //Современные проблемы книговедения, книжной торговли и пропаганды книги. Вып. 2. М., 1983.
45. Назаров В. Д. О датировке «Устава ратных и пушечных дел»//Вопросы военной истории Росснн. XVIII и первая половина XIX веков: Сборник статей, посвященный 60-летию проф. Л. Г. Бескровного. М., 1969.
46. Наследова Р. А. Ремесло и торговля Фессалоники конца IX — начала X в. по данным Иоанна Камениаты//Виэантийский временник. Т. VIII. М., 1956.
47. Немировский Е. Л. Андрей Чохов. М., 1982.
48. Отдел письменных источников Государственного Исторического музея (ОПИ ГИМ). Ф. 440, № 381.
49. Пронштейн А. П., Задера А. Г. Ре-месло//Очеркн русской культуры XVI века. Ч. I. М., 1977.
50. Пушкарев Л. Н. Общественно-политическая мысль в России. Вторая половина XVII в. М., 1982.
51. Ремесло//Очерки русской культуры XIII — XV вв. Ч. I. D., 1969.
52. Рубцов Н. Н. История литейного производства в СССР. Ч. I. Изд. 2-е. М., 1962.
53. Сванидзе А. А. Ремесло н ремесленники средневековой Швеции. М., 1967.
54. Селезнева И. А. О постановке обучения в золотом и серебряном деле Москвы XVII в.//От Средневековья к Новому време-
ни. М., 1984. j
55. Сербина К Н. К вопросу об ученичестве в ремесле русского города XVII в.// Исторические записки. Т. 18. М., 1946.
56. Сюэюмов М. Я. Предпринимательство в византийском городе//Античная древность и средине века: Сб. статей. Свердловск, 1966.
57. Сюзюмов М. Я. Ремесло н торговля в Константинополе в начале X в.//Византийский временник. Т. IV. М., 1951.
58. Сюзюмов М. Я. Роль городов-эмпо-риев в истории Византии//Внзантийский временник. Т. VIII. М„ 1956.
59. Тальман Е. М. Ремесленное ученичество Москвы в XVII в.//Исторические записки. Т. 27. М., 1948.
60. Устав ратных, пушечных и других дел, касающихся до воинской науки, состоящий в 663 указах илн статьях... Напечатан с рукописи, найденной в 1775 г. в Мастерской н Оружейной палате в Москве. Ч. 1 — 2. СПб., 1777 — 1781.
61. Учение и хитрость ратного строения пехотных людей/Под ред. А. 3. Мышлаевского, И. В. Парийского. СПб., 1904.
62. Фальковский К. И. Москва в истории техники. М., 1950.
63. Флоринский В. М. Русские простонародные травники н лечебники. Казань,
1880.
64. Харитонович Д. Э. Средневековый мастер и его представление о вещи//Худо-жественный язык средневековья. М., 1982.
65. ЦГАДА. Ф. 138, 1622 г., № 5.
66. ЦГАДА. Ф. 138, 1638 г., № 5.
67. ЦГАДА. Ф. 138, 1649 г., № 1.
68. ЦГАДА. Ф. 138, 1664 г., № 2.
69. ЦГАДА. Ф. 138, 1671 г., № 6.
70. ЦГАДА. Ф. 138, 1672 г„ № 18.
71. ЦГАДА. Ф. 138, 1701 г., № 67.
72. ЦГАДА. Ф. 138, 1705 г., № I.
73. ЦГАДА. Ф. 141, оп. 3, 1652 г., № 21.
74. ЦГАДА. Ф. 159, on. 1, № 58.
75. ЦГАДА. Ф. 159, on. 1, № 586.
76. ЦГАДА. Ф. 181, № 125.
77. ЦГАДА. Ф. 210, Белгородский стол, № 764.
78. ЦГАДА. Ф. 210, Московский стол, кн. 72.
79. ЦГАДА. Ф. 210, Приказные дела, № 2406.
80. ЦГАДА. Ф. 210, Севский стол, № 254.
81. ЦГАДА. Ф. 210, оп. 21, № 367.
82. ЦГАДА. Ф. 210, оп. 21, № 375.
83. ЦГАДА. Ф. 214, оп. 3, № 1547.
84. ЦГАДА. Ф. 214, оп. 5, № 725.
85. Чернов А. В. Вооруженные силы Русского государства в XV — XVII вв. М., 1954.
86. Шор Д. И. Русское военно-инженериое искусство XVI — XVII вв. в свете «Устава ратных, пушечных и других дел, касающихся до воинской науки»//Военно-инженерное искусство и инженерные войска русской армии. М., 1958.
87. Щапова Ю. Л. Стекло Киевской Руси. М., 1972.
РАЗДЕЛ И
ГЛАВЫ 1- II
1. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 7.
2. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 12.
3. Агаркова Р. К. Спорные вопросы биографии Кариона Истомина//Ученые записки Душанбинского государственного педагогического ин-та им. Т. Г. Шевченко. Т. 51. Вып. 19. Душанбе, 1967.
4. Адрианова-Перетц В. П. Человек в учительной литературе Древней Руси// ТОДРЛ. Т. XXVII. Л., 1972.
5. Адрианова-Перетц В. П. К вопросу о круге чтения древнерусского писателя// ТОДРЛ. Т. XXVIII. Л., 1974.
6. Азбука. М., 1634.
7. Алексеев М. П. Эразм Роттердамский в русском переводе XVII в.//Славянская филология. Т. I. М., 1958.
8. Антология педагогической мысли Древней Руси и Русского государства XIV — XVII вв. М„ 1985.
9. Берман Б. И. Читатель жития// Художественный язык средневековья. М.,
1982.
10. Браиловский С. Один из пестрых XVII столетия. СПб., 1902.
11. Буева Л. П. Социокультурный опыт и механизмы его усвоения//Общественные науки. 1985. № 3.
12. Буш В. В. Памятники старинного русского воспитания. Пг„ 1918.
13. Волков Г. Н. Идея совершенного человека в народном воспитании//Советская педагогика. 1971. № 10.
14. Верюжский В. М. Афанасий архиепископ Холмогорский, его жизнь и труды. СПб., 1908.
15. Геллерштейн Л. С., Кошелева О. Е. Педагогика в контексте древнерусской куль-туры//Советская педагогика. 1983. № 8.
16. Герцен А. И. О развитии революционных идей в России//Полн. собр. соч. и писем: В 22 т. Т. VI. Пг., 1919.
17. Горелов А. А. Принцип историзма н некоторые проблемы изучения русского фольклора//Русский фольклор. Вып. XVI. Л., 1976.
18. Громов М. Н. Памятники древнерусской литературы как источник изучения раннего этапа отечественной педагогики// Просвещение и педагогическая мысль Древней Русн. М., 1983.
19. Гуревич А. Я. Проблемы средневековой народной культуры. М., 1981.
20. Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М., 1984.
21. Данилов В. В. «Октавий» Мннуция Феликса и «Поучение» Владимира Монома-ха//ТОДРЛ. Т. V. М.; Л., 1947.
22. Еремин И. П. Литературное наследие Кирилла Туровского//ТОДРЛ. Т. XII. М.; Л., 1956; Т. XIII. М.; Л., 1957; Т. XV. М.; Л., 1958.
23. Жмакин В. Митрополит Даниил и его
сочинения. M., 1881.
24. Жуковская Л. П. Загадки записи Изборника Святослава 1073 года//Древнерус-ский литературный язык в его отношении к старославянскому. М., 1987.
25. Зимин А. А. И. Пересветов и его современники. М., 1958.
26. Идейно-фнлософское наследие Ила-риона Киевского. Ч. 1 — 2. М., 1986.
27. Изборник 1076 года. М., 1965.
28. Изречения Исихия и Варнавы по русским спискам: Сообщение В. Семенова// Памятники древней письменности (ПДП). Т. ХСП. СПб., 1892.
29. 1стор1я фшософп на Укра 1нi. Т. I. КиТв, 1987.
30. Капица О. И. Детский фольклор: (Песни, потешки, дразнилки, сказки, игры). Л., 1928.
31. Клибанов А. И. Реформационные движения в России в XIV — первой половине
XVI веков. М., 1960.
32. Ключевский В. О. Очерки и речи. Сб. 2. М„ 1913.
33. Колеватов В. А. Социальная память и познание. М., 1984.
34. Кононович С. С. Епифаний Слави-нецкий и «Гражданство обычаев детских»// Советская педагогика. 1970. № 10.
35. Косарева Л. М. Предмет науки. М.,
1977.
36. Костомаров Н. Русская история в жизнеописаниях ея главнейших деятелей. Т. II. 3-е изд. СПб., 1886.
37. Кошелева О. Е. Гражданство обычаев детских: история изучения памятника и его роль в русской культуре XVII в.//Актуальные вопросы историографии и источниковедения истории школы и педагогики. М., 1986.
38. Красноречие Древней Русн (XI — -
XVII вв.) /Сост. Т. В. Черторицкая. М., 1987.
39. Кузаков В. К. Очерки развития естественнонаучных и технических представлений на Руси в X — XVII вв. М., 1976.
40. Кузнецов Я. Родители и дети по народным пословицам и поговоркам. Владимир, 1911.
41. Курукин И. В. К изучению источников о начале Ливонской войны и деятельности правительства Адашева и Сильвестра//Источниковедческие исследования по истории феодальной России. М., 1981.
42. Курукин И. В. Сильвестр: Политическая и культурная деятельность: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 1983.
43. Левочкин И. В. О естественнонаучном и философском содержании Изборника Святослава 1073 г.//Памятники науки и техники. 1982 — 1983. М„ 1984.
44. Литвин Э. С. К вопросу о детском фольклоре//Русский фольклор. Вып. III. М.; Л., 1958.
45. Литвин Э. С. Песенные жанры русского детского фольклора//Советская этнография. 1977. № 7.
46. Лихачев Д. С. Культура Руси времени Андрея Рублева и Епифания Премудрого
(конец XIV — начало XV вв.). М.; Л., 1962.
47. Лихачев Д. С. Развитие русской литературы X — XVII вв. Л., 1973.
48. Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. Л., 1979.
49. Лихачев Д. С. Великое наследие. М.,
1980.
50. Лихачев Д. С. Человек в литературе Древней Руси//Избранные работы. Т. III. Л„ 1987.
51. Лотман Ю. М. Поэтика бытового поведения в русской культуре XVIII века// Ученые записки Тартуского ун-та. № 411. Труды по знаковым системам. № VIII. Тарту, 1977.
52. Магницкий Леонтий. Арифметика. М., : 1703.
53. Мартынова А. Н. Опыт классификации русских колыбельных песен//Советская этнография. 1974. № 4.
54. Мартынова А. Н. Вариативность колыбельных песен//Традиции русского фольклора. М., 1987.
55. Мельников М. Н. Детский русский фольклор Сибири. Новосибирск, 1970.
56. Меткое слово. Песни. Сказки. Пермь, 1964.
57. Мильков В. В. Идейные течения в философской мысли XI столетия//Становле-ние философской мысли в Киевской Русн. М.к 1984.
58. Мордовцев Д. О русских школьных книгах//ЧОИДР. 1861. Кн. IV.
59. «Мудрость Менандра» по русским
спискам: Сообщение В. Семенова//ПДП.
Т. LXXXVIII. СПб., 1892.
60. Народные русские сказки А. Н. Афанасьева: В 3 т. Т. II. М., 1985.
61. Некрасов И. С. Опыт историко-литературного исследования о происхождении древнерусского Домостроя. М., 1873.
62. Олеарий А. Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно. СПб., 1906.
63. Орлов А. С. Домострой: Исследование. Ч. I. М., 1917.
64. Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина (ОР ГБЛ). Ф. 178. № 9427.
65. Отдел рукописной и редкой книги Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (ОР ГПБ). Q.
1.225.
66. Очерки русской культуры XVI в. Ч. 2. М„ 1977.
67. Очерки русской культуры XVII в. Ч. 2. М„ 1979.
68. Памятники древнерусской церковноучительной литературы. Вып. III. СПб., 1897.
69. Памятники литературы Древней Руси. XI — начало XII века. М., 1978.
70. Памятники литературы Древней Руси.
XII век. М., 1980.
71. Памятники литературы Древней Руси.
XIII век. М„ 1981.
72. Памятники литературы Древней Руси.
XIV — середина XV века. М., 1981.
73. Памятники литературы Древней Руси. Середина XVI века. М., 1985.
74. Пилюгина Н. Б. Генезис антропоцентрических воззрений в Киевской Руси//Станов-ление философской мысли в Киевской Руси. М., 1984.
75. Пиотровская Е. К. «Летописец вскоре» константинопольского, патриарха Никифора и Изборник Святослава i073 г.//Иэборник Святослава 1073 г. М., 1977.
76. «Писанейце» Аввакума Ф. М. Ртище-ву/Демкова Н. С. Из истории ранней старообрядческой лнтературы//ТОДРЛ. Т. XXVIII. Л.. 1974.
77. Повесть временных лет. Ч. 1. М., 1950.
78. Пословицы русского народа: Сборник В. Даля. М., 1957.
79. Поукка X. О возможном польском источнике floMocrpoH//Ncando-slavica. Т. 12. 1966; она же. О соответствиях в Домострое, Стоглаве и книге Миколая Рея «Pywot cztowieka pocziwega»//Scando-slavica. Т. 16. 1870.
80. Пустарнаков В. Ф. Проблема познания в философской мысли Киевской Руси// Становление философской мысли в Киевской Руси. М., 1984.
81. Путилов Б. Н. Об историческом изучении русского фольклора//Русский фольклор. Вып. V. М.; Л., 1960.
82. Пушкарев Л. Н. Труд как основа социальных идеалов в традиционной волшебной сказке//Русское народно-поэтическое творчество. М., 1953.
83. Ребане Я. С. Информация и социальная память: К проблеме социальной детерминированности познания//Вопросы философии. 1982. № 2.
84. Розов Н. Н. Библиотека Сильвестра// Исследования источников по истории русского языка и письменности. М., 1966.
85. Розов Н. Н. Как сделана вступительная статья «Изборника 1076 г.«//Культурное наследие Древней Руси. М., 1976.
86. Россия и Италия: Материалы IV конференции советских и итальянских историков. М„ 1972.
87. Русский фольклор. М., 1985.
88. Русское государство в половине XVII века/Издал П. Бессонов. М., 1859.
89. Русское народное поэтическое творчество: Хрестоматия. М., 1987.
90. Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР. XI — XIII вв. М., 1984.
91. Семенов В. Древняя русская «Пчела» по пергаментному списку. СПб., 1893.
92. Сенигов И. Народные воззрения на учение и воспитание. СПб., 1896.
93. Словарь книжников и книжности Древней Руси. XI — первая половина XIV в. Л., 1987.
94. Сменцовский М. Братья Лихуды. СПб.,
1899.
95. Смоленский С. В. Муснкийская грамматика Николая Дилецкого. СПб., 1910.
96. Соколова В. К. Фольклор как нсто-
рико-зтнографический источник//Советская этнография, I960. № 4.
97. Сперанский М. Н. Переводные сборники изречений в славяно-русской письменности: Исследования и тексты. М., 1904.
98. Стратий Я М. Проблема человека н мира в «Шестодневе» Иоанна экзарха Болгарского н «Поучении» Владимира Монома-ха//Человек и история в средневековой философской мысли русского, украинского и белорусского народов. Киев, 1987.
99. Хофман Ф. Мудрость воспитания. Педагогия. Педагогика. (Пер. с нем.). М., 1979.
100. Христова Е. Понятие «народная педагогика» в советской историко-педагогической науке//Актуальные вопросы историографии и источниковедения истории школы и педагогики. М., 1986.
101. ЦГАДА. Ф. 181. № 341.
102. ЦГ АДА. Ф. 181. № 342.
103. Черная Л. А. Русские книжные предисловия конца XVII — начала XVIII в.: Защита «мирскнх книг» н «гражданских наук»//Тематика и стилистика предисловий и послесловий. М., 1981.
104. Численко Н. Д. «Гражданство обычаев детских» и его польский источник// Зарубежные славяне и русская культура. Л.,
1978.
105. Чистов К. В. Специфика фольклора в свете теории информации//Типологические исследования по фольклору. М., 1975; он же. Народные традиции и фольклор. Л., 1986.
106. Шушкова А. П. О мировоззренческом содержании фольклора и некоторых особенностях его выражения//Вестник МГУ. Серия VII. Философия. 1969. № 5.
107. Щепкина М. В. К изучению Изборника 1073 г.//Изборник Святослава 1073 г. М., 1977.
108. Яковлев В. А. К литературной истории древнерусских сборников: Опыт исследования «Измарагда». Одесса, 1893.
109. Яхонтов И. Иеродиакон Дамаскин, русский полемист XVII в. СПб., 1883.
ПО. Jagoditsch Т. 2u den Buellen des altrussischen «Domostroj»//W iener slavisti-sches Jahrbuch. 1963. B. 10.
ГЛАВА III
1. Азбуковник нз частного собрания В. Снднева.
2. Алексеев М. П. Словарн иностранных языков в русском азбуковнике XVII в. Л., 1968.
3. Аристотель. Рнторнка//Антнчные риторики. М., 1978.
4. Арциховский А. В. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1958 — 1961 гг.). М., 1963.
5. Бабкин Д. С. Русская Риторика начала XVII века//ТОДРЛ. Т. VIII. М.; Л., 1951.
6. Белокуров С. А. О библиотеке московских государей в XVI столетии. М., 1898.
7. Библиотека Ивана Грозного: Ре-
конструкция и библиографическое описание/ Сост. Н. Н. Зарубин. Л., 1982.
8. Библиотека Петра I: Указатель-
справочник. Л., 1978.
9. Буланина Т. В. Риторика в Древней Руси: Сведения о теории красноречия в русской письменности XI — XVI веков: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1985.
10. Буш В. В. Памятники старинного русского воспитания. Пг., 1918.
11. Буш В. В. Старинные аэбуки-про-писи//ИОРЯС. Т. 23. Кн. 1. Пг., 1919.
12. Гаврюшин Н. К. Первая российская «Логика»//Альманах библиофила. Вып. 15. М„ 1983.
13. Гамель И. X. Приложение к статье «Англичане в России»//Записки императорской Академии наук. Т. 15. СПб., 1869.
14. Голенченко Г. Я. Белорусы в русском книгопечатании//Книга: Исследования и материалы. Сб. 13. М., 1966.
15. Грамматика славенския правилное синтагма. Евье, 1619; 2-е изд. М., 1648; 3-е изд. М„ 1721.
16. Демин А. С. Диалог «Школьное благочиние» Прохора Коломнянина//Памятники культуры. Новые открытия. Письменность. Искусство. Археология: 1975 г. М., 1976.
17. Житие милостиваго мужа Федора Ртищева//ДРВ. 2-е изд. Т. XVIII. М., 1791.
18. Жуковская Л. П. Барсовский список грамматического сочинения «О восьми частях слова»//Сх|днословянськ1 граматики XVI — XVII ст. КиТв, 1982.
19. Забелин И. Е. Первое водворение в Москве греко-латинской и общей европейской науки//ЧОИДР. 1886. Кн. IV. Отд. 1.
20. Забелин И. Е. Домашний быт русских царей в XVI и XVII ст. Ч. 2. М., 1915.
21. Иван Вишенский. Сочинения/Подго-товка текста, статьи и комментарии И. П. Еремина. М.; Л., 1955.
22. История русского искусства. Т. IV. М., 1959.
23. Калайдович К. Ф. Иоанн ексарх болгарский: Исследование, объясняющее историю словенского языка и литературы IX и X столетий. М., 1824.
24. Карпов А. Азбуковники, или алфавиты, иностранных речей по спискам Соловецкой библиотеки. Казань, 1878.
25. Клосс Б. М. Никоновский свод и русские летописи XVI — XVII веков. М., 1980.
26. Ковтун Л. С. Русская лексикография эпохи средневековья. М.; Л., 1963.
27. Ковтун Л. С. Рукописи с языковедческой тематикой в древлехранилище Пушкинского дома//Вопросы языкознания. 1970. № 2.
28. Ковтун Л. С. Лексикография в Московской Руси XVI — начала XVII в. Л., 1975.
29. Ковтун Л. С. Древние словари как источник русской исторической лексикологии. Л., 1977.
30. Ковтун Л. С. Азбуковники среди других текстов древней лексикографии и пробле-
мы их издания//ТОДРЛ. Т. XXXVI. Л.,
1981.
31. Колосов Г. В. Старец Арсений Грек// ЖМНП. CCXVII. 1881.
32. Корецкий В. И., Морозов Б. Н. Летописец с новыми известиями конца XVI — начала XVII в.//Летописи и хроники: Сб. статей. М., 1984.
33. Кошелева О. Е., Симонов Р. А. Новое о первой русской книге по теоретической геометрии XVII века и ее авторе//Книга: Исследования и материалы. Сб. 42. М., 1981.
34. Круминг А. А. Элиас Гуттер и Острож-ская Библия//Федоровские чтения. 1981. М., 1985.
35. Круминг А. А. Первопечатные славянские буква ри//Федоровские чтения. 1983. М„ 1987.
36. Кудрявцев И. М. «Издательская» деятельность Посольского приказа: (К истории русской рукописной книги во второй половине XVII века)//Книга: Исследования и материалы. Т. 8. М„ 1963.
37. Кузаков В. К-, Симонов Р. А. Естественнонаучные энания//Очерки русской культуры XVI в. Ч. 2. М„ 1977.
38. Кузаков В. К., Кузьмин М. К., Симонов Р. А. Естественнонаучные знания// Очерки русской культуры XVII в. Ч. 2. М.,
1979.
39. Кукушкина М. В. Монастырские библиотеки Русского Севера. Л., 1977.
40. Лабынцев Ю. А. Московский фрагмент Азбуки Ивана Федорова//Федоровские чтения. 1983. М., 1987.
41. Ломоносов М. В. Краткое руководство к красноречию//Полн. собр. соч.: В 10 т. Т. 7. М.; Л„ 1952.
42. Ломоносов М. В. Письмо о правилах российского стихотворства//Полн. собр. соч.: В 10 т. Т. 7 М.; Л., 1952.
43. Лукьяненко В. И. Азбука Ивана Федорова, ее источники и видовые особен-ности//ТОДРЛ. Т. XVI. М.; Л., 1960.
44. Мечковская Н. Б. Ранние восточно-славянские грамматики. Минск, 1984.
45. Мордовцев Д. О русских школьных книгах XVII в. М., 1862.
46. Опочинин Е. Н. Очерки старорусского быта. Вып. 1. М., 1901.
47. Отдел редкой и рукописной книги Библиотеки Академии наук СССР. 17.7.39. (Далее — ОРРК БАН).
48. ОРРК БАН. Соловецкое собр.,
№ 102/102.
49. ОР ГБ Л. Ф. 17, № 314.
50. ОР ГБ Л. Ф. 98, № 1784.
51. ОР ГБ Л. Ф. 178, № 3191.
52. ОР ГБ Л. Ф. 299, № 400.
53. ОР ГБЛ. Ф. 310, № 950.
54. ОР ГПБ. Q. IV, 159.
55. ОР ГПБ. Q. XVI, 9.
56. ОР ГПБ. О. I, 225.
57. ОР ГПБ. Собр. Вяземского, № 90.
58. ОР ГПБ. Соловецкое собр., № ПО.
59. Отдел рукописной и старопечатной книги Государственного Исторического му-
зея СССР. Собр. Барсова. № 248. (Далее — ОР ГИМ).
60. ОР ГИМ. Синодальное собр. № 933.
61. ОР ГИМ. Собр. П. И. Щукина. № 941.
62. Панченко А. М. Русская культура в канун петровских реформ. Л., 1984.
63. Паульсон И. Методика грамоты по историческим и теоретическим данным. Т. I. СПб., 1887.
64. Петров А. П. Азбуковник о нерадиво-учащнхся ученицех: (К вопросу о физических наказаниях в старинной русской школе)// Народное образование. 1896. Кн. XI.
65. Петров А. П. Об Афанасьевском сборнике XVII века н заключающихся в нем азбуковннках//ПДП. СХХ. Прил. IV. СПб.,
1896.
66. Пештич С. Л. «Синопсис» как историческое произведение//ТОДРЛ. Т. XV. М.; Л., 1958.
67. Платон. Федр//Соч.: В 3 т. Т. 2. М., 1970.
68. Повесть о Варлааме и Иоасафе/ Подготовка текста, исследование и комментарий И. Н. Лебедевой. М., 1985.
69. Погорелое В. А. Библиотека Московской синодальной типографии. Ч. I. Рукописи. Вып. 2. Сборники и лексиконы. М., 1899.
70. ПСРЛ. Т. VI. СПб., 1863.
71. Привилегия на академию//ДРВ. 2-е нзд. Т. VI. М., 1788.
72. Прозоровский А. В. Сильвестр Медведев: Его жизнь и деятельность. М., 1896.
73. Пушкарев Л. Н. Общественно-политическая мысль России. Вторая половина XVII века. М., 1982.
74. Ротар И. Епифаний Славинецкий, литературный деятель XVII в.//Киевская старина. Т. 71. 1900. № 10. Отд. I.
75. Рыбаков Б. А. Просвещение//Очеркн русской культуры XIII — XV вв. Ч. 2. М., 1970.
76. Сетин Ф. И. Книга удивительной судьбы//Советская педагогика. 1977. № 2.
77. Сетин Ф. И. «Буквари» Симеона
Полоцкого в ряду древнерусских учебников XVI — XVII веков//Снмеон Полоцкий и его книгоиздательская деятельность. М., 1982.
78. Симеон Полоцкий. Избр. соч. М.; Л., 1953.
79. Симонов Р. А. Кнрнк-Новгородец — ученый XII в. М., 1980.
80. Симонов Р. А. Русская учебная математическая литература конца XVII века// Просвещение и педагогическая мысль Древней Руси. М., 1983.
81. Сменцовский М. Братья Лихуды. СПб., 1899.
82. СуперанскаяА. В. К вопросу о кодификации личных имен//Ономастнка и грамматика. М„ 1981.
83. Тальман Е. М. Ремесленное ученичество Москвы XVII в.//Исторические записки. Т. 27. М„ 1948.
84. Тредиаковский В. Новый и краткий способ к сложению российских стихов. М., 1785.
85. Тройский И. М. Древнегреческое уда-
рение. М.; Л., 1962.
86.. Филонов А. Н. Русские учебники по теории прозаических сочннений//ЖМНП. 1856.
87. ЦГАДА. Ф. 159, on. 1, № 1365.
88. ЦГ АДА. Ф. 181, № 250.
89. ЦГАДА. Ф. 381, № 177.
90. ЦГАДА. Ф. 1182, on. 1, № 67.
91. ЦГАДА. Ф. 1182, on. I. № 76.
92. ЦГАДА. Ф. 1182, on. 1, № 78.
93. ЦГАДА. Ф. 1182, on. 1, № 81.
94. Черная Л. А. Верхняя типография Симеона Полоцкого//Симеон Полоцкий и его книгоиздательская деятельность. М., 1982.
95. Чистякова Е. В. Первая учебная книга по русской нсторни//Преподавание истории в школе. 1974. № 3.
96. Ягич И. В. Рассуждения южнославянской н русской старины о церковнославянском языке//Исследования по русскому языку. Т. I. СПб., 1885 — 1895.
97. Ягич И. В. Рассуждения южнославянской и русской старины о церковно-славянском языке. СПб., 1896.
ГЛАВА IV
1. Азбука. Львов, 1574.
2. Алексеев М. П. Эразм Роттердамский в русском переводе XVII в.//Славянская филология: IV международный съезд славистов: Сб. статей. М., 1958.
3. Альт Р. Прогрессивный характер педагогики Коменского. М., 1959.
4. Апостол. Львов, 1574.
5. Белоброва О. А. К вопросу об иконографии Максима Грека//ТОДРЛ. Т. XV. М.; Л„ 1958.
6. Белоброва О. А. К изучению «Книги избранной вкратце о девяти мусах и о седми свободных художествах» Николая Спафа-рня//ТОДРЛ. Т. XXX. Л., 1976.
7. Белоброва О. А. «Аллегории наук» в лицевых списках «Книги избранной вкратце...» Николая Спафария//ТОДРЛ. Т. XXXII. Л., 1977.
8. Белоброва О. А. География в виде колоды карт: (Из переводческой деятельности в Москве Николая Спафарня)//ТОДРЛ. Т. XXXIII. Л., 1979.
9. Белоброва О. А. Об источниках «Арифмологнн» Николая Спафария//Русская литература. 1980. № 2.
10. Белокуров С. А. О библиотеке московских государей в XVI столетии. М., 1898.
11. Берков П. Н. Вероятный источник народной пьесы «О царе Максимилиане и его непокорном сыне Адольфе»//ТОДРЛ. Т. XIII. М.; Л., 1957.
12. Богданов А. П. Политическая гравюра в России периода регентства Софьи Алексеев-ны//Источниковедение отечественной истории. 1981 г. М„ 1982.
13. Богданов А. П. Памятники общественно-политической мысли в России конца XVII века (литературные панегирики). М.,
1983.
С;).! Гур»
446
14. Богданов А. П„ Пентковский A. M. Сведения о бытовании Книги Царственной («Лицевого свода») в XVII в.//Исследования по нсточннковедению истории СССР дооктябрьского периода. М., 1983.
15. Богданов А. П„ Пентковский А. М. Судьба Лицевого свода Ивана Грозного// Русская речь. 1984. № 5.
16. Богданов А. П. Творческое наследие Я. А. Коменского в России XVII века// Acta Lomeniana. Т. 8. Maha, 1988.
17. Большая советская энциклопедия (БСЭ). 3-е изд. Т. 50.
18. Браиловский С. Н. Одни из пестрых XVII столетня. СПб., 1902.
19. Браиловский С. Н. К вопросу о литературной деятельности русских писателей XVII столетия, носивших имя «Карион»//ИОРЯС. 1909. Кн. 1.
20. Букварь составлен Карионом Истоминым, гравирован Леонтием Буниным, отпечатан в 1694 году в Москве: Факсимильное воспр. Л., 1981.
21. Букварь славянороссийских письмен. М„ 1696.
22. Букварь языка славенска. М., 1679.
23. Букварь языка славенска. М., 1696.
24. Буланин Д. М. Источники античных реминисценций в сочинениях Максима Гре-ка//ТОДРЛ. Т. XXXIII. Л., 1979; Он же. Переводы и послания Максима Грека. М.,
1984.
25. Былинин В. К. Неизученная школьная пьеса Симеона Полоцкого//Русская старопечатная литература XVI — первой четверти XVIII в.: Симеон Полоцкий н его книгоиздательская деятельность. М., 1982.
26. Владимнро-Суздальский музей-запо-ведннк. Древлехранилище. № В-5715.
27. Грихин В. А. Творчество Епнфания Премудрого и его место в древнерусской литературе конца XIV — начала XV в.: Автореф. дис. ...канд. фнлол. наук. М., 1974.
28. Громов М. Н. Максим Грек. М., 1983.
29. Демин А. С. Русская литература второй половины XVII — начала XVIII в. М.,
1977.
30. Демин А. С. «Жезл правления» и афористика Симеона Полоцкого//Русская старопечатная литература XVI — первой четверти XVIII в.: Симеон Полоцкий н его книгоиздательская деятельность. М., 1982.
31. Демков М. И. История русской педагогии. Ч. I. М., 1913.
32. Евхаристирнон, албо вдячность. Киев, 1632.
33. Еремин И. П. Симеон Полоцкий — поэт и драматург//Снмеон Полоцкий. Избр. соч. М.; Л., 1953.
34. Жнтне митрополита Петра//Памятни-ки древнерусской церковно-учительной литературы. Вып. 2. Ч. I. СПб., 1896.
35. Житие св. Стефана, епископа пермского, написанное Епифанием Премудрым. СПб., 1897.
36. Житие Сергия Радонежского//Памят-
ники литературы Древней Руси. XIV — середина XV в. М., 1981.
37. Забелин И. Е. Книги переписные книгам//Временник ОИДР. Кн. 16. М., 1853.
38. Иванов А. И. Литературное наследие Максима Грека. Л., 1969.
39. Из истории философской н общественно-политической мысли Белоруссии. Минск, 1962.
40. «История о невинном заточении ближнего боярина Артемона Сергеевича Матвеева...», изданная Н. Новиковым. 2-е нзд. М., 1785.
41. Казакова Н. А. Очерки по истории русской общественной мысли. Первая треть
XVI века. Л„ 1970.
42. Каптерев Н. Ф. О греко-латннских школах в Москве в XVII в. до открытия Славяно-греко-латннской академии// Прибавления к Творениям святых отцов. Ч. 44: Творения святых отцов в русском переводе. Т. IV. М., 1889.
43. Келейный летописец//ОР ГБЛ. Ф. 218. № 1171.
44. Клибанов А. И. Слово о лживых учителях//Исследования и материалы по древнерусской литературе. Вып. I. М., 1961.
45. Клибанов А. И. К характеристике мировоззрения Андрея Рублева//Андрей Рублев н его эпоха. М., 1971.
46. Кнрнллова книга. М., 1644.
47. Ковтун Л. С. Лексикография в Московской Руси XVI — начала XVII в. Л., 1975.
48. Кудрявцев И. М. «Издательская» деятельность Посольского приказа (к истории русской рукописной книги во второй половине XVII века]//Книга. Исследования и материалы: Сб. VIII. М., 1963.
49. Кукушкина М. В. Редкие книги нз частных библиотек и библиотеки Академии наук в библиотеке Хельсинкского универси-тета//Русскне библиотеки и их читатель. Л., 1983.
50. Лазарева Т. Г. Библиотека русского дипломата//Вечерний Ленинград. 1979. 19 апр.
51. Лавровский Н. А. Памятники старинного русского воспитания//ЧОИДР. 1861. Кн. 3.
52. Лихачев Д. С. Культура Руси времени Андрея Рублева и Епифання Премудрого (конец XIV и начало XV в.). М.; Л., 1962.
53. Лихачев Д. С. Человек в литературе Древней Руси//Избранные работы. Т. 3. Л., 1987.
54. Лордкипанидзе Д. Ян Амос Комен-ский. М., 1970.
55. Личное С. П. Книга в России в
XVII в. Л., 1970.
56. Максим Грек. Беседование о пользе грамматики. М., 1782.
57. Маслов С. И. Кирилл Транквил-лион-Ставровецкнй и его литературная деятельность. Киев, 1984.
58. Мелетий Смотрицкий. Грамматика. М„ 1648.
• 59. Митюров Б. Н. Развитие педагоги-
ческой мысли на Украине в XVI — XVII вв. Киев, 1968.
60. Михайловский И. Н. О некоторых анонимных произведениях русской литературы конца XVII и начала XVIII столетия// Сборник Историко-филологического общества при ин-те кн. Безбородко. Т. 3. Нежин,
1900.
61. Михайловский И. Н. Очерк жизни и службы Николая Спафария в России. Киев, 1895.
62. Мордовцев Д. О русских школьных книгах XVII В.//ЧОИДР. 1861. Кн. 4.
63. Музеи Московского Кремля. № 9463.
64. Немировский Е. Л. Возникновение книгопечатания в Москве. Иван Федоров. М„ 1964.
65. Немировский Е. Л. Первопечатник Иван Федоров в Краковском университете// Советское славяноведение. 1969. № I.
66. Николай Спафарий. Эстетические трактаты/Подготовка текстов и вступительная статья О. А. Белобровой. Л., 1978.
67. ОР ГПБ. Эрмитажное собр. № 89.
68. ОР ГИМ. Синодальное собр. № 288.
69. ОР ГИМ. Синодальное собр. № 731.
70. ОР ГИМ. Уваровское собр. № 73.
71. ОР ГИМ. Уваровское собр. № 908.
72. ОР ГИМ. Чудовское собр. № 300.
73. ОР ГИМ. Чудовское собр. № 302.
74. Остен. Памятник русской духовной письменности XVII в. Казань, 1865.
75. Очерки русской культуры XVII в.
Ч. II. М„ 1979.
76. Памятники византийской литературы IV — IX веков. М., 1968.
77. Памятники полемической литературы в Западной Руси. Кн. 1//РИБ. Т. 4. СПб., 1878.
78. Памятники полемической литературы в Западной Руси. Кн. 2//РИБ. Т. 7. СПб., 1882.
79. Пелех П. М. Психология в Киево-Могилянской коллегии XVII в.: Автореф. дис. ...канд. пед. наук. Киев, 1949.
80. Письмо Николая Спафария к боярину Артемону Матвееву (июль 1675 г.)/Публикация и комментарий Ю. В. Арсеньева// Русский архив. 1881. № 1.
81. Письмо Епифання Премудрого к Кириллу Тверскому//Памятники литературы Древней Руси. XIV — середина XV в. М., 1981.
82. Преображенский И. Нравственное состояние русского общества в XVI в. по сочинениям Максима Г река и современным ему памятникам. М., 1881.
83. Пушкарев Л. Н. Общественно-политическая мысль России. Вторая половина XVII в. М„ 1982.
84. Радченко К. Религиозное и литературное движение в Болгарии в эпоху перед турецким завоеванием. Киев, 1898.
85. Резанов В. И. Из истории русской драмы: Школьные действа XVII — XVIII вв. и театр иезуитов. М., 1910.
86. Ржига В. Ф. Опыты по истории рус-
ской публицистики XVI в. Максим Грек как публицист//ТОДРЛ. Т. I. Л., 1934.
87. Русская силлабическая поэзия XVII — XVIII вв. Л., 1970.
88. Свирин А. Н. Древнерусская миниатюра. М., 1950.
89. Симеон Полоцкий. Обед душевный. М„ 1681.
90. Симеон Полоцкий. Вечеря душевная. М„ 1683.
90а. Симеон Полоцкий. Избр. соч. М.; Л., 1953.
91. Синицына Н. В. Максим Грек в России. М., 1977.
92. Скарына Ф. Прадмовы i пасляслоук Mihck, 1969.
93. Соболевский А.И. Образованность Московской Руси XV — XVII вв. СПб., 1894.
94. Сочинения пр. Максима Грека. Ч. I. Казань, 1859; Ч. II. 1860; Ч. III. 1862.
95. Сочинения св. Димнтрня, митрополитаРостовского. Ч. 2. М., 1875.
96. Сочинения князя Курбского/Под ред. Г. 3. Кунцевича//РИБ. Т. XXXI. СПб., 1914.
97. Спафарий Н. Г. Описание первыя части-вселенныя именуемой Азии, в ней же состоит Китайское государство с прочими его городы н провинции. Казань, 1910.
98. Тарабрин И. М. Лицевой букварь Кариона Истомина. М., 1916.
99. Титов А. А. Новые данные о святителе Димитрии Ростовском. М., 1881.
100. Тихомиров М. Н. Русская культура X — XVIII вв. М„ 1968.
101. Успенский А. И. Царские иконописцы и живописцы XVII века. Т. I. М., 1913.
102. ЦГАДА. Ф. 381. № 1800.
ЮЗ. Чума А. А. Ян Амос Коменский и русская школа (до 70 годов 18 века). Bratislava, 1970.
104. Шашков А. Т. Максим Грек и идеологическая борьба в России во второй половине XVII — начале XVIII В.//ТОДРЛ. Т. XXXIII. Л., 1979.
105. Шляпкин И. А. Св. Димитрий Ростовский и его время (1651 — 1709 гг.). СПб., 1891.
106. Щеглова С. А. Русская пастораль
XVII в. «Беседы пастушеские» Симеона По-лоцкого//Старинный театр в России XVII —
XVIII вв. Пг., 1923.
107. Эразм Роттердамский. Стихотворения. Иоанн Секунд. Поцелуи. М., 1983.
108. Sapkova D. Nfklere zakladni princiny pedagogickego mysleni J. A. Komens-keho. Praha, 1977.
109. Denissoff E. Maxime le Crec et lOccident Contribution a lhistoire de la pensee religiense et philosophigue de Michel Trivolis. Paris, 1943.
110. Haney G. V. From Jtaly to Moscovy. The Life and Works ol Maxim the Qreec. Miinchen, 1973.
111. Hof man F. Jan Amos Comenius. Lekrer der Nationen. Leipzig, 1975.
112. Kamensky J. A. Jnlormatorium skoly materske. 1632.
113. Langeler A. J. Maxim Grek, byzantijn en humanist in Rusland. Amsterdam, 1986.
114. Raby F. J. E. A History of Secular Latin Poetry in the Middle Ages. Oxford, 1957. Vol. 1.
115. Sentik Rymow duchownych (соч. 1590). Krakow, 1893.
116. Thomas Aquenas. Summa theologia (пер. с лат. Л. А. Чернышевой). II, II.
- H i-
Г.11 . •
1. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 12.
2. Акты и документы, относящиеся к истории Киевской академии/С введением и примечаниями Н. И. Петрова. Т. I. Ч. I. Киев, 1904.
3. Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные Археографической комнссней. Т. 2. СПб., 1865.
4. Архив Юго-Западной России, издаваемый Временной комиссией для раэбора древних актов Т. I. Ч. I. Киев, 1914. (Далее — АЮЗР).
5 АЮЗР Т 8 Ч I
6. Временник ОИДР. М., 1855. Кн. 23.
7. Высоцкий С. А. Средневековые надписи Софии Киевской (по материалам граффити XI — XVII вв.). Киев, 1976.
8. Голубев С. История Киевской духовной академии. Вып. 1. Период домогилян-ский. Киев, 1886.
9. Грамматика словяньска i. Ужевича/ Пщгатували до друку К. Бшодщ, Е. М. Куд-рицкий. КиТв, 1870.
10. Грамоти XIV ст./Упорядкування М. М. Пещак. КиТв, 1971.
11. История Украинской ССР. Т. 2. Киев, 1982.
12. lean Вишенський. Вибрш твори. КиТв, 1972.
13. 1саевич Я- Д Братства та ix роль в развитку yKpaiHcbKoi культури XVI — XVII ст. КиТв, 1968.
14. /саевич Я Д. Джерела з icTopii yKpaiHcbKoi культури доби феодал1зму. КиТв, 1972.
15. МелетШ Смотрицький. Грамматика/ Пщготовка факснмшьного видання В.В. Ним-чука. КиТв, 1979.
16. Митюров Б. Н. Развитие педагогической мысли на Украине. Киев, 1968.
17. Памятники, изданные Временной комиссией для разбора древних актов. Т. 1. Отд. 1. Киев, 1848.
18. Памятники полемической литературы в Западной Руси//РИБ. Т. IV. СПб., 1878.
19. Пелех П. М. 3 icropii пснхологн XVII ст.//Нариси з icTopii в1тчизняно1 психологи XV — XVIII ст. КиТв, 1952.
20. Петров Н. И. Киевская академия во
второй половине XV в. Киев, 1895.
21. Савин А. Нариси з icTopii культурных pyxie на BKpaiHi та Белорус! в XVI — XVIII вв. Киев, 1929.
22. Сивомнь Г. М. Давш украшсьщ поетики. XapniB, 1960.
23. Философская мысль в Киеве: Историко-философский очерк. Киев, 1982.
24. Харлампович К. Западнорусские православные школы XVI и начала XVII в. Казань, 1898.
25. Хиясняк 3. Kieeo-Могнлянська акаде-Min. КиТв, 1982.
26. Центральный государственный исторический архив УССР в Киеве. Ф. 25, on. 1., № 458.
27. Kochanowski /. К. Dzieje Akademii Zamojskiej (1594 — 1784). Krakow, 1899 — 1900.
28. Lukaszewicz l. Historia szkol w koronie i w Welkim Ksieswe Litewskim od najda-wneiszych czasow do roku 1794. Poznan, 1846.
Г.М.БЧ 4
1. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 7.
2. Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные археографической комнссней. Т. I. СПб., 18613.
3. Ешану А. И. Школа и просвещение в Молдавии (XV — нач. XVIII в.). Кишинев, 1983.
4. Кантемир Дмитрий. Описание Молдавии. Кишинев, 1973.
5. Костин М. Опере олесе. Кишинев, 1957 (на молд. яз.).
6. Костин М. Летописецул Цэрый Мол-довей де ла Аарон Воды Ынкоаче. Кишинев, 1972 (на молд. яэ.).
7. Крачун Т. А. Очерки по истории развития школы и педагогической мысли в Молдавии. Кишинев, 1969.
8. Курдиновский В. Церковнославянская грамматика Гербовецкого монастыря Бессарабской губернни//Труды церковного исторн-ко-археологического общества. Вып. IV. Кишинев, 1916.
9. Руссев Е. М. Свет из Москвы. Кишинев, 1981.
10. Руссев Е. М. Молдавское летописание — памятник феодальной идеологии. Кишинев, 1982.
11. Bdrsinescu St. Schola Latina de la Cotnari. Bucurejti, 1957.
12. Barshnescu St. Pagini nescrise din istoria culturii romfinesti (sec. X — XV). Bucure§ti, 1971.
13. Bazwinski E. Mironio Costini chro-nicon Terre Moldaviae ab Aarone principe. Bucurejti, 1912.
14. Ciobanu Gh. Scoolla muzicala de La Putna//Muzica. 1966. № 9.
15. Codex Bandini. Bucurejti, 1895.
16. Codrescu T. Uricarul. Vol. 5.
17. Inseriptii din bisericile Romaniei. Vol. I.
Bucuresti, 1905.
18. lorga N. Jstoria invatamintului romanese. Bucurejti, 1971.
19. Istoria Iiteraturii romane. Vol. I. Bucu-rejti, 1970.
20. Panaitescu P. P. Husitiomul si cultura slavona in Moldova Romanoslavica. Vol. X. Bucurejli, 1964.
ГЛАВА III
1. Акты Западной Руси T. 3. СПб., 1848. (Далее — АЗР).
2. АЗР. Т. 4. СПб., 1851.
3. АЮЗР. Ч. 1. Т. 6. № 280. Киев, 1883.
4. Беларусская савецкая энцыклапедыя. Т. 4. Минск, 1971 (на белорус, яз.).
5. Будный С. Катехизис... Несвиж, 1562.
6. Голубев С. Т. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники: Приложение. Т. I. Киев, 1883.
7. Из истории философской и общественно-политической мысли Белоруссии. Минск, 1962.
8. Мораш Я. Н. Ватикан и католическая церковь в Белоруссии (1569 — 1795). Минск, 1971.
9. Памятники, изданные Временною комиссией для разбора древних актов. Т. I. Отд. 1. № 10. Киев, 1845.
10. Подокшин С. А. Скорина и Будный. Минск, 1974.
11. Послание старца Артемия (XVI в)// РИБ. Т. 4. СПб., 1878.
12. Путешествие Антиохийского патриарха Макария в Россию в половине XVII в., описанное его сыном архидиаконом Павлом Алеппским/Пер. с арабск. Г. Муркоса. М.,
1897.
13. Савич А. Нарнсн с icTopii культурних pyxie на УкраЫ та Бшорусм в XVI — XVII вв. КиТв, 1929.
14. Скарына Францыск. Прадмовы i пасляслоуг М1нск, 1969.
15. Собрание древних грамот и актов городов Минской губернии, православных монастырей, церквей н по разным предметам. № 62. Минск, 1848,
16. Харлампович К. Западнорусские православные школы XVI и начала XVII века. Казань, 1898.
17. ЦГАДА. Ф. 389. № 141.
18. ЦГАДА. Ф. 389. № 111.
ГЛАВА IV
1. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20.
2. Голенищев-Кутузов И. Н. Гуманизм у восточных славян (Украина н Белоруссия). М„ 1963.
3. Голенченко Г. Я. Студенты Великого княжества Литовского в Краковском университете в XV — XVI вв.//Культурные связи народов Восточной Европы в XVI в.: Проблемы взаимоотношений Польши, России, Украины, Белоруссии н Литвы в эпоху Возрождения. М., 1976.
15 Зак. 1530
4. Грицкевич А. П. Белоруссия во времена Ивана Федорова//Иван Федоров и восточно-славянское книгопечатание. Минск, 1984.
5. Гусакова А. Лнтовско-белорусскне земли и Карлов университет в Праге (XIV — XVI вв.)//Научные труды высших учебных заведений Литовской ССР. История. Вып. 1. Вильнюс, 1981.
6. История Вильнюсского университета (1579 — 1979). Вильнюс, 1979.
7. Клименко Ф. В. Западно-русские цехи XV — XVIII вв. Киев, 1914.
8. Конон В. М. Франциск Скорина н Иван Федоров. Преемственность просветительских и эстетических традицнй//Иван Федоров и восточнославянское книгопечатание. Минск, 1984.
9. Лукишйте И. Распространение литовского языка в рефомационном движении Лнтвы в XVII в.: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Вильнюс, 1971.
10. Пашуто В. Т. Образование Литовского государства. М., 1959.
11. ПСРЛ. Т. 32. М., 1975.
12. РИБ. Т. XXX. Юрьев, 1914.
13. Улащик Н. Н. Очерки по археографии и источниковедению Белоруссии феодального периода. М., 1973.
14. Улащик Н. Н. Введение в изучение белорусско-литовского летописания. М., 1985.
14а. Харлампович К. Западнорусские православные школы XVI и начала XVII века. Казань, 1898.
15. Хорошкевич А. Л. Исторические судьбы белорусских н украинских земель в XIV — начале XVI в.//Пашуто В. Т., Флоря Б. Н., Хорошкевич А. Л. Древнерусское наследие и исторические судьбы восточного славянства. М 1982
16. ЦГАДА. Ф. 1473, on. 1, № 920 (погодные записки Смоленской иезуитской коллегии).
17. Academia el Universitas Vilnensis. Vilnius, 1979.
18. Balinski M. Historia miasla Wilna. T. 2. Wilno, 1837.
19. Barycz H. Wstpp.//Maurycjusz Sz. О szkolach czyli akademiach ksig dwoje. Wroc+aw, 1955.
20. Jablonskis K. Lietuviy kultQra ir jos veikejai. Vilnius, 1973.
21. Juias M. Lietuvos metraSciai.Vilnius, 1968.
22. Jurginis ]., Luksaite I. Lietuvos kul-turos istorijos bruoiai (Feodalizmo epocha. Iki XVIII a.). Vilnius, 1981.
23. Institutio studiorum societatis Jesu superiorum permissi. Moyuntiae, 1600.
24. Kosman M. Uniwersytet Wileriski 1579 — 1979. Wroc+aw, etc, 1981.
25. Kruger O. Arithmaticae. Vilnae, 1635.
26. Lebedys G. Mikalojus DaukSa. Vilnius, 1963.
27. Lebedys J. Lietuviy kalba XVII — XVIII a. vieSajame gyvenime. Vilnius, 1976.
28. Lietuois M. Apie totoriy, Lietuviy ir
maskveny papvofius. Vilnius, 1966 (Гг. V).
29. Lietuvos mokyklos ir pedagogines min-ties istorijos bruozai (Ligi Didziosios Spalio socialistines revolucijos). Vilnius, 1983.
30. Lietuvos TSR islorija. T. 1. Nuo seniausiy laiky iki 1917 m. Vilnius, 1985.
31. Lukaszewicz J. Historia szkol w Koro-nie Polskiej i w Wielkiem Ksiestwie Litews-kiem od najdawnejszych czasow az do roku 1794. T. 1. Poznan, 1849.
32. Luksaile J. Lietuviy kalba геГоггпа-ciniame judejime XVII a. Vilnius, 1970.
33. Morzy J. Qeneza i rozwoj cechow wiIeriskich//Zeszyty naukowe Uniwersytetu im A. Mickiewicza w Poznaniu. № 24. Historia. Zeszyt 4. Poznan, 1959.
34. Nausedas V. LeituviSkos mokyklos prQsijoje XVI — XVIII amziaus//I§ Lietuviy kultQros istorijos. Vilnius, 1959.
35. Ochmahski J. Historia Litwy. Wroc+aw, etc., 1982.
36. Pletkaitis R. Feodalismo laikotarpio rilosoMja Lietuvoje. FilosoMja Lietuvos mokyk-Iose XVI — XVIII amiiais. Vilnius, 1975.
37. Pleikaitis R. Stopnie naukowe w dawnym Uniwersytecie Wilenskim//Studia z dziejow Uniwersytetu Wilenskiego. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. DLIV. Prace historyczne. Zeszyt 64. Krakow, 1979.
38. Samsonowicz H. Historia Polski do roku 1795. Warszawa, 1973.
39. S+ownik historii Polski. Wyd. VI. Warszawa, 1973.
40. Stryjkowski M. О poczytkach, wywo-
dach, dzielnoSciach, sprawach rycerskich i domowych slawnego narodu litewskiego, ze-mojdzkiego i ruskiego, przedtym nigdy od zadnego ani kuszone, ani opisane, z natchnie-nia Bozego a uprzejmie pilnego doswiadczenia. Warszawa, 1978.
41. Vilniaus universiteto istorija, 1579 — 1803. Vilnius, 1976.
42. Wasilewski T. Zarys dziejow Bogusla-wa Radziwrt+a//RadziwiW B. Autobiograiia. Warszawa, 1979.
43. Wolff J. Kniaziowie litewsko-ruscy od konca czternastego wieku. Warszawa, 1895.
ГЛАВА V
1. Архив Маркса и Энгельса. Т. V. Л., 1938.
2. Гельд Г. Краткая летопись Рижской городской гимназии со времени ее зарождения до наших дней. 1211 — 1911. Рига, 1911.
3. Генрих Латвийский. Хроника Ливонии/ Пер. и коммент. С. А. Аннинского. М.; Л., 1938.
4. История Тартуского университета. 1632 — 1982. Таллин, 1982.
5. Сектор фольклора Института языка и литературы им. А. Упита АН ЛатвССР (СФ). № 891, 142.
6. Чума А. А. Яи Амос Коменский и русская школа (до 70-х гг. XVIII в.). Братислава, 1970.
7. Adamovits L. Vidzemes baznTca un latviesu zemnieks. 1710 — 1740. Riga, 1933.
8. Aplnis A. LatvieSu gramatnieclba. No pirmsakumiem 17dz 19. gadsimta beigam. R7ga, 1977.
9. Atskanu hronika. Ditleba Alnpekes «Rlm-ju hronika», Riga, 1936.
10. Bertouch E. V. Kurzgefasste Ges-chiehte der geistlichen GenossenschaTten und der daraus hervorgegangenen Ritteror-den. Wiesbaden, 1887.
11. Birkerts A. LatvieSu intelegence savas cinas un gaitas. R7ga, 1927.
12. Brezgo B. Vacoko skula Latgola// Zidunis 1939. № 10, 11, 12; 1940. № I, 2.
13. Buis N. Atstati raksti. 2. sej. Riga, 1937.
14. Drizule M. Lalvijas skolu vesture. Riga, 1967.
15. Hilners, G. Ernests Gliks. LatvieSu bibeles tulks miera darbos un kara briesmas. Riga, 1918.
16. Jannau H. J. Sitten und Zeit. Riga, 1781.
17. Latvijas PSR vesture. Riga, 1971.
18. Latviesu literaturas vesture. 1. sej. Riga, 1959.
19. Latvijas skolu vestures avoti. Riga, 1974.
19a. Latviesu tautas dziesmas. I. Riga,
1955.
20. Nesterovs O. KatvieSu valodas un literaturas macisSnas metodikas attTstiba. Riga, 1974.
21. RTgas pilsetas 2. pamatskola 300 gadu darba gaitas. 1632 — 1932. Riga, 1933.
22. Ruberts F. Tautas izglitibas ritansma, Riga, 1978.
23. Salmins A. Pirmas latvieshu skolas// Skola un gimene. 1968. № 9.
24. Salmini A. LatvieSu skolu izveido-sanas un attistiba feodaiisma posma. Riga, 1980.
25 Stradins J. Elides par Latvijas zinatnu pagatni. Riga, 1982.
26. Straubergs J. Rigas vesture. Riga, 1937.
27. Vtfs A. Rigas pilsetas skolas lidf 20 gs sakumam//Senatne un Maksla. 1937. № 1.
ГЛАВА VI
1. Алтоф К- Обучение «бедных школьников» в Таллине во второй половине XVI века//Из истории развития содержания и методики обучения в школах Прибалтики. Таллин, 1983.
2. Андрезен Л. Эстонские народные школы в XVII — XIX веках. Таллин, 1980.
3. История Тартуского университета. 1632 — 1982. Таллин, 1982.
4. Moqpa X., Лиги X. Хозяйство и общественный строй народов Прибалтики в начале XIII века: (К вопросу о возникновении феодальных отношений). Таллин, 1969.
5. Петров В. Материалы к истории
учебных заведений в городе Нарве. Нарва, 1888.
6. Центральный государственный исторический архив Латвийской ССР (ЦГИА ЛатвССР). Ф. 7349, on, 1, № 201.
7. Центральный государственный исторический архив Эстонской ССР (ЦГИА ЭССР). Ф. 995, on. 1, № 248.
8. ЦГИА ЭССР. Ф. 995, on. I, № 288.
9. ЦГИА ЭССР. Ф. 1646, on. 1, № 112.
10. ЦГИА ЭССР. Ф. 1646, on. 1, № 113.
11. ЦГИА ЭССР. Ф. 1646, он. 1, № 114.
12. ЦГИА ЭССР. Ф. 995, on. 1, № 3446.
13. ЦГИА ЭССР. Ф. 1187, оп. 2, № 730.
14. Adams V. Tartu — Moskva suhtlusest XV sajandil//Edasi. № 163. 17 juuli 1982.
15. Alttoa V. Kultuurilised olud//Laane-maa XVII sajandil ja XVII1 sajandi algul Tartu, 1938.
16. Alttoa V. Veel vanimatcs eesli aabit-satest.//Keel ja Kirjandus. 1981. № 10.
17. Amelung F. Baltische Culturstudien aus den vierten Jahrzunderten der Ordenszeit (1184 — 1561). Dorpat, 1885.
18. Anders К. Zur Geschichte der Schulen in Dorpat//Zivlandische Schulblatter. 1814. № 16.
19. Andresen L. Eesti rahvakoolid 19 sajandil. Tallinn, 1974.
20. Andresen L. B. G. Forselius ja eesti rahvakooli algus. Tallinn, 1981.
21. Andresen L. Ohest Eestis ilmunud J. A. Komensky raamatust//N6nkogude Kool. 1973. № 4.
22. Arbusow L. (jun.). Die Einfiihrung der Refonmation in Liv, — Esl — und Kurland. Leipzig, 1921.
23. Beilrage zur Geschichte der Ehst-landischen Riller-und Domschule. Reval, 1869.
24. Buchholz A. Geschichte der Buchdru-ckerkunst in Riga 1588 — 1888. Riga, 1890.
25. Die evangelischen Prediger Livlands bis 1918. Koln-Wien, 1977.
26. Christiani T., Bischnf Dr. Johannes Rudbeckius und die erste estlandische Provinzialsynode//Baltische MonatsschriTt. 1887. № 7.
27. Hansen G. v. Die Kirchen und ehemaligen Kloster Revals. Reval, 1873.
28. Hansen G. v. Geschichts blatter des revalschen Gornernements-Gumnasiums zu dessen 25-e jahrigen Jubileum am 6. Juni 1881. Reval, 1881.
29. Johansen P. v. Lur Miihlen H. Deutsch und Undeutsch in mittela Iter lichen und friihneuzeitlichen Reval. Koln-Wien, 1973.
30. Kaplinski K. Taiendavaid andmeid tsunftikasitoo kohta keskaegses Tallinnas// Noukogude Kool. 1973. № 12.
31. Kech G. Schulverhaltnisse Pernaus seit der Refomation//Sitzungsberichte der altertumrorscheuden GessellschaTt zu Pernau. Bd. VII. Pernau, 1914.
32. Kopp J. Laiuse kihelkonna ajalugu. Tartu, 1937.
33. Liiv O. Lisandeid Eesti rahvakooli ajaloole. XVII sajandi lopul. Tartu, 1934.
34. Masing U. Veel idlest C. Brendeckeni registreerimate triikisest//Emakeele Seltsi Aastaraamat. VIII. 1962. Tallinn, 1962.
35. Miller V. Kasikirjaline raamat (XII — XVI sajand)//Eesti Raamat 1525 — 1975. Tallinn, 1975.
36. Miller V. Haridus ja kultuur//Talli-nna ajalugu 1860-ndate aaetateni. Tallinn. 1976.
37. Oissar E. Vanimatest eesti aabitsa-lest//Kecl ja Kirjandus. 1969. № 3.
38. Schiemann T. Materialien zur Geschichte des Schulwesen in Reval//Beilrage zur Kunde Ehst-, Liv- und Kurlands. IV. Reval, 1894.
39. Schirren C. Die Recesse der liv-landischen Landtage aus den Jahren 1681 bis 1711. Dorpat, 1865.
40. Siivalep A. Narva ajalugu. Narva, 1936.
41. Tarvel E. Haridus//Tartu ajalugu. Tallinn, 1980.
42. Tering A. Uut Bengl Gottfried Forseliuse opingule kohta//Keel ja Kirjandus. 1981. № 1.
43. Tering A. Tartu iilikooli osa Eesti — ja Liivimaa haritlaskonna kujunemises XVII sajandil ja XVIII sajandi algul//Keel ja Kirjandus. 1981. № 9, 11.
44. Tonisson E. Noorem ranaaeg//Eesti esiajalugu. Tallinn, 1982.
45. Treumann H. Vanemasl raamatu-kultuuriloost. Tallinn, 1977.
46. Wieselgren G. B. G. Forselius und die Grundlegung der estnischen Volksschule. Urkunden und Kommentar//Vetenskaps-Soci-eten i Lund Arsbok, 1942. Lund (1943).
47. Wieselgren G. Johann Fischer — Livlands nye apostel//Svio-Estonica. XVII. 1964.
48. Westlirig F. Moned lisandused Tallinna Doomkooli ajaloole//Ajalooline Ajakiri. 1923. № 1.
ГЛАВА VII
1. Арчилиани. T. I/Под ред. А. Г. Барамидзе, Н. А. Бердзенишвили. Тбилиси, 1936.
2. Гамсахурдиа С. В. Развитие общественно-исторической мысли в Грузии XI в. Тбилиси, 1966 (на груз. яз.).
3. Георгина. Т. Ill/Пер. с прил. текстов С. Г. Каухчишвили. Тбилиси, 1936.
4. Житие Григория Хандзтийского/Под ред. П. Ингороква. Тбилиси, 1949 (на груз, яз.).
5. Житие Иоанна н Евфимия/Подгот. к изд. И. А. Джавахишвили. Тбилиси, 1964 (на груз, яз.).
6. История Иесе Осишвили/Изд. С. Н. Ка-кабадзе. Тифлис, 1913 (на груз. яз.).
7. Картлис цховреба (Летопись Грузии). Т. I — II. Тбилиси, 1955 — 1959.
8. Каухчишвили С. Г. Диманнос и Баку-ри//Труды Кутаисского педагогического ин-та. 1940. т. I. (на груз. яз.).
9. Кекелидзе К. С. Этюды из истории
древнегрузинской литературы: В 2 т. Т. II. Тбилиси, 1945 (на груз. яз.).
10. Книга медицинская/Под ред. Л. И. Котетишвили. Тбилиси, 1936 (на груз, яз.).
11. Латышев В. В. Известия древних писателей, греческих и латинских, о Скифии и Кавказе. Т. I. СПб., 1893 — 1904.
12. Меликишвили Г. А. К вопросу об образовании в Грузии классового общества и государства. Тбилиси, 1955.
13. Оганесян Л. А. История медицины в Армении. Т. II. Ереван, 1946.
14. Петрици Иоанн. Рассмотрение платоновской философии и Прокла Диадоха/Пер. с груз, и исследование И. Д. Панцхава. Тбилиси, 1942.
15. Поминальные книги Афонского Ивер-ского монастыря 1074 г. Тифлис, 1901.
16. Посольство в Кахетию в 1640 — 1643 гг. князя Мышецкого и дьяка Ключарева. Тбилиси, 1928.
17. Рай Грузии/Изд. Г. П. Сабинина. Тифлис, 1882.
18. Руставели Шота. Витязь в тигровой шкуре/Пер. Н. Заболоцкого. М.; Л., 1937.
19. Руставели Шота. Витязь в тигровой шкуре/Пер. Г. Цагарели. М., 1937.
20. Руставели Шота. Витязь в тигровой шкуре/Пер. Ш. Нуцубидзе. М., 1941.
21. Руставели Шота. Витязь в тигровой шкуре. Тбилиси, 1966.
22. Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа. Тифлис, 1884.
23. Тамарашвили М. История католичества среди грузин (с XIII до XX в.). Тнфлнс, 1902 (на груз. яз.).
24. «Учебное пособие», предназначенное для понимания «Трех исторических хроник» и «Жития св.. Нины», восстановленное М. Г. Джанашвили. Тифлис, 1891 (на груз, яз.).
25. Церетели Г. В. Армазская билингва. Тбилиси, 1942 (на груз. яз.).
ГЛАВА VIII
1. Абегян М. История древнеармянской литературы. Ереван, 1975.
2. Абегян М. Месроп Маштоц и создание армянского алфавита и письменности// Корюн. Житие Маштоца. Ереван, 1981.
3. Анания Шираками. Автобиография// Армянская география VII века. СПб., 1877.
4. Антология мировой философии. Т. I. Ч. 2. М„ 1969.
5. Аракел Даврижеци. Книга историй/ Пер. с арм., предисл. и коммент. Л. Хан-ларян. М., 1973.
6. Аревшатян С. С. Формирование философской науки в Древней Армении (V — VI вв.). Ереван, 1973.
7. Аревшатян С. С. Давид-Непобеди-мый — выдающийся философ Древней Армении. М., 1980.
8. Аревшатян С. С. Григор Магистрос// Видные деятели армянской культуры (V-XVIII века). Ереван, 1982.
9. Аревшатян С. С.. Матевосян А. С. Гладзорский университет — центр просвещения средневековой Армении. Ереван, 1984.
10. Армянская книга канонов. Т. 1. Ереван, 1964 (на древнеарм. яз.).
11. Армянский судебник Мхитара Гоша/ Пер. с древнеарм. А. А. Паповяна; Ред., вступит, статья и прим. Б. М. Арутюняна. Ереван, 1954.
12. Григор Магистрос. Письма/Изд. К- Костанянца. Александрополь, 1910 (на древнеарм. яз.).
13. Григор Татеваци. Книга вопрошаний. Константинополь, 1729 (на древнеарм. яз.).
14. Григор Татеваци. Книга проповедей. Летний том. Константинополь, 1741 (на древнеарм. яз.).
15. Давид Анахт. Соч./Сост., пер. с древнеарм., вступит, статья и прим. С. С. Арев-шатяна. М„ 1980.
16. Еэник Кохбаци. Книга опроверже-ний/Пер., предисл. и прим. В. К. Чалояна. Ереван, 1968.
17. Иоанн Воротнеци. Анализ «Категорий» Аристотеля/Сводный текст, предисл. и прим. В. К. Чалояна; Пер. А. А. Адамяна, В. К. Чалояна. Ереван, 1956.
18. История Армении Моисея Хоренско-го/Новый пер. Н. О. Эмина. М., 1893.
19. Источники по истории высших школ средневековой Армении (XII — XV вв.). Ереван, 1983.
20. Киракос Гандзакеци. История Арме-нии/Пер. с древнеарм., предисл. и коммент. Л. А. Ханларян. М., 1976.
21. Марр Н. Ани: Книжная история города и раскопки на месте городища. М.; Л., 1934.
22. Матевосян А. С. «Киникон» Ананнн Ширакици//Вестннк общественных наук АН АрмССР. 1974. № 7. (на арм. яз.).
23. Институт древних рукописей им. Маштоца при Совете Министров АрмССР (Мате-надаран). Ф. древнеармянских манускриптов. № 1666.
24. Матенадаран. Ф. древнеармянских манускриптов. № 5259.
25. Матенадаран. ф. древнеармянских манускриптов. № 6453.
26. Микаелян Г. Г. История Киликийского армянского государства. Ереван, 1952.
27. Многовещательные речи. Эчмиадзин, 1894.
28. Мовсесян А. X. Из нсторин армянской школы и педагогики. Ереван, 1968.
29. Музыкальная эстетика стран Востока. М., 1967.
30. Овсепян Г. Жизнь Товмы Мецопеци. Вагаршапат, 1914 (на арм. яз.).
31. Плутарх. Красс//Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Т. 2. М., 1963.
32. Поучение Григория Просветителя// История Агафангела. Тифлис, 1914 (на древнеарм. яз.).
33. Труды Анании Ширакаци/Иэд. и ис-след. А. Г. Абрамяна. Ереван, 1944 (на древнеарм. яз.).
34. Труды Ованеса Имастасера/Изд. и исслед. А. Г. Абрамяна. Ереван, 1956
(на древнеарм. яз.).
ГЛАВА IX
1. Азербайджанское народное сказание «Ашиг Габиб». Баку, 1968.
2. Алиев В., Багиров И. Атеистическое отношение к жизни в эпосе «Деде-Горгут»// Азербайджан мектеби. 1979. № II.
3. Багиров И., Каланитарли А. Вопросы эстетики в эпосе «Деде-Горгут»//Азербай-джан мектеби. 1977. № 12 (на азерб. яз.).
4. Баяты (XVII — XX вв.). Баку, 1977.
5. Буниятов 3. Азербайджан в VII — IX вв. Баку, 1965.
6. Геюшев 3. Этическая мысль в Азербайджане. Баку, 1968.
7. Джидди Г. Средневековый Ширванский университет//Азербайджан музллнми. 1985. 15 февр.
8. Доклады АН Азербайджанской ССР. Т. XVI. 1960. № 12.
9. Исмаилов А. И. Вопросы воспитания в устной народной литературе (по творчеству Ашуга Алескера). Баку, 1976.
10. Иса Седиг. История просвещения в Иране. Тегеран, 1834 (на перс. яз.).
11. История Азербайджана. Т. 1. Баку, 1958.
12. История азербайджанской литературы. Т. I. Баку, 1960.
13. Исхаги Н. Школы и медресе Азербайджана XVI — XVII вв.//Азербайджан
мектеби. 1970. № 5 (на азерб. яз.).
14. Каканкатваци М. История Агван. Кн. I. Тифлис, 1861.
15. Книга о путешествии Овлия Челеби. Т. II. Истамбул, 1940 (на турец. яз.).
16. Маковельский А. О. Авеста. Баку, I960.
17. Материалы истории Азербайджана. Т. II. Баку. 1957.
18. Мехр и Муштари: Отрывки из
поэмы//Поэзия народов СССР IV — XVIII веков. М., 1972.
19. Мец А. Мусульманский Ренессанс. М., 1971.
20. Моллаев И. К вопросу о школах н обучении в средние века в Азербайджа-не//Аэербайджан мектеби. 1977. № I (на азерб. яз.).
21. Моллаев И. Учебник морали средних веков//Азербайджан мектеби. 1981. № 12 (на азерб. яз.).
22. Мурадханов М. Мыслн Низами об обраэованни//Аэербайджан мектеби. 1945. № 5.
23. Мурадханов М. А. Педагогические высказывания Низами. Баку, 1947.
24. Низами Гянджеви. Искандер-наме. Ч. I. Баку, 1940 (на азерб. яз.).
25. Низами Гянджеви. Лейли и Меджнун. Баку, 1982 (на азерб. яэ.).
26. Очерки по Истории азербайджанской философии. Т. I. Баку, 1966.
27. Рашид-Эд Дин. Сборник летописей Т. III. М.; Л., 1946.
28. Тагиев А. Об Авхади Марагаи и его произведении «Джами-Джам»//Азербайджан мектеби. 1968. № 7.
29. Тревер К. В. Очерки по истории и культуре Кавказской Албании. М., 1959.
30. Туей Н. Ахлаги-Насирн. Баку, 1980.
31. Туей Н. Адаб-уль-мутаалимейн. Республиканский рукописный фонд АН АзССР. № 6-693/15.059.
32. Физули. Избр. произв. Баку, 1958.
33. Центральный государственный исторический архив (ЦГИА). Ф. 821, оп. 150, № 420.
34. Шахтахтинский М. Школьная жизнь у мусульман//Кавкаэ. 1882. № 90.
35. Эйвазов Ф. Этические взгляды Насред-дина Туей. Баку, 1976 (на азерб. яз.).
36. Эфендиев П. Ш. Азербайджанское устное народное творчество. Баку, 1981.
37. Ягуби А. Некоторые заметки по истории древних школ Азербайджана (до VII в. н. з.)//Ученые записки Азербайджанского педагогического ин-та нм. В. И. Ленина. XI серия. № 6. 1965 (на азерб. яз.).
ГЛАВА X
1. Бертельс В. Э. Навои. М.; Л., 1948.
2. Джами А. Избранное. М., 1955.
3. Джами Н. Трактат о музыке. Ташкент, I960.
4. Ибн Сина ва тадбири манэел. Тегеран, 1939.
5. Навои А. Махбуб ул кулуб. Ташкент, 1939 (на узб. яз.).
6. Навои А. Хамса. Ташкент, 1960 (на узб. яз.).
7. Насыри-Хусрау. Сафар-намэ. Ташкент, 1933.
8. Периханян А. Г. Храмовые объединения Малой Азии и Армении (IV в. до н. э. — III в. н. э.). М„ 1959.
9. Самария/Пер. В. Л. Вяткина//Спра-вочная книга Самаркандской области. Т. VI.
1898.
10. Сиасет-намэ: Книга о правлении
ваэира XI столетия Ниэамал-Мулька/Пер., введение н прнм. Б. Н. Заходера. М.; Л., 1949.
11. Усам ибн Мункыэ: Книга назидания. М„ 1958.
ГЛАВА XI
1. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 27.
2. Архив К. Маркса и Ф. Энгельса. Т. VIII. М., 1946. •
3. Андриевич В. А. История Сибирн. Ч. II. СПб., 1889.
4. Антология татарской поэзни. Казань, 1956 (на татар, яз.).
5. Барсаева К. Д. Семья и брак у бурят. Новосибирск, 1986.
6. Бартольд В. История востоковедения в Европе и России. Л„ 1928.
7. Василевич Г. М. Эвенки. Л., 1969.
8. Герцен А. И. Поли. собр. соч. В 22 т. Т. 9. Ч. II. Пг„ 1919,
9. Древнетюркский словарь. Л., 1969.
10. История Сибири. Т. II. Л„ 1968.
11. Копылов А. Н. Домашнее образование в Сибири в XVII — XVIII вв.//Известня Сибирского отделения АН СССР. Серия общественных наук. № 5. Новосибирск, 1966.
12. Копылов А. Н. Культура русского населения Сибири в XVII — XVIII вв. Новосибирск, 1968.
13. Копылов А. Н. Очерки культурной жизни Сибири XVII — начала XVIII в. Новосибирск, 1974.
14. Ломоносов М. В. Поли. собр. соч.: В 10 т. Т. 6. М„ 1952.
15. Народы Сибири. М.; Л., 1956.
16. Оглоблин Н. Н. Обозрение столбцов
и книг Сибирского приказа. Ч. I. М., 1895.
17. Покровский Е. А. Физическое воспитание детей у разных народов, преимущественно в России. М., 1884.
18. Смоляк А. В. Ульчи. М., 1966.
19. Соколова 3. На просторах Сибири. М., 1981.
20. Хвольсон Д. А. Известия о хазарах, буртасах, болгарах, мадьярах, славянах и русских Абу-Али Ахмеда Бен-Омар Ибн-Руста. СПб., 1869.
21. Худяков И. А. Краткое описание Верхоянского округа. Л., 1969.
22. Чернышевский Н. Г. Поли. собр. соч.: В 10 т. Т. VIII. СПб., 1906.
23. Шинкарев Л. Сибирь. Откуда она пошла и куда идет. М., 1978.
24. Эргис Г. У. Очерки по якутскому фольклору. М., 1974.
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН*
Аббас ибн Тархан, поэт — 397 Абгар Тохатецн (XVI в.), арм. книгопечатник — 391
Абдул Гейдар Астрабади (XV в.), азерб. ученый — 397
Абдулла (X в.), отец Ибн Снны — 416 Абдуррашид Бакуви (XV в.), азерб. ученый, писатель — 397 Абегян М. — 452 Абрамов А. И. — 435 Абрамян А. Г. — 452, 453,
Абу Бакр (864 — 925), среднеаз. врач, философ — 416
Абу Санд Нншабурн, азерб. ученый — 396 Абу Салех Гази Шуейб, азерб. ученый — 396 Абулфет Тебризн (XV в.), азерб. ученый — 397
Абуль Гасан Ансари, азерб. ученый — 396 Абуль-Ула Гянджевн (XI — XII в.), азерб. поэт — 396, 398
Абуль Фадла Махмуд ал-Ардабнли, преподаватель медресе — 397
Аввакум (Петров) (1620 или 1621 — 1682), протопоп Кремлевского Благовещенского собора, писатель, глава старообрядческого движения — 58, 61, 63, 73, 163, 443 Август, рнм. нмп. (27 до н. э. — 14 н. э.) — 134
Аверинцев С. С. — II, 434 Авдусин Д. А. — 435 Авраам, бнбл. — 292
Автандил, герой поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре» — 366 Авхади Марагаи (1274 — 1338), азерб. поэт — 398, 406, 453
Агаркова Р. К. — 260, 441 Агеев Федор (XVII в.), ученик Типографской школы — 71 Адам, библ, — 292 Адамян А. А. — 452
Адашев Алексей Федорович (ум. 1561), стольник Ивана IV, полнт. деятель — 442 Адрнан, патр. московский и всея Руси (1690 — 1700) — 87, 88, 254, 261 Адриан Пошехонский, основатель Адрианова м-ря (1543) — 48 Адрианова-Перетц В. П. — 441 Аделунг Ф. — 435
Акир, главный герой «Повести об Акире Премудром» — 140 — 142 Акоп Крыпецн (XV в.), арм. педагог — 391 Акоп Мегапарт, арм. первопечатник (1512) — 391
Аксентон Ю. Д. — 439
Алдар-Косе, герой среднеаз. литературы и фольклора — 415
Александр Македонский (356 — 323 до н. э.), полководец и гос. деятель, царь македонский — 240, 292, 294
Александр Свнрскнй (1448 — 1533), основатель м-ря на р. Свнрь — 49 Александр Ярославич Невский (ок. 1220 — 1263), кн. новгородский (1236 — 1251), вел. кн. владимирский (с. 1252) — 126, 140
Александр Ошевенскнй (1220 — 1263), основатель м-ря — 50
Александр Ягеллон, вел. кн. лнт (1492 — 1506) — 318
Алексеев А. (XVII в.), подьячий Посольского приказа — 104 Алексеев Л. В. — 435 Алексеев М. П. — 441, 443, 445 Алексеев Степан (XVII в.), лекарь — 107 Алексеев Ю. Г. — 435 Алексей, Человек Божий, святой — 125 Алексей Алексеевич (1654 — 1670), царевич, сын царя Алексея Михайловича — 248 Алексей Михайлович (1629 — 1676), рус. царь (с 1645) — 56, 58, 62, 67, 74, 75, 82, 105, 112, 116, 178, 180, 185, 218, 222, 248, 257, 437 — 440
Алексей Петрович (1690 — 1718), царевич, сын Петра 1 — 191, 192, 256 — 258 Алексий (р. между 1293 и 1298 — 1378), митр, московский и всея Руси — 47, 235 Али Иээаддин Гасан оглы (XIII — XIV в.), азерб. поэт — 396 Алиев В. — 453
Алкивнад (ок. 450 — 404 до и. э.), афинский полит, деятель, полководец, воспитанник Перикла, ученик Сократа — 75 Алманзенов (Элмстон) Иван Фомич (ум. ок. 1654), англичанин на рус. службе (с. 1581), переводчик Посольского приказа — 67
Алпатов М. А. — 435 Алтоф К. — 450
Альберт, еп. ливонский (1199 — 1229) — 334 Альберт фон Больштедт Велнкнй (ок. 1193 — 1280), нем. философ, богослов — 346 Альбертус Иван Елизарьев Долмацкий (ум. 1641), кн., на рус. службе (с. 1628), автор «Геометрии» — 168, 217, 218 Альбрехт, прусский герцог (1525 — 1568) — 323 Альварес (Альвар, Альварец) Эммануил, ав-
* Список сокращений: австр. — австрийский; азерб. — азербайджанский; англ. — английский; арм. — армянский; араб. — арабский; архнеп. — архиепископ; архнм. — архимандрит; белорус. — белорусский; библ. — библейский; вел. — великий; виз. — византийский; голл. — голландский; гос. — государстверный; греч. — греческий; груз. — грузинский; др.-греч. — древнегреческий; еп. — епископ; имп. — император, императрица; итал. — итальянский; казах. — казахский; катол. — католический; кн. — князь, княгиня; лат. — латинский; лит. — литовский; м-рь — монастырь; митр. — митрополит; молд. — молдавский; монг. — монгольский; нем. — немецкий; ок. — около; патр. — патриарх; перс. — персидский; полит. — политический; польск. — польский; р. — родился; рим. — римский; рус. — русский; слав. — славянский; среднеаз. — среднеазиатский; тадж. — таджикский; тат. — татарский; у. — уезд; узб. — узбекский; укр. — украинский; ум. — умер; ин-т — университет; фр — французский; церк. — церковный; швед. — шведский; чеш. — чешский; эст. — эстонский.
Фамилии исследователей в указателе выделены курсивом.
тор учебника лат. языка — 248, 278, 324, 325
Альдрованди Улисс (1522 — 1605), итал. ученый-натуралист, автор «Описания четвероногих животных» — 156 Альт Р. — 445
Альштед Иоганн Генрих (1588 — 1638), профессор теологии и философии, учитель Я- А. Коменского — 251, 253 Амвлих (Ямвлих) (ок. 280 — ок. 330), философ, основатель сирийской школы неоплатонизма — 81
Амир Сеид Ахмед Лалеви (ум. 1506), азерб. ученый — 397
Анания Нарекацн (X в.), арм. педагог, ритор, организатор школы — 386 Анания Ширакаци (ок. 605 — ок. 685), арм. мыслитель, педагог — 377, 381, 382, 384, 387, 452
Ананьин Тихон (XVII в.), алхнмист — 107, 109 Андреев А. (XVII в.), ученик Посольского приказа — 104
Андреев Е. (XVII в.), подъячий, ученик Посольского приказа — 104 Андреевич Савва (XVII в.), преподаватель Могилевской братской школы — 302 Андрей Госковиц, профессор права Краковского ун-та (1443), затем еп. вильнюсский — 317
Андрей Рублев (XIV — XV в.), рус. иконописец — 231, 437, 446 Ангелов Д, — 437 Андрезен Л. — 357, 358, 450 Андриевич В. А. — 432, 453 Анна (X в.), виз. царевна, жена кн. Владимира Святославича — 31 Анна Ярославна (XI в.), кн., королева Франции — 35
Анннч Тимофей Михайлович (XVI в.), преподаватель школы в г. Остроге — 245 Аннушкин В. И. — 37
Антоний (XVI в.), старший певчий Путнян-ского м-ря — 287
Антоний Печерский (983 — 1073), основатель Кнево-Печерского м-ря, один из родоначальников русского монашества — 34 Антоннй Подольский (XVII в.), писатель — 151
Антоннй Сийский (1478 — 1556), основатель м-ря на р. Сие — 22, 50 Антонио Бонумбре, папский легат при Софье Палеолог (1472) — 50
Анфим (XVI в.), сын протопопа Сильвестра — 154
Аполлон, др.-греч. бог солнца, света, мудрости, искусства — 251 Апостолов А. Г. — 435 Ара Прекрасный, герой арм. эпоса — 374 Аракел Даврижеци (XVII а.), арм. ученый, педагог — 392, 452
Аракел Сюнеци (ок. 1350 — 1425), арм. философ, поэт — 391 Аракин В. Д. — 435 Аревшатян С. С. — 377,. 452 Аристотель (384 — 322 до н. з.), др.-греч. философ, ученый — 36, 50, 81, 127, 134,
208, 209, 238, 240, 281, 294, 296, 300, 359, 361, 372, 387, 405, 415, 416, 443 Арсен Икалтоэли (XI — XII в.), груз, философ, основатель академии (115 — 1120) — 363 Арсеннй, еп. тверской (1392 — 1409) — 49 Арсений Глухой (XVII в.), монах Троице-Сергнева м-ря, справщик — 75 Арсений Грек (ок. 1610 — ок. 1666), выезжий в Россию грек, монах, учитель Патриаршей школы — 67, 68, 212, 435, 437, 444 Арсений Сатановский (XVII в.), киевский ученый, монах, справщнк и переводчик Печатного двора — 68, 77, 257, 247 Арсеннй Суханов (ум. 1668), монах Тронце-Сергнева м-ря, рус. церк. деятель, дипломат, писатель — 56, 435 Арсений Элассонскнй (XVI — XVII в.), организатор и первый ректор Львовской братской школы — 279 Арсеньев Ю. В. — 447
Артавазд II, арм. царь (55 — 34 до н. з.). — 372, 374
Арташес I, арм. царь (189 — 160 до н. э.) — 372, 374
Артемий (ум. 70-х XVI в.), игумен Троице-Сергиева м-ря, идеолог «нести жительства» — 242, 307, 449
Артемьев Иван (XVII в.), ученик Серебряной палаты — 102 Арутюнян Б. М. — 452 Архангельский А. С. — 435 Архнста (очевидно, др.-греч. философ-пифагореец Архит, IV в. до н. э.) — 81 Арциховский А. В. — 16, 216, 443 Арчил II Багратиони (1647 — 1713), царь Имеретин и Кахетии, писатель — 368, 371, 372
Асан-Кайгы (XV в.), казах, жырау — 423 Аскольд (IX в.), кн. — 30 Атласов Владимир Васильев (ок. 1661 — 1711), сибирский казак, землепроходец — 432
Афанаснй (1641 — 1702), архнеп. холмогорский и важеский, автор книги «Увет духовный» — 161, 441
Афанасий (XIX в.), архиеп. саратовский — 226
Афанасий Александрийский (295 — 373), раннехристианский писатель, «отец церкви» — 191
Афанасьев А. Н. — 442
Афанасьев Иосиф (XVII в.), ученик Типографской школы — 71 Афанасьев И. В. — 440
Афтоний (III — IV в.), др.-греч. рнтор — 384 Ахмед Югнеки (XI в.), среднеаэ. поэт — 412, 418
Ахмед Ясавн (1103 — 1166), среднеаэ. философ, поэт — 412, 418
Ахунд Молла Мохаммед Рафнт (Ваизи Каз-внни), ученый — 401
Ашот Багратунн, арм. царь (886 — 890) — 375
Бабишин С. Д. — 31, 435, 440 Бабкин Д. С — 207, 443
Бабур Абуль-Касым (XV в.), правитель Герата и Хорасана — 421 Бабур Захириддин Мухаммед (1483 — 1530), основатель империи
Бабуридов (Великих Моголов), поэт — 422 Багиров И. — 453
Багратиды, арм. княжеский род — 375, 383 Бакнт Мартын (XVII в.), кюстер церкви св. Гертруды в Риге — 337 Бакури (IV в.), груз, философ — 359 Банднни М. (XVII в.), катол. еп. г. Бая — 289
Барамидзе А. Г. — 451 Барвинский Е. — 291 Барсаева К. Д. — 453
Барсег Гавареци (XVI в.), основатель арм-дольской школы — 391
Барсов Алексей (XVII в.), ученик Типографской школы — 71 Бартольд В. — 453
Баторий Стефан, польск. король (1576 — 1586) — 298, 326
Батый (ум. ок. 1255), монг. хан — 267 Баузе Федор Григорьевич (1752 — 1812), профессор Московского ун-та, собиратель рукописей — 215
Бахрам Гур, героиня поэмы Низами «Семь красавиц» — 404 Бахрушин С. В. — 435, 440 Бегичев Иван (XVII в ), стольник — 57, 439 Безобразов Андрей Ильич (ок. 1621 — 1690), стольник — 178
Белобоцкнй Андрей Хрнстоворович (ум. ок. 1712), поэт, философ, переводчик — 78, 85, 212, 436
Белоброва О. А. — 445, 447 Белодед К. — 448
Белокуров С. А. — 435, 440, 443, 445 Бельсиус И. (XVI в.), катол. миссионер в Молдавии — 290 Беляев И. Д. — 435
Белянинов Панфил Тимофеевич (XVII в.), подъячий Посольского приказа, учитель царевича Федора Алексеевича — 105 Бердзенишвили Н. А. — 451 Беркович М. (XVI в.), катол. миссионер в Молдавии — 290
Берлов Давид (Давыдко) (XVII в.), лекарь — 250
Берман Б. И. — 441 Бертельс В. Э. — 453
Бертлефф М. (XVII в.), ректор таллинской школы — 355 Бертоух Э. — 335
Берында Памво (ум. 1632), писатель, ученый, типограф Киево-Печерского м-ря — 257, 272, 278, 283, 291, 292 Бессонов П. — 443 Библер В. С. — 440 Бильс (XVII в.), врач — 67 Бнниян Роман (XVII в.), аптекарь — 108 Бируни Абу Райхан (973 — 1048), среднеаз. ученый-энцнклопедист — 397, 416, 417,
424
Блеу Иоганн (XVI — XVII в.), голл. географ — 156
Бобинин Василий Иванович (XVII в.), дьяк Посольского приказа — 104 Бобрикович Иосиф (XVII в.), ректор Виленской братской школы — 298, 301, 328 Богданов А. П. — 435, 445, 446 Богданов Федор Григорьевич (XVII в.), стольник — 60
Боголеп Адамов (ум. 1726), чудовскнй иеромонах — 84
Богословский М. М. — 435 Богоявленский С. К. — 440 Бона (XVI в.), польск. королева, жена Си-гиэмунда I — 318
Боплан П. (XVII в.), фр. инженер и картограф — 273
Борис Вячеславич (ок. 1053 — 1978), кн., сын Вячеслава Ярославича Смоленского — 128
Борисов В. — 435
Бородатый Степан Васильев (XV в.), дьяк Ивана III — 220
Браиловский С. Н. — 435, 441, 446 Браге Тихо (1546 — 1601), датский астроном — 281
Браун Эрнст (XVII в.), капитан артиллерии, автор книги «Новейшее основание и дельное искусство большого наряда...» — 117 Броокман Рейнер (ум. 1704), организатор школы в Тартуском у. — (1677) — 356 Брунон (XI в.), толкователь Псалтыри — 196 Бугенхаген И. (XVI в.), сподвижник Лютера, реформатор школьного дела — 348 Буева Л. П, — 441
Бужинский Гавриил (ум. 1731), рус. церк.
деятель, писатель, переводчик — 274 Буксевден Андрей (XVII в.), сын ротмистра — 109
Буланин Д. М. — 446 Буланина Т. В. — -435, 444 Булев Николай (Немчин, Любчаннн) (XVI в.), публицист, ученый, меднк — 239 Бунин Леонтий (XVII в ), художник, гравер, «мастер печатного дела» — 191 Буниятов 3. — 453
Бурзануддин Зарнуджи (XII — XIII в), преподаватель медресе, ученый — 413, 424 Бурцов Василий Федорович (XVII в.), книгопечатник, автор азбук — 20, 167, 172, 173, 187 — 189, 192, 245 Бухнер А. — 353 Буш В. В. — 434, 441, 444 Былинин В. К. — 446 Бычков А. Ф. — 435 Бэла, герой арм. эпоса — 374 Бэрсэнеску Ш. — 289
Валех (XVIII в.), азерб. ашуг — 403 Васснан (Савин) (ум. 1515), архиеп. ростовский и ярославский — 48 Вал ьднс Буркард (ок. 1490 — 1556), нем. писатель-публицист — 341 Вальтер И., ректор таллинской лат. школы (1528 — 1531) — 348
Вальхаузен Иоанн Якоб фон (XVI — XVII в.), голл. военный писатель — 117, 172, 173 Варлаам, герой «Повести о Варлааме и
Иоасафе» — 177, 178
Варлаам Пннежский (Важский) (ум. 1462), монах — 49
Варфоломей, см. Сергий Радонежский Василевич Г. М. — 454 Василий, груз, книгописец — 363 Василий Великий (ок. 330 — 379), еп. Кесарии Каппадокийской, «отец церкви» — 129, 130, 147, 159, 192, 237, 373 Василий Зарзмели (X в.), груз, писатель-агнограф — 360
Василий III Иванович (1479 — 1533), вел. кн.
московский (с. 1505) — 196, 236 Василий I Македонянин, виз. имп. (867 — 886) — 30
Василий Суражский (XVI в.), ученый, член острожского кружка — 271 Василий Тяпинский (ок. 1540 — ок. 1603), белорус, просветитель — 298, 308, 309 Васильев Федот (XVII в.j, стрелец, лекарский ученик — 107
Вассиан Патрикеев (Василий Иванович Косой) (ум. до 1545), кн., затем монах, церк. и полит, деятель, публицист-«не-стяжатель» — 151, 236 Вафан (XV в.), среднеаз. поэт — 413 Вахтанг VI (1675 — 1737), царь Картли (1703 — 1724), гос. деятель, поэт, переводчик — 368, 372
Вачаг III, албанский царь (487 — 510) — 394
Введенский А. А. — 435 Вздорнов Г. И. — 435
Вега Э. (XVI в), преподаватель Вильнюсской катол. коллегии — 325 Везалий Андреас (1514 — 1564), основоположник научной анатомии, автор книги «О строении человеческого тела» — 156 Вейде Адам Адамович (ум. 1720), майор Преображенского полка, сподвижник Петра I — 118
Веллер И., автор учебника грамматики — 353
Венедикт (XVII в.), константинопольский архим. — 67, 75
Вениамин Русин (XVI в.), молд. переводчик — 294
Вергилий Публий Марон (70 — 19 до н. э ), рим. поэт — 237, 325, 352 Верюжский В. М. — 441 Веселовский С. Б. — 49, 440 Вестринг X. (XVI — XVII в.), ректор таллинской тривиальной школы — 351, 352 Виганд И., автор учебника закона божьего — 351, 352
Вилла Деи Александр де, автор учебника лат. языка — 346
Вилямовскнй Ю. (XVI в.), секретарь лит. канцлера — 319
Винглер Ян (XVI в.), руководитель вильнюсской лютеранской школы — 321 Виниус Андрей Андреевич (1641 — 1717), думный дьяк, сподвижник Петра I, глава Сибирского приказа — 106, 432 Виссарион, переписчик книги Иова (1503) — 289
Владимир Всеволодович Мономах (1053 — 1125), вел. кн. киевский — 20, 35, 38, 122, 124, 125, 127, 128, 130 — 132, 136, 221, 237, 441, 443
Владимир Святославич (Владимир Святой) (ум. 1015), вел. кн. киевский — 28, 31, 32, 95, 96, 126 Владимиров П. В. — 435 Владислав II, см. Ягайло Владислав IV Ваза, польск. король (1632 — 1648) — 298, 299, 303, 321 Водов В. А. — 435
Войшелк (XIII в.), сын кн. Миндовга — 311 Волденшер X. (XVII в.), преподаватель ильгуциемской школы — 340 Волков Г. Н. — 144, 441 Волков Л. В. — 69, 435
Володимиров Федор (XVII в.), переплетчик — 175
Вонифантьев (Внифантьев) Стефан (ум. 1656), духовник царя Алексея Михайловича, протопоп Кремлевского Благовещенского собора, глава кружка «ревнителей благочестия» — 68 Воронова Т. Н. — 250
Воротынский Михаил Иванович (ок. 1510 — 1573), боярин, выдающийся рус. военный деятель — 115
Вивес Хуан Луис (1492 — 1540), испанский философ-гуманист, педагог — 342 Врамшапух, арм. царь (391 — 414) — 375 Всеволод III (Дмитрий) Юрьевич Большое Гнездо (1154 — 1212), вел. кн. владимиросуздальский — 38
Всеволод Ярославич (1030 — 1093), кн., сын Ярослава Мудрого — 35, 131, 132 Высоцкий С. А. — 435, 448 Вяткин А. (XVII в.), мастер Оружейной палаты — 102 Вяткин В. Л. — 453
Гавлова Е. — 436 Гаврюшин Н. К. — 436, 444 Гаврнил, сын Урика (XV в.), основатель молд. школы книжной каллиграфии — 287, 292
Гаврилов Григорий (XVII в.), подьячий Приказа тайных дел, ученик Посольского приказа — 104
Гаджи Мирали Табризи (XIV в.), азерб. каллиграф — 396
Газали Мухаммад (1058 — 1112), мусульманский философ-богослов — 424 Гайк, герой арм. эпоса — 374 Галактионов И. В. — 436 Гален (Галин) Клавдий (129 — 201), рим. врач.
и естествоиспытатель — 81, 361, 416 Галилей Галилео (1564 — 1642), нтал. физик, механик, астроном — 281 Галкин А. — 436 Гамель И. X. — 444 Гамсахурдиа С. В. — 451 Ганелин Ш. И. — 435 Гарданов В. К. — 436 Гаркави А. Я — 436
Гасанхан, герой азерб. фольклора — 402
Гастфер Ф. (XVII в.), швед, генерал-губернатор Лифляндни — 338 Гебдон Джон (Иван) (ум. 1670), англ, купец.
рус. резидент за границей — 185 Гевелиус (Гевелнй) Ян (1611 — 1687), польск. астроном — 156
Гедеон (XVI в.), еп. радэуцкнй — 288 Геднмнновичи, лнт. кн. род — 312 Гейман В. Т. — 436, 440 Геллерштейн Jl. С. — 441 Гельв Г, — 450
Геннадий (ум. 471), архиеп. константинопольский, автор «Стословца» — 129, 136, 191, 192
Геннадий Гонзов (ум. 1505), архим. Чудова м-ря, затем архиеп. новгородский — 20, 45, 51 — 54, 62
Геннадий Любимский (ум. 1565), монах — 48 Генрих I, фр. король (1031 — 1060) — 35 Генрих Латыш (Латвийский) (XIII в.), автор Ливонской хроники — 335, 450 Георге Штефан (Георгий Стефан), молд.
господарь (1653 — 1658) — 290 Георгий, неизвестный адресат Максима Г река — 239
Георгий I, груз, царь (1014 — 1027) — 363 Георгий II, груз, царь (1072 — 1089) — 363 Георгий III, груз, царь (1156 — 1184) — 363 Георгий Мерчуле (IX — X в.), груз, ученый, писатель — 359
Георгий Мтацмнндели (XI в.), груз. церк.
и полит, деятель, писатель — 361 — 365 Георгий Мцире (XI в.), груз, ученый-педагог — 362, 364
Герасим Поповка (XV — XVI в.), новгородский архидьякон, книгописещ переводчик, брат Д. Герасимова — 41
Герасимов Дмитрий (60-е XV в. — 30 — 40-е XVI в.), гос. деятель, дипломат, переводчик — 41, 50, 51, 195 — 197, 236 Герман (XVI в.), «магистр», преподаватель школы в г. Бае — 289
Герман Волох (XVI в.), переводчик сборника «Цветы добродетели» — 294 Геродот (490 — 480 — ок. 425 до н. э.), др.-греч. историк — 359 Геронтнй, митр, московский и всея Руси (1473 — 1489) — 50
Герт Йохан Хейнрих (ум. 1699), архнеп.
эстляидский (1685 — 1693) — 357 Герцеи Александр Иванович (1812 — 1870) — 123, 431, 441, 454
Гесиод (VIII — VII в. до н. э.), др.-греч. поэт — 325, 353
Гецелиус Йохан (1615 — 1690), швед, теолог, профессор Тартуского ун-та (1638 — 1645) — 355 Геюшев 3. — 355 Гиббенет Н. — 436
Гнльден Бартоломеус, кистер церкви св.
Иоанна в Тарту, учитель (с 1593) — 351 Гиппократ (Ипократ) (ок. 460 — 377 до н. з.), др.-греч. врач, философ — 81, 361, 416 Глазатый Афанасий Кириллович (XVII в.), стольник — 63
Глюк Эрнст (1652 — 1705), пастор, организа-
тор школ, переводчик — 336, 340, 342 343, 450
Говей Тебрнзи, азерб. поэт — 409 Годунов Борне Федорович (1551 — 1605), рус.
царь (с 1598) — 42 Голенищев-Кутузов И. — 450 Голенченко Г. Я- — 44, 449 Голицын Василий Васильевич (1643 — 1714), кн., боярин — 58, 60
Головин Василий Петрович (XVI — XVII в.), окольничий — 73
Голосов Лукьян (XVII в.), подьячий, дьяк, думный дьяк, думный дворянин — 59 73, 75
Голубев С. Т. — 448, 449 Голубинский Е. Е. — 15, 31, 32, 36, 434, 436 Гомер (VIII — VII в. до н. э.), легендарный др.-греч. поэт — 36, 50, 81, 127, 237, 325, 353
Горгиа (Горгий) (ок. 483 — 375 до и. з.), др.-греч. софист и ритор — 211 Гордон Патрик (1635 — 1699), шотландец на рус. службе, генерал и контр-адмнрал — 116, 440
Горелов А. А. — 441
Городнслава Полоцкая (XII в.), дочь кн. полоцкого Всеслава Брячеславича — 36 Горсей Джером (ум. 1626), англ, дворянин, агент англ. «Московской компании» — 168 Горский А. В. — 82, 83, 434, 436 Горфункель А. X. — 436 Град (XV в ), «Грамматик» — 291 Гранстрем Е. Э. — 436 Греков Б. Д. — 436
Грибач Тнмофей (XVII в.), преподаватель Могилевской братской школы — 302 Григор Магистрос (ок. 990 — 1058), арм. просветитель, философ — 386, 387, 452 Григор Татевацн (1346 — 1409), арм. философ, педагог — 389, 390, 452 Григорий, монах Кнево-Печерского м-ря — 35
Григорий XIII, рим. папа (1572 — 1585) — 326 Григорий Богослов (Назианзин) (ок. 330 — ок. 390), «отец церкви», автор теологических сочинений — 81, 192, 237, 373 Григорий Нисский (ок. 335 — ок. 394), церк.
писатель, богослов, философ — 360, 361 Григорий Хандзтели (759 — 861), груз, прос-веститель, церк. деятель — 359 Григорий Цамблак (ок. 1365 — 1419?), мнтр.
западнорусский, писатель — 267 Григорос Ахтамарци (XVI в.), арм. поэт — 392
Григорьев Александр (XVII в.), лнтейный мастер — ИЗ, 114
Григорьев Василий (XVII в.), торговец Овощного ряда — 175
Григорьев Иван (XVII в.), мастер Серебряной палаты — 102 Грихин В. А. — 446 Грицкевич А. П. — 449 Громбах С. М. — 440
Громов М. Н — 96, 122, 434, 436, 436, 440, 441, 446
Гронау X., ректор таллинской лат. школы
(1532 — 1543) — 348
Губерт С., автор энциклопедии (1645) — 337 Гурамишвили Давид (1705 — 1792), груз.
поэт, просветитель — 372 Гурандухт (XI в.), дочь Георгия I — 363 Гуревич А. Я- — II, 18, 434, 441 Гурий Тушнн (Квашнин) (ум. 1526), монах Кнрилло-Белозерского м-ря, кннгопнсец, публицист-«нестяжатель« — 50 Гусакова А. — 449
Гутменш Иван (XVII в.), аптекарь — 108 Гуттер (Хуттер) Элиас (1553 — XVII в.), профессор Иенского ун-та, издатель — 186, 187, 444
Давар, персонаж поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре» — 367 Давид, бнбл. — 361
Давид Анахт (Непобедимый) 70-е V в. — середина VI в.), арм. просветитель, философ, педагог — 376, 377, 379 — 381, 384, 452
Давид Иржн (Георгин) (1647 — 1713), чех, иезуит, живший в Москве (1686 — 1689) — 68, 436
Давид Керакан (Грамматик) (V в.), арм. ученый, педагог — 376
Давид Сослан, муж груз, царицы Тамар (с 1189) — 367
Давид IV Строитель, груз, царь (1089 — 1125) — 362, 363 Давыдов М. А. — 46
Давыдов Н. (XVII в.), мастер Оружейной палаты — 102 Даль В. Я, — 443
Дамаскин (XVII — XVIII в.), иеродиакон Чудова м-ря, писатель — 164, 443 Дамаскин Птицкий (XVII в.), киевский монах, чудовский иеродиакон, справщик и переводчик — 68, 69
Дамиан, монах Кнево-Печерского м-ря — 34 Даниил (ранее 1492 — 1547), игумен Иосифо-Волоколамского м-ря, митр, московский (1522 — 1539) — 148, 152, 153, 157 — 159, 214, 220, 236, 441
Даниил Заточник, автор «Слова (Моления) Даниила Заточника» (XII в.) — 124, 136 Данилов В. — 441
Данилов Емельян (XVII в.), литейный мастер — 114
Даукша Миколай (ок. 1527 — 1613), лит.
просветитель — 331, 332, 449 Дача (V в.), груз, переводчик Псалтыри — 361
Декарт Рене (1596 — 1650), фр. философ н математик — 281 Демидова Н. Ф, — 436, 440 Демин А. С. — 444, 446 Демков М. И. — 16, 434, 436, 446 Демкова Н. С. — 436, 443 Демокрит (ок. 460 — 370 до н. з.), др.-греч. философ — 140
Демосфен («Димостен») (ок. 384 — 322 до н. з.), др.-греч. оратор, полит, деятель — 81, 138, 140, 320, 325, 353
Демьян Налнвайко (ум. 1627), укр, церк. деятель, писатель — 271
Державин Гавринл Романович (1743 — 1816), рус. поэт — 127, 237 Джавахишвили И. А. — 451 Джалеледдин Мухаммед Довани (XV в.), азерб. философ, историк — 397 Джамн Нурнддин Абдурахман (1414 — 1492), тадж. поэт — 413, 420, 421, 453 Джанашвили М. Г. — 452 Джидди Г. — 453
Джорджиу (XV в.), сын протопопа Ионла — 291
Днварганлы Аббас (XVII в.), азерб. ашуг —
403
Днлецкнй Николай Павлович (ок. 1630 — ок. 1690), укр. композитор н педагог — 280 Дион Римский, очевидно, Днон Хрнсостом (ок. 40 — после 112), оратор — 139 Дионисий (ум. 1385), архиеп. суздальский, нижегородский и городецкий — 47, 50 Дионисий Ареопагит (I в.), еп. афинский, которому приписываются христианские теологические сочинения (ареопагити-кн) — 81
Дионисий Фракийский (I в. до и. э.), ученый, автор «Искусства грамматики» — 376, 387 Дионисий Хмельницкий (XVII в.), преподаватель минской униатской школы — 305 Дмитриева Р. П. — 436 Дмитрий, Лжедмитрий I (ум. 1606), аван-тюрнст-самозванец, рус. царь (с 1605) — 438
Дмитрий Иванович Донской (1350 — 1389), вел. кн. московский — 126 Дмитрий Прилуцкий (ум. 1392), игумен м-ря — 48
Дмитрий Туптало (1651 — 1709), митр, ростовский (с 1702) — 72, 254, 261 — 264, 274, 447
Днепров Э. Д. — 434
Донат Элий (IV в.), рим. лингвист — 169, 195, 196, 277, 278, 346, 348 Доснфей (ум. 1482), монах, основатель Верхоостровского м-ря — 48 Досифей (XVII в.), патр. иерусалимский — 78, 81, 87, 88, 437
Доспанбег (ум. 1523), казах, жырау — 423 Дресель Г. (XVII в.), пастор, переводчик —
339
Дрогобыч Юрий (Котермак) (XV в.), ученый, ректор Краковского ун-та — 269 Дука Георгий, молд. господарь (1655 — 1666, 1668 — 1672, 1678 — 1683) — 291 i Дума (XV в.), сын протопопа Юга — 291 Думнтраке (XVII — XVIII в.), ученик школы в с. Вама — 288
Евдоким (Евдокимище препростой) (XVI в.), монах — 198
Евклид (III в. до н. з.), др.-греч. математик — 81, 218, 387
Евстатий (XV — XVI в.), руководитель хора Путнянского м-ря — 287 Евтихеев Федосей (XVII в.), ученик Арсения Грека — 67
Евфнмнй (XVII в.), монах Чудова м-ря, ученик Епифания Славинецкого — 58,
79, 163, 168, 439
Евфимий Мтацминдели (ок. 955 — 1028) груз, церк. деятель, писатель, переводчик — 361
Евфнмнй Суздальский (1316 — 1404), архимандрит, основатель Спасо-Евфимиева м-ря — 49
Евфросин (ум. ок. 1510), монах, автор «Общежительного устава» — 48 Егнаташвили, груз, монах — 368 Егоров С. Ф. — 435
Езннк Кохбаци (ок. 360 — 450), арм. просветитель, переводчик — 377, 378, 452 Екатерина I (Марта Скавронская) (1684 — 1727), жена Петра I, рус. имп. (1725 — 1725) — 343
Елена Волошанка (ок. 1469 — 1505), дочь Стефана Великого, невестка вел. кн. Ивана III — 291
Елисей Плетенецкий (ок. 1554 — 1624), архим. Кнево-Печерской лавры, основатель типографии (1615) — 273 Емецкий Андрей (XVI в.), черносошный крестьянин — 65
Емецкнй Афанасий (XVI в.), черносошный крестьянин — 65
Емецкнй Яков (XVI в.), черносошный крестьянин — 65
Епнфаннй Кипрский (367 — 403), церк. писатель — 134, 361
Епнфаннй Премудрый (ум. между 1418 и 1422), монах Тронце-Сергиева м-ря, агио-граф — 231 — 236, 437, 446, 447 Епифаний Славинецкнй (XVII в.), киевский ученый-монах, затем старец Чудова м-ря, справщик н переводчик — 68, 69, 79,
80, 156, 212, 274, 44
Ерванд, арм. царь, герой эпоса — 374 Еремин И. П. — 441, 444, 446 Еринг И., суперинтендант, автор эстонского букваря (1641) — 356 Ермолай-Еразм (ум. не ранее первой половины 60-х XVI в.), священник в Пскове и Москве, философ, публицист — 153 Ермолин Василий Дмитриевич (XV в.), московский подрядчик и архитектор — 23 Ефим (XVII в.), сгященник, организатор школы в г. Боровске — 61 Ефрем Мцнре (XI в.), груз, философ — 362 Ефросинья Полоцкая (1101 — 1173), дочь кн. полоцкого Всеслава Брячеславича — 35, 36
Ефросинья Черниговская (XIII в ), кн. — 36 Ешану А. И. — 291, 448
Жегалова С. К. — 440
Желваков Н. А. — 435
Жиембет (XVII в.), казах, жырау — 423
Жмакин В. — 441
Жуковская Л. П. — 442, 444
Забелин И. Е, — 14, 182, 434, 436, 440, 444, 446 Заблоцкнй (Заблоциус) Юргис (XVI в.),
студент Краковского ун-та (1528), лит. просветитель — 318, 319, 323, 331 Заболоцкий Н. А. — 452
Загин (XVII в.), помощник пастора Э. Глюка — 340
Загоровский Василь (XVI в.), брацлавский кастелян — 269 Задера А. Г. — 440 Зализняк А. А. — 34, 439 Залусский А. (XVII в.), преподаватель Виленской иезуитской коллегии — 246 Замысловский Е. Е. — 436 Захария Копыстенскнй, архим. Кнево-Печерской лавры (1624 — 1627), писатель —
271, 273, 283
Захарян Иванэ (XII в), арм. ки. — 383 Захарян Закарэ (XII в.), арм. кн. — 383 Зверев Полуект (XVII в.), московский подъя-чнй — 105
Зерцалов Иван (XVII в.), преподаватель военной школы — 112, 118 Зизаннй Лаврентий (XVI — XVII в.), автор первой слав, грамматики (1596) — 189, 191, 200, 203, 204, 206, 272, 277, 278, 281, 283, 299 — 301, 328 Зизаний Стефан (ок. 1570 — до 1621), укр. писатель-полемист, педагог — 189, 257,
272, 283, 300, 301
Зимин А. А. — 16, 156, 436, 442 Зотов Никита Моисеевич, дьяк, учитель царевича Петра Алексеевича (70-е XVII в.) — 248
Зоя (Софья), мать виз. имп. Константина Багрянородного, его соправительница (913 — 919) — 134
Зубов Игнат (XV в.), купец, еретик — 50 Зульфугар Шнрвани (1190 — 1245), аэерб. поэт и ученый — 398
Ибн ан-Недим (X в.), араб, путешественник — 31
Ибн Мисквей (Ибн Мнскавайх) (ум. 1030), историк, философ — 424 Ибн Руст (IX — X в.), араб, писатель — 424, 454
Ибн Сина (980 — 1037), среднеаз. ученый, философ, врач — 397, 412, 416 — 418,
424, 453
Ибн Фадлан (X в), араб, писатель, путешественник — 31
Иван I Данилович Калита (ум. 1340), вел. кн. московский — 43
Иван III Васильевич (1440 — 1505), вел. кн.
московский — 50, 51, 220, 291 Иван IV Васильевич Грозный (1530 — 1584), рус. царь — 42, 54, 57, 59, 150, 153, 220, 240, 293, 426, 444, 446
Иван V Алексеевич (1666 — 1696), рус. царь — 81, 191
Иван Андреевич (XV в.), кн. можайский — 44 Иван Вишенскнй (ум. 20-е XVII в.), укр. писатель-полемист — 201, 271, 300, 444, 448
Иван Черный (XV в.), книгописец, писатель, еретнк — 50
Иван Федоров (ок. 1510 — 1583), просветитель, первопечатник — 20, 41, 62, 166, 167, 181, 182, 185 — 188, 192, 195, 215, 237, 241 — 245, 271, 277, 298, 437, 447, 449 Иванов Алексей Васильев (XVII в.), москвич — 223
Иванов Алмаз Иванович (ум. 1669), думный дьяк, дьяк Посольского и др. приказов — 59, 64
Иванов А. И. — 236, 446 Иванов Д. (XVII в.), подъячий, ученик Поместного приказа — 106 Иванов Иван (XVII в.), литейный мастер — 114
Иванов С. (XVII в.), ученик Посольского приказа — 104
Иванов Федор (XVII в.), посадский человек — 100
Игнатий (ум. 1701), митр, тобольский — 433 Игорь (ум. 945), вел. кн. киевский (с 912) — 30, 128
Игорь Святославич (1151 — 1202), кн. новго-род-северскнй, кн. черниговский (с 1198), герой «Слова о полку И го реве» — 140 Идрис ибн Исамеддин (XV в.), аэерб. ученый — 397
Иеремия, бнбл. — 240
Иеремия (XVI в.), патр. константинопольский — 299
Иесе Осешвнли (XVII в.), груз, историк — 370, 451
Изяслав Владимирович (ум. 1096), сын Владимира Мономаха, кн. курский — 132 Изяслав Ярославич (1024 — 1978), вел. кн. киевский — 35, 133
Иисус, сын Сирахов, библ. — 136, 140, 233 Ингороква П. — 451
Иларион (XI в.), митр, киевский, оратор, писатель, церк.-полит, деятель — 28, 32, 35, 124 — 126, 436, 437, 442 Иларион, монах Киево-Печерского м-ря — 34
Иларион (XV в.), основатель м-ря — 48 Иннокентий III, рнм. папа (1198 — 1216) — 334
Иннокентий (ум. 1531), монах Пафнутьево-Боровского м-ря — 48
Иннокентий Гизель (ок. 1600 — 1683), архим., Киево-Печерской лавры, ученый, писатель, ректор Киевской коллегии — 222, 245, 279, 283
Иоаким (XVII в.), грек, иеромонах, преподаватель Типографской школы — 70, 71
Иоаким (1620 — 1690), патр. московский и всея Руси (с 1674) — 75, 81, 82, 87, 88, 177, 180, 190, 247, 254; 256
Иоанн (XI в.), пнсец, имя которого упоминается в приписках к Изборникам 1073 и 1076 годов — 128, 129, 135 Иоанн Дамаскин (ок. 675 — до 753), виз. богослов, философ, поэт, «отец церкви» — 38, 134, 162, 185, 195, 213, 215, 239, 243, 278, 300
Иоанн Златоуст (ок. 350 — 407), патр. константинопольский, проповедник, церков-
ный писатель — 37, 129, 136, 192, 237, 249, 264, 325
Иоанн IV Кювель (ум. 1527), еп. сааре-ляэнский (1515 — 1527) — 347 Иоанн III Оргас (1430 — 1515), еп. сааре-ляэнскнй (с 1491) — 347 Иоанн Петрици (1050 — конец 20-х XII в), груз. церк. деятель, философ — 361 — 363, 365, 366, 371, 452
Иоанн Сабанисдзе (VIII в.), груз, писатель — 360
Иоанн Шавтели (XII в.), груз, поэт — 361 Иоанн, экзарх Болгарский (X в.), писатель, переводчик, автор «Шестоднева» — 130, 243, 443, 444
Иоанникий Галятовский (ум. 1688), ректор Киевской коллегии, писатель — 249, 261, 282, 283
Иоасаф, герой «Повести о Варлааме и Иоасафе» — 177, 178
Иоасаф, патр. московский и всея Руси (1667 — 1672) — 77, 82
Иоасаф Кроковский (ум. 1718), мнтр. киевский (с 1708), профессор Киевской коллегии — 246, 283
Иов (ум. 1716), митр, новгородский, организатор школы — 72, 254, 263 Иов (XVII в.), монах Чудова м-ря, ученик Типографской школы — 71 Иов Борецкий, митр, киевский (1620 — 1631), ректор Киевской братской школы (с 1617) — 2726 273, 283
Иоганн Зоммер (XVI в.), гуманист, руководитель котнарской школы — 291 Иоил (XV в.), протопоп в г. Яссах — 291 Иона Новгородский (ум. 1471), архнеп. —
49, 50
Ионашко (XV — XVIII в.), ученик школы в с. Вама — 288
Иосиф (ум. 1634), протосингел патр. александрийского — 67
Иосиф Волоцкий (Санин) (1439 или 1440 — 1515), игумен Волоцкого м-ря, церк. деятель, писатель, публицист — 47, 48, 435
Иосиф Кононович Горбацкий (ум. 1653), еп.
витебский и могилевский, писатель — 283 Иосиф Рутский, униатский митр, киевский (1613 — 1637) — 304, 305 Иосиф Флавий (ок. 37 — ок. 95), др.-рим. историк — 237
Ипатнй Потей, униатский митр, киевский (1599 — 1613) — 299, 304 Ипполит Римлянин (III в.), раннехристианский апологет — 360, 361 Иса Седиг — 453 Исаевич Я Д. — 448
Исаков (Исаев) Григорий (XVII в.), ученик костоправа — 107, ПО
Исайя Трофимович-Козловский, первый игумен Киевского братского м-ря (1633 — 1638), ректор киевской братской школы — 273, 301, 328
Исачка (Исаак) (XVII в.), гранатный мастер — 116
Исмаилов А. И. — 453
Истома Старший (XV в.), еретик — 50 Исфагани Р. (X в.), араб, ученый — 424 Исхаги Н. — 453
Иттер А., автор учебника логики — 353
Кавечинский М. (XVI в.), соратник С. Будного — 307 Казакова Н. А. — 446
Казимир III Великий, польск. король (1333 — 1370) — 316
Казимнр IV Ягайлович, вел. кн. лит. (с 1440), польск. король (1444 — 1492) — 268 Казтуган (XV в.), казах, жырау — 423 Какабадзе С. Н. — 451
Какавела Иеремия (XVII в.), выпускник Лейпцигского ун-та, учитель — 291 Каканкатваци М. — 453 Калайдович К. Ф. — 444 Каланитарли А. — 453 Калмыковы, купцы — 64 Кальвин Жан (1509 — 1564), видный деятель Реформации — 320 Каменев А. С. — 435
Кампаиелла Томмазо (1568 — 1639), итал. мыслитель, поэт, представитель утопического коммунизма — 42, 436 Камчатное А. М. — 38, 436 Кантемир Дмитрий (1673 — 1723), ученый, философ, молд. господарь (1710 — 1711) — 287, 291, 292, 448
Кантемир Константин, молд. господарь (1685 — 1693) — 291
Казн Ахмед, азерб. художник-каллиграф — 397
Капица О. И. — 442
Каптерев Н. Ф. — 15, 83, 434, 436, 437, 446 Каптерев П. Ф. — 16, 52, 434, 437 Карамзин Н. М. — 130
Карион (XVII в.), предполагаемый автор «Малой грамматики» — 260 Карион Истомин (1640-е — не ранее 1717 или 1722), монах, справщик Печатного двора, переводчик, поэт, педагог — 20, 69, 73, 82, 84 — 86, 117, 161, 164, 167 — 169, 177, 181, 191, 192, 254 — 261, 441, 446, 447
Карл XI, швед, король (1660 — 1697) — 337, 356
Карло (XVII в.), католТмиссионер в Грузии — 370
Карпов А. — 444
Карпов Федор Иванович (ум. до 1545), окольничий, полит, деятель, писатель, ученик Максима Грека — 50, 55, 236, 436, 438 Каснм Гянджеви, азерб. ученый — 396 Касснан Учемский (ум. 1503), строитель м-ря на р. Учме — 48
Катон Марк Порций Старший (234 — 149 до н. з.), рнм. гос. деятель, историк — 320
Катран Тебрнзн (1010 — 1080), азерб. поэт — 395
Катулл Гай Валерий (ок. 87 — ок. 54 до н. з.), рнм. поэт — 325 Каухчишвили С. Г. — 451 Каштанов С. М. — 437
Квачала И. — 436
Квинтилиан Марк Фабий (ок. 35 — ок. 96), рнм. теоретик ораторского искусства, педагог — 241 Кекелидзе К. С. — 451
Келлерман Генрих (XVII в.), доктор — ПО Келлерман Томас (XVII в.), доктор — ПО Кемпфер Энгельберт (1651 — 1716), ием. естествоиспытатель, посетил Москву (1683) — 70
Кениг И. Ф., автор «Позитивной теологии» — 353
Кероглы-Алы-киши, герой азерб. эпоса — 402 Киприан (ум. 1406), митр, всея Руси — 267 Кирик Новгородец (XII в.), иеродиакон и доместик новгородского Антониева м-ря, автор математического тракта — 39, 216 Киракос Гандзакеци (120 — 1271), арм. историк — 452
Кирилл Александрийский (ум. 444), патр. александрийский, богослов, «отец церкви» — 237
Кирилл Белозерский (1337 — 1427), основатель Кирнлло-Белозерского м-ря, писатель — 47
Кирилл Лукарис (XVI в.), грек, член острожского кружка — 271 Кирилл Новоезерский (ок. 1470 — 1552), ученик Корнилия Комельского, основатель м-ря на Новом озере — 48 Кирилл (XV в.), еп. тверской — 447 Кирилл-Транквиллион Ставровецкнй (ум. 1646), писатель, публицист, издатель — 257, 272, 283, 301, 446
Кирилл Туровский (ум. до 1182), еп., церковный писатель — 37, 125 — 127, 137,
441
Кирилл (Константин) Философ (ок. 827 — 869), создатель слав, письменности — 30, 38, 129, 214, 436
Кириллов Аверкий Степанович (1622 — 1682), купец (гость), затем думный дьяк — 64
Кирпичников А. Н, — 440 Кирхманн Я., автор учебника логики — 353 Китрей, автор учебника грамматики — 352 Клей (Клейнас) Даниэль (1609 — 1666), магистр Кенигсбергского ун-та, автор «Грамматики литовского языка» — 322, 332
Кленк Кунраад фан (1629 — 1691), голл. дипломат, глава миссии в Москву (1675 — 1676) — 438
Кленов Семен (XV в.), купец, еретик — 50 Клибанов А. И, — 234, 437, 442, 446 Клименко А. А. — 437 Клименко Ф. В. — 449
Климент Смолятич (ум. после 1164), митр, киевский (1147 — 1155), церк. писатель — 36, 125 — 127, 436, 437
Клирик Острожский (XVI в.), публицист, ученый — 271 Класс Б. М. — 444
Ключарев Иван, дьяк, посол в Грузию (1641) — 368, 452 Ключевский В. О. — 437, 442 Кнаббе В. С. — 441
Ковтун Л. С. — 444, 446 Козырев Иван (XVII в), торговый человек Новгорода Великого — 64 Кол Шериф (XV в.), тат. педагог — 425 Колеватов В. А. — 442 Колосов В. Г. — 437, 444 Колчин Б. А. — 440
Коменский. Ян Амос (1592 — 1670), чеш. мыслитель-гуманнст, педагог, писатель — 249 — 252, 254 — 256, 258, 261, 296, 310, 342, 343, 356, 406, 446 — 448, 450 Конашевич-Сагайдачный Петр Кононович (ум. 1622), укр. полит, и военный деятель, гетман реестрового казачества — 273 Конон В. М. — 449 Кононович С. С. — 442 Конрад Н. И. — II, 434 Константин, арм. католикос (1221 — 1267) — 385
Константин XII багрянородный, виз. имп. (913 — 919) — 134
Константин Всеволодович (ум. 1218), кн. ростовский, вел. кн. владимирский — 33, 38
Константин Константинович Острожский (1526 — 1608), кн., деятель просвещения, меценат — 186, 244, 271 Константин Костенечскнй (ум. ок. 1431), южнослав. писатель, педагог — 181 Константин Мономах, виз. имп. (1042 — 1055) — 362 Копанев А. И. — 437
Коперник Николай (1473 — 1543), польск. астроном н мыслитель — 241, 281, 300, 318
Копиевский (Копиевич) И. Ф. (XVII в.), автор учебника арифметики — 218, 219 Копылов А. Н. — 432, 454 Корвнниус Лаврентий (1460 — 1527), писатель, автор сборника «Всеобщие истины» —
348
Корецкий В. И. — 444
Корнелий Непот (ок. 100 — после 32 до н. э.), рим. историк н поэт — 353 Корнилнй Комельский (XV — XVI в.), монах, основатель м-рей — 48, 49 Коробкова Г. Ф. — 440 Косарева J1. М — 442 Костанянц К. — 452 Костомаров А. — 442 Костюхина Л. М. — 437 Котетишвили Л. И. — 452 Котошихин Григорий Карпович (ок. 1630 — 1667), подъячнй Посольского приказа, автор сочинения о России времени царя Алексея Михайловича — 56, 60, 66, 105, 437, 440
Кошелева О. Е. — 434, 441, 442, 444 Кошкины, купцы — 64
Коэль И. (XVI в.), переводчик катехизиса —
349
Кранц Альберт (1450 — 1517), нем. писатель, публицист — 341 Крачун Т. А. — 448
Кровков Матвей (XVII в.), стрелецкий полковник, затем генерал — 117 Круминг А. А. — 445
Крумхаузен И. (XVI в.), бургомистр г. Нарвы — 154
Крышковский Л. (XVI в.), в соратник С. Будного — 307
Крюгер О., автор учебника математики (1635) — 332
Крянгэ Ион (1837 — 1889), классик молд. литературы — 292
Ксенофонт (ок. 430 — 355 нлн 3 — 54 до н. э.), др.-греч. писатель, историк — 135 Кудрицкий Е. М. — 448 Кудрявцев И. М. — 444, 446 Кузаков В. К. — 440, 442, 444 Кузнецов Я. — 442 Кузьмин М. К. — 444
Кукменев И. (XVII в.), подъячнй, ученик Посольского приказа — 104 Кукушкина М. В. — 250, 444, 446 Кул Галн (р. 1183), тат. поэт — 424 Кульветис (Кульвец) Абраомас (ок. 1510 — 1545), лит. просветитель — 318, 319,
321, 323, 331 Кунцевич Г. 3, — 447 Купреянова Е. Н. — 437 Курбани (XVI в.), азерб. ашуг — 403 Курбский Андрей Михайлович (1528 — 1583), кн., боярин, полит, деятель, писатель — 55, 57, 153, 207, 214, 220, 236, 298, 300, 447
Курдиновский В. — 448
Курицын Федор Васильевич (ум. не ранее 1500), посольский дьяк, полит, деятель, писатель, глава московского кружка еретиков — 50, 207 Курукин И. В. — 442
Кутейба ибн Муслим (VIII в.), араб, полководец — 410
Кюхи Мухаммед ибн Бакуи, азерб. ученый — 396
Лабынцев Ю. А. — 444
Лаврентий (XIV в.), монах, писец Лаврентьевской летописи — 47 Лаврентий (ум. 1539), игумен м-ря на Онежском оз. — 48 Лаврентьев А. В. — 69 Лавровский Н. А. — 16, 19, 434, 437, 446 Лазарь Баранович (ум. 1693), нгумен Киевского братского м-ря, ректор Киевской коллегии — 249, 282 Лазарева Т. Г. — 446 Лапина М. — 437 Лаптев В. В. — 437
Ларионов И. С. (XVII в.), думный дворянин — 57
Ларионова Екатерина (XVII в.), дочь И. С. Ларионова — 57
Ласкарис Иоанн-Андрей (ок. 1445 — 1535), внз. гуманист — 236
Ласкарис Константин (1434 — 1501), виз. ученый, автор грамматики греч. языка — 300
Латышев В. В. — 452
Лауксмнн Сигизмунд (1597 — 1670), преподаватель Виленской академии, автор учебников — 246, 247, 332
Лахтин М. Ю. — 440 Лебедева И. Н. — 445 Левченко М. В. — 437 Левочкин И. В. — 442 Левыкин А. К. — 440
Ледесма Я. (XVI в.), автор катехизиса — 332 Ленин В. И. — 434
Ленчицкий Николай (XVI в.), преподаватель Виленской иезуитской коллегии — 246 Лео М. (XVI в.), ректор таллинской тривиальной школы — 348 Леонтович Ф. И. — 437
Леонтий Карпович, преподаватель вильнюсской братской школы, еп. владимиро-волынский (1616 — 1620) — 301, 328 Леонтий Мровели (XI в.), груз, историк — 359, 362
Леонтьев Василий (XVII в.), литейный мастер — 114
Леонтьев Федор (XVII в.), литейный мастер — 114
Леонтьев Яков (XVII в.), литейный мастер — 114
Лесли Александр (XVII в.), швед, полковник на рус. службе — 116
Лефорт Франц Яковлевич (1656 — 1699), военный деятель, адмнрал — 116 Либаний (ок. 314 — ок. 393), софист, ритор, глава философской школы в Константинополе — 37
Ливий («Ливиуш») Тит (59 до н. э. — 17 н. э.), рим. историк, оратор — 211, 325 Лиги X. — 450
Ликург (ум. 324 до н. э.), афинский гос. деятель, оратор — 85
Лннде И. (ум. 1524), архиеп. рижский (с 1509) — 347
Лира Николай де (ум. 1340), богослов, францисканец, профессор Парижского ун-та — 51
Литврин Г. — 437 Литвин Э. С. — 442
Лихачев Д. С. — 9 — 11, 16, 145, 231, 325, 434, 437, 442, 446 Лихачев Н. П. — 437
Лихачев Федор Федорович (ум. ок. 1653), думный дьяк — 59
Лихванцев А. (XVII в.), подъячий Посольского приказа — 105
Лнхуды, братья Иоанникий (1633 — 1717) и Софроний (1652 — 1730), греч. монахи, учителя — 22, 62, 71, 87, 88, 163, 168, 212, 439, 443, 445
Ломоносов Михаил Васильевич (1711 — 1765), рус. ученый-знциклопеднст, поэт — 73, 193, 203, 205, 209, 210, 212, 222, 237, 238, 250, 337, 432, 437, 444, 454 Лордкипанидзе Д. — 446 Лотман Ю. М. — 442
Лоссий Лука (XVI в.), ученик Ф. Меланхто-на — 207
Лука Жидята (ум. ок. 1060), еп. новгородский, писатель — 148
Лукач (XVI в.), преподаватель школы при Путнянском м-ре, переводчик — 287 Лукиан Самосатскнй (р. ок. 125), греч. софист,
писатель — 320 Лукичев М. П. — 437
Лукулл Луций Лицнний (ок. 117 — ок. 56 до н. э.), рим. полит, деятель, полководец — 372
Лукшайте И. — 449 Лукьяненко В. И. — 444 Луппов С. П. — 56, 437, 440, 446 Лупу Василий, молд. господарь (1634 — 1653) — 287, 290, 295
Львов Григорий Васильевич (ум. ок. 1647), подьчий Посольского приказа, затем думный дьяк — 105
Лызлов Андрей Иванович (ум. после 1696), стольник, историк, переводчик — 117 Лэпушняну Александр, молд. господарь (1552 — 1561) — 287, 289 Любавский М. К. — 440
Любарт Гедиминович (ум. 1385), кн. Волынский (с 1325) — 267
Людовик XIV, фр. король (1643 — 1715) — 253
Лютер Мартин (1483 — 1546), деятель бюргерской Реформации, основатель нем. протестантизма — 322, 339, 347, 348, 351 Лятос Ян (XVI в.), польск. математик, философ — 271
Мавродин В. В. — 437
Маврокордат Николай (ум. 1730), молд. господарь — 291
Магеллан Фернан (ок. 1480 — 1521), мореплаватель — 51
Магницкий Леонтий Филиппович (1669 — 1737), учитель математики, автор «Арифметики» — 165, 170, 218, 219, 442 Магнус (XVI в.), еп. пилтенский — 339 Мажвидас Мартннас (ок. 1510 — 1563), просветитель, автор первого лит. букваря — 319, 321 — 323, 331
Мазепа Иван Степанович (1644 — 1709), гетман Левобережной Украины (1687 — 1708) — 256
Макарий Каляэинский (1445 — 1483), игумен м-ря — 49
Макарий (XVI в.), еп. романский, летописец — 288, 293
Макарий (1482 — 1563), митр, московский и всея Русн (с 1542), писатель — 48, 153, 154, 196, 237
Макарий (XVII в.), патр. антиохийский — 75 — 78, 82, 297, 449 Макарий (Булгаков) — 437 Маковельский А. О. — 453 Макогоненко Г. П. — 437 Максим Грек (Михаил Триволис) (ок. 1480 — 1555 или 1556), монах, публицист, писатель, переводчик — 50, 51, 150, 151, 153, 195, 196, 201, 204 , 225, 230, 236 — 241, 446 — 448
Максимов Иван (XVII в.), подьячий — 105 Малахия Философ (XIV в.), монах, грек из Константинополя — 47
Мамоничи (XVI — XVII в.), типографы в Вильнюсе — 298
Мануил Григорьев (XVII в.), грек, учитель
Типографской школы — 70 Мануций Альдо (1449 — 1515), гуманист,
издатель — 236
Манцель Георг (1593 — 1654), пастор, педагог — 342
Маргаска (XVII в.), казах, жырау — 423 Мардарий Хоииков (XVII в.), монах, поэт, служащий Печатного двора — 257 Марк, библ. — 292
Маркс К — 8, II, 334, 431, 434, 435, 439, 441, 448 — 450, 453 Маркузон В. Ф. — 440 Марр Н. Я. — 452
Мартин V, рим. папа (1417 — 1431) — 346 Мартиниан Белозерский (р. ок. 1398), монах Кнрнлло-Белозерского м-ря — 48, 49 Мартынова А. Н. — 442 Маслов С. И. — 446 Массон В. М. — 437, 440 Матвеев Андрей Артамонович (1666 — 1728), дипломат — 165, 250
Матвеев Артамон Сергеевич (1625 — 1682), боярин — 58, 60, 222, 250, 251, 447 Матвей Властарес (Матфей Властарь) (XIV в.), автор «Синтагмы» — 293 Матевосян А. С. — 452
Маурициус (XIII в.), преподаватель таллинского домнннканского конвента — 346 Маффет (Маффен Джованни-Пьетро) (1535 — 1603) , итал. историк,иезунт — 257 Махмуд Болгарн (XV в.), тат. педагог — 425 Махмуд Кашгарский (XI в.), среднеаз. поэт, филолог — 418
Махмудов Г. (XIX в.), тат. просветитель — 426
Медынцев Павел (XVII в.), торговец Овощного ряда — 175 Медынцева А. А. — 437 Мейерберг Августин (1622 — 1688), австр. дипломат, автор записок о Московском гос-ве — 435, 437
Меланхтон Филипп (1497 — 1560), нем. ученый-гуманист, сподвижник Лютера — 207, 347, 348
Мелетнй Смотрнцкнй (ум. 1633), архиеп. полоцкий и витебский (1622 — 1628), автор «Грамматики» — 79, 167, 172, 189 193, 200, 202 — 206, 238, 273, 278, 288, 292, 300, 301, 328, 446 — 448 Меликишвили Г. А. — 452 Меллер Г. (XVI в.), пастор Цесисского прихода — 337
Мельников М. Н. — 442 Менандр (ок. 343 — ок. 291 до н. э ), др,-греч. драматург — 135, 137 Месихи (1580 — 1656), азерб. поэт — 409 Месроп Маштоц (361 — 440), мыслитель, ученый, создатель арм. алфавита — 375, 376 — 378, 452
Мехтнхан Астрабади Мирза Магомед (ум.
1759 нли 1760), среднеаз. историк — 401 Мец А. — 454 Мечковская Н. Б. — 444 Мещерский Н. А. — 437 Микаелян Г. Г. — 452 Микрелиус И. — 353
Милов JI. В. — 437 Мильков В. В. — 437, 442 Милюков П. Н. — 51, 437 Микифоров Андрей (XVII в.), торговец Овощного ряда — 175
Мнкнфоров Герасим (XVII в.), стрелецкий сын, лекарский ученик — 107 Микляев (XVII в.), новгородский купец — 64 Миндовг (Мнндаугас) (ум. 1263), кн. Восточной Литвы (Аукшайтии) — 311, 313 Минуций Феликс (II — III в.), рим. судебный оратор, христианский апологет — 131, 441 Мирза Насрулла Хойский (XV в.), азерб. ученый — 397
Мирон Костни (1633 — 1690), молд. летописец, полит, деятель — 292, 294, 295, 448 Миропольский С. И. — 15, 434, 437 Митюров Б. Н. — 446, 448 Михаил (X в.), легендарный первый митр, киевский — 21
Михаил Александрович (1333 — 1399), вел. кн. тверской — 43
Михаил Три волис, см. Максим Грек Михаил Федорович (1596 — 1645), рус. царь (с. 1613) — 67
Михайлов Ониснм, см. Радншевскнй А. М. Михайловский И. Н. — 447 Михалон Лнтвин (XVI в.), автор трактата «О нравах татар, литовцев и москвитян» — 319, 331
Михул (XV в.), сын протопопа Юга — 291 Мкртич Нагаш (1393 — 70-е XV в.), арм. поэт — 392
Мовила Симеон, господарь Валахни (1601 — 1602) и Молдавии (1607 — 1608) — 290, 295
Мовсес Хоренаци (ок. 410 — 492), арм. просветитель, историк — 375, 377, 379 Мовсесян А. X. — 452
Мойсе (XV в.), преподаватель митрополичьей школы в г. Сучаве — 289 Моллаев И, — 453 Moopa X. — 450 Мораш Я. Н. — 449
Мордовцев Д. J1 — 226, 228, 442, 444, 447 Морогин Евфимий (XVII — XVIII в.), учитель рус. языка в ростовской школе — 262 Морозов Борис Иванович (1590 — 1661), боярин — 56, 63, 67, 68, 112 Морозов Б. Н. — 437, 440, 444 Морштин (XVI в.), вильнюсский купец — 321 Москвитин Иван Юрьев (XVII в.), рус. землепроходец — 432
Мосхопул Маиунл, внз. грамматист — 195 Мотиас де Бакович, студент Краковского ун-та (1409) — 291 Мошкова J1. В. — 33
Мстиславец Петр Тимофеев (XVI в.), типограф, соратник Ивана Федорова — 215, 242, 298
Мулюкин А. С,- — 437 Мурадханов М. А. — 453 Мухаммед, персонаж поэмы Низами «Хосров и Ширин» — 404
Мухаммед ибн Банса, поэт — 397 Мухаммед ибн Муса аль-Хорезми (ум. 40-е
IX в.), среднеаз. математик, астроном, историк — 424
Мухаммед Хиндушах Нахичевани (ок. 1284 — 1365), азерб. ученый, гос. деятель — 396, 399
Мухаммедьяр Махмуд Хожди углы (XVI в.), тат. поэт — 425, 426
Мухтумкулн (XVIII в.), срезнеаз. философ, поэт — 415
Муштахнд шейх Бахаидднн, ученый — 400 — 401
Мхнтар Гош (ок. ИЗО — 1213), арм. философ.
писатель, педагог — 389, 452 Мышецкий Ефим Федорович, кн., посол в Грузию (1641) — 368, 452 Мышлаевский А. 3. — 441 Мзвла Колый (XVII в.), тат. поэт, философ — 426
Наапет Кучак (XVI в.), арм. поэт — 392 Навои Алишер (1441 — 1501), узб. поэт, мыслитель, гос. деятель — 415, 421, 422, 453 Нагаш Овнатан (1661 — 1722), арм. поэт, художник, певец — 392
Надир шах (XVIII в.), иранский шах — 401 Назаров В. Д. — 440
Намысловский Ян Лициний (XVI в.), ректор школы в Ивье, соратник С. Будного — 308 Насими Имадедднн (1370 — 1417), азерб. поэт — 406, 407
Наснр Хисров (Насыри Хусрау) (1004 — после 1072), тадж. и перс, поэт, философ, религиозный деятель — 419, 453 Наследова Р. А. — 440
Насреддни, герой среднеаз. литературы и фольклора — 415
Насыри Каюм (1825 — 1902), тат. просветитель — 426
Наталья Кирилловна Нарышкина (1651 — 1694), царица, жена царя Алексея Михайловича — 191, 258
Наумов К- А. (XVII в.), чертежник Пушкарского приказа — 116
Невилль де ла (XVII в.), фр. путешественник, посетивший Москву (1689) — 436 Негребецкий Павел (XVII в.), поляк, стольник — 78
Некрасов И. С. — 442
Некулче Ион (1672 — 1745), молд. летописец, боярин — 295
Немезий Эмесскнй (V в.), еп., философ-неоплатоник — 365
Немировский Е. Л. — 41, 437, 440, 447 Непоставов И. (XVII в.), подъячий, ученик Посольского приказа — 104 Нерон Клавдий Цезарь (37 — 68), рим. имп. — 237
Неронов Иван (1591 — 1670), протопоп, один нэ первых вождей раскола, друг Аввакума — 61
Нестан Дареджан, героиня поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре» — 367
Нестор (XI — XII в.), монах Кнево-Печерско-го м-ря, летописец — 33, 34, 219 Низам ал-Мульк (XI в.), везир сельджукнд-скнх султанов — 411, 453
Низами Гянджеви (1141 — 1209), азерб. философ, поэт — 398, 403 — 406, 453 Низами Юсиф (XII в.), отец Низами Гянджеви — 403
Никита, «поповнч» (XV в.), книжник — 50 Никита Затворинк, монах Киево-Печерского
м-ря — 35
Никитин Афанасий (ум. 1472), тверской купец, путешественник, писатель — 64 Никитин Егор (XVII в.), ученик котельного мастера — 101
Никитников Андрей (XVII в.), купец гостин-ной сотни — 175
Никитниковы, купцы гостинной сотни — 64 Никифор, патр. константинопольский (ок. 792 — 828) — 443
Ннкнфор (XVI в.), грек, член острожского кружка — 271 Николаевский П. Ф. — 437 Николай Мюрский (V в.), др.-греч. ритор — 384
Николай Святоша (Святослав Давыдович, ки. Городецкий), кн.-ннок Киево-Печерского м-ря (с 1106) — 34 Николай (Николаус), «магистр», учитель школы в г. Бае (1405) — 289 Николаус Андрес, студент Краковского ун-та из Молдавии (1405) — 291 Никомах (II в.), др.-греч. математик и философ-пифагореец — 81, 387 Никон (Никита Минов) (1605 — 1681), патр. московский и всея Руси (1652 — 1666) — 68, 69. 188 — 190, 237, 436, 437 Никон Велнкий (ум. 1088), монах Киево-Печерского м-ря — 34
Никон Радонежский (ум. 1426), игумен Трои-це-Сергиева м-ря — 47 Никольский Н. К. — 437 Нил Курлятев (XVI в.), монах Троице-Сергиева м-ря, ученик Максима Грека — 238
Нил Синайский (Синант) (ум. ок. 450), богослов, «отец церкви» — 129 Нил Сорский (Майский) (ум. 1508), монах, идеолог движения «нестяжательства» — 150
Новак Николай (XVII в.), преподаватель минской униатской школы — 305 Новиков Николай Иванович (1744 — 1818), рус.
просветитель, издатель — 77 Новосельский А. А. — 437 Нотар Хрисанф (XVII в.), грек — 250 Нуцубидзе Ш. — 452
Оболенский (Ноготков) Михаил Андреевич (XVI в.), кн., товарищ и помощник А. Курбского в Лнтве — 214 Оброснмов Дмитрий (XVII в.), стрелецкий сын, ученик костоправа — 108 Оваиес Воротнеци (1315 — 1385), арм. философ, педагог — 289, 452 Ованес Джугаеци (XVII в.), арм. ученый, педагог — 392
Ованес Саркаваг Имастасер (1045 — 1129), арм. просветитель, ученый — 387 — 389, 452
Ованес Тавушеци (XII в.), арм. вардапет — 389
Овдокимов (Авдокнмов) Иван (XVII в.), ученик костоправа — 109 Овидий («Овидиуш») Публий Назои (43 до н. э. — ок. 18 н. э.), рнм. поэт — 50, 211, 325, 352, 353
Овлий Челеби, турецкий путешественник, посетивший Тебриз (1647) — 397, 453 Овсепян Г. — 452 Оганесян Л. А. — 363, 452 Огннский Марциан (1632 — 1690), вел. канцлер лит. (с 1684) — 303, 304 О глобин Н. И. — 454
Одоевский Никита Иванович (ум. 1689), кн., боярин — 56
Онфнм (XIII в.), новгородец — 35, 181 Олеарий Адам (ок. 1599 — 1671), нем. ученый, автор записок о России 30-х XVII в. — 60, 64, 66, 435, 437, 442 Олег (ум. 912), кн. новгородский и киевский — 30, 128
Олег Святославич (ум. 1115), кн. черниговский — 128, 130, 132
Олешка (Алексей) (XV в.), писец — 213 Олимпиодор Младший (VI в.), философ-неоплатоник — 379 Олоферн, библ. — 191
Ольга (ум. 969), кн., жена кн. Игоря — 31 Ольгерд (Альгирдас), вел. кн. лит. — 311 Олябьев Степан (XVII в.), дворянин, ученик Арсения Грека — 67
Онтоний (Антоний), священник из Пскова — 57
Опимахов Григорий (XVII в.), священник, учитель — 57
Опиц X., автор учебника древнееврейского языка — 353 Опочинин Е. Н. — 444
Орбелнанн Сулхан-Саба (1658 — 1725), груз.
полит, деятель, писатель, ученый — 372 Ордин-Нащокин Афанасий Лаврентьевич (1605 — 1680), боярин, гос. и военный деятель, дипломат — 57, 58, 60, 436 Ориген (185 — 253), философ, теолог — 237 Ориховский Станислав (1513 — 1566), писатель, публицист, оратор — 269 Орлов А. С, — 12, 153, 434, 442 Остафьев Д. Е. (XVII в.), Соликамский воевода — 56
Павел, библ. — 244
Павел Алеппский (ум. 1669), архидьякон, автор записок о путешествии в Россию н Молдавию — 290, 449 Павел Высокий (ум. 1382), монах нижегородского Печерского м-ря, пропроведннк — 47
Павел из Визны (XVI в.), представитель движения антитринитариев — 308 Павел Русин (ум. 1517), укр. поэт, издатель — 269
Павлов Исак (XVII в.), костоправ — 107 Павлов Олеш (XV в.), дьяк, мастер грамоты — 48, 49
Павлов Яков (Тренка) (XVII в.), бобыль, учитель — 61
Паисий (XVII в.), патр. александрийский — 75 — 78, 82
Паисий (XVII в.), патр. константинопольский — 190
Паисий Лигарид (1610 — 1678), митр, газ-ский (с 1652) — 74 — 77, 82 Палладий Роговский (ум. 1703), иеродиакон Заиконоспасского Богоявленского м-ря — 71, 73. 88 Панаитеску П. П. — 289 Паниия Иоанн (XVII в.), грек, учитель — 291 Панкратьев Григорий (XVI в.), купец — 64 Панкратьев Данила (XVI в.), купец — 64 Панкратьевы, купцы — 64, 436 Панченко А. М. — 169, 438, 445 Панцхава И. Д. — 452 Паповян А. А. — 452 Парийский И. В. — 441
Паруйр Айкаэн (276 — 367), арм. философ, ритор — 373
Пафнутнй Боровский (1394 — 1477), основатель Рождественского Боровского м-ря, церковно-полит. деятель — 48 Пахомий Нерехтский (ум. 1384), игумен м-ря — 48
Пашуто В. Т. — 16, 449
Паульсон И. — 445
Пейчев Б. — 38, 438
Пелех П. М. — 447, 448
Пентковский А. М. — 446
Пересветов Иван Семенович (XVI в), рус.
писатель-публицист — 442 Периханян А. Г. — 453
Перфильев Илья (XVII в.), рус. землепроходец — 432 Перишц А. И. — 438
Петр (ум. 1326), митр, всея Руси (с 1308) — 50, 233
Петр I Алексеевич (1672 — 1725), рус. царь (с 1652), имп. (с 1721) — 32, 81, 83, 117, 160, 161, 165, 191, 192, 222, 248, 256, 261, 273, 343, 433, 438, 444 Петр Ивер (V в.), груз, философ, ученик Прокла Диадоха — 359 Петр Могила (1596 — 1647), церковный и культурный деятель, митр, киевский и галнц-кий (с 1632) — 246, 251, 273, 282, 290 — 292, 295, 301, 449
Петр Хромой, молд. господарь (1574 — 1577, 1578 — 1579, 1582 — 1591) — 292 Петреци Себастьян, (1554 — 1626), польск. философ, врач профессор Краковского ун-та — 60
Петров А. П — 227, 229, 445 Петров В. — 450 Петров Н. И. — 448
Петров Митрофан (XVII в.), чепучинный лекарь — 109 Пештич С. Л. — 445 Пещак М. М. — 450
Пнко делла Мнрандола (младший) Джованни (1463 — 1494), итал. гуманист, философ — 236 Пилюгина Н. Б. — 443
Пнндар (ок. 518 — 442 или 438 до н. з.), др,-греч. поэт — 325 Пиотровская Е. К. — 443
Платер Ф. фон (XVII в.), директор верховной консистории Лифляндии — 357 Платон (428 или 427 — 348 нли 347 до и. э.), др.-греч. философ — 36, 58, 127, 208, 237, 238, 300, 325, 359, 366, 372, 387 , 405, 445 Платонов С. Ф. — 437
Плещеев Борис (XVII в,), московский дворянин — 57
Плиний, Гай Плиний Старший (23 или 24 — 79), рим. гос, деятель, писатель — 359 Плиний Базилнй (ум, 1605), нем. писатель, публицист — 341
Плутарх (ок. 45 — ок. 127), др,- греч. философ, писатель, историк — 139, 372, 452 Погорелое В. А. — 445 Подокшин С. А. — 449 Покровский Е. /4,- 428, 454 Поликарп (XII — XIII в), монах Киево-Печерского м-ря, один из авторов Киево-Печерского патерика — 35 Поликарпов-Орлов Федор Поликарпович (ум. 1731), ученик н преподаватель Славяно-греко-латннской академии, писатель, переводчик, общественный деятель — 70, 71, 77, 78, 87, 167, 238, 245 Полицнано Анджело (1454 — 1494), итал. поэт-гуманист — 236
Понсюс (Поциюс) Яган (XVII в.), учитель школы в Немецкой слободе — 109 Порфнрий (232 или 233 — между 301 и 304), философ-неоплатоник — 135 Поссевино Антонио (1534 — 1613), незунт, папский легат, посетил Великое княжество Литовское и Москву (1581 — 1582) — 42, 80, 350, 438 Паукка X. — 443
Поярков Василий Данилов (XVII в.), рус.
землепроходец — 432 Преображенский И. — 447 Прилежаев Е. — 438 Прозоровский А. А. — 438, 445 Прокл Диадох (ок. 410 — 485), философ-неоплатоник — 359, 362, 365, 452 Прокофьев Н. И. — 436 Пронский Михаил Петрович (ум. 1654), кн., боярин — 57 Пронштейн А. П. — 440 Пронька (Прохор) (XVII в.), ученик чепучинного лекаря — 109
Проперций Секст (ок. 50 — ок. 15 до н. э.), рнм. поэт — 325 Пропп В. Я. — 438
Простой Федор (XVII в.), ученик Серебряной палаты — 102
Протасевич В. (XVI в.), еп. виленский — 323 Прохор Коломнятин (XVII в.), автор «Школьного благочиния» — 227, 230, 444 Прохоров Г. М. — 438 Прошлецов (XVII в.), Вологжанин — 223 Птолемей Клавдий (II в), др.-греч. математик, астроном, оптик — 81, 134 Пустарнаков В. Ф. — 443 Путилов Б. И. — 443
Пушкарев Л. Н. — 168, 440, 443, 445, 447 Пушкин Григорий Гаврилович (ум. 1656), боярин — 56
Пыпин А. Н. — 438
Пэкурар (XVII — XVIII в.), ученик школы в с. Вама — 288
Радзивилл Богуслав (XVII в.), лит. кн. — 450 Радзивилл Миколай Рыжий (1512 — 1584), лнт. кн — 320
Радзивилл Миколай Черный (1515 — 1565), лит. кн., виленскнй воевода — 307, 319 320, 322
Радзивилл Христофор (ум. 1640), лит. гос. деятель — 361
Радзивиллы, княжеский род Великого княжества Литовского — 302, 303, 310, 320 Радивиловский Антоний (ум. 1688), укр. писатель, деятель просвещения — 282 Радишевский Анисим Михайлов (Михайлов Онисим) (ум. 1630), печатных и пушкарских дел мастер — 116 Радченко К. — 447
Разин Степан Тимофеев (ок. 1630 — 1671), донской казак, предводитель Крестьянской войны — 57
Раменьев Дуброва (XV в.), источник — 46 Раполенис (Рапагеланус) Станислав (ок. 1585 — 1645), гуманист, лит. просветитель — 318, 319, 323, 331 Рареш Петр, молд. господарь (1527 — 1538) — 294
Раушерт X. (XVII в.), пастор, пробст южной части Тартумаа — 357
Рашид-ад-дин (XII — XIII в.), перс, историк — 396, 453
Ребане Я С. — 443
Ребров Иван Иванович (ум. 1666), рус. землепроходец — 432
Ревякин Исаак (XVII в.), слуга купца гостинной сотнн — 175 Резанов В. И. — 447
Рей Миколай (XVI в.), польск. мыслитель — 156
Рейтер Янис, выпускник Дерптского ун-та, профессор права — 341 Рениус, автор учебника лат. языка — 353 Репский Иван (XVII в.), киевский певчий, ученик Симеона Полоцкого — 69 Ржига В. Ф. — 447 Робинсон А. Н. — 434 Ровшан, герой аэерб. фольклора — 402 Рогатннец Юрнй (XVI в.), член лыювского братства, один из организаторов школы — 272
Рогов А. И. — 82 Рождественская Т. В. — 438 Розов Н. Н — 129, 438, 443 Ройзнй П. (Руиз де Морос) (ум. 1571), руководитель школы при костеле св. Яна в Вильнюсе, юрист, поэт — 319 Роман Ростиславич (ум. 80-е XII в.), кн.
смоленский — 33 Романов Б. А. — 434
Романов Никита Иванович (ум. 1654), боярин — 56
Романов Федор Никитич (ок. 1556 нли 1557 —
1633), боярин, патр. московский н всея Руси под именем Филарета (с 1619) — 168
Романчуков Алексей Саввич (XVII в.), посольский пристав — 60, 66 Романчуков Савва Алексеевич (XVII в.), посольский дьяк — 59
Ромерий Адам (1566 — 1616), польск. писатель, автор учебника лат. языка — 278 Ромодановские, кн., бояре — 56 Ротар И. — 445
Ртнщев Федор Михайлович (1626 — 1673), окольничий, полит, и культурный деятель — 56, 58, 67, 68, 75, 77, 444 Рудакн Абдулла Джафар (ум. 940 или 941), тажд. поэт — 415, 419, 420 Рубцов Н. Н. — 440 Рукавишников (XVII в.) — 223 Румянцева В. С. — 438 Руссев Е. М. — 448
Руссов Балтазар (ок. 1540 — 1601), священник, автор «Хроники провинции Ливонин» — 341, 349
Руставели Шота (XII в.), груз, поэт — 361, 366 — 367, 452
Русудан (XII в.), тетка царицы Тамар — 367 Рыбаков Б. А. — 16, 30, 215, 438, 445 Рюриковичи, рус. княжеский н царский род — 312
Саади Муслихиддин (1184 — 1291), классик перс, и тадж. литературы — 397, 398, 401, 403, 419, 420, 425
Саак Партзв (348 — 349), католикос Армении, просветитель — 375, 377, 378 Сабинин Г. П. — 452
Савва Крыпецкий (ум. 1487), монах — 48 Савин А. — 448, 449 Савин Н. Г. — 438
Савонарола Джироламо (1452 — 1498), флорентийский релнгнозно-полит. деятель, проповедник — 239
СанбТзбриэи (1610 — 1677), аэерб. поэт — 409 Сайко Э. В. — 440 Сакулин П. Н. — 434
Саллюстий Гай Крисп (86 — ок. 35 до н. э.), рим. историк — 325 Салминь А. — 338
Салтыков Петр Михайлович (ум. 1690), боярин — 57
Сапунов Б. В. — 34 , 438
Сараи Сайф (XIV в.), тат. поэт — 423, 425
Сары (XVII в.), азерб. ашуг — 403
Сахаров А. М. — 438
Сванидзе А. А. — 440
Свердлов М. Б. — 438
Сверчок (Константин Федорович Сабуров?) (XIV — XV в.), дьяк, кннжник, еретик — 50
Свирин А. Н. — 447
Святополк Владимирович Окаянный (ок.
980 — 1019), ки. киевский (с. 1015) — 128 Святослав Давыдович, кн. городецкий, см. Николай Святоша
Святослав Игоревич (ум. 972), кн. киевский — 31, 128, 140
Святослав Ярославич (1027 — 1076), вел. кн.
киевский (с 1073) — 35, 133 Себастьян Грабовскнй (XVII в.), поэт — 257
Седельников А. Д. — 438 Седов В. В, — 438
Сеид Яхья Ширвани (XV в.), азерб. ученый — 397
Селезнева И. А. — 440
Семенов Иван (XVII в.), лекарский ученик-108
Семенов В. — 442, 443
Семенов Семен (XVII в.), сын лекаря — 108 Семенов С. А. — 440
Семенов-Головин Николай (XVII в), учеинк Типографской школы — 71 Семенненко Г. В. — 438
Сенека Луций Анней (ок. 4 до н. э. — 65 н. з ), рим. философ, полит, деятель — 300 Сенигов И. — 144, 443
Серапион (ум. 1275), еп. владимирской, писатель, проповедник — 149, 150 Серапион (ум. 1516), архиеп. новгородский (1506 — 1509) — 49 Сербина К Н. — 441
Сергий Радонежский (Варфоломей) (ок. 1321 — 1391), игумен Троицкого м-ря (ок. 1353), видный церк. и полнт. деятель — 22, 47, 232, 233 — 235 Сетин Ф. И. — 190, 445 Сивоконь Г. М. — 448
Снгизмунд I, польск. король и вел. кн. лит. (1506 — 1548) — 318
Снгнзмунд II Август (1520 — 1572), польск. король (с 1530), вел. кн. лит. (с 1548) — 318
Сиднее В. — 443
Сндорович Федор (XVII в.), композитор, руководитель Львовского школьного хора — 280
Сильвестр (ум. до 1568), протопоп Благовещенского собора, духовник Ивана IV, полит, деятель, член «Избранной рады», автор «Домостроя» — 64, 153 — 155, 442, 443
Сильвестр Коссов, митр, киевский (1647 — 1657), церк. писатель — 271, 301, 328 Сильвестр Малый (XV в.), новгородец, студент Ростовского ун-та — 41 Сильвестр (Семен) Медведев (1641 — 1691), рус. публицист, поэт, деятель просвещения, историк — 69, 73, 76, 78, 82 — 88, 164, 168, 178 — 181, 249, 254 , 438, 445 Симеон Джугаеци (XVII в.), арм. педагог — 392
Симеон (Семен) Иванович Гордый (1316 — 1353), вел. кн. московский (с 1340) — 49
Симеон Матафраст (X в.), виз. гос. деятель, составитель сводного корпуса греческих житий святых — 237
Снмеон Полоцкий (Петровский-Ситнианович Самуил Гаврилович) (1629 — 1680), церк. писатель, поэт, педагог — 58, 59, 62, 63, 69, 74 — 77, 82, 85, 88, 109, 117, 136, 153, 164, 167, 168, 177 — 180, 190, 191, 245 — 250, 253 — 255, 257, 258, 274, 299, 445 — 447
Симеонович Казамнр, автор трудов по военному делу — 117
Симон (ум. ок. 1226), еп. владнмнро-суз-дальский, один из авторов Киево-Печерского патерика — 35, 38 Симон, мнтр. московский и всея Руси (1495 — 1511) — 20, 51
Симон (Симеон) (ум. 1678), архиеп. сибирской н тобольский — 179 Симон Будный (ок. 1530 — 1593), белорус, просветитель, ученый, издатель — 298, 307, 308, 449
Симон Сойгинский (ум. 1562), основатель Сойгинской пустыни — 48 Симонов Р. А. — 39, 444, 445 Синдица, герой одноименного романа — 294 Синицина Н. В. — 438, 447 Скорнна Франциск (ок. 1490 — ок. 1541), просветитель, основатель книгопечания в Белоруссии и Литве — 167, 245, 248, 297, 298, 305, 306, 308, 317, 328, 447, 449 Скарга Петр (1536 — 1612), польск. иезуит, полит, деятель, ректор иезуитской академии в Вильнюсе (с 1579) — 244, 326 Скрагге Г., суперинтендант, организатор школы (1706) — 358
Слезка Михаил (ум. 1667), укр. типограф — 277
Смаранда, учительница дочери господаря Николая Маврокордата (1713) — 291 Сменцовский М. Н. — 87, 439, 443, 445 Смиленко А. Г. — 439 Смирнов С. К. — 83, 87, 439 Смирнова Э. С. — 439 Смоленский С. В. — 443 Смоляк А. В. — 454
Смотрнцкий Герасим Данилович (ум. 1594), укр. писатель и педагог — 271, 283 Соболевский А. И. — 17, 22, 45, 46, 62, 64, 169, 434, 439, 447 Соколова 3. — 454 Соколова В. К. — 439, 443 Сократ (470 или 469 — 399 до н. з.), др,-греч. философ — 140, 238, 353 Соловьев С. М. — 439 Соломон, библ. — 136, 187 Сбфроннй Лихуд, см. Лихуды Софроннй Почасский (XVII в.), писатель, ректор Киевской коллегии (1638 — 1640) — 273, 290
Софья Алексеевна (1657 — 1704), царевна, правительница при братьях, царях Петре и Иване (1682 — 1689) — 83, 84, 86, 248, 249, 445
Софья (Зоя) Палеолог (ум. 1503), вел. кн., жена Ивана III — 50
Социн Фауст (1539 — 1604), деятель польск.
Реформации, антнтринитарий — 308 Спангерберг Иоанн (Иона Спанинбергер), философ, автор сочинения «О силлогизмах» — 207
Спафарнй Мнлеску Николай Гаврилович (1636 — 1708), молд. гос. деятель, дипломат, переводчик Посольского приказа, (с 1671), писатель — 58, 168, 177, 202, 211, 250 — 254, 257, 292, 295, 445, 447 Сперанский М. Н. — 443 Спиридон, монах Кнев-Печерского м-ря — 34 Спиридон Соболь (XVI — XVII в.), печатник,
«ректор школ могилевскнх и киевских» — 188, 189, 191, 245
Спиридонов Андрей (XVII в.), слуга купца гостииной сотни — 175
Степанов Андрей (XVII в.), лекарский ученик — 107, 109
Степанов Иван (XVII в.), ученик серебряного и золотого дела — 102 Степанов Петр (XVII в.), ученик колокольного дела — 114
Степанос Лехаци (XVII в.), арм. ученый, педагог — 392
Степанос Сюнецн (VII — VIII вв.), арм. ученый, поэт — 377
Стефан (XV в.), дьяк, переписчик книг — 213
Стефан IV Великий, молд. господарь (1457 — 1504) — 291, 294
Стефан Пермский (ок. 1345 — 1396), еп., создатель «пермской азбуки», церк. писатель — 50, 232 — 235
Стефан Яворский (Семей Иванович) (1658 — 1722), местоблюститель патриаршего престола (с 1700), президент Синода (с 1721) — 73, 88, 276 Стефано Р., автор катехизиса — 320 Стойку (XVII в.), автор первой грамматики молд. языка — 292 Стороясев В. Н. — 439
Страбон (64 или 63 до н. э. — 23 или 24 н. з.), др.-греч. историк, географ — 359 Стратий Я. М. — 443
Стрелецкий Афанасий (XVII в.), преподаватель могнлевской братской школы — 302 Стрешнев Семен Лукьянович (ум. 1660), боярин — 57, 117
Строгановы, купцы, промышленники — 64, 435
Струминский В. Я. — 17, 18, 434 Судаков Г. В. — 439
Суфн-Аллаяр (XVII в.), срезнеаэ. поэт — 413 Сюдей Мирген, герой хакасского эпоса — 428 Супеоанская А. В. — 445 Сюэюмов М. — 440, 441 Сявавко Е. И. — 439
Табари (X в.), переводчик Корана — 411 Табрнзлн Бадреддин (XV в.), азерб. ученый — 397
Тагиев А. — 453
Тальман Е. М. — 102, 441, 445
Тамар, груз, царица (1184 — 1213) — 363, 367
Тамарашвили М. — 452
Тарабрин И. М. — 447
Тарасий Земка (ум. 1632), писатель-полемист, игумен киевского братского м-ря и ректор школы (с 1631) — 273 Тарасович Федор (XVII в.), преподаватель Могилевской братской школы — 302 Татищев Василий Никитич (1686 — 1750), гос.
деятель, историк — 21, 33, 439 Теймураз I (1589 — 1663), царь Кахетии (с перерывами 1606 — 1648), поэт — 368 Текла (XI в.), сестра Георгия Мтацмнн-дели — 363
Теон (Элий) Александрийский (III в.), автор, руководств по риторике — 384
Теренций (Теренциус) Марк Варрон (116 — 27 до н. з.), рим. поэт, энциклопедист — 211 Теренций Публий (ок. 195 — 159 до и. з.), рим. драматург — 352
Тибулл Альбий (ок. 50 — 19 до и. э.), рим. поэт — 325
Тигран II Велнкнй (I в. до н. з.), арм. царь — 372, 374, 383
Тимофей (XVII в.), иеромонах, учитель Типографской школы — 70, 71, 77, 78 Тимур (1336 — 1405), среднеаэ. гос. деятель, полководец — 395
Тимуриды, династия монг. ханов — 421 Тиран Айказн (I в. до и. э.), арм. ритор, грамматик — 372 Титов А. А. — 447
Тихомиров М. Н. — 16, 244, 435, 439, 447 Тихонов Иван (XVII в.), лекарский ученик — 107
Тихонов Лев Ананьин (XVII в.), ученик Аптекарского приказа — 109 Тихонов Яков (XVII в.), лекарский ученик — 107
Тишка (Тихон) (XVII в.), ученик чепучинно-го лекаря — 109
Тоадер (XV в.), сын протопопа Юга — 291 Тоадер (XVI в.), священ ни ко из г. Хушь — 288 Товма Мецопецн (1378 — 1448), арм. историк — 391, 452 Трайде Б, — 438
Трансильван Максимилиан (1490 — 1538), секретарь герм. имп. Карла V, автор сочинения о путешествии Магеллана — 51 Трдат I (I в.), арм. царь — 373 Тревер К В. — 394, 453 Тредиаковский Василий Кириллович (1703 — 1769), поэт, филолог — 205, 445 Тройский И. М. — 445
Тростиус М., автор учебника древнееврейского языка — 353 Трубачев О. Н. — 439 Трубецкие, кн. — 255
Трухменскнй Афанасий (XVII в.), гравер Оружейной палаты — 249 Тусн Мухаммед Насреддин (1201 — 1274), азерб. ученый, философ, поэт — 397, 405, 453 Тюхикос (VII в.), виз. математик — 381 Тяпкнн В. М., стольник, рус. резидент в Варшаве (1674 — 1675) — 66 Тяпкин И. В. (XVII в.), ученик, сын стольника В. М. Тяпкина — 66
Узбек Султан Мухаммед (ум. 1342), хан Золотой Орды (1313 — 1342) — 50 Улащик Н. Н. — 449
Улугбек Мухаммед Тарагай (1394 — 1449), узб. астроном н математик, правитель Самарканда (с 1409) — 413, 420 Ульфов Василий (XVII в.), лекарь — ПО Умми Камал (XVI в.), тат. писатель — 425 Уреке Грнгорне (ок. 1592 — 1647), молд. летописец — 292, 295
Уреке Нестор (XVII в), член Львовского братства — 292
Урсу (XVII — XVIII в), ученик школы в с. Вама — 288
Урусский Логин (XVII в.), гравер — 218
Урчаци (XI в.), арм. вардапет — 387 Успенский А. И. — 447 Успенский Б. А. — 439 Устюгов Н. В, — 56, 60, 439, 440 Ушаков Симон Федоров (1620 — 80-е XVII в.), художник, иконописец — 179, 249 Ужевич Иван, автор первой грамматики укр. языка (1643) — 278
Ушинский Константин Дмитриевич (1824 — 1870), педагог — 9, 147
Фальковский К. И, — 441 Фараби, Абу Наср аль-Фараби (870 — 950),. ученый-энциклопедист — 397, 412, 415 — 417, 424
Фархад, герой поэмы Навои «Фархад и Ширин» — 421, 422
Фахраддин Абуль Фадла ибн ал Мусанны ат-Тебризи, азерб. историк, преподаватель медресе — 397
Федор (ум. 1246), черниговский боярин — 36
Федор, писец Номоканова (1565) — 268 Федор (XV в.), московский протопоп — 213 Федор Алексеевич (1661 — 1682) рус. царь (с 1676) — 77, 78, 82 — 84 , 86, 105, 117, 180, 190. 192, 222, 245, 248, 249, 258, 436, 438
Федор Рантунсский (VII в.), философ — 134 Федор Студит (759 — 826), виз. церк. деятель, автор монастырского устава — 35 Федоров Федор (XVII в.), ученик Серебряной палаты — 102
Федотов Андрей (XVII в.), стрелец, лекарский ученик — 107, 110
Фелекн Ши рва ни (1108 — 1146), азерб. поэт — 398
Фемистий (317 — 388), греч. философ — 360 Феодосий II (ок. 401 — 450), виз. ими. (с 408), создатель ун-та в Константинополе (425) — 75
Феодосий Барбовский (XVI в.), монах, автор хронологических таблиц — 292 Феодосий Сафонович, игумен киевского Михайловского м-ря (1655 — 1672), автор «Синопсиса» — 279
Феодосий Печерский (ум. 1074), игумен Киево-Печерского м-ря, церк. деятель — 24, 148 Феоктист (XIV в.), мнтр. случавский — 289 Феофан (XVII в.), патр. иерусалимский — 299
Феофан Грек, иконописец, работавший на Руси (XIV — начало XV в.) — 234 Феофан Прокопович (1681 — 1736), преподаватель и ректор Киевской коллегии (до 1711), вице-президент Синода (с 1721), церк. и полит, деятель, писатель — 212, 274
Феофилакт Коридалеос (XVII в.), ректор патриаршей школы в Константинополе — 290
Феофнлакт Лопатинский (ум. 1741), архим. Заиконоспасского м-ря (1708 — 1722) — 274
Фетуллах Тебризи (XV в.), азерб. ученый — 397
Ферапонт Белозерский (ум. 1426), монах
Симонова м-ря, основатель Ферапонтова м-ря — 47
Физули Мухаммед (1494 — 1556), азерб. поэт — 398, 403, 407, 408, 453 Филин Ф. П. — 439
Филипп, митр, московский и всея Руси (1464 — 1473) — 50
Филон Александрийский (21 или 28 до и. э. — 41 или 49 н. э.), философ, математик — 387 Филонов А. И. — 445
Филофей (XVI в.), монах псковского Елеаза-рова м-ря, писатель, публицист, автор теории «Москва — третий Рим» — 50 Фичино Марсилио (1433 — 1499), итал. философ-гуманист — 236
Фишер Иоганн (1633 — 1705), генерал-суперинтендант Лифляндии — 356, 451 Флоринский В. М. — 441 Флоровский А. В. — 439 Флоря Б. Н. — 449
Фома (XII в.), смоленский священник, адресат Климента Смолятича — 36, 127 Фома Аквинский (1225 — 1274), философ, богослов, систематизатор схоластики — 247, 248, 282, 439, 448 Формозов А. А. — 435
Форселиус Бенгт Готфрид (ум. 1688), эст.
просветитель — 356 — 358, 451 Форселиус И. X. (XVII в.), ректор Домской школы в Таллине, отец Б. Г. Форсе-лиуса — 356
Фотий, патр. константинопольский (858 — 867, 877 — 886) — 30
Фотий (XV — XVI в.), церк. писатель — 151
Фронспергер (Фроншпергер) Леонард (XVI в.), нем. ученый, автор «Книги о войне» — 116, 217
Фронтон Секст Юлий (40 — 103), рим. патриций, автор трудов по технике и военному делу — 117
Фукидид (ок. 460 — 400 до н. э.), др.-греч. историк — 325
Фунгаданов Степан (Стефан фон Гаден) (XVII в.), доктор — 109 Фуртенфах Иосиф, автор книги «Пушкарской хитрости школа» — 117 Фюрстенберг В. (XVI в.), магистр Ливонского ордена — 337
Хабаров Ерофей Павлов (ок. 1610 — после 1667), рус. землепроходец — 432 Хагани Ши рва ни (1120 — 1199), азерб. поэт — 398, 403
Ханларян Л. А. — 452
Хайям Омар (ок. 1040 — 1123), перс, и тадж.
поэт, математик, астроном — 414 Хальфин Ибрагим (1778.1829), тат. просветитель — 426
Хальфин Сагит (XVIII в.), тат. просветитель — 426
Харитонович Д. Э. — 441 Харлампович К. — 270, 439, 448, 449 Хасан Басрийский (ум. 728), среднеаз. ученый — 412
Хаста Касум (XVIII в.), азерб. ашуг — 403 Хатаи Шах Исмаил (1485 — 1524), азерб. поэт — 407
Хатиб Гусейн ибн Гасан Алармури, азерб.
ученый — 396
Хафиз Шираэи (ок. 1325 — 1389), тадж. поэт — 401, 413
Хвольсон Д. А. — 454
Хворостинии Иван Андреевич (ум. 1625), кн., писатель — 55, 149, 153 Хижняк 3. — 448
Хировоск Георгий (ок. 750 — ок. 825), виз.
грамматик — 36, 37, 134 Хованский Петр Иванович (XVII — XVIII в.), кн., стольник, боярин (с 1676) — 57, 439 Ходжа Фазулла Абу-Лейс (XV в.), среднеаз. ученый — 421
Ходкевич Григорий (ум. 1572), вел. гетман лнт. — 242
Хорезми (XIV в.), поэт — 423 Хорошкевич A. JI. — 439, 449 Хосров, герой поэмы Низами «Хосров и Ширин» — 404 Хофман Ф. — 443
Храбр (IX — X в.), черноризец, автор трактата «О письменах» — 30, 187, 188, 193, 198, 232, 438 Христова Е. — 443 Худяков И. А. — 454
Цагарели Г. — 452 Церетели Г. В, — 452
Цицерон Марк Туллий (106 — 43 до н. э.), др.-рнм. полит, деятель, оратор — 211, 300, 320, 324, 325, 352, 353, 372
Чаадаев Иван Иванович (XVII в.), окольничий — 57
Чалоян В. К. — 452 Чахрухадзе (XII в.), груз, поэт — 361 Черепнин Л. В. — 16, 156 Черкасский Михаил Яковлевич (ум. 1712), кн., тобольский воевода — 250, 433 Черкасский Петр Михайлович (XVII в.), кн. — 250, 253
Черная Л. А. — 443, 445
Чернов А. В. — 441
Чернышева Л. А. — 439, 448
Чернышевский Н. Г. — 16, 432, 435, 454
Черторицкая Т. В. — 442
Чечулин Н. Д. — 439
Читал (XVII в.), грек-иеромонах, учитель — 291
Численно Н. Д. — 443 Чистов К. В. — 443
Чистой Аникей (XVII в.), дьяк московских приказов — 64
Чистой Назар (ум. 1648), ярославский гость, затем дьяк московских приказов — 64 Чистякова Е. В. — 445
Чохов Андрей (ок. 1545 — 1629), литейный мастер — 110, 440 Чума А. А. — 447, 450
Шалкииз (ок. 1444 — 1560), казах, жырау — 423
Шамирам, героини арм. эпоса — 374 Шамсеаддин ас-Самарканди (XV в.), среднеаз. ученый-математик — 414 Шангины, черносошные крестьяне Яренско-го у. — 65, 437
Шапур, герой поэмы Навои «Фархад н Ширин» — 421
Шарафутдин Хисаметдин (XVI в.), преподаватель медресе, автор «Истории Булгарин» — 425
Шаскольский И. П. — 439 Шахтахтинский М. — 401, 453 Шашков А. Т. — 447
Шебустари Махмед (1287 — 1320), аэерб. философ, поэт — 398
Шевченко Тарас Григорьевич (1814 — 1861), укр. поэт — 237
Шейх Баха Итдин Амили (ум. 1631), поэт, ученый — 398
Шейх Шимухаммед, сын Тук-Мухаммеда (XVI в), тат. педагог — 325 Шереметев Федор Иванович (ум. 1650), боярин — 57
Шикеста Ширин (XVII в.), азерб. ашуг — 403 Шилов Василий (XVII в.), ученик Аптекарского приказа — 108 Шинкарев Л. — 454
Шио Мгвимели, автор учебника теологии — 360
Ширвид (Ширвидас) Константин Игнатьевич (ум. 1631), преподаватель Вильнюсской академии, автор грамматики лит. языка, писатель, проповедник — 325, 332 Ширин, героиня поэмы Навои «Фархад и Ширин» — 421
Ширин, героиня поэмы Низами «Хосров и Ширин» — 404 Шляпкин И. А. — 439, 447 Шмидт С. О, — 16
Шмитковский Иван (XVII в.), настоятель церкви Иоанна Богослова в Москве — 76
Шор Д. И. — 441
Шперлинг И., автор учебника физики — 353 Штефан Томша, молд. господарь (1611 — 1615, 1621 — 1623) — 288 Шукруллах Ширвани (XV в.), аэерб. ученый — 397
Шушкова А. П. — 443 Шапова Ю. Л. — 441.
Щеглова С. А. — 447
Щелкалов Андрей Яковлевич (XVI в.),
дьяк — 59, 183
Щелкалов Василий Яковлевич (ум. ок. 1613), дьяк — 183
Щелкалов Яков Семенович (XVI в.), дьяк — 183
Щепкина М. В. — 443
Щетинчич Матвей (XVI в.), луцкий мещанин — 269
Эджеми ибн Эбубекр Нахичевани (XII в.), азерб. архитектор — 397 Эзоп (VI в. до н. з.), др.-греч. баснописец — 325, 348, 351 Эйваэов Ф. — 453
Эйнгорн Паул (ок. 1590 — 1655), автор книги «Historia bettica» (1649) — 342 Эмин Н. О. — 452
Энгельс Ф, — 11, 38, 311, 434, 435, 439, 441, 448 — 450, 453
Эней Сильвий Пикколомини (1405 — 1464), рим. папа Пий II (с 1458), поэт, писатель — 237
Эпиктет (ок. 50 — ок. 138), рим. фнлософ-стоик — 139
Эпикур (342 или 341 — 271 или 270 до и. э.), др.-греч. философ — 300 Эразм Роттердамский (1466 — 1536), нем. ученый-гуманист, виднейший представитель Возрождения — 156, 157, 159 — 161, 249, 257, 335, 342, 348, 353, 445, 447 Эргимесс Николай, ректор Пражского ун-та (с 1390) — 341 Эргис Г. У. — 431, 454
Эрик VI Менвед, датский король (1286 — 1319) — 345
Эрмис Тривеличайший (Гермес Трисмегист), вымышленный автор теософского учения египетско-греч. происхождения — 81 Эссар Тебризи (1325 — 1390), азерб. ученый — 406
Эфендиев П. Ш — 453
Юга (XV в.), протопоп из г. Сучава — 291 Юдекс Мартин (1528 — 1564), богослов, автор учебника закона божьего — 351, 352 Юдифь, библ. — 191
Юлиан Отступник, рим. имп. (361 — 363) — 373
Юрий (Юргис (XVI в.), магистр из Эйпи-шек — 319
Юрий Крижанич (1617 — 1683), хорват, катол.
миссионер, ученый, писатель — 163 Юстиниан I (ок. 482 — 565), виз. имп. (с 527), законодатель — 75, 409 Юсуф Баласагунский (XI в.), среднеаз. философ, поэт — 418
Ягайло (Иогайло), вел. кн. лит. (с 1377), польск. король Владислав II (1386 — 1434) — 314 , 316
Ягич И. В. — 195, 196, 198, 439, 445 Ягуби А. — 453
Ядвига, польск. королева (с 1383) — 314, 316
Языков Николай Михайлович (1803 — 1846), поэт — 237
Якнавнчюс Й. (XVII в.), преподаватель иезуитской школы — 325
Якоб Хераклид Деспод, молд. господарь (1561 — 1563) — 290 Яков (XV в.), гусит — 289 Якво Цуртавели (V в.), груз, писатель-агиограф — 360 Яковлев А. И. — 439 Яковлев В. А. — 443
Ямблих Бабелонацн (II в.), арм. ритор, педагог — 373
Ян из Глогова (1445 — 1507), педагог, учитель Н. Коперника — 241 Ян Урснн, автор учебника лат. языка — 278 Ян Филиппович, доктор церк. права (1495), еп. вильнюсский (XVI в.) — 316, 317 Янин В. Л. — 16, 435, 439 Янка (XI в.), сестра Владимира Мономаха- — 36
Ярослав Владимирович Мудрый (ок. 980 — 1054), вел. кн. киевский (с 1019) — 32, 35, 96, 126, 128, 149
Adamovils L. — 450 Adams V. — 451 Atttoa V. — 451 Ametung F. — 451 Anders K. — 451 Andrezen L. — 451 Apinis A. — 450 Arbusow L. — 451 Balihskl M. — 449 BirsHnescu St. — 448 Barycz H. — 449 Barwinski E. — 448 Bertouch E. V. — 450 Birkerst A. — 450 Bishof Dr. — 451 Brezgo B. — 450 Buchhols A. — 451 Buss N. — 450 Capkova D. — 447 Ciobanu Gh. — 448 Christiani T. — 451 Codrescu T. — 448 Denissofj E. — 447 Drizule M. — 450 Haney J. V. — 447 Hansen G. V. — 451 Hilners G. — 450 Hofman F. — 447 Jablonskis K. — 449 Jagoditseh R. — 443 Jannau H. J. — 450 Johansen P. v. — 451 Jorga N. — 449 Judas M. — 449 Jurginis J. — 449 Kaplinski K. — 451 Kech G — 451 Kochanowskl I. K. — 448
Ярослав Осмомысл (ум. 1087), кн. галнцкий 33
Яхонтов И. — 443 Яцимирский А. И. — 45, 439 Корр 1. — 451 Kosman М. — 449 Kruger О. — 449 Langeler А. !. — 448 Lebedys G. — 449 Lietuvis М. — 449 Liiv О. — 451 Lukaszewcz I. — 448, 450 Lukiaite /. — 449, 450 Masing U. — 451 Miller 1/. — 451 Morzy J. — 450 Nausedas V. — 450 Nesterovs O. — 450 Ochmanskl J. — 450 Oissar E. — 451 Panaitescu P. P. — 449 Pteckaitis R. — 450 Raby F. J. — 448 Ruberts F. — 450 Salmir\s A. — 450 Samsonowicz H. — 450 Schiemann T. — 451 Schirren C. — 451 Stradins J. — 450 Straubergs J. — 450 Stryikowski M. — 450 Siivalep A. — 451 Tarvel E. — 451 Tering A. — 451 Tonisson E. — 451 Treumann H. — 451
1Ills A. — 450
Wasllewski T. — 450 Westling F. — 451 Wieselgren G. — 451 Wolff J. — 450. |||||||||||||||||||||||||||||||||
Распознавание текста книги с изображений (OCR) —
творческая студия БК-МТГК.
|