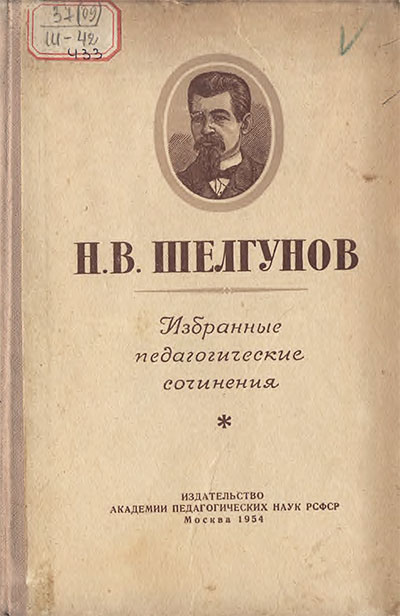Под редакцией
члена-корреспондента АПН РСФСР проф. Я. К. ГОНЧАРОВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК РСфСР
Педагогические сочинения Шелгунова уже в силу органической связи их с революционно-демократическим мировоззрением автора, конечно, не могли получить в дореволюционное время доступа в широкую читательскую массу и потому до настоящего времени остались мало известными даже педагогам. Издание педагогических сочинений Шелгунова отдельным сборником осуществляется впервые. В нем собрана только небольшая часть из обширного педагогического наследства Шелгунова. Задача более или менее полного собрания его педагогических произведений может быть разрешена только в отдельном, специально подготовленном издании.
В. Я. Струминский
H. В. ШЕЛГУНОВ — РЕВОЛЮЦИОНЕР-ДЕМОКРАТ И ПЕДАГОГ-ПУБЛИЦИСТ 2-й ПОЛОВИНЫ XIX в.
После ссылки Н. Г. Чернышевского и разгрома организовавшегося около него, как вождя революционной демократии, тайного революционного общества «Земля и воля» — почти единственным в русской литературе представителем революционной демократии 60-х годов остался Николай Васильевич Шелгунов. Несмотря на то, что на протяжении свыше 15 лет он находился в ссылке, а на свободе подвергался постоянным преследованиям полиции и царской цензуры, Шелгунов настойчиво продолжал развивать в подцензурной печати революционно-демократические идеи 60-х годов применительно к тем условиям, в каких развивалась русская жизнь 2-й половины XIX в.
Деятельность революционных демократов и Н. В. Шел-гунова в частности представляет интерес не только исторический. Их сочинения вошли органической частью в русскую литературу, науку, в том числе и в педагогику.
По профессии Шелгунов не был педагогом, но воспитание подрастающих поколений — как жгучая жизненная проблема — в условиях наступившей реакции не могло не интересовать его. Откликаясь на многие проблемы — экономические, политические, литературные, Шелгунов не мог обойти и вопросов воспитания, тесно с ними связанных. Освещая эти вопросы, Шелгунов критиковал крепостническую и пореформенную систему воспитания с революционно-демократических позиций и тем поддерживал в русской педагогической литературе революционно-демократическую традицию, начало которой было положено Чернышевским и Добролюбовым и их предшественниками
конца XVIII и начала XIX в. Особо необходимо отметить, что Шелгунов был не только популяризатором педагогических идей своих предшественников, но и оригинальным мыслителем-педагогом.
В педагогической литературе Шелгунову почти не посвящено статей, дающих сведения о его жизни, направлении и содержании его педагогических работ. Такое положение совершенно не отвечает действительному значению Шелгунова в истории русской педагогики 2-й половины XIX в. Объясняется это прежде всего тем, что его литературно-педагогическое наследство еще не собрано и не проанализировано надлежащим образом.
В настоящей статье, не претендующей на исчерпывающее освещение вопроса, даются только самые общие, первоначальные сведения о биографии, литературной деятельности и основном направлении педагогических идей Шелгунова.
Николай Васильевич Шелгунов (1824 — 1891) родился в Петербурге, в семье чиновника. На пятом году он лишился отца и был отдан на воспитание в Александровский малолетний кадетский корпус, а затем с 9 лет обучался в Лесном институте ведомства Министерства финансов, ставившем задачу подготовки специалистов лесного хозяйства.
Окончив в 1841 г. Лесной институт, Шелгунов был оставлен таксатором при Лесном департаменте министерства. «Я ездил по летам для лесоустройства, — рассказывает об этом начальном периоде своей службы Шелгунов, — и жил по деревням, а зимой возвращался в Петербург, чтобы весной снова ехать на лесоустройство».
Разъезжая по России, Шелгунов обогатился исключительно большим количеством конкретных знаний о разных сторонах русской жизни, в особенности сельской, что содействовало раннему и прочному формированию материалистического направления его взглядов на общественно-экономическую жизнь России. С первых лет службы началась и литературная деятельность Шелгунова. Она была посвящена в этот период преимущественно вопросам его специальности, т. е. лесоустройству. Шелгунов опубликовал по предмету этой специальности ряд статей в журналах; кроме того, им были напечатаны отдельными изданиями такие работы, как — «Лесная технология», «Лесоводство для частных владельцев», «История русско-6
го лесного законодательства». Работы обратили на себя внимание министерства, и в связи с этим Шелгунову было предложено место ученого лесничего в Лисинском учебном лесничестве (Петербургской губ., Царскосельского уезда). «Ученый лесничий был профессором всех лесных наук, — поясняет Шелгунов, — это хотя несколько и громко, но верно, ибо Лисинское лесничество было практическим офицерским классом, и ученый лесничий должен был летом руководить практическими работами, а зимой читать лекции. Я не считал себя достаточно подготовленным для такого места и заявил, что приму его, если меня отправят заграницу».
Такая командировка была дана, и в 1856 г. Шелгунов отправился заграницу с целью усовершенствования в своей специальности. Эта поездка имела для него большое политико-воспитательное значение. Приступив к исполнению профессорских обязанностей и не успев еще, как следует, развернуть свою работу, он внезапно получил предписание явиться в Петербург для нового специального назначения, которое совершенно его не устраивало. Но освободиться от этого назначения он смог лишь через несколько месяцев. В 1857 г. он получил «по болезни» новую командировку за границу, куда отправился вместе с женой. Там он впервые познакомился с сочинениями А. И. Герцена и имел личную встречу с ним в Лондоне.
Вернувшись в Россию в конце 1858 г., Шелгунов почувствовал себя всецело в атмосфере того широкого демократического и революционного движения, которым были насыщены 60-е годы. «Это было удивительное время, — писал Шелгунов, — Время, когда всякий захотел думать, читать и учиться, и когда каждый, у кого было что-нибудь за душой, хотел высказать это громко. Спавшая до того времени мысль заколыхалась, дрогнула и начала работать. Порыв ее был сильный и задачи громадные. Не о сегодняшнем дне шла тут речь, — обдумывались и решались судьбы будущих поколений, будущие судьбы всей России, становившейся в зависимость От того или другого разрешения назревших реформ. Эта заманчивая работа потянула к себе всех более даровитых и способных людей и выдвинула массу молодых публицистов, литераторов и ученых, имена которых навсегда связались с историей русского просвещения и с блестящим, но коротким моментом 60-х годов, надолго давшим свое направление умственному движению России, как бы оно по времени ни затихало. В 1857 — 1858 гг. совершалось только начало этого громадного умственного труда; блестящий же, самый оживленный и зрелый момент журналистики был еще впереди и начался после 1859 года. G этого года мои личные воспоминания получают другой характер. Я вступаю в сношения с людьми, память о которых связана с лучшими годами моей жизни. И какая же это память, какая благоговейная память, и как она дорога мне! Самая широкая гуманность и великодушные чувства нашли в этих людях своих лучших поборников. Если у меня, старика, у которого уже нет будущего, бывают еще теплые и светлые минуты в жизни, то только в воспоминаниях о них».
Так высоко оценивал Шелгунов общественное революционно-демократическое движение 60-х годов.
В конце 50-х годов Шелгунов примкнул к тайной революционной организации, руководимой Чернышевским, под наименованием «Земля и воля». В состав этого общества, наряду с Добролюбовым, братьями Серно-Соловьевич, Михайловым, Слепцовым, Обручевым входил и Шелгунов. Согласно проекту Н. Г. Чернышевского, в целях подготовки крестьянской революции члены этого общества должны были разъехаться по разным округам для организации на местах революционных кружков, для ознакомления с положением дел и настроениями крестьянских масс.
Сибирь представляла особый округ, и для работы в нем был намечен Шелгунов. Однако предварительно, до выезда на места, предположено было обратиться к разным грушам населения — крестьянам, солдатам, молодежи и другим с особыми воззваниями и призывами активно противодействовать подготовлявшейся крестьянской реформе, которая не только не разрешала проблемы освобождения крестьян, но еще более ухудшала и без того тяжелое, бедственное положение закрепощенного народа.
В 1861 г., согласно плану Н. Г. Чернышевского, Шелгунов написал две прокламации — «К молодому поколению» и «К солдатам». «Мы хотим, — писал Шелгунов в первой прокламации, — чтобы земля принадлежала не лицу, а стране, чтобы у каждой общины был свой надел, чтобы личное землевладение не существовало. Император, помазанный маслом в Уопенском соборе, должен быть заменен выборным старшиной».
Развивающийся на западе капитализм не прельщал автора прокламации: он предполагал, что в общине русский народ имеет задатки иных порядков, опираясь на которые, возможно радикально перестроить социально-экономическую жизнь. Вместе с революционными демократами Шелгунов разделял, таким образом, утопическую веру в возможность использовать русскую общину для преобразования социальной жизни России, да и не одной России. «Не мне одному, — мнопим думалось, что в русской жизни, сохранившей черты быта, уже исчезнувшего в Европе, есть что предложить Западу». Но это было только временное увлечение, навеянное специфическими условиями русской жизни и с течением времени уступившее место более зрелой, исторически более правильной оценке развития капитализма в России.
В 1862 г. по доносу провокатора В. Костомарова, выдавшего правительству Михайлова и Чернышевского, Шелгунов был в свою очередь арестован и заключен в Алексеевский равелин Петропавловской крепости. После 20-месячного заключения в крепости Шелгунов был выслан на поселение под надзор полиции в Вологодскую губернию. В течение почти 15 лет по произволу полиции скитался Шелгунов по разным местам России , пока, наконец, в 1877 г. ему не разрешено было вернуться в Петербург.
Во все время изгнания Шелгунов продолжал свою литературную деятельность. Но, начиная с 60-х годов, направленность, содержание его литературных работ резко изменилось. С предмета своей прежней специальности он переключился на вопросы социально-политические в широком смысле этого слова и всецело отдался делу популяризации и распространения знаний — исторических, социально-политических, экономических, литературных, педагогических. При этом не надо забывать, что в условиях наступившей с середины 60-х годов реакции самая воз-
1 Будучи поселен сначала в Тотьме Вологодской губ., Шелгунов переводится затем в Устюг, потом в Никольск, Кадников, Вологду, в 1869 г. — в Калугу, в 1873 г. — в Выборг, в 1874 г. — в Новгород.
можность литературной деятельности Шелгунова постоянно подвергалась опасности, и ему приходилось перекочевывать из одного издания в другое. С 1861 г. Шелгунов сотрудничал в журнале «Современник», с 1865 г. из далекой ссылки писал статьи для журнала «Русское слово», с 1867 г., после закрытия «Русского слова», печатался в журнале «Дело» и с 1872 по 1883 г. в газете «Неделя», помещая свои статьи в разделе «Заметки провинциального философа». С 1880 г., после смерти редактора журнала «Дело», редактирование журнала перешло к Шелгу-нову. В 1884 г. он был заподозрен в сношениях с народовольцами, арестован и вторично заключен в Петропавловскую крепость. Однако за недоказанностью обвинения его вскоре освободили, запретив редактирование журнала. С 1885 г. Шелгунов работал в журнале «Русская мысль», где ему была предоставлена возможность писать ежемесячные фельетоны под общим заголовком «Очерки русской жизни». Эту работу Шелгунов выполнял до самой смерти, последовавшей в апреле 1891 г. За время литературной деятельности в этом журнале им написано 65 очерков, регулярно каждый месяц по одному очерку. Последний он уже не мог писать и продиктовал его, лежа в постели.
Публицистическая деятельность Шелгунова была высоко оценена передовыми рабочими. Незадолго до смерти, в 1891 г., его посетила делегация петербургских рабочих и вручила адрес, в котором было отмечено, что именно ценят рабочие в его литературной публицистической деятельности. «Читая Ваши сочинения, — сказано было в адресе, — научаешься любить и ценить людей, подобных Вам. Вы первый признали тяжелое положение рабочего класса в России... Вы познакомили нас с положением бра-тьев-рабочих в других странах, где их тоже эксплуатируют и давят... Мы узнали, как наши товарищи рабочие в Западной Европе добились прав, борясь за них и соединяясь вместе. Мы поняли, что нам, русским рабочим, подобно рабочим Западной Европы, нечего рассчитывать на какую-нибудь внешнюю помощь помимо самих себя, чтобы улучшить свое положение и достигнуть свободы. Те рабочие, которые поняли это, будут бороться без устали за лучшие условия жизни теми средствами, которые Вы указали в Ваших сочинениях. Вы выполнили Вашу задачу, — Вы показали нам, как вести борьбу».
Шелгунов мог считать себя вполне удовлетворенным этим чутким отношением к нему передовых рабочих. Он понял интересы и нужды рабочих и нашел общий с ними язык. Они говорили с Шелгуновым как со своим руководителем.
В восьмидесятые годы — годы тяжелой реакции — Шелгунов стал настоящим вождем прогрессивной молодежи. Его авторитет вырос. В нем видели того, кто указывал молодежи путь к политической борьбе, ктопредосте-регал ее от ошибок и увлечений «абрамовщиной» и «толстовщиной».
Передовые идеи и стремления Шелгунова непрестанно развивались в направлении все более последовательного революционного демократизма. Постепенно смыкаясь впоследствии с рабочим движением в России, он донес таким образом свои идеи до начала революционного движения в России.
Неудивительно, поэтому, что весть о смерти Шелгунова повергла в глубокий траур всех передовых людей России, и похороны Шелгунова, скончавшегося 12 апреля 1891 г., как это отметил В. И. Ленин в 1907 г. в своей статье «Первые уроки», превратились во внушительную политическую демонстрацию, в которой вместе с студенчеством и передовой интеллигенцией приняли участие и рабочие. На гроб Шелгунова был возложен венок с надписью: «Умершему со знаменем в руках».
Публицистика Шелгунова как орудие пропаганды революционно-демократических идей в подцензурной печати
Н. В. Шелгунов, революционер-демократ по своим убеждениям, был одновременно плодовитым и оригинальным русским писателем-публицистом, употребившим свой литературный талант на распространение и укрепление революционно-демократических идей в русском обществе. Высланный из столицы в одну из самых глухих местностей, Шелгунов сумел вдали от библиотек, в отрыве от общения с культурными людьми поддерживать свое существование литературным трудом, освещая как вопросы местной жизни с ее глубокими социальными противоречиями, так, равным образом, подвергая систематическому пересмотру общерусские проблемы — исторические, экономические, литературные, педагогические и приучая читателей самостоятельно передумывать традиционные решения их в новом, революционно-демократическом и материалистическом направлении. Это была весьма нелегкая задача в условиях подцензурной печати, но Шел-гунов не изменял ей до конца своей жизни.
Тематика его статей весьма широка. В то же время обстоятельное знание русской жизни, самостоятельность взгляда на вещи, несмотря на то, что автором пересматривались старые вопросы русской жизни, русской истории и русской литературы, делали его статьи не шаблонными, а жизненными, злободневными и целеустремленными.
Статьи Шелгунова усердно читались молодежью и рабочими, которые черпали в них знакомство с самым широким кругом вопросов. В 1880 — 1890 гг. статьи Шелгунова пользовались большой популярностью в нелегальных кружках и служили хорошим пропагандистским материалом. Эта широкая популярность Шелгунова в массе читателей объясняется тем, что он не просто передавал готовые знания, а выступал как мыслитель и политический деятель, как пропагандист, распространяя в условиях царской цензуры основы революционно-демократического мировоззрения.
Очень скромно оценивая свои личные литературные дарования, Шелгунов в то же время высоко поднимал поставленные им перед собой задачи публицистической пропаганды революционно-демократических идей. Он скромно называл себя публицистом, но свою роль публициста он понимал исключительно высоко, противопоставляя ее тем задачам, которые обычно преследовались в то время так называемыми корреспондентами и фельетонистами. «Публицист, — писал Шелгунов, — обобщая и группируя факты, пользуется отдельными случаями как материалом. Кругозор публициста шире, деятельность его плодотворнее; но зато она требует больших внутренних сил и знаний и подвергается большей опасности. Корреспонденты и фельетонисты, подобно поэтам, отдаются преимущественно чувству; они могут ограничить всю свою деятельность одним выражением негодования, преданием гласности глупости и пошлости. Но публицист должен отдавать перевес мысли над чувством; должен убеждать, расширять кругозор читателя и указывать ему отдаленные идеалы. Таким образом, публицист является пророком своего народа. Но чтобы пророк мог приносить пользу своему народу, нужно условие, — чтобы были желающие его слушать. Нет публицистики, если не находится желающих слушать». Условия русской общественной жизни во 2-й половине XIX в. были такими, что публицистическая революционно-демократическая деятельность Шелгунова не пропадала даром и находила широкий отклик в умах и сердцах его читателей.
Содержанием публицистики Шелгунова были философские и социально-политические идеи революционной демократии в их применении к новым, пореформенным условиям русской жизни.
Как последователь революционно-демократической доктрины 60-х годов, Шелгунов держался, в основном, материалистического мировоззрения- и нес его в массы, популяризируя основные положения материализма. Первичность материи как объективного бытия и вторичность сознания — вот положение, которое Шелгунов стремился сделать ясным для читателей в первую очередь. В соответствии с этим, он прежде всего широко популяризировал в своих статьях естественно-научные знания своей эпохи. На естественно-научных статьях Шелгунова и Писарева И. П. Павлов, по его собственным словам, впервые получил вкус к естествознанию. Понятно, что вместе с популяризацией естествознания Шелгунов должен был раскрывать перед читателями основы материалистической гносеологии и соответственно этому бороться с идеализмом и в первую очередь с гегельянской идеалистической философией. Но, конечно, он не стоял на философском уровне своего учителя, Н. Г. Чернышевского, и в то время как последний, по характеристике В. И. Ленина, был единственным, действительно великим русским писателем, который «...сумел с 50-х годов вплоть до 88 года остаться на уровне цельного философского материализма» l, Н. В. Шелгунов, уже в силу условий своего времени, когда возрождались концепции кантианства и формировались идеалистические построения позитивизма, делал некоторые уклоны в сторону неокантианства и агностицизма. Критикуя Гегеля, он полностью отбрасывал все содержание его философии, не заметив положительной черты последней — ее идеи развития, отмеченной Марксом и Энгельсом.
Социально-политические взгляды Шелгунова, развившиеся под (влиянием революционной демократии, вытекали вначале из высокой оценки, которую получила во взглядах Н. Г. Чернышевского крестьянская община. Шел1гунов в 60-х годах был идеологом революционного крестьянства, сторонником немедленной революции и передачи земли народу. По его мнению, на основе общинного владения народ мог начать организацию новых форм общественной жизни, чуждых эксплуатации, которая к тому времени так широко уже развернулась в капиталистических странах Европы и вместе с неудержимым ростом и обнищанием пролетариата вызывала самые тревожные опасения относительно перспектив ближайшего будущего. В 60-х -годах Шелгунов, как и другие его современники, еще «не мог видеть, что только развитие капитализма и пролетариата способно создать материальные условия и общественную силу для осуществления социализма». Шелгунов считал, что именно русская крестьянская община с ее формами общинной собственности на землю может оказать противодействие капитализму и предохранить Россию от тех социальных бедствий, какие породила капиталистическая эксплуатация на Западе.
С течением времени, по мере того как в результате реформы 60-х годов, капитализм все сильнее проникал во все поры русской жизни, Шелгунов все более убеждался в том, что основу исторического процесса составляет независящее от воли людей социально-экономическое развитие общества и что, только присматриваясь к законам этого развития, возможно отыскать путь закономерного их изменения. Таким образом, в его социологических взглядах появляется сильная материалистическая тенденция. Шелгунов встает на путь изучения явлений конкретной русской жизни. Характерно при этом, что Шелгунов не был сторонником механистического взгляда на историю, согласно которому последняя создается всякого рода внешними влияниями, начиная с географической среды, народ же только пассивно воспринимает эти влияния. 1
1 В. И. Ленин, Соч., т. 17, стр. 97. 14
Шелгуиов настойчиво полемизировал с так называемым географическим материализмом русского историка С. М. Соловьева.
С 70-х годов Шелгуиов приходит к убеждению, что Россия твердо встала на путь капиталистического развития и что ее производительные силы в целом начали быстро развиваться. Смену общинных патриархальных отношений в деревне промышленными, превращение патриархального отсталого земледелия в сельскохозяйственную промышленность Шелгуиов должен был признать явлением прогрессивным, хотя сопровождавшее их быстрое расслоение крестьянства и появление кулачества, закабалявшего крестьянскую массу, вызывало у него сильную тревогу. Анализируя с привычной ему трезвостью конкретные явления русской жизни, Шелгуиов стремился найти в них средства для борьбы с эксплуататорским строем, развивавшимся на почве капитализма. Естественно, что он пришел к выводу о необходимости организации прогрессивных сил русской жизни и борьбы с явлениями примиренчества и упадочничества, широко развернувшимися в 70-е и особенно в 80-е годы.
В поисках прогрессивных сил русской жизни, на которые можно было бы опереться в тяжелых условиях реакции второй половины XIX в., Шелгуиов, естественно, обратил внимание на возникшие в результате реформы 60-х годов земские учреждения. Общеизвестно, что земства были уступкой, вырванной у самодержавия демократическим движением 60-х годов. Это была уступка половинчатая, трусливая, но все же уступка, дававшая видимость какой-то самостоятельности целому ряду учреждений в условиях царской России. Когда в самом начале XX в. был поднят вопрос о действительной политической роли земств, причем реакционеры усматривали в них опасный «кусочек конституции» и призывали к упразднению земств, либералы видели в земстве силу, способную изменить общественные отношения в России. В. И. Ленин разоблачил неправильность той и другой точек зрения. «Это именно такой кусочек, писал Ленин, посредством которого русское «общество» отманивали от конституции», следовательно, ни бояться его, ни возлагать на него особые надежды нет оснований: ни «крупного», ни вообще сколько-нибудь самостоятельного фактора политической борьбы нельзя видеть» в земских учре-
ждениях; но во всяком случав «роль одного из вспомогательных факторов за земством отрицать нельзя» Именно поэтому, делая свой окончательный вывод, В. И. Ленин писал: «Для нас далеко не безразлична поэтому оппозиция нашей либеральной буржуазии вообще и наших земцев в частности... Мы будем приветствовать рост политического самосознания в имущих классах, мы будем поддерживать их требования, мы постараемся, чтобы деятельность либералов и социал-демократов взаимно пополняла друг друга» 1 2.
В свете этой ленинской оценки роли и значения земских учреждений понятно, что Н. В. Шелгунов был прав, когда, не переоценивая роли этих учреждений, считал возможным использовать их в борьбе с самодержавием. Самый факт организации земских учреждений Шелгунов оценивал весьма оптимистически. «Первая общественная возможность думать неизолированно явилась у нас лишь после освобождения крестьян, с земским и городским самоуправлением, — писал Шелгунов. — И наше самоуправление представляет не одну только возможность для лучшего мышления, но оно служит еще и его школой... Самоуправление, в которое мы вступаем, служит для нас приготовительным классом общественности и ничем, по существу, не отличается от всякого приготовительного класса любой школы». В этом причина того, почему Шелгунов так внимательно следил за работой земств, подвергал ее анализу и оценивал с революционно-демократической точки зрения, пытаясь использовать оппозиционные настроения некоторой части земских либералов.
Отмечая положительные стороны в развитии русской жизни, Шелгунов подвергал энергичному обличению явления, с его точки зрения, отрицательные. Столь характерные для реакционных 80-х годов теории «малых дел» и «непротивления злу», имевшие немало последователей, систематически подвергались саркастическим обличениям Шелгунова. Неумолим он был в особенности к реакционным деятелям, которые называли себя идеологами 80-х годов, но, ставя себя в один ряд с представителями 60-х годов, считали их взгляды уже отжившими,
1 В. И. Ленин, Соч., т. б, стр. Б9.
2 Там же, стр. 64.
устаревшими. «Им (восьмидесятникам) показалось, что та работа мысли, которую они совершали при ненормальных условиях, но потому, что это их собственная работа, и потому, что они народились в 80-х годах, должна исключить 40-е, 60-е и 70-е годы и составить эру в нашем общественном мышлении, а сами восьмидесятники должны занять место новых общественных вождей и обновить наше общественное развитие. Для подобного честолюбивого стремления у восьмидесятников, конечно, имелся прецедент, потому что, если были люди 40-х, 60-х и 70-х годов, то почему же не быть и людям 80-х? В силу этого они провозгласили представителей даже наличного предыдущего поколения отжившими и решили, что теперь наступило их время..., Но, не поняв, что они захвачены случайным током жизни и измолоты им, что они в сущности лишь «пожертвованное поколение», они собственную свою измолотость превратили в общественный принцип и общественную теорию, и начали проповедовать нирвану... Восьмидесятники всем своим умственно-нравственным существом составляют порождение тех ненормальных условий, которые должны были создать и ненормальное течение мысли. Кончилась или кончается эта ненормальность, — должно кончиться или кончается и ее последствие». Эти строки написаны Шелгу-новым в самом начале 90-х годов, когда для него стало ясным, что новое десятилетие обнаруживает «очень важные признаки наступающего иного движения мысли, указывающие, что девятидесятые годы будут формировать людей совсем не похожих на восьмидесятников. И теперь, — писал он, — действительно слагается формация иного поколения, которая в девятидесятых годах, может быть, еще и не выработает точной и резкой умственной физиономии. Те, кто слагается теперь, готовятся для жизни более отдаленного десятилетия... Вот это-то обстоятельство, т. е. что растущая, развивающаяся теперь молодежь дождется своей очереди еще, может быть, лет через десять, и обязывает ее помнить это и знать свою очередь, для которой она и должна готовиться».
К концу 80-х годов Шелгунов перестал уже смотреть на пролетариат, как на обездоленную, обреченную на гибель в капиталистическом котле рабочую массу. Все более ясно он начинал видеть в пролетариах творыескую революционную силу, которая, организовавшись, может положить конец эксплуатации и на новых началах строить социальную жизнь в стране. Шелгунов приветствовал рабочее революционное движение и выражал надежду, что оно продолжит революционные традиции 60-х годов.
Революционно-демократическая направленность являлась политическим содержанием литературно-педагогической деятельности Шелгунова и была частью той революционно-демократический борьбы, которую он вел с самого начала революционной ситуации 60-х годов.
Основные линии развития педагогических идей Н. В. Шелгунова
Давая политическую оценку значения этой ситуации в своих воспоминаниях, относящихся к середине 80-х годов, Шелгунов писал: «60-е годы слишком серьезное явление в исторической жизни России и они заключали в себе такую всеобщую обновляющую силу, что о них следует или совсем не говорить, или говорить только с тем глубоким уважением к людям и идеям того времени и к вожакам общественного сознания, которое вызывается величием самого явления и прогрессивным местом, которое оно занимает в ряду других явлений русской истории». Отражением этого революционного движения была вся литературная деятельность Н. В. Шелгунова, вытекавшая из убеждения, что прежде всего нужно нести в массы сознание выдвинутых перед ними новых, освободительных и преобразовательных задач. Понятно, что и литературно-педагогические работы Шелгунова не составляли исключения. Прежде всего они были направлены на разоблачение характера и системы воспитания трудящихся масс, которые упрочились© капиталистическом мире.
Не случайно поэтому, что одной из первых работ, опубликованных Шелгуновым в начале 60-х годов, была его большая статья «Рабочий пролетариат Англии и Франции» («Современник», 1861). Эта статья написана главным образом на основании исследования Ф. Энгельса о положении рабочего класса в Англии и снабжена предисловием Н. Г. Чернышевского, в котором он с большим негодованием обрушивается на тех, кто подвергает порицанию Ф. Энгельса, тогда как Энгельс «один из лучших и благороднейших немцев». Статья Шелгунова представляла собой, как и большинство публицистических работ 60-х годов, не просто пересказ исследования Энгельса, но одновременно и самостоятельную работу, написанную на основе материалов, собранных Ф. Энгельсом. Излагая поставленный в заголовке его статьи вопрос, Шелгунов не мог не коснуться большой проблемы воспитания детей пролетариата. Особенно близко подошел он к этой проблеме в главе «Женщины и дети». Всей совокупностью фактов, собранных в его работе, выдвигалось положение, что воспитание ребенка в раннем возрасте прежде всего зависит от социального положения женщины, ее здоровья, работоспособности, образованности, ее семейного положения и других условий. Развитие ребенка в течение целого ряда лет, начиная от рождения, органически тесно связано с социальным положением женщины-матери, с ее физическим, умственным и нравственным развитием. Женщина и ребенок — это два нераздельно связанные фактора воспитания на первой стадии развития ребенка. На капиталистической фабрике эти факторы болезненно разрываются в связи с тем, что женщина-мать принуждена идти на работу и оставлять ребенка беспризорным. Отсюда Шелгунов делал вывод о необходимости революционного преобразования общества, создания иного общественного строя, при котором мать-воспитательница получала бы необходимые условия для более благоприятного воспитания детей.
Переходя к характеристике работ Шелгунова, посвященных вопросам русского воспитания, необходимо отметить прежде всего, что значительная часть их посвящена систематическим откликам на те педагогические явления, которыми так богата и тревожна была жизнь России, вступившей в период длительной и затяжной реакции. Работы эти составляли значительную часть в педагогических произведениях Шелгунова. Это были, по преимуществу, статьи обличительные, полемические, в которых он поднимал актуальнейшие вопросы воспитания того времени.
Прежде - всего нужно отметить, что Шелгунов критиковал «классическую» реформу Д. Толстого, отмечая ее бесплодность и ее антидемократический характер, выразившийся в том, что, проводя реформу, Толстой добился распоряжения, которым запрещалось писать о ее недостатках, — так мало сам министр был уверен в своей реформе. Шелгунов писал: «Курьезно, что в то время, когда в Европе совершается решительный поворот общественного мнения га сторону гармонического слияния гуманитарных и реальных знаний, когда невежеством считается как пренебрежение словесными науками со стороны реалистов, так и пренебрежение изучением законов природы со стороны словесников, мы выступаем в лице просвещения с филологической системой и, забросив свой родной язык и живые языки, тщательно долбим на память греческие и латинские лексиконы».
Систематически откликался Шелгунов и на педагогические идеи Л. Н. Толстого 70-х годов: творческие попытки Л. Толстого в области педагогики, увлечение его религиозно-нравственными вопросами неизменно вызывали критическое к себе отношение Шелгунова, и возможно, что он явился лучшим и серьезнейшим педагогическим критиком «Азбуки» и «Книги для чтения» Л. Толстого, вызывавших у многих по адресу их автора то неумеренные похвалы, то столь же неумеренную брань.
Шелгунов признает, что «Толстой — незаурядный человек, незаурядный педагог», но именно поэтому «к нему следует относиться строже, требовать больше». Когда в 1875 г. вышла «Новая азбука» Толстого, Шелгунов подверг внимательному разбору этот труд, в котором его автор стремился по-своему разрешить проблему начального обучения ребенка. «Не желая подражать ни Ушинскому, ни Бунакову, ни Водовозову и желая дать свое. Толстой в сущности дал то, что вызывало протест против старой школы». В результате стремления подняться над немецким методическим педантизмом, влиянию которого сильно подвергались тогдашние русские педагоги, Толстой дал «ни более, ни менее как старинный букварь, необыкновенно монотонный и однообразный, над которым заснет всякий ребенок». Шелгунов удачно подметил, что в стремлении Толстого к оригинальности он незаметно теряет в своем, созданном для народа произведении черты народности. «Устраняясь от того материала, которым пользовались Ушинский, Водовозов, Толстой дает какой-то переводный, европейский, немецкий, французский и даже космополитический». Главный недостаток всех рассказов Толстого в том, по мнению Шелгунова, что в них нет «реального, практического содержания, что они отличаются каким-то сказочным, басенным оттенком и что даже действительная правда в них не похожа на правду». Вызывает недоумения «Новая азбука» Толстого и с методической стороны. Шелгунов обращает внимание на то, что в выборе слов для чтения автор букваря не стеснен какими-либо методическими соображениями и «дает только слова, а не понятия. Гр. Толстой рассказывает, что «стал лев стар», или: «У одной обезьяны были два детеныша», или: «Орел свил на дереве гнездо». А что такое лев, обезьяна, орел? — для ребенка неясно, так как картинок в букваре нет». — В результате такого разбора Шелгунов постепенно вскрывает, что, несмотря на общепризнанные качества Толстого как мастера русского художественного слова, его букварь все же не чужд существенных методических недостатков.
Наравне с выдающимися педагогическими произведениями своего времени Шелгунов подвергал критике и массовую методическую литературу по вопросам начального обучения, наводнявшую книжный рынок, который предъявлял требования к этой литературе в неограниченном размере. Находя законными требования рынка в отношении количественного роста педагогической литературы, Шелгунов одновременно предъявлял к ней требования качественного роста. Подвергнув разбору только что вышедшее в 1875 г. «Руководство к русской азбуке» Водовозова, Шелгунов делает такой вывод: «Главная ошибка наших педагогов в том, что они отнимают от наших детей всякую самодеятельность мысли и переход от известного к неизвестному доводят до такого смешного педантизма, что лишают ребенка всякой умственной самостоятельности. Они применяют на детском воспитании ту экономическую систему разделения труда, при которой голова ребенка становится вещью ненужной». Иллюстрируя эту особенность на примере книги Водовозова, Шелгунов показывает, как, задумав написать свою азбуку, Водовозов «отправляется в нутро собственной души, выслеживает собственные логические процессы, записывает порядок, в котором действует его познавательная способность, и затем решает, что и всякая детская голова должна не только думать так, как думается его голове, но и непременно сознавать все, что она думает, проходить тот же самый путь мысли с такой же отчетливой ясностью, с какой мыслит сам Водовозов». Здесь порочен прежде всего педантизм автора, но в особенности заслу
живает порицания то, что автор прививает детям ложные привычки мышления. «Целый урок он твердит детям, что кура серая, а гусь белый; у утки плоский клюв, а у голубя острый; у ласточки длинные крылья, а у воробья короткие. Точно ли разовьется у ребенка способность мышления, если он научится схватывать эти несущественные отличия?». В своей полемике с Шелгуновым Водовозов отвечал, что его упражнения имеют только формальный характер, что, не заботясь о содержании, сначала нужно дать хорошую гимнастику уму подобно тому, как в физической гимнастике заботятся только о развитии мускулов. Шелгунов резонно заметил, что гимнастики как искусства для искусства не существует, что «бесцельное упражнение тела, как и ума, есть самый бесчеловечный вид каторги и ведет за собой самые безнравственные и разрушительные последствия, ибо притупляет человека и превращает его в идиота». — Обвиняя постепенно разро-ставшуюся русскую педагогическую литературу в крохоборстве, которое вместо хлеба дает ребенку «объедки», Шелгунов с негодованием называл педагогов 70-х годов, спешивших поскорее выпускать свои учебные книжки и методические пособия, не заботясь об их содержании, — «спекуляторами», «откупщиками школьного дела». Его возмущала эта торговля педагогическими идеями невысокого качества. По этому поводу он писал: «царство педагогического откупа рухнет... Пользуйтесь пока временем, спекуляторы-педагоги, печатайте в сотнях, тысячах экземпляров свои развивающие азбуки, заполняйте ими школы; спешите, спешите, потому что на горизонте является уже легкое облачко и скоро разрешится в грозную тучу, и очнувшийся здоровый русский смысл и практические требования жизни сдуют вас со всеми вашими книжками, так что и следа вашего не останется».
Шелгунов активно реагировал и на появление теоретических работ по педагогике, искусно разоблачая скрытое за теоретическими положениями оправдание реакции. В этом отношении показателен перепечатываемый в настоящем сборнике критический разбор Шелгуновым курса педагогики М. Чистякова.
Таково было направление критической части педагогических работ Шелгунова, которые в настоящей краткой статье не могут быть подвергнуты более или менее подробному рассмотрению, хотя они и имеют большое значение для понимания той борьбы, которая происходила между прогрессивными и реакционными педагогами.
Шелгунов не только отзывался на злободневные вопросы русского воспитания 2-й половины XIX в., не только вступал в борьбу с теми разнообразными формами, в которых находила себе выражение поставленная в тяжелые условия реакции педагогика пореформенной России, — он неизменно стремился дать свое положительное решение педагогических проблем. В письмах к жене из тюрьмы и ссылки он сообщал о целом ряде задуманных им работ для детей и, между прочим, о составлении детской энциклопедии, планы которой он вынашивал. Условия поднадзорной жизни Шелгунова складывались, однако, так, что ему не пришлось взяться за выполнение работ, предназначенных непосредственно для детей. Зато он пользовался всяким случаем, чтобы выразить теоретически свои идеи о содержании и направлении воспитания в условиях пореформенной России.
Статьи Шелгунова, посвященные теоретическим вопросам педагогики, отличались от обычных специально-педагогических трактатов тем, что в них педагогические вопросы всегда рассматривались в свете широких общественных проблем, частные вопросы подчинялись общему социально-политическому направлению его мысли в революционно-демократическом духе. Педагогические проблемы рассматривались Шелгуновым в связи с социально-политическими условиями жизни русского общества. Так, например, говоря о материнском воспитании ребенка, он прежде всего обращал внимание на социальное положение матери, ее здоровье, образование, занятость производительным трудом и пр. Развитие ребенка в течение целого ряда лет, начиная от рождения, органически связывалось им с социальным положением женщины-матери, с ее физическим, умственным, нравственным, социально-политическим развитием. С особенной силой вскрывал он теснейшую связь между ролью, которую заняла женщина в области производительного труда, и ее ролью как матери и воспитательницы. «Если мать, производя ребенка, дает ему такое воспитание, что он выйдет экономическим производителем, то ее труд будет настолько же полезен, насколько разовьется ум и мускульная сила ее сына или дочери». Распространенные педагогические взгляды того времени были иными. Дома и в школе готовили детей «не для труда, а для наслаждения жизнью». Обществу, по мысли Шелгунова, нужно другое воспитание. «Хлопочите только о том, — наставляет Шелгунов матерей, — чтобы увеличивалось число умных и знающих людей и чтобы, сделавшись матерью, вы создали из своих детей не небокоптителей, а разумных экономических производителей». Понятно, что так воспитать своих детей могла бы только мать, которая сама стала на путь производительного труда. Начиная с 60-х годов, в городах России росло движение среди женщин, стремившихся освободиться от традиционного подчинения веками создававшемуся семейному быту и отыскать для себя самостоятельный заработок в той или иной отрасли труда, чтобы сделаться полезными членами общества.
Идя навстречу этому движению, Н. В. Шелгунов в 1865 г. опубликовал большую статью, посвященную «прекрасному полу», под заглавием «Женское безделье», в которой поставил серьезную проблему производительного труда женщин, причем, постоянно отклоняясь от проблемы экономической, он делал педагогические выводы о том, что производительный труд женщин является первым условием, при котором женщина может воспитать не «небокоптителей», не «землетоптателей», а разумных и полезных экономических деятелей.
Таким образом, говоря о воспитании ребенка на первом этапе, Шелгунов рассматривает этот процесс не как изолированную функцию рождения и кормления детей, выполняемую вне общественной жизни, а как производное социально-экономических условий, органически связанное с ними и с тем местом, которое в них занимает непосредственная воспитательница ребенка — мать.
В плане первоначального материнского воспитания ребенка написана Шелгуновым лучшая и наиболее систематизированная его работа «Письма о воспитании», предназначенная для русских матерей, но по своему содержанию выходящая далеко за пределы интересов узкосемейного воспитания уже потому, что основная задача, которую ставил Шелгунов перед воспитанием, к которому он и призывает матерей, это задача социально-политической подготовки подрастающих поколений для 24
служения обществу. Шелгунов требовал — с раннего возраста воспитывать в детях самостоятельность. Дети должны учиться «думать и действовать по-своему, и сами должны создать свои обстоятельства... Если вы, — обращался Шелгунов к матерям, — воспитаете такого борда, — вы создадите гражданина». Можно смело утверждать, что в русской да и иностранной педагогической литературе того периода не было работы, в такой степени насыщенной пафосом революционного воспитания подрастающих поколений, как это произведение Шелгунова.
Свою работу о воспитании Шелгунов оформил литературно как популярный курс рационального воспитания, основанный на новейших для того времени данных опытной психологии. Так называемая опытная психология в 60-е годы действительно была новым словом в науке. Она распространяла на область психологии эмпирический метод вместо прежнего, догматического. Задачей опытной психологии явилось — не возводить умозрительных построений о душе и ее свойствах, а изучать конкретные душевные явления, использовать их и в педагогике. «Законченной науки психологии еще не существует, — пояснял Шелгунов; — но ведь нет и законченной медицины, однако, когда вы хвораете, вы посылаете за доктором. Тем не менее, все-таки лучше пользоваться опытами и положениями незаконченной науки, чем своими личными, несовершенными знаниями и наблюдениями». С дальнейшим развитием психологии как опытной науки Шелгунов связывал большие надежды для воспитания. «Наука, изучающая человеческую душу, явилась только самой последней, да и до сих пор еще не сложилась вполне в законченное здание... Мы стоим только в начале того периода мысли, когда человек становится предметом наблюдения, и быстрота человеческого прогресса будет зависеть исключительно от того, насколько быстро пойдет это изучение. По отношению к русскому обществу нужно желать, чтобы распространялись психологические знания, а пока психология не сделается у нас таким же обыденным знанием, как география и арифметика, нам не следует удивляться и слишком негодовать на то, что наша общественная и частная жизнь представляет аномалии и что человек не существует для нас как предмет мышления».
Нельзя, конечно, понимать эти надежды на психологию таким образом, что только от ее разработки и будет зависеть человеческий прогресс. Не это хотел сказать Шелгунов, он хотел подчеркнуть, что отсутствие точных знаний о психике человека не может не отражаться и на успешном движении человеческого прогресса, в частности, науки о воспитании.
Несомненно однако же, что у Шелгунова была и другая мысль, которую он не считал возможным раскрывать, но которая просвечивала в каждой главе его работы. Это мысль о том, что психология по существу своему является наукой социальной, и как таковая она должна не только выяснить физиологические условия возникновения душевных процессов, но также и те социальные условия, благодаря которым воспитание подрастающих поколений получает то или иное направление. Понятно, что основную задачу правильной организации воспитания, задачу, подсказываемую каждой страницей его труда, Шелгунов видел именно в изменении тех социальных условий, под влиянием которых формируются личности и характеры людей. Вот почему Шелгунов так настаивал на распространении психологических знаний.
Подробный анализ и изложение «Писем» Шелгунова не входят в задачу настоящего краткого очерка. Этот анализ требовал бы более широкого и обстоятельного исследования. Раскрыв в своих «Письмах» социально-политические задачи воопитания, Шелгунов сделал свою работу настолько содержательной в педагогическом отношении и именно в отношении социально-политического воспитания подрастающих поколений, что ее без колебаний можно признать одной из лучших психолого-педагогических работ 2-й половины XIX в. Мимо этого замечательного памятника русской революционно-педагогической мысли 70-х годов нельзя пройти равнодушно и советскому педагогу.
Если на первом этапе своего развития ребенок органически связан с матерью, и его воспитание, в основном, обусловлено ее положением в обществе и ее развитием, то на втором этапе ребенок теснейшим образом связан с теми учреждениями, которые создаются обществом для его воспитания. Там и здесь (в семье и школе) решается социальная проблема воспитания, и успешное ее решение зависит от того, насколько правильно увязано воспитание с постановкой социальных задач в целом. Поэтому, наравне с большими проблемами материнского воспитания, Шел-гунов откликался и на задачи в собственном смысле общественного воспитания. Он писал о детских приютах, о детских клубах, о ремесленных училищах, о школах. «Нам нужны школы, еще школы и еще школы», любил говорить он. Но, конечно, школа школе рознь. К школам Министерства просвещения, возглавлявшимся реакционером Д. Толстым, как равно и к школам церковно-приходским, он мог относиться только отрицательно. Земские школы Шелгунов ценил больше. В своих статьях он довольно часто подвергал анализу работу земств по народному образованию, равно как и работу земских школ. В условиях
2-й половины XIX в. это были весьма интересные и поучительные попытки осмыслить пути школьного строительства не с точки зрения административной, а с точки зрения народнохозяйственной.
Шелгунов находил, например, неправильным, если земства поднимали вопрос о всеобщем обучении: раньше, чем у них была создана для этого материальная база. Он считал, что нельзя ограничиваться, как это иногда казалось возможным земским либеральным деятелям, лишь постановкой вопросов образования и видеть в этом панацею от всех трудностей при разрешении вопросов общественной жизни. Известно, что в деятельности земств по народному образованию нередко имела место идеализация, переоценка образования самого по себе, независимо от тех предпосылок, которые обеспечивают ему надлежащий успех. Чаще всего такая переоценка являлась результатом обычного либерального предрассудка, будто вместе с просвещением постепенно преобразуются социальные учреждения в стране. Ясно, что такая установка была на руку реакции, хотя имела видимость заботы о народных массах. Шелгунов не удовлетворялся усладительными речами либералов о народном образовании и его воображаемых благах, так как это давало повод отложить на более или менее отдаленное время заботу о насущных народных нуждах под тем предлогом, что в народе еще не распространено в надлежащей степени образование. По этому поводу Шелгунов в одной из своих ранних статей писал:
«Объяснять социальное развитие прямой и единственной зависимостью от образования — крайне близоруко... Если мы будем надеяться на одну грамотность да образование, то нам придется очень долго идти подобно тому ослу, который, видя привязанный к его лбу перед глазами клок сена, думал, что его можно достигнуть посредством движения вперед. Какая бесконечная перспектива была бы нашим уделом, если бы мы поверили, что отдельные блага образованности помогут нам скоро исцелиться от наших недугов. Неужели в ожидании этих благ нам придется еще целые столетия утешаться только одними надеждами на будущее! Это даже противно природе человека, которая всегда ищет и должна искать предпочтительно улучшения своего настоящего, которое в его руках, а не ловить синицу в море никому неизвестной будущности... Мы понимаем всю важность образования, но нельзя объяснить недостатком образования недостаток гражданского развития в обществе». Это было прямое разоблачение реакционности либерализма, настаивавшего на блестящих перспективах образования при сохранении существующего строя. Вместе с этим Шелгунов призывал к действенным мерам в данный момент, к таким мерам, которые могли бы привести к более или менее радикальному улучшению условий жизни масс, а вместе с тем и к возможности образовательной работы с ними.
Не ограничиваясь общим разоблачением либеральноидеалистического подхода к организации народного образования, Шелгунов стремился дать конкретный анализ действий либералов в решении проблем народного образования. В 1878 г. Новгородское земство издало сборник своих постановлений за 12 лет (1865 — 1877). Этому сборнику Шелгунов посвятил особый фельетон. Изучив все эти постановления, он подробно разобрал и проанализировал деятельность земства за истекшие 12 лет и пришел к выводу, что работа земства идет по ложному пути, так как оно оставило в стороне основной вопрос о развитии производительных сил своего района. В связи с этим Шелгунов писал: «Все свои заботы Новгородское земство свело к образованию и народной медицине. Мы не отрицаем, что народное образование и народное здравие заслуживают земского внимания, но если Новгородское земство сделало их главным предметом своей заботливости, то ясно, что ему! не был ясен тот порядок человеческих удовлетво-28
рений, для которого сама природа установила известный закон. Прежде всего человек должен быть сыт, и потом он уже идет в школу; человек должен быть сыт для того, чтобы быть здоровым. Но Новгородское земство, руководимое теми интеллигентными представителями, которые вдохновили его первые шаги и положили начало программе всей его последующей деятельности, поставило нравственные и умственные нужды выше материальных и все свое внимание устремило на школу и медицину»
Несмотря на всю значимость и образования и медицины в целом, в деятельности Новгородского земства за 12 лет его работы имел место коренной порок. Указывая на этот порок, Шелгунов писал: «Вопрос о средствах для народной школы есть прежде всего вопрос экономический. Прежде чем говорить о средствах для школ, нужно поднять производительные силы страны, привести в порядок наш экономический быт. А пока это не сделается, все наши сетования и разные предположения создать из ничего нечто останутся бесплодными пожеланиями... Перед нами три вопроса: народная бедность, народное образование и народное здоровье. Какой из них главный?» 2 Это была несомненно материалистическая постановка вопроса об организации народного образования: забота об образовании должна идти неразлучно с заботами о материальном благополучии народных масс, которых не хотели проявить земские деятели. Ставя вопрос об образовании трудящихся в зависимость от одновременного улучшения их материального существования, Шелгунов этим путем разоблачал реакционные и либеральные тенденции в «заботах» земств о народном образовании, боролся против сладкоречивых педагогических рассуждений, против затушевывания ими более настоятельных жизненных проблем русской действительности и намечал материалистический, революционный путь их решения.
Эти и другие примеры критики Шелгуновым неправильной работы земских деятелей в области народного образования не означают, однако, того, что Шелгунов был против работы земств и выступал против земской школы. Он писал: «Сказать, что грамотность, какою ее получает
1 «Дело» 1878, № XII, стр. 53.
8 «Дело» 1877, Ms VII, стр. 98, 100.
народ, не несет исцеления, еще не значит отрицать грамотность вообще; сказать, что интеллигенция, т. е. известная часть ее, в качестве заправителей, администраторов и советников, либо бесполезна, либо приносит вред, тоже не значит отрицать интеллигенцию вообще». Понятно, что в других условиях Шелгунов очень энергично выступал в защиту земской школы. Так, когда в начале 80-х годов начался поход против земских школ и в противовес им, при усиленной финансовой поддержке царского правительства, началось быстрое расширение сети церковно-приходских школ, Шелгунов выступил в защиту земских школ и показал то положительное, что уже создано этими школами за 20 лет. В первой половине 80-х годов не только реакционная печать была полна выпадов против земской школы, но даже в самих земствах, возглавлявшихся реакционерами, раздавались голоса против этой школы и предлагалось уступить школу духовенству. Гласный Гардер на Аткарском земском собрании говорил: «Образование народа приносит один лишь вред! Деревенские ребята в школах научаются безнравственности и неверию в бога. Учеников в школах учат не закону божию, а тому, что у коровы спереди есть голова, а сзади... хвост. Грустно! Пора это зло пресечь! Закрыть надо школы, уничтожить! Пусть попы да дьячки учат народ грамоте! Они научат народ чему-нибудь хорошему!»
В условиях обострившейся борьбы против земской школы Шелгунов выступил со своим очередным очерком в «Русской мысли» под заглавием «По поводу земской школы», в котором обрисовал тот, «повидимому, мелочной, но в сущности, гигантский труд, который вынесли на своих плечах творцы нашей народной школы... И, может быть, — писал Шелгунов, — ни на каком другом поприще жизнь не выдвинула столько беззаветных энтузиастов, которые, несмотря ни на какие лишения, толчки и неприятности, всецело охваченные любовью к ближнему, отдавали все свои силы, чтобы внести свет в темный мир заброшенной русской деревни». Собрав и изложив материалы о работе земской школы за 20 лет, Шелгунов подвел итоги ее работе: «Наша земская школа, — писал он, — делала несомненно много. Довольно сказать, что при прежней (до-земской) школе грамотности читать народу было нечего, кроме часослова и псалтыря, 30
Теперь же к услугам школы и народа более двух тысяч названий. Все это создалось в эти двадцать лет. Школ всех около 30 тысяч и в них учащихся до двух миллионов. Много? Нет, читатель, так все это мало, что составляет лишь одну десятую часть детей школьного возраста, а вместо 30 тысяч нам нужно иметь 300 тысяч школ». Что же касается внутренней стороны земской народной школы, то «теперешняя народная школа, как теоретическая и практическая система, есть целое здание, над которым мыслящая Россия трудилась 20 лет. Этого здания и опыта не вычеркнешь ни почерком пера, ни газетными статьями, и кто бы ни стал открывать школу, он обратится к этому нашему единственному умственному фонду, в котором только и можно найти руководящие указания по народно-школьному делу».
Так, в духе революционной демократии Шелгунов разоблачал все более упрочивавшиеся либерализм и реакционность в среде земских деятелей и в то же время защищал работу земской народной школы от реакционных попыток ее ликвидации. Довольно многочисленные, теперь уже забытые статьи Шелгунова, посвященные земским деятелям и земской школе, будучи собраны вместе, составили бы поучительный сборник, характеризующий борьбу представителей революционной демократии 70 — 80-х годов с либеральными и реакционными течениями в народном образовании.
Заканчивая настоящую краткую и далеко не исчерпывающую характеристику педагогических трудов и идей Н. В. Шелгунова, необходимо повторить, что посвященные вопросам воспитания и школы его работы представляют интерес как образец острой революционно-демократической публицистики 2-й половины XIX в. Поднятые в этих работах проблемы воспитания ставятся не абстрактно и схоластически, а конкретно, в теснейшей связи с другими вопросами общественной жизни и потому всегда радикально и смело, с твердой уверенностью в их жизненности и силе. Важны не отдельные частности этих публицистических выступлений, в которых автор мог иногда ошибаться, мог высказывать парадоксальные мысли, чрезмерно заострять в полемическом увлечении отдельные положения, — важно их общее направление, важен тот дух непримиримого протеста против укрепившейся реакции, против общественного застоя, благодаря которому в глухой период правительственной реакции давал о себе знать тот, казалось, подавленный революционно-демократический подъем, которым ознаменовалось начало 60-х годов.
Проф. В. Я. Струминский.
ПИСЬМА О ВОСПИТАНИИ
Вопрос о воспитании такая же вечно старая и вечно новая история, как солнце и любовь. Женщины это знают, но вот чего они не знают: — они не знают, что в дурном воспитании человечества винят их одних. «Дайте нам лучших матерей, — и мы будем лучшими людьми», сказал Жан Поль Рихтер. И русские педагоги перевели эти слова на русский язык и напечатали их во всех своих книжках, и теперь все их повторяют. Бедные женщины, вы даже не подозреваете, в каком преступлении вас обвиняют.
Лучших матерей!.. Но вспомните свою мать, разве это не была лучшая мать, разве кто-нибудь любил вас так, как любила она? Бывали у вас и другие радости, но разве это — то? А воспоминание о матери свежо и живо, и чем дальше от детства, тем оно яснее, понятнее и дороже.
Вспомните суровые, холодные, темные зимние вечера, когда вам приходилось пешком возвращаться в школу. Мороз казался еще холоднее, чем он был; а дежурные наставники и еще холоднее мороза. Все начальство было такое же холодное, двадцатиградусное и прямолинейное, точно ходячие деревянные перпендикуляры... А дома так тепло и уютно. Маменька сидит рядом и не может на вас наглядеться и подкладывает она вам в кофе жирные пенки и сооружает подле гору из сладких круглых булочек и сухарей; а к обеду приготовляет непременно жареную телятину с свеклой в уксусе. И крестит вас мать, отправляя на неделю в школу: «Бог тебя благослови — учись хорошо», говорит мама и завязывает в узелок 3 35
платка гривенник. «Смотри, Миша, не потеряй». Только теперь вы понимаете, почему маменька так крепко завязывала гривенник... А какой вы были злой!.. Вы запустили в мать ножницами, а она с кротостью только сказала: «Миша, Миша, много повредит тебе твоя горячность». Теперь вам стыдно за свое прошлое, особенно потому, что его не поправишь — ее уж нет... Вам нечем доказать ей, как вы ее любите, и вы только смотрите на ее портрет и слезы раскаяния и сожаления смешиваются со слезами благодарности и благословения. О как вы любите ее теперь! Теперь?! Но вы любили ее и тогда, когда швыряли в нее ножницами...
Говорят, дети не любят своих матерей так, как матери детей. Не верьте этому. Дети только любят по-своему, иным способом; но они любят сильно, страстно и даже глупо. Дети, отданные в казенные заведения, хирели и хворали, скучая по дому; но мне не случалось видеть матерей, которые бы хворали, отдавая своих сыновей в школу. Есть дети, особенно мальчики, замкнутые, робкие, сосредоточенные и повидимому неласковые, хотя в то же время очень нежные. У них недостает только привычки обнаруживать привязанность внешним образом. Мальчик действительно не ластится, не жмется и не целует своей матери; а ваша дочь, что это за милое и ласковое дитя и какое кроткое, внимательное! — но во-первых, позвольте каждому любить по-своему; а во-вторых, попробуйте-ка обидеть мать; вы увидите, что кажущийся бесчувственный и холодный сын — настоящий маленький вулкан, носящий под своей каменной броней самую энергическую, горячую привязанность. Я знаю случай, когда сын, вступившись за свою мать, кинулся с топором на отца. Это было, конечно, в деревне, думаете вы? — Да, но увы! не в крестьянской избе.
От матерей менее непосредственных, уже думавших о воспитании, мне случалось слышать такую воспитательную формулу: «Надобно, чтобы у человека было в жизни хоть одно светлое воспоминание». И желая создать его, они действуют совершенно так же, как и матери, закармливающие своих детей. Они точно так же подкладывают жирные пенки в кофе сына гимназиста и сооружают подле него горы из сладких круглых булочек; они точно так же завязывают в узелки гривенники и, когда сын бросает в мать ножницами, они точно так же говорят с кротостью: «Миша, Миша, много повредит тебе твоя горячность». Всепрощаемость матерей с воспитательным «принципом» идет еще дальше, чем матерей непосредственного чувства. От матерей брз принципа достаются детям нередко шлепки, мать с «принципом» этого никогда не сделает: она боится,, что шлепок отпечатает свои пять грязных пальцев на светлом зеркале счастливых детских воспоминаний сына, и дает своему сыну «свободу». Теория «светлых воспоминаний» является таким образом демонстрацией; это — своеобразный протест против жизни, нечто вроде революции задним числом. Когда молодая женщина сидела еще под розовым кустом, а «он» был так чудно хорош, и на груди «его» было так отрадно забываться в сладком трепете любви, а завистливый соловей пел все громче и громче, молодая женщина думала, что жизнь только в этом. Но вот наступила осень, стало холодно и сыро, листья с розового куста обвалились, соловей улетел куда-то, и сделалось, наконец, так скучно, скучно... Сколько пролито тайных слез, сколько поздних сожалений... «И зачем я вышла замуж? мама, милая мама, — думали вы, заливаясь ночью слезами или глотая их, чтобы не услышал муж, — где ты? и какое это было счастливое время! Как ты любила меня! Как мне было отрадно подле тебя!...» И вот ввашем воображении рисуется маленькая комнатка, теплая и уютная, и сладкие булки, и яблоки, и игрушки, и ласки матери, и ее баловство; — точно во сне, точно волшебная сказка, так все это хорошо... «Неужели и с тобой будет то же, — думаете вы, глядя на свою спящую дочку, — нет, ты никогда не выйдешь замуж; я не хочу, чтобы ты была несчастна, я спасу тебя... А ты, бедняга, — думаете вы, глядя на сына, — я знаю, что не от меня зависит устроить твою жизнь». И вот разные ужасы рисуются в вашем воображении — война, пруссаки, истерзанные и обезображенные трупы, грязь из человеческой крови и раздавленного человеческого мяса, Сибирь..; У, как страшно! «Где бы ты ни был, с тобою будет всегда благословение твоей матери и ты вспомнишь меня, мой маленький друг; я, как твой ангел-хранитель, буду всегда с тобой и светлые воспоминания молодости, воспоминания о твоей матери, так любившей тебя, будут твоим утешением в несчастий, поддержат твой падающий дух, успокоят твое страдающее чувство». Бедная, бодьная и неразумная женщина!
Твоя любовь вводит тебя в заблуждение, и твой принцип никуда не годится.
Я знаю еще матерей, у них есть тоже воспитательный принцип и тоже много, много любви; но у них при этом есть еще и много денег. Странная какая-то любовь у матерей с деньгами! Их чувство не столько личное, сколько родовое: у них всегда есть фамильный портрет дедушки с бабушкой, безмолвных укоров которых они боятся гораздо больше, чем всякой живой действительной опасности. И как они любят и лелеют своих детей, как они берегут их от всякого дурного влияния! Их дома похожи на мебельный магазин и цветочную оранжерею; их детские — на дорогую игрушечную лавку, их классная комната — на гимназию. У них живет в доме учитель музыки выписанный из Богемии, за сыном ходит гувернер, выписанный из Швейцарии, за дочкой наблюдает гувернантка, выписанная из Лондона, детскую убирает немка, выписанная из Берлина; каждую субботу возят детей в театр и каждый день, перед обедом, катают их в открытой коляске. По воскресеньям — о какой это веселый день! — гости с утра и какие гости! какие у них превосходные шляпы и шляпки, перчатки, ботинки! ах, как весело! за обедом гости, вечером гости, и какие все милые, добрые, внимательные, и как все говорят по-французски! иногда мы даже танцуем запросто под фортепиано, — а потом ужин. Я знаю ровно тысячу таких матерей — и вы, люди пятых этажей, не думайте, что я говорю о временах крепостного быта. Мы одно время было пошалили и с увлечением освободили даже своих крестьян... И как хмуро смотрели на нас тогда портреты дедушки и бабушки! В их безмолвном укоре читалось: «дети, дети, понимаете ли, что вы делаете! Одумайтесь!» — и мы одумались и исправились. Я знаю десять тысяч чудесных историй о семействах, в которых живет родовая любовь и где все делается для почернелых портретов, висящих в массивных золоченых рамках. И все эти чудесные истории похожи одна на другую, как две капли воды.
Я знаю еще матерей, в строгих, спокойных и холодных чертах которых мне рисуется мое детство, морозные вечера, когда я возвращался в школу, и двадцатиградусное начальство, прямое, как катет прямоугольного треугольника. Эти матери никогда не ласкают своих детей, они их только хвалят или порицают; они им выставляют умственно баллы и в каждом действии своих детей видят или поведение или ученье. Мне кажется, что такие строгие и классические, как латинская грамматика, матери все были прежде гувернантками или классными дамами; так они и засохли на всю жизнь... Как все в них порядочно, холодно и скучно! Бедные дети! Вы даже никогда не видели пенок, вы не знаете, что такое жизнь — вы знаете только правила и не имеете ни малейшего понятия ни о говядине, ни о сдобных булках, ни о пирогах. Знаете ли вы, что ваш организм тратит в сутки около
3-х килограммов и что нужно восстановить эту издержку? Если вы думаете, что вам дают суп, говядину, кашу, хлеб, то вы думаете так потому, что вы еще дети, — нет, вы получаете пищевые вещества, вы должны получить около 100 граммов белковых тел, да 400 граммов безазот-ных веществ и около 2 000 граммов воды. Это все вы и получаете. Для вас совершенно непостижима ни поэзия жирных пенок, ни наслаждение слоеного пирога, ни мирная беседа у теплой лежанки, ни сказки старухи-няни, ни нежная ласка матери, — но зато вас воспитывают, чтобы сделать людьми. Для вас теплая лежанка — просто теплая лежанка, но знаете ли, что она выделяет из себя 20° тепла, тогда как в детской не должно быть более 14°, — ведь тут 6° больше! В Пруссии есть одна школа, где дети спят при 5° тепла. Сказки старухи-няни! Но знаете ли, что они возбуждают воображение, а куда уводит воображение?! Нежные ласки матери! — а разве кто-нибудь любит вас больше матери, разве она не потому заботится об вас так строго и даже боится с вами улыбаться, чтобы не помешать вашему правильному развитию? Наступит пора, когда вы поймете все ее самоотвержение и всю ее неусыпность. Она встает в 6 часов и будит вас в 7, в 8 она дает вам жиденький чай с молоком и хлеб с маслом, в 9 часов к вам приходит уже учитель музыки, в 10 — учитель географии, в 11 — учитель чистописания, с 12 до часу вам дается завтрак и отдых; в час — приходит учитель рисования, в 2 часа — учитель латинского языка, в 3 часа — мать идет сама с вами гулять, в 4 часа — обед, в 5 — опять должны начаться уроки и та же мать репетирует с вами до 8 часов, в 8 часов чай — в 9 уже пора спать. А на завтра опять то же, и послезавтра то же, и всякий день то же. Вам уже двадцать лет, вы взрослая девушка, но вы даже не подозреваете, что вы девушка — маменька вам об этом никогда не говорила. Для вас мужчина — только учитель, и все различие между мужчинами и женщинами заключается для вас только в том, что учителя хотят в суконных панталонах. Я знаю трех подобных девушек. О, какие они жалкие и деревянные, какие они бескровные, заученые и благонравные!
Я знаю еще матерей; это большею частью полные, многокровные, крепкие и энергические натуры вроде Опарихи Решетникова. Они сами воспитались в шуме, движении, хлопотах и суетне, и вся их жизнь вышла суетнею. С раннего утра они уже поднимают в доме содом, ходят, наблюдают, распоряжаются, всех бранят, суются во все, никому не дают покоя, никому не дают заняться делом, и своей шумной, беспорядочной энергией мешают решительно всякому. Но зато как они любят своих детей; они кормят их с нежностью, одевают и прихорашивают со страстью, гладят, ласкают и не налюбуются; они следят за всем, сами даже штопают детям чулки и чинят рубашки; они нанимают учителей и наблюдают за их занятиями, они за каждую единицу, полученную сыном в гимназии, объясняются с инспектором и директором, они следят за всеми гимназическими учителями, собирают об них все гимназические толки и сплетни и в неуспешности занятий своих детей сумеют всегда найти такую причину, которая никому не придет в голову. Недавно я прихожу к подобной маменьке: красная и возбужденная она ходит по комнате, точно заряженная туча...
О, милая Опариха, как я люблю тебя в такие минуты! Такое чадолюбие, такая энергия могли бы создать из тебя благородную Корнелию, а между тем, ты не больше как Опариха, и из твоих сыновей уж никак не выйдут Гракхи.
Я знаю еще матерей — в них нет ни капли крови, они прозрачны, нежны и хрупки, как китайский фарфор. Они больны от дуновения зефира и лежат в постели, если кухарка пережарит котлеты. Своими нежными, тонкими и прозрачными руками они держат весь дом в оцепенении, даже мухи не смеют летать в комнатах. И как нежная, прозрачная мать любит своих детей! С первого дня рождения она завертывает их в хлопчатую бумагу и воспитывает их как шелковичных червей. Ни воздух, ни ветер, ни солнце, ни дождь не коснутся никогда их нежного тела. Когда дети начнут ходить, вместо ваты навертывают на них шелк, бархат и кружева. Это, во-первых, для здоровья; а во-вторых, прозрачная маменька желает, чтобы ее дети были первыми детьми в городе, самыми красивыми и очаровательными. Мальчиков для этого завивают на ночь в папильотки, а девочкам отпускают и расчесывают волосы во всю спину. Это очень красиво! И мальчики выходят девочками в мужском платье, а девочки — нежные, прозрачные, кружевные девочки — точно ходячие картинки из немецкого «Базара»; они даже и играют только в те игры, которые нарисованы в «Базаре». Если Опариха делает только то, что выгодно и полезно, прозрачная маменька делает только то, что нежно и красиво, и это не столько из эстетических наклонностей, сколько от расстройства нервов. Прозрачная маменька сама слаба как бабочка, она сама требует нежного ухода, и своих детей она хочет сделать тоже бабочками.
Я знаю еще матерей... но ведь это становится уже бесконечной историей. И действительно бесконечной. Двадцать миллионов матерей, двадцать миллионов сердец, бьющихся самой искренней горячей привязанностью к своим детям! Понимаете ли сколько любви, сколько нежности, сколько забот и попечений, сколько бескорыстного самоотвержения! О, деревянные мужчины, не говорите о чувствах матери, потому что ваша чиновная душа никогда их не испытывала! Не мы ли научили вас осторожности, не мы ли научили вас беречь себя, жить для себя и любить только, себя? Не мы ли удерживали вас от всяких ненужных порывов и выводили вас на помочах, предохраняя от всякой опасности? Вспомните, как мы учили вас первым молитвам и как вместе с вами молились, чтобы бог уберег вас на всех путях жизни; вспомните, как мы просиживали над вами целые ночи, когда вы были больны, прислушивались к вашему неровному дыханию и сколько слез любви пролили над вами! Вспомните свою школу, вспомните суровое бессердечие, которое вас окружало, начиная от швейцара и до последнего начальника; — в чьей ласке, в чьем внимании находила ответ ваша детская душа, кто болел вашими страданиями и кто радовался вашим радостям? О замолчите, ради бога, замолчите, не оскорбляйте тех, кто так ЛК?бйТ вар!.. — Но не ко мне, добрее женщины, обращайтесь с этим упреком. Я понимаю вас и в каждой из вас я чувствую свою мать... Счастливое детствосего пенками и сладкими булками, и с ласками матери, и с его редкими гривенниками, и с его теплой лежанкой, и с его кошкой, которая теплее лежанки, и с его сказками, которые теперь уже не занимают... Я понимаю вас, добрые женщины; еще раньше Дарвина, опытом своей несчастной жизни, вы узнали, что жизнь есть борьба за существование. Как медведицы, вы засели в своих берлогах и оберегали своих медвежат. Вы учили их жизни, а научить жизни значило для вас застраховать их от всех будущих опасностей. Каждую из вас пугало что-нибудь, каждая видела в жизни свои опасности, испытала свои страдания, свои неудачи, свои разочарования и свои горести, и каждая из вас хотела вручить детям талисман своей опытности. Ведь только потому, что вы так любите своего Петю, вы прогнали семинариста-развивателя; только потому что вы любите своего сына, вы внушали ему, что он Иванов; только потому, что вы любите своего сына, вы совсем не обращали на него внимания и дали ему полную свободу; только потому, что вы любите своего сына, вы кормили его жареными пенками и сладкими булочками; только потому, что вы любите своего сына, вы завертывали его в хлопчатую бумагу и на ночь завивали в папильотки; все, что вы ни делали, вы делали потому, что любили своих детей. Но отчего же мы так худы, если вы нас так любили, отчего же нам нужны лучшие матери, чем были ими вы? Значит одной любви мало и, любя своих детей, можно создавать из них дурных людей, можно быть дурной матерью, можно быть не больше, как чадолюбивой медведицей. Вы и были медведицами и из своих детей вы создали тоже будущих медведиц.
КОГО ВОСПИТЫВАТЬ?
Какие бы мы ни делали глупости с своими детьми, нам всегда кажется, что мы их воспитываем. Маменькам, пожалуй, можно было бы простить это невинное заблуждение, если бы они не спорили. Скажите, что вам не нравится? Вы находите, что я слишком кутаю своего сына? Но знаете ли вы, какое у него слабое горло? Вы говорите, зачем я его не приучала к холоду ранее? Но знаете ли, что я пробовала приучать и всегда кончалось простудой? Вам не нравится, что он одет в бархатную куртку и панталоны, но знаете ли, что я сшила их из своего старого платья, которого уже давно не ношу? Вы говорите, зачем я беру репетитора, но он и с репетитором получает в гимназии единицы... — И есть же еще такие немцы-педагоги, которые говорят: «научите женщину радостям детской»! Милые маменьки, вы загубили нас своею любовью — дайте нам хотя немножко ума и общественных чувств! «Когда сошлись бойцы, — рассказывает Тит Ливий, — когда сверкнули обнаженные мечи — дрожь пробежала по зрителям»... Вы знаете эту историю — это описание битвы горациев и куриациев. После битвы римское войско с Горацием во главе вступило в Рим. У Капенских ворот встретила Горация его сестра — невеста одного из убитых куриациев и, увидев на плечах брата плащ своего жениха, распустила волосы, зарыдала и начала призывать имя убитого. Гораций выхватил меч и поразил сестру. «Так иди же ты к своему жениху, — сказал он, — если для него ты забыла своих убитых братьев и свое отечество. Пусть погибнет так и каждая римлянка, которая заплачет о враге». Да, нужно иметь каменное сердце, чтобы убить родную сестру! И в древнем Риме мы встречаем целый ряд таких каменных сердец. Гораций, Сцевола, Гракхи, даже Марий, Сулла, Помпей... Когда Марий был заключен в темницу и к нему пришел палач, Марий взглянул на него своим огненным взглядом и спросил: «достанет ли у тебя силы убить Кая Мария?» У дикого германца выпал топор из рук. Какие все люди и какие времена! Мы переживаем уже другие чувства и в нас живут другие стремления. Цивилизация, железные дороги, гуманность, дешевый ситец и бархат: — бедные римляне, вы не знали не только железных дорог, но вы не знали даже рессорных экипажей и не носили голландского полотна! Но зато вы жили одним чувством и одной идеей, тогда как у нас семьдесят миллионов чувств и семьдесят миллионов идей. Если бы завтра случился всемирный потоп, мы не позаботились бы о такой мелочи, лишь бы наши берлоги были на вершине Арарата. Да, Гораций был камень!..
Конечно, не отец, а мать дает у нас воспитание детям, но, увы! все, что нас делает людьми, мы узнаем не дома, а где-то в другом месте и много после домашнего воспитания. Действительно, мы сохраняем светлое воспоминание о своих матерях, но не потому, чтобы это было воспоминание самое лучшее, а потому, что оно самое первое; оно оставляет первый след в нашей памяти, а первые следы самые прочные. Вот почему человек в глубокой старости смутно вспоминает даже потрясающие ближайшие события своей жизни и совершенно отчетливо представляет себе свою рассказчицу-няню, теплую лежанку и мурлыкающую кошку, хотя эти впечатления оставили совершенно безразличный след в его чувстве и не имели ровно никакого влияния на его последующую жизнь. Одного этого психологического закона совершенно достаточно, чтобы убедиться в ошибочности женской теории «светлых воспоминаний»; но я могу привести и другое доказательство. Когда в зрелом возрасте слагаются твердые представления, когда собственным разумом оценишь все пережитые факты и выработаешь себе принципы, как часто суровые и неуклонные правила сурового отца действуют на нас с большею обаятельностью, чем все воспоминания о жирных пенках и сладких булках доброй и ласковой матери! В этих суровых правилах выискиваешь себе проверку поведения, руководящую нить, в них облекаешься как в броню, чтобы стать лицом к лицу с опасностью, тогда как светлые воспоминания о ласке служат утешением в момент упадка духа, когда чувствуешь себя одиноким, забытым, несчастным, страдающим. Они хороши только для поддержания пассивного мужества, но действуют всегда на эгоистическое чувство.
И матери жестоко ошибаются, перенося все свои заботы о воспитании на один ласковый уход. Говорят, у великих людей были замечательные матери. Это значит, что великие люди, кроме ласковых слов, слышали от своих матерей еще и другие. В этих-то других словах и заключается весь секрет воспитания и основания для «светлых воспоминаний».
Что такое воспитание и кого нам нужно воспитать из наших детей? Было время, когда суровая Спарта убивала слабых детей, а остальных кормила черной похлебкой и секла каждую субботу — создавались Леониды. Спартанец не боялся смерти..., он был горд и независим. Женщины были такие же, как мужчины, и награждали своею любовью только героер... Ридо! но и Рим, как Спарта, находил карканье черного ворона пленительнее пения соловья и знался только с царственными животными. У римлянина была идея и нравственная сила — он, не морщась, сжигал руку по локоть, чтобы спасти отечество, и римская матрона гордилась только такими сыновьями, именами которых писалась история. Были времена! Но разве история кончилась?.. Отечество! Но разве отечество было только у греков и римлян, а у теперешних людей его нет? Когда прошли мрачные средние века и снова проснувшаяся человеческая мысль дала помыслам более широкий размах — слово отечество получило опять свой таинственный, мистический, но в то же время шевелящий и возбуждающий смысл. Отечество! Сколько сердец заставляет биться это слово и как разно бьются все эти сердца! Американских патриотов оно заставляет объявить войну Англии, а французы, с криком: «отечество в опасности», берут штурмом Бастилию и провозглашают республику. Андрей Гофер, во имя отечества, умирает за австрийского императора; рейнские немцы, во имя отечества, принимают с восторгом Наполеона, а Штап, во имя того же немецкого отечества, хочет убить Наполеона. Итальянцы, во имя отечества, восстают против австрийцев и австрийцы, во имя отечества, подавляют итальянские восстания и заключают итальянских патриотов в казематы. Героини Сули-отки, во имя отечества, танцуют свой последний танец смерти и кидаются в пропасть, чтобы не достаться туркам, а турки, во имя отечества, освещают заревом пожара эту страшную сцену и ликуют о гибели изменников. А Миссолонги! Новейшая история не знает ничего подобного этому героизму и зверской безжалостности осаждавших. Когда город представлял уже кучу развалин, когда все, что можно было есть, было съедено, осажденные решились пробиться через турецко-египетское войско. Все, кто был в состоянии идти, пошел на последнюю вылазку, только больные, раненые и старые остались в городе. Женщины, подвязав грудных детей за спину, мальчики, девочки, безоружные ремесленники двинулись, окруженные ничтожною военною силою, в глухую ночь, на врагов. Только немногим удалось пробиться, все остальное пало под оружием зверского войска Ибрагима; город выжжен до основания, больные и раненые перебиты, а женщины, взятые в плен, проданы в рабство. Европа содрогнулась от этих ужасов. Вот это патриотизм, вот это любовь к отечеству!
Но почему же патриотизм только в этом, и разве отечество отстаивается только с оружием в руках? Когда Иван Гус проповедовал новое учение, разве не во имя отечества он действовал? Когда его осудили на сожжение, разве не во имя отечества был произнесен приговор? Когда какая-то старуха подложила горящую головню под его костер, разве не во имя отечества сделала она это? Когда Мартин Лютер начал реформацию, разве не во имя отечества он проклял папу и разве не во имя отечества папа проклял его? Когда Тилли, Валенштейн, Па-пенгейм опустошали Германию, разве не во имя отечества делали они это и разве не во имя отечества их бил Густав Адольф? Разве не во имя отечества действовала всякая революция и всякая реакция? Разве не во имя отечества южные американские штаты воевали с северными? Разве не во имя отечества классицизм стремится подчинить все своей идее и разве не во имя отечества выступает против него протестующий романтизм? Разве не во имя отечества Вашингтон отверг предложенную ему корону и разве не во имя отечества французские легитимисты провозгласили бы теперь Генриха V? Разве не во имя отечества о шстократизм борется с демократизмом, третье сословие свергло во Франции дворянство, а четвертое сословие хочет свергнуть буржуазию? Разве не во имя отечества совершилось у нас освобождение крестьян и разве не во имя отечества слышатся теперь отзывы, что реформы сделаны слишком рано?..
Бедные женщины! Когда вас окружает этот нестройный хор раздирающих противоречий и когда каждый отчизнолюбец предлагает в виде воспитательного образца свой собственный патриотизм, вы должны находиться в положении неопытного покупателя, разрываемого на базаре шумною толпой торговок. Не вас жаль в этом случае, а жаль ваших бедных малюток, потому что первый ловкий пройдоха может обмануть вас, и вы, счастливые и довольные, нанесете домой всякого хлама, гнили и лохмотьев и, одев своих детей в рубище, будете воображать их царскими детьми. Когда лев поручил воспитание сына своему другу орлу, и когда орел научил его всем птичьим напевам — от орла до перепелки, то ахнул царь и весь звериный свет, потому что важнейшая наука:
Знать свойства своего народа И выгоды земли своей.
Если эта мысль правильная, то вы должны воспитывать своих детей для своей страны. Но боже мой, сколько стран на свете и сколько поэтому должно быть разных воспитаний! Оставим в покое Патагонию, острова Товарищества и эскимосов; но в самом цивилизованном мире, в самой цивилизованной Европе какое многообразие условий жизни, стремлений, ближайших задач, которые преследуют народы! Француз, воспитанный во Франции, будет себя чувствовать несчастным в Германии, немец — во Франции, грек — в Турции, турок — в Италии, итальянец — в Пруссии, а русский — повсюду. Германия семьдесят лет воспитывалась в национальном направлении, чтобы отомстить Франции за Наполеона I, а теперь французы воспитывают себя в том же направлении, чтобы отомстить немцам. Чехи и поляки точно также вырастают в национальной ненависти к немцам и каждая полька, каждая чешка учит своих детей ненавидеть врагов. Немцы, с своей стороны, с холодным и язвительным злорадством относятся к угнетенным славянам, считая себя божьим народом, призванным сказать миру новое слово и занять все земли, где только произносится немецкое слово. Какая ужасная путаница! И внутри каждой страны происходит еще большая путаница. В открытой ли борьбе мнений высказывается она, в затаенном ли, подавленном протесте, или в пассивном безмолвии — трудность вопроса о воспитании не изменяется.
Кого же в самом деле воспитывать?
Ни для одного народа разрешение этого спорного вопроса не представляет таких трудностей, как для нас, и ни для одною народа он не имеет такой важности. Если бы, относясь критически к нашему воспитанию, мы стали укорять его в отсутствии целей и идеалов, такая оценка была бы неверной. Правда, русские матери не воспитывают из своих сыновей ни Гракхов, ни Муциев Сцевол, ни Юлиев Цезарей, ни Ганнибалов, ни Вашингтонов, ни Питтов, ни Грантов, но едва ли справедливо утверждать, чтобы они не желали создать из них Меттернихов, дипломатов и генералов. И у наших матерей такое же огромное честолюбие, как у знаменитых римских матрон, и если Корнелия гордилась тем, что ее дети умерли за справедливую и патриотическую идею, наши Матери умеют гордиться тем, что их дети делают блестящие карьеры и в очень раннем возрасте получают уже большое содержание.
Когда немецкие педагоги доказывают, что цель воспитания сделать человека счастливым, они, вероятно, думают о русских матерях. И действительно, все воспитание русских матерей устремлено на то, чтобы сделать своих детей счастливыми. Но что такое счастье? Диоген считал себя гораздо счастливее Александра Македонского и Иван Гус не считал себя несчастным, когда его жгли.
В одной русской детской книжке есть рассказ о двенадцатилетнем барабанщике французской республиканской армии, Жозефе Барра. Его окружили королевские войска и под угрозой смерти заставляли кричать: «да здравствует король», но Барра все-таки закричал: «да здравствует республика», и упал пронзенный двадцатью пулями. Вслед за тем русская детская книжка прибавляет: «Такой же пример геройской смерти был и в королевской армии лет за тридцать до подвига маленького барабанщика армии республиканской». Я не знаю, что думают дети, когда им представляют подобные примеры, но во всяком случае они не должны быть высокого мнения о доле барабанщиков, которые могут кричать все, что им угодно, и их все-таки расстреливают. Всмотритесь ближе в этот пример и вы увидите, что в воспитательном приеме русских матерей он возведен в обобщенный принцип. Счастье имеет для нас только материальный смысл, оно для нас физическое довольство, обеспеченное положение, блестящая карьера и выгодная женитьба. Мы учим своих детей не тому, что они должны делать, а тому, чего они не должны делать. Так как Жозеф Барра погиб потому, что кричал «да здравствует республика», а другой барабанщик — за то, что он кричал «да здравствует король», то мы учим своих детей не кричать ни того, ни другого, и они, не зная, что им кричать, вырастают глухонемыми. В воспитании наших матерей силен только один элемент — страховой: каждая по-своему смотрит на счастье и каждая воспитывает своих детей в идеях этого относительного счастья. Наши идеалы так своеобразны и мизерны, что нас решительно не понимают иностранцы; скажите американцу, что вы «почетный гражданин», и американец с гордостью йротянет ваМ руку — еМу йред-ставится будущий президент Северо-Американского союза; наших надворных советников немцы совершенно серьезно принимают за советников двора, а статских советников — за членов государственного совета. Иностранная точка зрения не известна еще ни одной русской матери, и купчиха, мечтающая вывести своего сына в почетные граждане, прежде всего учит его покорности, повиновению и послушанию.
Конечно, я не стану обвинять теперешних русских матерей, что не они создали русскую историю; но их нельзя же оправдывать и в том, что почетным гражданином они представляют себе только купца 1-й гильдии. Если русские матери не создали русской истории, они все-таки должны понимать ее, и если они не понимали ее в первое тысячелетие, — им надо начать понимать ее во второе. Но мы, родившиеся и воспитавшиеся в первое тысячелетие, не бросим укором в наших матерей. Иные времена, иные нравы, иные идеалы! Мы даже больше ценим таких матерей первого тысячелетия, у которых не было никаких идеалов. Их воспитание было просто, бесхитростно и сердечно. Они старались внушить нам хорошие житейские правила; учили нас быть кроткими, добрыми и честными в домашнем быту. Они не готовили нас «и для какой карьеры и отдавали в первое учебное заведение, которое брало к себе на казенный счет. Они видели в нас своих детей и любили нас как своих детей. Я даже сомневаюсь, чтобы им представлялся когда-нибудь вопрос о будущем. И какое тут будущее, когда бедность и нужда убили всякую надежду. Если эти простые, добрые матери не создали нам искусственного характера, не вложили в нас искусственных стремлений, зато своей бесконечной кротостью и добротой они спасли нашу человеческую душу и не испортили того хорошего, что дала нам природа.
Не так поступали женщины с идеалами. Своими собственными любящими руками они впускали червя честолюбия в юные сердца своих детей, и мальчуганы четырех лет уже ходили с червоточиной и хорошо знали, что будущий правовед или лицеист не может иметь ничего общего с остальными русскими людьми. Конечно, Александр Македонский не считал ровней даже царей, но мне еще не случилось видеть ни одного русского правоведа, из которого вышел бы Солон, Ликург, Катон или Бентам.
А между тем, эта воспитательная порча, когда идеалом гражданина служил элегантный чиновник, въелась необыкновенно глубоко во все русское воспитание, и служебный карьеризм во всю предыдущую русскую историю составляет единственный воспитательный принцип нашего материнского честолюбия и русского женского патриотизма. Я опять повторяю, что не русские матери создали русскую историю, но если они хотят быть матерями, которых бы никто и даже их собственные дети не укорили в воспитательной порче — им нужно узнать историю и отказаться от старых идеалов, для второго тысячелетия России непригодных. Для новой жизни нужно и действовать по-новому.
Когда в последнее десятилетие у нас поднялись всякие вопросы, выплыл из русской бездны и вопрос о воспитании. Но меня не обвинят в пристрастии, если я скажу, что наши новые матери остановились только на азбуке — на физическом воспитании. Я видел много матерей, которые обзавелись Маутнером, Комбом, Рекламой, даже Фогелем и физическое воспитание своих детей до трех, четырех лет вели, если не превосходно, то все-таки далеко лучше, чем наши маменьки, руководившиеся больше практическими советами старых нянек; старая нянька потеряла тоже свой кредит и сменилась няней молодой. Но как только первоначальное физическое воспитание оказывалось оконченным, и ребенок уже начинал заявлять себя как будущий человек, у молодых матерей не оказывалось никаких руководящих идей, никаких выработанных нравственных принципов, которыми они владели бы так же твердо, как печатным Комбом и Рекламом.
В иностранных педагогиках вы очень часто встретите похвалы английскому и американскому воспитанию, похвалы тому единству духа, которым оно проникнуто), тому вполне установившемуся направлению, которое господствует в школе и формирует как все общественное мировоззрение, так и привычки молодежи. Английские и американские заведения имеют так называемый «дух»; это традиционная наследственная нравственная сила, которая отпечатывает людей в известную патриотическую форму и создает из молодого американца будущего чистокровного «Янки», а из молодого англичанина «Джона буля». Не к тому я говорю это, чтобы сказав, что «Янки» и «Джон буль» — идеалы, а только к тому, чтобы указать на установившееся единство воззрений. И в древнем мире было подобное же единство патриотического направления и общественного духа; каждый грек был отпечатан в ту же форму и каждый римлянин был римлянином. Только потому-то Греция и создавала Фемистоклов, Аристидов, Мильтиадов, Демосфенов и Периклов, а Рим разных Горациев, Каев и граждански-честных Катонов Утических. И этим примером я не хочу сказать, что Гораций Коклес и Муций Сцевола должны быть нашими идеалами; я указываю только на то, что единство одушевляющего всех духа создает силу каждому отдельному человеку.
Но где же это единство в нашем воспитании? Где этот общий дух, который бы одушевлял всех одним стремлением и каждому человеку указывал бы одну и ту же цель — не материальную, не выгодной женитьбы или хлебного места, а высшую, благотворно действующую на подъем его духа? У нас, правда, издается газета «Гражданин», — добрый знак — но скажите мне, молодые матери, что значит быть гражданином?
Я знаю, что на этот вопрос вы мне не ответите, и потому я буду говорить за вас. Всякая предвзятость мешает независимости суждения, и всякий идеал есть рабство мысли. Великие примеры древности, — все эти Гракхи и Горации, — великие примеры новой истории — Гус и множество других, — даже те два несчастных барабанщика, которых расстреляли только за то, что они кричали разное, вовсе для вас не идеалы. Они действуют только своим общим впечатлением, той обновляющей силой духа, которая пленяет нас именно своей силой. Если так, то неужели честолюбивый правовед может служить идеалом? Ну, а где же у нас другие идеалы? Литература прошлого тысячелетия дала лишь отрицательные типы Собакевичей, Чичиковых, Ноздревых, Лаврецких и Рудиных; а нового тысячелетия — только Базарова, Воло-хова и затем целый ряд бесцветных теней под названием новых людей и т. д. Как же быть?
Но не смущайтесь, что по части русских идеалов вы не можете получить готового руководства вроде «Ухода за детьми» Комба или «Популярной гигиены» Реклама. Напротив, благословляйте судьбу, что никакая посторонняя сила не помешает честным порывам вашего сердца. Сама неудачная попытка создать типы новых людей доказывает, что для полного типа нет еще у нас материалов и что для общей гражданской мелодии не выработалось ни одной музыкальной фразы, ни одного музыкального мотива; все это были только потуги мысли и чувства, известный пророческий идеализм, вызываемый одними порывами духа, но не имеющий крепких корней в самой жизни.
Историческая жизнь создает свои идеалы веками, и чтобы выработался Собакевич и Чичиков, нужно было существовать чиновничеству и крепостному праву целые столетия. А мы на другой же день освобождения захотели иметь совершенно новых людей. Такой роскоши нельзя требовать даже от американцев. Франция, при всей даровитости своего народа, целое столетие вырабатывает себе новые формы жизни и создает для этих форм новых людей, и насколько ей это удалось, — вы можете судить по теперешнему французскому несогласию. Если у вас есть сила создавать людей — создавайте, но у вас ее нет, и потому предоставьте им создаться самим. Вы знаете только свое прошлое, но ваше прошлое не есть закон будущего и не обязательно для ваших детей. Немцы воспитывали себя семьдесят лет, чтобы отомстить французам, и действительно им отомстили. История вписала эти страницы кровью французов, и Франция не успокоится, пока не напишет столько же страниц кровью немцев. Но что выигрывают прогресс и свобода? Кому после французско-немецкой войны стало в Европе лучше?
Навязывая детям свои тенденции, свои предвзятые идеи и убеждения, мы создаем #из них рабов, а не свободных людей, мы только меняем ливреи рабства, но не творим людей, которые должны думать и действовать по-своему и сами должны создать свои обстоятельства.
Воспитание не в том, чтобы вылепить людей в готовые формы и дать им готовую инструкцию для поведения: воспитание — в том, чтобы развить в людях средства для безошибочного вывода. Наши дети должны быть лучше нас и мы должны воспитывать их лучшими людьми. Не мы создадим факты их жизни — создадут их они сами, и фактов этих будет у них больше, чем их было у нас. Если мы разовьем в своих детях все средства для верного 52
наблюдения, верной оценки и верного вывода, мы выпустим их в жизнь во всеоружии средств для борьбы с тем вековым злом, противуположная сторона которого зовется прогрессом. Если вы воспитаете такого борца — вы создадите гражданина.
ЧЕГО НЕ ЗНАЮТ ЖЕНЩИНЫ
Объективность, которую мы требуем от воспитания, приобретается вовсе не так легко.
Обвиняя матерей в том, что они передают детям свои предвзятые идеи, мы очень хорошо понимаем, как трудно от них освободиться, как трудно, а для многих и совершенно невозможно, выделить идеи своего личного, частного опыта из идей, которые формулирует наука.
Наука, конечно, не дает готовых понятий по многим вопросам жизни. Ответы ее точны и несомненны в одних положительных знаниях. Астрономия, математика, физика, химия, удовлетворяя ум вполне, в то же время служат только материалом для выработки понятий высшего порядка. Но затем остаются целые области, которые многим представляются слишком спорными, например, все науки, исследывающие общественную жизнь и общественные отношения, — история, политическая экономия. Но если эти знания и представляют просветы, если эти просветы наполняются гипотезами, то все-таки гипотезы пытливого передового человеческого ума следует поставить выше личных гипотез на основании мелочного ограниченного опыта.
А между тем, воспитание детей мы ведем именно этим обратным порядком; свой личный опыт и свой личный ограниченный материал мы ставим выше научного опыта, и идеи, формируемые знанием, мы усиливаемся заменить понятиями, выработанными своими личными средствами.
В нас даже живет безверие к науке и так называемые практические люди обзывают фантазиями все то, что не может быть осуществлено или превращено в осязаемую пользу немедленно. Они вам не возразят ничего ни против математики, ни против географии, ни против одного из тех хлебных знаний, которые дают средства к жизни; но как только ваш критический ум переходит в сферу более широких идей, как только вы коснетесь понятий общественного порядка, ум практических матерей отказывается следовать за вами в эту неведомую для них область; ваши вопросы остаются без ответа, и ваш пытливый ум парализуют сдерживающими сентенциями практического благоразумия. И после этого родители еще удивляются, что дети отказываются от умственного с ними общения и держат себя с замкнутой осторожностью!..
Воспитательное несчастье наших матерей заключается именно в том, что они считают непогрешимым только свой личный опыт и свое личное знание. Они непогрешимы и совершенны и не желают ничего большего, как сделать своих детей такими же, как они!
Но что такое ваш частный, женский опыт? Какими фактами он создается? Из какой области человеческих отношений формируются ваши понятия? Ваш женский опыт есть только опыт семейной жизни, опыт, извлекаемый из бесконечного ряда мелочных фактов, дрязг, неприятностей, разных практических неустройств и неурядиц, постояннно оттягивающих мысль в самую ограниченную и скудную область понятий и идей. Идей! Точно это и в самом деле идеи!
Для женщины общественная жизнь — когда она отправляется в гости, в концерт, театр, на бал, на общественное гулянье. Это высший предел, до которого достигает женская мысль. И в каком же круге идей вращается здесь бедная женская мысль? Как все, что ей приходится усваивать, мелочно, ничтожно и глупо! И в то же время мы не кинем камнем в женщину, в эту будущую жену и мать. Мысль требует пищи, как требует пищи тело; если нет пищи здоровой, вы берете то, что у вас под руками. Мысль, ограниченная узкой сферой, делает точно также свое дело, и разница лишь в том, что в ограниченной сфере получаются ограниченные результаты.
Сколько погибло способностей, не знавших другой, более широкой сферы умственной деятельности! Для прогресса человечества менее важно, что погибло много мужских способностей, и более важно, что погибали без полезного результата женские умственные силы. Не мужчина руководитель детей и не голос отца первенствует в домашнем воспитании. Но еще девушкой, в своем отчем доме, будущая жена и мать погружается в практику повседневных мелочей, видит лишь факты самого ничтожного свойства и ее мысль с первых своих шагов усваивает неискоренимую привычку вращаться только в сфере мелочного.
Нельзя представить себе ничего более жалкого, ограниченного, стесняющего и затупляющего, как женское воспитание. Какое ничтожество интересов, какая ограниченность кругозора, какая мелочность чувств и мыслей! И такая женщина, став женою и матерью, взяв в свои руки кормило домашнего правления, — только резче, смелее и самостоятельнее идет поэтому пути, по которому шла девушкой. О, матери, матери! Мы вас не проклинаем, но вас не за что и благословлять! Вы сами ничего не знаете, вы сами ни о чем не думали, вас никто никогда не учил этому — ни жизнь, ни ваша собственная мать, а поэтому и вам самим нечего передать своим детям!
И какое заблуждение обвинять во всем внешние общественные влияния! Скажите, кто создает их? Вы хотите, чтобы вас создали обстоятельства, но зачем же вы-то сами не хотите создать обстоятельств? Для вас нет интереса в общественных идеях не потому, чтобы не было пищи для них вокруг вас, а потому что ваш ум не воспитался в привычке их усваивать и ими жить. Вы отдаетесь только течению той практической волны, которая вас несет, и с вечной, нескончаемой пассивностью ждете, чтобы кто-нибудь другой отворил вам врата жизни, а сами для этого вы ни за что не встанете с своего насиженного места. Кого винить — ваших матерей, ваших бабушек, всю наследственную традицию, из поколения в поколение убивавшую женскую самостоятельность, женскую активность? Нет, неправда. Мы не отрицаем влияния наследственности и традиции; но она вовсе не такая помеха женскому развитию. Кто отрицает женские способности, кто отрицает женскую энергию и стойкость, кто отрицает нравственную силу женщины и ее наклонность к власти-тельству? Никто. Спросите мужей; они лучше всех знают нравственную силу женщины. Но женский ум был направлен не на то; ограниченность женского мышления происходит не от ограниченности женских способностей, а от ограниченности направления мысли.
В последние десять-пятнадцать лет «женский вопрос» произвел необыкновенное возбуждение между русскими женщинами. Но в том виде, как он установился, он одкосторонен, мелочен и жалок. Весь «женский вопрос» свелся к исключительному экономизму, к погоне за экономической самостоятельностью. «Женский вопрос» вышел хлебным вопросом, и неясность руководящего начала придала ему характер пошлости и пустоты. Теперь даже стыдно говорить о «женском вопросе», так он надоел всем своей бессодержательностью. Одно только ясно в «женском вопросе», что женщина желает учиться и что энергия, с какой женщина преследует свою цель, заставляет преклониться с удивлением перед женской нравственной силой, которой никто не ожидал.
Но если мы отнесемся к женской погоне за наукой с холодным критическим взглядом, тс увидим, что в этой погоне нет ничего ясно сознанного, точно обдуманного и строго соглашенного с нравственной природой женщины. Поэтому погоня за наукой является каким-то смутным порывом, чем-то неопределенным и во многих случаях комически смешным. Я знаю многих девушек и молодых, и немолодых, я знаю замужних женщин, имеющих взрослых дочерей, которые учатся настойчиво английскому языку. С каким усердием они ходят и долбят: We are told... We are told... We are told...
Но спросите их, для чего они это делают, и они вам не ответят. Они учатся «так», по какой-то непонятной, томящей их жажде деятельности. Я знаю девушек, которые настойчиво учились французскому языку, выучились ему и затем начали его забывать, потому что им не к чему приложить своего знания. С сожалением сообщают они вам, что знание языка у них испаряется и что они лишены возможности практики: «да вы читайте вслух, это еще лучше, чем говорить», — отвечаете вы им. — «Ах, эта мысль мне не приходила в голову», — возражает девушка. Именно учащиеся девушки только учатся; но мыслей у них нет. Ученье не просвещает их понятий, не создает им новых идей, не освежает и не обновляет их нравственного организма. Они складывают знания в себя, как в мешок, и остаются завязанными мешками, такими же бесполезными для общественного сознания и для общественно-прогрессивного движения, какими они были и без науки. Я знаю девушек, очень усердно изучающих арифметику. Посмотрите на энергию, с какой разрешают они задачи из задачника Иваницкого. «Я ужасно люблю заниматься математикой, так приятно допытываться и думать», — говорят они вам. Но что выигрывает ваше общественное чувство и мысль, если вы разрешите все арифметические задачи всех русских задачников? Я знаю девушек, которые с таким же сладострастием мысли учат геометрию, и те женщины, которые ее никогда не учили, смотрят на них с благоговением и даже страхом. Бедные, бедные! Зачем вам геометрия? Будете вы учительницей? Нет. Или вы будете учить своих маленьких сестер, помогать своим братьям гимназистам? Это хорошо, но ведь этого мало. Я знаю девушек, которые кидаются то на стенографию, то на немецкий язык, то на английский; я знаю девушек, которые учатся акушерству, музыке, пению — частию «так», частию, чтобы приобрести себе хлебное знание. Я встречал много девушек и женщин недовольных ограниченностью своих научных сведений, но я еще не видел ни одной, которая была бы недовольна своими общими воззрениями, общими понятиями, которая бы сознавала ограниченность, узость и скудость своих идей. Мы учимся акушерству, математике, физике, языкам, стенографии, итальянской бухгалтерии, телеграфной сигналистике, в последнее время мы ударились даже в юриспруденцию и римское право — знания все похвальные, хлебные, но кто из нас читает и изучает историю, физиологию, психологию; кто из нас читает и изучает науку о человеке, об обществе? Никто. Мы точно хотим быть только специалистами и ремесленниками, но не хотим быть ни людьми, ни членами гражданского общества, ни самостоятельными нравственными единицами, вносящими свои идеи в сокровищницу общественной мысли. Общечеловеческое для нас не существует, точно общечеловеческая идея превышает наши умственные средства, и мы накидываемся исключительно на одни притупляющие специальности, не желая расширять кругозора своих идей и понятий. Конечно, этот момент переходный — мы его переживем, но грустно, что он тянется пятнадцать лет и до сих пор женская мысль не доросла до своей поправки.
Будьте чем хотите — докторами!, акушерками, сигна-листками, провизорами, учительницами, но прежде всего будьте людьми, женщинами; готовьтесь быть матерями. Я говорю о женшине-матери не в узком смысле наседки, высиживающей цыплят, а как о женщине-гражданке, проникнутой идеями высшего порядка, понимающей связь семьи с обществом, понимающей, что семья есть основная ячейка всего гражданского общежития, и воспитывающей своих детей для этого общежития. Изучайте человека, изучайте общество, думайте в гражданском направлении и вы воспитаете в своих детях таких людей, в которых нуждается жизнь, и сами встанете на высшую точку влиятельного общественного положения. Арифметика, итальянская бухгалтерия и даже юриспруденция никогда не окажут вам такой услуги.
Бенеке совершенно справедливо называет воспитание прикладной психологией, и такое определение дает нам еще больше права утверждать, что первенствующая воспитательная роль принадлежит женщине.
Женщины не знакомы с психологией научным, систематическим путем; но вследствие своего подначального, зависимого положения они чаще, чем мужчины, замыкаются и наблюдают свои собственные душевные процессы. Самонаблюдение вырабатывает в женщинах так называемый психологический такт, известное уменье читать и безошибочно определять чужие нравственные состояния, так сказать, читать чужую душу. Психологический такт, дается, конечно, не всем женщинам, потому что он есть не возведенный в научное сознание результат наблюдений за собою и оценка своих внутренних процессов, которые затем и прилагаются к другим. У мужчин психологический инстинкт развит гораздо слабее и тем слабее, чем им приходится меньше наблюдать себя, чем меньше они играют общественную роль и должны действовать на других. Но оратор, публицист, литератор и педагог немыслимы без психологического такта, без уменья читать чужую душу и действовать на нее. Женщина, лишенная способности понимать человеческую душу, не имеет права быть ни матерью, ни воспитательницей.
Следовательно, при той невольной психологической подготовке, которой владеют женщины, им остается уже немного, чтобы познакомиться с этой основной наукой воспитания. Первое место, конечно, занимает способность наблюдать над собою и над другими, потому что только из фактов, почерпнутых личным наблюдением, можно создать и развить в себе способность понимать другого. Способность этого понимания вовсе не прирожденная гениальность, а простое выработанное знание, приобретаемое так же, как и всякое знание, т. е. богатством подмеченных фактов и верной их оценкой. За личным наблюдением следует чтение психологических сочинений, которые помогают понимать многие неясные для самого себя процессы, а вместе с тем и мысли дают психологическое направление. Если вы хотите быть настоящей воспитательницей, прежде всего познакомьтесь с психологией — наблюдайте, читайте и думайте в психологическом направлении. Без изучения человеческой души невозможно воспитание человека, ибо воспитать человека значит воспитать его душу.
Законченной науки психологии еще не существует, но ведь нет и законченной медицины, однако, когда вы хвораете, вы посылаете за доктором. Тем не менее, все-таки лучше пользоваться опытами и положениями незаконченной науки, чем своими личными, несовершенными знаниями и наблюдениями. В самом несовершенном воспитании вы пользуетесь психологическими указаниями, так сказать, зачатками науки, которую вы сами создали; система наказания, поощрения, воспитательная теория «светлых воспоминаний», теория «ласки», педантическое воспитание «умных» детей созданы вами на психологических основаниях, на известном знании человеческой души. При самом дурном воспитании вы не обходитесь без психологии — но только вашей личной, неполной и может быть ошибочной. Обратитесь лучше к помощи психологии научной.
Новейшая психология создалась методом естествознания — душа изучается опытом и наблюдением. Но психологический опыт существенно отличается от опыта естественного. В естествознании исследуются и наблюдаются предметы внешнего мира, при исследовании же души мы должны употреблять опыт внутренний. Душа изучается только самосознанием, оценкой своих собственных внутренних душевных состояний и процессов. Процессы, совершающиеся в других, мы можем познавать только посредственно, по тем внешним признакам — словам, выражению лица, действиям, — которыми обнаруживаются в них известные психологические состояния. Чтобы понять эти процессы, мы должны подвести их под свое личное Сознание; мы понимаем другого только потому, что научились понимать себя. Вот причина, почему при оценке чужого психического состояния легко делать ошибки.
И, несмотря на это, психология должна дать результаты более точные, чем другие знания. Внешний мир мы знаем не таким, каков он есть в действительности, а каким он нам представляется. Мы не можем узнать вешей, какими они существуют сами по себе, мы знаем их только такими, какими они нам кажутся; но в психологии, наблюдая свою собственную душу, мы узнаем не то, что нам кажется, а что происходит в нас в действительности.
Неполнота теперешних психологических знаний и наблюдений не противоречит этой мысли, а скорее подтверждает ее, особенно если обратить внимание на методы теперешнего и прежнего психологического исследования. Прежняя психология творилась метафизическим путем, путем голого умозрительного исследования, и она пришла к результатам, которые новая опытная психология отрицает. Например, метафизическая психология признавала, что человек является на свет уже с готовыми, прирожденными способностями. Новейшая опытная психология говорит, что в человеке нет ни прирожденного рассудка, ни прирожденного ума, ни прирожденного воображения. Если бы эти способности имелись в человеке в готовом виде, они обнаружились бы уже в ребенке. Но в ребенке, напротив, мы не находим ничего, кроме способности воспринимать внешние впечатления. Только уже впоследствии, когда ребенок воспринял целую массу повторяющихся впечатлений, он научается понимать, сравнивать, судить, думать. Если у ребенка нет способности или надлежащих средств воспринимать известные впечатления, у него никогда не явятся соответствующие суждения. Составить себе понятия о цветах или звуках может только человек, не лишенный органов зрения и слуха. Поэтому опытная психология говорит, что человек является только с известными силами восприятия и только этими силами создается и формируется душа.
Итак, человек родится только с известными силами, воспринимающими внешние впечатления. Эти воспринимающие силы называют чувством и чувство разделяют на внешнее и внутреннее. Внешние впечатления человек воспринимает особенными внешними телесными органами. Чувственный аппарат состоит из трех элементов — наружного органа, нерва, соединяющего этот наружный орган с головным мозгом, и части головного мозга, соединяющейся своими нервными клеточками с нервом. Человек воспринимает внешние впечатления внешними органами, затем эти впечатления передаются нервом мозгу и перерабатываются психическим неизвестным нам процессом в ощущение. Первое внешнее впечатление создается известным раздражением, которое производит внешняя среда на наши органы. Так, свет мы воспринимаем через посредство колебаний светового эфира, производящего раздражение глаза, звуки — колебанием воздуха, раздражающего слуховой аппарат, вкус, запах — молекулярным движением веществ, раздражающих полость рта и органа обоняния. Но среда, производящая эти раздражения, остается всегда одной внешней действующей средой. Она всегда остается вне нас, она никогда не входит в нас и ограничивает свою деятельность одним внешним наружным воздействием. Поэтому-то мы никогда и не можем знать действительных свойств или состояний нас раздражающих сил природы и познаем их лишь в переработанном виде, познаем их как результат нашего мышления, как продукт воспринятого впечатления, превратившегося в ощущение. Короче, мы познаем только свой внутренний процесс, а вовсе не материю, возбудившую ощущение, потому что эта материя доходит до нашей души не в своем естественном виде, а действует только как известная сила, как фермент, приводящий в движение наш психический аппарат.
Итак, материал, необходимый для внутренней психической деятельности, душа усваивает посредством своего физического аппарата. Из этого возникают два научных положения. Первое: аппарат, создающий ощущение, должен быть здоров, не поврежден, и второе: материал, раз усвоенный душою, может ею перерабатываться, если даже самый аппарат испорчен. Человек, родившийся зрячим, но впоследствии лишившийся зрения, навсегда уже владеет тем душевным познанием светового ощущения, которое он приобрел. Раздражите такому человеку зрительный нерв и в нем явится световое ощущение, тогда как у человека слепого от рождения светового ощущения нельзя вызвать никакими средствами. Следовательно, психическая деятельность есть собственно внутренняя сила душевного аппарата, воспринимающего внешние впечатления. Без этих впечатлений он не может действовать: мы не можем видеть впотьмах, не можем припомнить того, чего никогда не слышали, не можем слышать звука, если воздух не колеблется.
Внешние чувства делят на высшие и низшие. К высшим принадлежат зрение и слух; к низшим — обоняние, Вкус и общее чувство или общая Чувствительность, которой мы ощущаем голод, жажду, холод, усталость, боль. Осязание занимает как бы среднее место. У людей, одаренных неповрежденными органами высших чувств, осязание не играет первенствующей роли, но, например, у слепых от рождения оно служит почти главным проводником при составлении представлений й суждений. Шулера доводят осязание до такого совершенства, что ощупью различают карты.
Деление чувств на высшие и низшие основано на том, что только при посредстве высших чувств человек достигает высшего развития. Зрение играет при этом первую роль. Только воспринятое зрением удерживается в нас прочнее всего. Слух уже вторая способность. Когда дети слышат какой-нибудь звук, они не удовлетворяются одним вызванным им ощущением и непременно оборачиваются, чтобы увидеть предмет, производящий звук. Когда мы слушаем оратора или проповедника, мы не удовлетворяемся его словами, а хотим видеть и самого говорящего. Люди с дурным зрением и слухом никогда не достигают полного умственного развития. Причина малоумия заключается именно в несовершенстве аппаратов высших чувств, которое неизбежно сопровождает недостаточное развитие мозга. Все наши понятия и умозаключения составляются только вследствие деятельности высших чувств. Большинство слов в языке каждого народа относится именно к ощущениям и представлениям, вызываемым зрением и слухом. Низшие чувства, напротив, дают человеку очень ограниченный запас слов. Какие в самом деле понятия дают нам обоняние и вкус? Понятие о горьком, сладком, соленом, кислом, вонючем, пахучем и т. д. Но возьмите всю остальную область понятий, она решительно беспредельна, в ней вращается весь духовный человек, и сколько в этих словах разных оттенков и степеней, указывающих на разнообразие наших ощущений и представлений!
Кроме разной силы восприятия, разница в высших и низших чувствах заключается еще и в силе этих восприятий. То, что мы усваиваем зрением и слухом, удерживается в нас прочнее всего; только потому мы и помним лучше то, что видели и слышали. Но зрению принадлежит первенствующее место. Мы гораздо крепче удерживаем то, что видели, чем то, что слышали или читали. Один 62
слух никогда не удовлетворяет нас вполне, и, бел и возможно, мы ищем поддержки в зрении. На этой прочности восприятия впечатлений зрением основана вся метода наглядного обучения. Почему иллюстрированные издания имеют такой успех? Только потому, что зрение есть главный, основной орган, помогающий не только легчайшему формированию представлений, но и самых прочных представлений. Удержанное в памяти при посредстве зрения забывается гораздо труднее, чем удержанное в памяти при посредстве других чувств. Слух по своей удерживающей силе занимает второе место. Какая в этом случае разница с низшими чувствами? Разве мы запоминаем прочно вкус кушаний или запах цветов? Попытайтесь представить себе вкус уксуса или зажаренной котлеты, вкус щей, каши, пирожного, попытайтесь представить запах розы, левкоя, резеды, керосина, или ощущения холода, тепла, сырости. Решительно невозможно, и невозможно только потому, что впечатления, воспринимаемые низшими чувствами, не удерживаются в нас с такою точностью, как впечатления, воспринимаемые высшими чувствами, и потому не могут переработаться нашим душевным аппаратом в таком совершенстве. Вследствие этого, чувство зрения считается высшим, центральным чувством, и за ним стоит слух.
Но сила восприятия, зависящая при нормальном состоянии органов чувства от воспринимающей и перерабатывающей силы души, зависит также от степени развития самих органов или, вернее, от их впечатлительности. Сила восприимчивости бывает различная не только у разных людей, но и в отдельных чувствах одного и того же человека. Одни люди отличаются необыкновенно тонким слухом и слышат такие звуки, которые для других совершенно не слышны. Другие отличаются необыкновенно острым зрением. У третьих — слух гораздо развитее их зрения или обратно. Четвертым недоступны все впечатления одного рода чувств; та?, есть люди, представляющие себе неверно известные цвета, например, не воспринимающие ощущения цвета красного, зеленого, малинового. Острота или тупость впечатлительности отражается непосредственно на дальнейшей деятельности душевного аппарата, потому что если впечатления не могут быть восприняты с известной необходимой силой
Человек, лишенный тонкого, впечатлительного слуха, никак не достигнет полного музыкального развития; человек с слабым зрением не выработает в себе никогда настоящей силы наблюдательности; человек с субъективным ощущением цветов не может быть живописцем.
Но слабое впечатление может и не зависеть от силы органов и сил души. Ни одно впечатление, даже при самых острых органах, не подействует на душу с полным результатом, если впечатление было слабо само по себе или недостаточно продолжительно, чтобы оставить в душевном аппарате прочный след. Вот почему для прочного восприятия известных впечатлений нужно повторительное их действие, нередко очень настойчивое и учащенное. Во всяком случае, однако, прочность восприятия зависит от силы души, от энергии тех основ, которыми воспринимаются и перерабатываются впечатления. Когда эта сила велика, когда все воспринятые впечатления удерживаются прочно, продолжительно, тогда и так называемая память отличается верностью, точностью и устойчивостью. В обратном случае впечатления и извлеченные из них душою результаты оказываются бесцветными, непродолжительными, слабыми; человек не может составить себе прочный запас следов и вследствие того самое суждение его не может отличаться полнотою.
Но недостаточно еще одной воспринимающей и перерабатывающей силы души; от нее требуется еще известная энергия активности или известная сила стремления. Когда не существует этого стремления к впечатлениям, они до нас не достигают, если даже нет никаких других препятствий. Когда наше внимание поглощено чем-нибудь одним, то или слабо, или вовсе не воспринимает других впечатлений. Погрузившись в чтение или отдавшись какой-нибудь мысли, мы не замечаем ничего происходящего вокруг нас. Только от этого люди, занятые какой-либо постоянной идеей, и сумасшедшие, прикладывая, например, голову к раскаленной печи, не чувствуют ожога; в пылу драки человек не чувствует наносимых ему ударов; нравственно страдающий человек остается совершенно равнодушным ко всем впечатлениям, которые в другое время производят на него приятное, завлекающее впечатление. Таким образом, если у души нет стремления к известным впечатлениям, не достает так называемого внимания, то впечатления эти не Достигают до органов чувств. Но душевное стремление есть необходимая принадлежность нашего чувствующего организма; без него невозможно никакое чувственное восприятие. Мы хотим, чтобы наши органы приносили к нам впечатления и постоянно стремились к этим впечатлениям. Вы можете сделать опыт над детьми, которые гораздо сильнее, чем взрослые, отличаются живостью чувств. Закройте ребенку глаза или заткните ему уши, — он тотчас начнет устранять препятствие. Неприятность состояния, которое ощущает ребенок, заключается не в чувстве боли, — вы ему ее не делаете, — но его орган зрения стремится к впечатлению, а его душевный аппарат требует соответственного ощущения. Заключение в темной комнате потому так тяжело, что оно лишает деятельности целое чувство и всю связанную с ним деятельность души. Есть люди, отличающиеся необыкновенной живостью впечатлений. Каждое движение, каждый взгляд — все в них быстро. С необыкновенной скоростью и силой схватывают они все впечатления и так же быстро их в себе перерабатывают. Другие, напротив, отличаются малой стремительностью и живостью, все в них вяло, сонно, медленно. Последних зовут обыкновенно людьми ленивыми, апатичными, флегматичными.
Сила душевного стремления, так называемая живость, имеет огромное влияние на развитие человека. В то время, как живой, стремительный человек быстро схватывает впечатления и их перерабатывает, в то время, как он все видит и все слышит, — человек, лишенный живости, усваивает все впечатления туго, медленно, неполно и так же туго действует его душевный аппарат. На этом свойстве силы и живости восприятия беновано деление людей на даровитых и бездарных. Два человека различной живости будут и развиваться различно: один поймет скоро, другой медленно; один накопит в себе богатый запас самых различных впечатлений и ощущений и переработает их в соответственные понятия, представления, идеи; другой с ограниченным запасом ощущений составит себе и ограниченный запас идей.
Внешние впечатления действуют на душу в различной степени и от этого происходят различные душевные состояния. Впечатление может быть слабо и тогда оно не удовлетворяет нас, и это неудовлетворение выражается ощущением неудовольствия. Недостаточное впечатление мало сознается, скоро исчезает и производит неполные, незаконченные психические продукты. Вместо того, чтобы вызвать полную деятельность чувствующего организма, они возбуждают только часть и действуют на душу расслабляющим образом, давая ей меньше пищи, чем сколько ей нужно и сколько она может вынести. Таким образом действует всякое неполное возбуждение, например, если внимание возбуждено речью оратора, но до слушателя доходят лишь некоторые слова, он настораживает весь свой слух, впивается глазами в оратора, чтобы полнее воспринять впечатление, старается протолкаться вперед, — и если за всем тем ощущение не достигает полной силы, слушатель -недоволен. Неоконченный разговор, неоконченная мысль, недостаточно увиденный предмет вызывают всегда в душе тревожное, неудовлетворительное, неприятное состояние.
Впечатление, по своей силе соответствующее воспринимающей силе души, есть нормальное, полное удовлетворение. Оно не производит ни удовольствия, ни неудовольствия, а порождает спокойное состояние души и создает нормальные психические продукты. Такое состояние души можно сравнить с ощущением тела в обыкновенной комнатной температуре. Нормальные удовлетворения, при последующих новых повторениях тех же ощущений, -ведут к постепенному развитию и усовершенствованию душевных сил.
Если впечатление довольно сильно, но еще не настолько, чтобы быть чрезмерным, и избыток его без труда воспринимается душевными основами, мы ощущаем приятное состояние и чувствуем так называемое удовольствие. Особенность этого состояния в том, что душевный аппарат, возбужденный приятным образом, стремится к повторительному впечатлению, и это стремление есть так называемое желание. Первоначально душа стремится к ощущениям безразлично; она еще ничего не знает, ничего не сознает, она просит только пищи, сама не зная какой. Но когда она уже раз усвоила впечатление, когда известные ощущения стали ей известны как приятные, она стремится уже к тому, что ей знакомо и что пробуждает1 в ней чувство удовольствия. Это состояние души психология не называет нормальным, потому что при избыточном возбуждении является всегда сильное напряжение и часть впечатлений не оставляет в душе прочных следов: они утрачиваются. Такое состояние мы испытываем, например, ПД блестящем бале, на котором нам было весело, в концерте, доставившем нам большое удовольствие, в разговоре, подействовавшем на подъем нашего духа и возбудившем энергию душевного аппарата. То, что утратилось, то пропало бесследно, и только то нормально, что сохранилось в нашей душе.
При избыточном и часто повторяющемся впечатлении является чувство пресыщения; одна и та же повторяющаяся мысль, один и тот же повторяющийся музыкальный мотив, одно и то же общество, если оно не вносит в нашу душу новых элементов сознания и развития, — наконец, нам надоедают. Мы говорим про человека, что он опротивел, когда производимое, им на нас впечатление есть постоянное повторение предыдущего впечатления. Тот же результат производит всякое не освежающееся однообразие. Бывали примеры, когда очень умные, образованные и развитые люди, принужденные жить вместе, надоедали друг другу до того, что избегали один другого и искали уединения. Пресыщение притупляет душу, лишает ее энергии, стремления и производит по преимуществу ненормальные психические продукты. Оно действует преимущественно на низшие чувства, хотя нередко и в высшем чувстве. Я приведу в пример общеизвестное ощущение — любовь, когда взаимные отношения поддерживаются исключительно однообразным впечатлением чувства. Факты, когда муж и жена надоедают друг другу, факты, когда замужняя женщина начинает скучать, не имея детей, факты, когда муж бегает из дому отыскивать новых впечатлений в клубах и театрах, — слишком повседневны, чтобы не были известны всем.
Наконец, впечатление может быть чрезвычайно сильно и внезапно. Например, мгновенный яркий свет, неожиданный выстрел, поражающая радость или горе. Все эти впечатления не только подавляют своей мгновенной силой, но и своим избыточным раздражением расслабляют душу и производят в ней болевое ощущение. Эти сильные, внезапные впечатления не только парализуют душу, но и повреждают физические органы. Бывали примеры, когда люди умирали от внезапной чрезмерной радости или неожиданного горя. Понятно, что люди стараются избегать всех впечатлений, производящих болевое ощущение.
Хотя в новорожденном не существует никаких roto вых способностей, но в нем есть основы всех способностей души, которые и проявляются уже с первого дня рождения. Родившийся ребенок тотчас же видит, слышит, обоняет, он сейчас же начинает воспринимать впечатления и перерабатывать их. Не имея, так сказать, готовой души, он уже обладает тем субъективным содержанием, той живостью и впечатлительностью, которые рядом восприятий формируют, наконец, сознание. Это сознание формируется довольно медленно, целым постепенным рядом повторяющихся впечатлений, которые должны произвести довольно прочные следы, чтобы из них могло возникнуть сознание.
Нет никаких причин думать, чтобы душевные процессы, совершающиеся в ребенке, отличались чем-нибудь от психических процессов взрослых. Единственная разница, которую можно допустить, есть количественная, а не качественная. Душа ребенка отличается от души взрослого только меньшим богатством и разнообразием следов впечатлений; но в силе основ она ничем не отличается. Для ребенка нет ни особой природы, ни особых впечатлений; он должен жить и живет в том же мире, в котором живут и большие. Следовательно, если бы силы ребенка были слабее сил взрослого, они были бы не в состоянии вынести того сильного раздражения, которое выносят взрослые, и подвергаться слишком сильному впечатлению; детская душа не развивалась бы, а, напротив, слабела бы или даже парализовалась.
ЧЕСТНАЯ ПАССИВНОСТЬ РАССУДКА
Знаменитое «мыслю, — следовательно, существую», возвело в сознание то, что прежде только смутно чувствовалось. Человек не потому мыслит, что он существует; нет — он существует потому, что мыслит; кто не мыслит, тот только занимает бесполезно место в обществе.
Но что значит мыслить? В психологическом смысле мышлением будет всякий рассудочный процесс; можно ли, однако, в европейски-социальном смысле назвать мышлением — суждение новозеландского дикаря или той умной кошки, которая под колоколом воздушного насоса заткнула лапой отверстие воздушного канала? Если человек воспитывается для общества, то мышление
его должно совершаться в общественно выгодном направлении; когда же мышление не имеет подобного характера, то все равно, что его не существует, все равно, что человек не мыслит.
В экономической науке давно уже установился принцип, определяющий признаки несомненно экономических действий. Наука признает экономическим действием только тот труд, в результате которого получается новая полезная меновая ценность или который способствует созданию новых полезных предметов. Человек, играющий в карты, сколько, бы он ни выиграл, будет всегда экономически убыточным человеком, потому что он своим трудом ни на одну копейку не увеличивает богатства своей страны. Человек, задумавший считать песчинки, может пересчитать пески всей Сахары и все-таки труд его пой; дет в убыток человечеству. Учитель, не воспитывающий способности своего ученика в направлении развития его экономически-производительных сил, не приносит экономическому мышлению человечества никакой пользы, и труд его — труд пропавший, точно его и не было.
Прилагая этот принцип к воспитанию, мы спросим: если цель воспитания — приготовить человека для общественной жизни, то можно ли считать воспитанием такое действие, которое не готовит из человека прогрессивно-полезную общественную единицу? Нет. И нет потому же, почему игра в карты или считание песчинок Сахары не есть экономический труд. Воспитывая для европейской общественной жизни новозеландских дикарей, вы собственно не воспитываете ничего; все ваши расходы — пропавшие расходы, все ваши.труды — пропавшие труды; каждая вещь, каждая книга, каждое замечание, каждая мысль, не достигшая воспитательного результата, — пропала бесследно, безрезультатно, бесполезно. Можно ли считать благоразумным купца, который действует, не предвидя, не пытаясь предвидеть результата и даже не зная, какой цели ему следует достигнуть? А в воспитании разве мы не все такие же ограниченные купцы, рискующие всеми своими средствами? Рутина, бессмыслие, усвоенные смолоду привычки, заученные на память правила — вот наши воспитательные средства й орудия, которыми создаем целые поколения таких же, как мы, механических ограниченностей и потом еще удивляемся, что история человечества идет так торжественно тихо и нам самим жить так невыносимо скучно. По Зюсмильху, из 1 000 родившихся до 20 лет умирают 509 человек, т. е. больше половины. Определите, сколько было истрачено на них забот, попечений, сколько стоила их пища, одежда, как велики были все остальные расходы! Все это пропало безрезультатно и бесследно: лучше бы этой половине человечества вовсе не родиться. Но что же сказать о размере всего вообще пропадающего непроизводительно воспитательного труда? А между тем, кто думает об этом, кто считает себя ошибающимся, кто не воображает, что он в своих детях создает мыслящие существа, тогда как в действительности все наши воспитательные попечения направлены именно на то, чтобы ограничить средства мышления! И в то же время, какое бессилие выкарабкаться из ходячих понятий, какое отсутствие потребности знать, какая тупость воспринимающих органов, какое бессилие перерабатывающего душевного аппарата! Да, нашим родителям и воспитателям трудно сказать даже самое умеренное похвальное слово. Душа болит, когда видишь это нравственное избиение младенцев... и кто это понимает! А мечтатели и энтузиасты возмущаются: они хотят вложить свою душу в чужую душу, хотят сделать эту душу и доброй, и умной, и человечной. Жалкие безумцы! Но не смущайтесь. Если вы спасли хотя одну душу — ваше дело не пропало и вы прожили не бесполезно.
, Воспитать человека значит дать ему средства для сформирования ума. Но ошибаются те, кто думает, что человека можно приучить мыслить или — научить мыслить правильно. Ум вовсе не прирожденная способность; он не причина рассудочного процесса, он его следствие, его результат. Метафизическая психология видела в рассудке отдельную способность, образовывающую понятия путем мышления. Рассудок казался ей каким-то особенным существом, как бы живущим независимо в голове. Рассудку приписывалась способность сравнивать, различать и творческая деятельность, выражающаяся в выводе или в умозаключении. Такой взгляд на рассудок и до сих пор существует в общежитии. Нет ничего смутнее ходячих понятий об уме и рассудке. Еще недавно, после долгого спора с одной молодой матерью, которую, конечно, ни в чем нельзя было убедить, я услышал от нее: «у каждого свой взгляд на ум». Да разве ум есть субъективное понятие, разве он то же самое, что красота, что приятное и неприятное, разве он определяется личным вкусом и личными требованиями каждого? И вы, матери, высказывающие подобные мысли, беретесь еще за воспитание!
Когда рассудок считали прирожденной, готовой способностью, с которою ребенок является в мир прямо из утробы матери, было очень логически предполагать, что стоит только дать рассудку известное развитие и он будет работать на всяких предметах, на всех путях, во всех областях мышления. Математика считалась и тогда, да еще считается и теперь, наукой, по преимуществу развивающей рассудок, наукой, наиболее помогающей разлагать суждение на его составные части и группировать части в целые суждения. Большинство думает, что математической гимнастикой можно творить умных, последовательно рассуждающих и неошибающихся людей. Такое заключение было бы верно, если бы рассудок составлял действительно независимую и самостоятельную способность. Но почему же можно быть отлично знающим математиком и совершенным дураком в частной и общественной жизни? Почему ученые педанты Германии прошедшего столетия были так бестолковы вне сферы своей кабинетной специальности? Отчего человек, очень сильный в логике, может затрудняться самыми простыми математическими задачами и для успешного их разрешения должен приобрести известный навык? Отчего всякий специалист всегда односторонен? Отчего в настоящее время истинным ученым считается только тот, кто, кроме своей специальности,, чувствует себя дома и во всех остальных областях знания?
На эти вопросы дает ответы опытная психология. Она признает за душою не прирожденные способности, а только прирожденные силы и известную крепость основ. Душевный аппарат воспринимает «следы впечатлений и из них образуются в душе — процессом, психологии неизвестным, — понятия из понятий, тем же процессом, составляются суждения и, наконец, является умозаключение. Что же такое понятие, суждение и умозаключение?
В природе нет никаких понятий, в ней есть только отдельные единичные предметы — человек, дом, дерево, камень, гора, лошадь и т. д. Предметы эти, воспринимаемые чувством, образуют в душе восприятия, которые затем преобразуются в общие родовые понятия. Работа эта при-надлежит исключительно нашей душе; общее только мыслится нами, не существуя в действительности. И все наши слова выражают лишь общие понятия; мы говорим: «стол», «стул»,, «нож», «топор», «мальчик», но это вовсе не какой-либо определенный, известный предмет, не известный «стол», «стул», «нож», и т. д., а общие родовые понятия, сложившиеся в нашей душе путем рассудочного процесса. Нравственные понятия — добродетель, зло, порок, невинность — точно также общие родовые понятия, созданные нашей душой. Чтобы привязать их к известному отдельному предмету, мы должны сделать специальное указание, и в таком случае говорим: «мой стол», «его стул», «этот нож». Но и слова «мой», «его», «этот» — тоже лишь общие понятия; в человеческом языке, не исключая даже имен собственных, нет ни одного слова, которое бы не относилось ко многим предметам. Что понятия не прирождены нашей душе, не являются в нас как объективное содержание, а составляют результат субъективного, личного процесса, убеждает уже то, что человек, живущий под полюсом, не может представить себе тропической природы, человек, не видевший никогда банана, не может представить себе, что такое банан; пока люди не увидели железной дороги, телеграфа, пушки, действия пороха, они не могли их себе представить. Человечество, переживающее теперешний момент механических изобретений и социальных отношений, не может вообразить себе того, что еще будет изобретено и как устроится будущее общество; слепые и глухие от рождения не могут представить себе синий, красный или другой цвет, звук трубы, человеческий голос, пение жаворонка. Ясно, что представление о чем-нибудь может быть составлено только тогда, когда душевные основы восприняли впечатление предмета. Представление — только отдельное единичное впечатление; понятие же — совокупность представлений, в которых душа исключила все, что есть в них различного, и соединила в одно только общее, родовое. Так мы получаем представление о человеке not отдельным людям; затем в душе откидывается все, что характеризует отдельную личность, и остаются лишь общие признаки каждого человека и говоря, «человек», мы думаем не об Иване, Петре, Марье, а о человеке вообще, человеке, на которого в отдельности мы указать не можем и который нами только мыслится.
Но простое понятие еще не есть суждение. Чтобы явилось суждение, необходимо сознательное соединение нескольких понятий или соединение понятий с особыми представлениями. Процесс этот совершается в нашей душе тоже сам собой. Скажите ребенку: «Кай человек» (суждение); «все люди смертны» (опять суждение), затем он уверенно ответит: «следовательно, Кай смертен».
Рассудочный процесс появляется в детях уже очень рано. Рассудок формируется по мере воспринимаемых впечатлений, и чем больше в душе накопляется следов, чем больше образуется в ней понятий, тем большая безошибочность является в работе рассудка. Но готовых понятий у ребенка нет, и они должны создаться из впечатлений. А так как эти впечатления начинаются рано, следовательно, и рассудок появляется тоже рано. Таким образом, рассудок, зависящий от впечатлений внешнего мира и процессов внутреннего психического аппарата, является силой вполне непроизвольной. Он перерабатывает только тот материал, который получает, и не может ничего творить по произволу. Милль справедливо говорит, что иногда нам бы хотелось заставить свой рассудок думать, что 2 Х2 = 5, но это оказывается невозможным. Попробуйте в известном силлогизме о Кае сделать Кая бессмертным! Как только вы предложите рассудку для сравнения понятие, что «все люди смертны», так рассудок, которому уже известно, что Кай человек, немедленно отвечает: «следовательно, Кай смертен».
Сила рассудка происходит вовсе не от его упражнеиной или созданной головной гимнастикой крепости; рассудок упражнять нельзя, ему нельзя создать силы, если этой силы нет в крепости душевных основ. Его сила зависит исключительно от прирожденной силы душевного аппарата и от материала, который будет предложен для переработки. Скажите: Кай дерево; все деревья зелены, — рассудок, как в первый раз ответил безошибочно: «следовательно Кай смертен», ответит теперь так же безошибочно: «следовательно, Кай зеленый».
Чем полнее и разнообразнее материал, предлагаемый душевному аппарату, тем и рассудок будет умнее и сильнее. Гениальнейший человек по крепости своих душевных основ выйдет среди папуасов только гениальным папуасом, потому что та жизнь не дает ему материала, чтобы вырасти до европейской гениальности. Рассудок — простой чернорабочий; искусство его всегда одинаково, умозаключение всегда строго последовательно; но если это умозаключение выведено из односторонних, недостаточных или ошибочных наблюдений, то и оно будет односторонне, недостаточно, ошибочно.
Односторонность вывода вследствие скудости материала вы можете наблюдать каждый день на детях. Вот двенадцатилетний, вообще способный и восприимчивый мальчик, желает отделить горлышко от бутылочки — и поступает совершенно как папуас. Он берет камень, отшибает горлышко и с крайним изумлением получает совсем не то, что ему было нужно. А между тем рассудок его работал правильно. Ребенок сообразил так: мне нужно отделить горлышко от бутылочки; если я ударю по горлышку, то оно отлетит; — для правильности вывода не доставало лишь наблюдений над свойствами стекла; и потому, построив свой вывод только на свойствах камня, ребенок пришел к одностороннему заключению. Тот же ребенок спрашивает: «кто самый великий человек в мире?» и сам себе отвечает: «Галилей, ибо он утверждал, что земля вертится». И когда ex\iy возражают, что был Гиппарх, был Коперник — он смотрит на возражающего с недоумением и сам понимает, что его умозаключение неверно, потому что в него не был введен этот новый материал.
Самые гениальные, самые могучие мыслители приходили к подобным же односторонним выводам. В сущности рассудочный процесс Аристотеля ничем не отличался от рассудочного процесса ребенка, желавшего отделить камнем горлышко бутылки. Аристотель, желая объяснить известными ему фактами явления замерзания и таяния, говорит, что теплота есть то, что соединяет вещи одного рода, а холод то, что соединяет вещи того же или различных родов. Тот же гениальный Аристотель очень затруднялся объяснить, каким образом камень, брошенный рукою, продолжает еще несколько времени двигаться и потом останавливается. Если причиною движения рука, то отчего же камень двигается даже и после того, как на него перестала действовать рука? Если же не рука, то отчего он перестает двигаться и, наконец, останавливается? Разве это не та же бутылочка? Ребенок знал свойство камня, но не знал свойства стекла. Аристотелю был известен лишь факт брошенного камня, но он не знал свойств сопротивляющейся среды, в которой падал камень.
Если ошибались отдельные гениальные люди, так называемые творцы науки, то должны были ошибаться и целые народы, принимавшие их науку. История есть летопись этих ошибок, летопись постоянного стремления народов поправить свое суждение на основании вновь открытых фактов. Наиболее грандиозный пример исторической односторонности представляет древний мир. Весь его быт был построен на идее власти и права, на поглощении лица обществом. Мы изумляемся теперь классической стройности греко-римских учреждений. Но они потому и были стройны, что идея, лежавшая в их основе, была слишком односторонняя. Власть и право — все; личность — ничего. Спаситель Греции Мильтиад за неудачное нападение на Парос обвиняется в том, что обманул народ ложными обещаниями. Покрытого ранами героя Марафона приносят в суд на носилках и приговаривают к уплате издержек экспедиции. Саламинский герой Фемистокл предается суду только по подозрению. Он бежит к персам и, чтобы не сделаться предателем отечества, принимает яду. Аристид подвергся остракизму. Кимон за неосторожный совет, давший повод к оскорблениям со стороны Спарты, приговорен к изгнанию. Алкивиада изгнали за одну военную неудачу. После победы при Аргинузах шесть военачальников были преданы смерти за то, что не спасли остатков своих поврежденных судов. Осужденные выпили яд, благословляя свое отечество и осудивших их граждан. Вот отношения лица к государству. Из идеи власти и государства развивается рассудочным путем идея права, вырастающая в строго законченную одностороннюю юридическую систему, превращающую личность в ничто. Поправку вносит новая христианская идея, освобождающая личность и — древний мир падает. Но его идея еще не исчезает с концом римского господства; борьба права и свободы, борьба личности с обществом дает содержание всей последующей европейской истории. Коллективный рассудок постоянно исправляет односторонность своих умозаключений, с каждым днем являются новые факты п новые наблюдения, и то, что казалось верным и без-
ошибочным вчера, оказывается односторонним и ошибочным сегодня. Не зная, какие факты будут открыты наблюдением, мы не можем предвидеть и новых умозаключений, которые выведет из них коллективный рассудок; но именно потому, что история есть непрерывный ряд исправляемых суждений и что всякое будущее умозаключение всегда многостороннее, потому что оно составляется из большего числа наблюдений и фактов, мы должны признать, что наше настоящее не может служить законом для будущего; оно только часть того материала, который переработается рассудком в будущее умозаключение.
Эта простая мысль далеко не вошла в общественное сознание и потому не лежит в основе ни воспитательного, ни правительственного принципов. А между тем правильность ее каждый может проверить на себе. Неутомимый работник-рассудок отдыхает только ночью. С того момента, как человек проснулся, рассудок уже принимается за свое дело. Что же он делает? Каждый день приносит ему новые факты, новые впечатления; получив этот новый материал, рассудок принимается за перестройку тех своих сооружений, к которым доставлен материал, и делает новое умозаключение. Рассудок не знает никогда ни покоя, ни отдыха; он всегда занят; большое или небольшое дело творит он — это зависит не от него, а от количества и качества материала, который будет ему доставлен.
Но отчего же мы встречаем на каждом шагу людей, рассудок которых вертится, как белка в колесе, которые уже лет в тридцать оказываются неспособными идти умственно дальше и преждевременно впадают в старческое слабоумие? Возьмите ребенка. Сколько в нем впечатлительности, как живы его чувства! Он весь поглощен внешним миром, весь живет в нем, душа его только и делает, что набирается новыми и новыми впечатлениями. Все это разнообразный материал, которым запасается детская душа и который перерабатывается рассудком в понятия, суждения и умозаключения. В юноше этой первоначальной живости восприятий уже не замечается. Материал, которым он набрался, создал ему уже известный внутренний мир, и юноша уже более или менее уходит в себя, выделяясь из-под впечатлений мира внешнего. И чем далее человек живет, тем в нем больше могут по-76
ДавЛятЬся влияния внешних впечатлений, тем он может жить более изолированной жизнью и, наконец, в старости совершенно замыкается в себя. Причиной этого вовсе не рассудок, а те воспринимающие силы, то меньшее напряжение внимания, которые устраняют от души новые впечатления и лишают рассудок нового материала. Силы души, лишившейся возбуждающих их внешних элементов, уходят в себя, и замкнувшийся человек живет одними внутренними материалами, перенося всю деятельность своей души и рассудочного процесса на iiepe-бирание воспоминаний о прошедшем. Жизнь воспоминаниями — печальный признак непригодности человека для, настоящего.
Кроме естественных причин старчества, для которого нет определенного возраста, есть еще причины искусственные. Мы можем подавлять в себе живость впечатлений и воспринимающую деятельность чувств под влиянием односторонних идей, созданных на основании односторонних фактов. Мы можем сложить в себе искусственную нечувствительность и даже апатичность и уже очень рано привыкнуть уходить в себя, направляя свои душевные силы исключительно на одну внутреннюю переработку старого материала, не воспринимая нового. О, преждевременное старчество! если бы ты только знало, что ты не больше, как односторонняя ограниченность, может быть ты не стало бы выделять себя из жизни, уходить от людей и искать наслаждения и счастия в собственной пустоте! И бывают эпохи в жизни народов, когда подобное ошибочное суждение охватывает повально всех и кладет свою печать на всю личную и общественную жизнь; когда односторонность выдается за безошибочность и ограниченность считается благоразумием. Если подобная односторонность овладевает целым поколением — она становится историческим явлением и период его может тянуться очень долго. Бедный рассудок! тебя, честного труженика, делают ответственным в том, в чем ты не виноват, и, подсунув тебе подтасованные факты, неосмысленные и непонятные явления, твое одностороннее умозаключение принимают за непогрешимую истину, уничтожая всякую границу между умом и глупостью!
Итак, недостаток материала есть первая причина одностороннего умозаключения. Факты повидимому противоречат этому выводу. На каждом шагу мы встречаем людей, которые из одного и того же материала достигают различных рассудочных результатов. Но это только повидимому. В действительности же рассудку приходится обрабатывать различный или неодинаковый материал, и ошибки чувств играют при этом главную роль. Слабое зрение, недостаточно развитый слух, внимание, направленное в другую сторону; радость, доброжелательство, гнев, страсть, любовь дают одним и тем же фактам совсем другой цвет, и не только два различных человека, но один и тот же человек могут в разное время приходить к разным выводам. Верной оценке явлений чаще всего мешает страстное к ним отношение, и вот почему односторонность умозаключений встречается так часто в оценке людей. Вы любите женщину и в своем представлении о ней группируете именно те факты, которые подсовывает вам ваше нежное чувство; другой не любит этой женщины и подбирает как раз те факты, которые вы исключаете. Рассудок, обрабатывающий только то, что ему предлагают, делает свое дело честно и получаются два противоположных вывода. Почему каждая мать считает своих детей лучше других детей? Почему мы так легко видим соломинку в чужом глазу? Почему мы так легко оправдываем себя и обвиняем других? Только потому, что, под влиянием односторонних ощущений, мы подтасовываем односторонние факты, из которых наш рассудок уже и выводит одностороннее умозаключение.
Односторонность мышления может происходить не только от недостатка, но и от изобилия материала. Сознание, подавленное массою фактов, которых оно не в состоянии ни обозреть, ни привести к единству, совершенно парализуется и не создает никакого умозаключения. Такое бессилие рассудка выражается болезненным напряжением всего нервного и душевного аппарата и беспокойным состоянием души. У особенно чувствительных людей оно вызывает необыкновенную раздражительность, которая не прекращается, пока рассудок, свойственным ему приемом, не приведет разбросанного материала к единству. И когда материал рассортирован, сложные факты приведены к простейшему единству, облегчающему умозаключение, когда, наконец, рассудок создал из понятий и суждений вывод, — разрешившийся головной процесс выражается необыкновенным довольством, каким-то спокойным, легким, счастливым со 78
стоянием всего организма. Оттого-то и можно сказать, что роды мысли самые трудные роды, и нельзя не согласиться с Гейне, когда он говорит, что для родов коллективной мысли бывают иногда нужны не только искусные, но и очень решительные акушеры.
Случаи, когда рассудок, подавленный богатством материала, затрудняется его переработкой — самые обыкновенные случаи и в жизни отдельных людей, и в жизни народов. Чтобы выйти из затруднения, рассудок приводит усложненные факты к простому единству, он распоряжается так, чтобы разбить их на отдельные немногие группы понятий, которые бы можно было ему обозреть одним взглядом и с одинаковой силой внимания. В этом процессе, повторяющемся непрерывно с самого детства, и заключается собственно воспитание рассудка и развитие ума.
Жизнь отдельного человека, а тем более человечества, слагается из громадной массы чрезвычайно разнообразных фактов. Одного перечисления наук совершенно достаточно, чтобы убедиться, как необъятна область фактов и явлений, окружающих нас, и какая громадная работа выпала на долю коллективного рассудка. Систематическое знание есть тот рассудочный процесс, которым многосложные явления приводятся к однородному простейшему единству, облегчающему умозаключение. Облегчить эту работу и личного, и коллективного рассудка составляет задачу воспитания и систематических знаний. Вообразите человека с сильным восприимчивым душевным аппаратом, находящегося в обществе развитых людей, обслуживающих какой-нибудь многосложный общественный вопрос. Его на каждом шагу поражают новые понятия, новые идеи, новые слова. Он буквально засыпан ими, оглушен, ошеломлен. Но что значит ошеломлен и оглушен? только то, что ему не пришлось сделать той предварительной, мелочной, сличающей и уравнивающей работы, по которой неизвестное ему уже коротко известно им. Не силой рассудка он отличается от других, — еще Декарт сказал, что нет ни одной способности, более равномерно распределенной между людьми, как рассудок, — но только тем, что не успел еще привести к простейшему единству того, что привели другие, и потому в то время, как эти другие прямо приступают к умозаключению, он должен тратить свои силы на сортировку и обработку материала. Облегчи1ъ эту работу и должно воспитание. Оно должно помочь группировке фактов и всей предварительной работе рассудка, дать ему, в виде материала все категории фактов и все категории явлений частной и общественной жизни. Дайте рассудку все — и вы создадите умного человека.
Конечно, переработка совершается не у всех людей одинаково; у одних она идет быстрее, у других медленнее, у третьих одностороннее, у. четвертых сосредоточенно или раскидисто и бессвязно, и таким будет и их ум или рассудок, — т. е. тугим, быстрым, односторонним, сосредоточенным. Поэтому у каждого человека рассудок работает по-своему, и народная поговорка, что «у каждого свой царь в голове», есть только безошибочное практическое наблюдение, возведенное опытной психологией в точное научное положение.
Но нет ли тут противоречия с тем, что мы говорили ранее? Если рассудок такой добросовестный работник и работа его зависит исключительно от материала, то почему же он может быть и тугой, и быстрый, и односторонний? Если рассудок самая равномерно распределенная способность, то почему же у каждого свой царь в голове? Дело в том, что работу мысли могут замедлять или ускорять другие способности. Если у человека слаба память, если он с трудом удерживает факты или легко их забывает, если воображение, работающее вместе с памятью, действует быстро или медленно, то и рассудку во всех этих случаях дается разный материал, а следовательно, и работа его будет различна. Только оттого и встречаются такие несходства в быстроте, широте и глубине соображения и мысли в различных людях. Но рассудок во всех этих случаях один и тот же, разница все-таки лишь в том, что остальные, содействующие рассудку способности доставляют ему различный материал. По-этому-то и можно быть очень умным мужиком и очень глупым и несообразительным ученым педантом; можно быть превосходным математиком и самым тупым администратором; можно быть очень знающим профессором латинского языка и не понимать ни одной мысли, выходящей из сферы этой специальности; можно необыкновенно легко соображать все, что относится до тактики и стратегии, и толковать вкривь и вкось общественные вопросы, не понимать требований народных и даже глумиться над прогрессом. Рооп очень хороший военный министр, а Молыке считается даже гениальным стратегом — и все-таки они представители прусской юнкерской партии и умирающего феодализма. Это происходит оттого, что в области своей военной специальности они освоились со всем существующим материалом, тогда как в области общественных вопросов они знакомы лишь с тем, что приводит их рассудок к юнкерским умозаключениям.
Итак, можно быть гениальным стратегом и глупцом в политической жизни; можно быть превосходным специалистом и совершенно односторонним, неспособным и вредным гражданином. В общежитии, изворачивающемся ходячими фразами, не всегда это понимается ясно, и вот почему царит во всех головах такое недоразумение относительно ума.
Ум и рассудок в сущности одно и то же, но умом называют обыкновенно частичную деятельность рассудка, деятельность его в умозаключениях какой-нибудь отдельной категории понятий. В русском образованном и особенно провинциальном обществе умным считают того, кто умеет рассуждать о мелочах повседневной жизни, а слово и понятие «рассудок» неизвестно и никогда не употребляется. Причину этого нужно искать в том, что наше общество не дожило еще до понятия о рассудке, как полном выражении представлений высшего порядка, исходящих из общественных чувств и заканчивающихся идеями социального порядка. У нас есть умные люди, есть коллективный ум, но у нас почти нет людей рассудка и вовсе нет коллективного рассудка; наша способность понимать ограничивается только областью ума и его частными умозаключениями, но еще не вступила в тот более широкий круг идей, в которой каждый частичный, специальный ум является со своими умозаключениями и общий итог чего составляет рассудочную работу и образует рассудок. Рассудок — это будущее нашего коллективного душевного аппарата, который должен выработаться, когда наше общество переживет момент царящего в нем теперь индивидуализма. Мы становимся умнее, мы стали много умнее, но рассудком мы овладеем только тогда, когда овладеем материалом для общественного сознания, когда направим свои воспринимающие душевные силы на наблюдение фактов и явлений общественного порядка во всех сферах жизни, куда только может проникать наблюдение. Рассудком мы овладеем только тогда, когда поймем, что можно быть умными математиками, умными докторами, умными акушерами и в то же время общественно глупыми людьми.
ПАМЯТЬ
Кажется у Данкворта, в ого «Psychologiie und Crimi-nalrecht», роль рассудка представлена в такой живой картине, что из немногих слов понимаешь дело гораздо лучше, чем из всех туманных ученых сочинений йсихоло-гов-метафизиков. Данкворт справедливо замечает, что есть вещи, которые становятся понятными лишь в образном изложении.
То, что мы называем рассудком, Данкворт называет интеллектом. Это холодный, спокойный, честный счетчик, который кладет на счеты что ему дают, подводит верный итог, но не отвечает за цифры, которые ему доставлены. Во главе государства, в котором служит честный счетчик, стоит нередко взбалмошный деспот, управляемый камарильей. Камарилья возбуждает партии, она интригует, подтасовывает факты, окрашивает их иным цветом, многое припрятывает, иногда выдумывает чего не было, иногда лжет и клевещет. Счетчик скромно сидит в своем кабинете и работает с утра до вечера, не отвечая ни за поступки двора, ни за самодурство взбалмошного деспота.
Случаи, когда камарилья ведет себя возмутительно — случаи вообще довольно редкие и бывают только в моменты высшего возбуждения страсти. Вообще же в совете камарильи заседают министры довольно спокойные, хотя и односторонние. Гармоническое согласие -министров есть идеал внутреннего управления и такое согласие комитета министров психология называет нормальным состоянием души. Оно бывает очень редко! В большинстве случаев преобладающий голос принадлежит кому-нибудь одному, и чувство обыкновенно берет на себя решающую роль.
Задача воспитания заключается именно в том, чтобы уравновесить голоса советников и каждому из них доставить такой материал, чтобы советник достиг самого полного, самого зрелого и самого всестороннего развития.
В числе вспомогательных средств рассудка первое ме-
Камарилья — придворная группа лиц, интригами и обманом влияющая на государя и управление страной (ред.).
сто принадлежит памяти. Память, как и рассудок, не есть прирожденная способность; она, по определению Бенеке, есть общая инерция образовавшихся в душе представлений. Это — как бы склад известного материала, собранного душой; она — сумма всего того, что человек помнит.
У ребенка нет никакой памяти; у него одни лишь средства усвоения, только сила для собирания материала; но материал этот лежит перед ним и его нужно еще собрать. Поэтому память дитяти формируется по мере приобретения им ощущений и следов, оставляемых ими в его душевном аппарате. Каждое ощущение оставляет след и каждое повторение ощущений делает эти следы глубже и глубже. Вместе с тем оно служит началом для восприятия новых ощущений, облегчая таким образом душе ее последующую работу. Следовательно, душевная работа ребенка идет, постепенно усиливаясь.
Но этот процесс весьма медленный, потому что ©сякое последующее душевное приобретение делается на счет уже готовых, предыдущих средств. Если ребенок смотрит на какой-нибудь предмет, то он запоминает из него только то, на что обращено его внимание и на что достает ранее приобретенных им следов. Покажите ребенку в первый раз горящую свечку, спичку или курящуюся папиросу: опыт каждому хорошо известный. Пораженный невиданным для него светом, ребенок обращает все свое внимание только на огонь; он ©идит его одного и больше ничего: ни руки, держащей свечу, ни подсвечника, ни папиросы, ни даже отделяющегося от нее дыма ребенок еще не замечает. Чтобы увидеть и запомнить весь предмет в его подробностях требуется уже довольно сложная работа и известный, ранее приобретенный опыт души. Вначале же ребенок, из наиболее поражающих его явлений и предметов, воспринимает лишь одно общее. Например, взрослый смотря на письменный стол и окинув его взглядом, сразу видит и самый стол, и чернильницу, и лежащие на нем книги и бумаги, и разные другие, нагроможденные на нем предметы. Для взрослого все это очень просто, потому что.его душевный аппарат уже усвоил навык разлагать общие явления и соединять частное в общее. Но вот подходит к столу годовалый ребенок; то что для взрослого так просто — для него египетская работа. Он подавлен массой материала, с которой ему не справиться; каждая часть стола, каждая вещь для него — отдельный предмет, производящий в нем отдельный, независимый след. Кипа книг, лежащих на столе, для ребенка — безразличная куча, тогда как взрослый виднт в ней не только отдельные книги, но из названий их в нем возникает целая ассоциация известных представлений, потому что эти книги он читал. Взрослому все это только теперь просто, но сколько потребовалось ему собрать и переработать материала, чтобы дойти до этой простоты! Посмотрите, с каким трудом ребенок приучается разли-чать свою мать или кормилицу от других людей. Он удерживает в памяти сначала какой-нибудьодин признак — форму, цвет лица, прическу; и так как этот признак довольно общий, то вначале ребенок беспрестанно ошибается. Вот его берет на руки постороннее лицо, в ребенке из признаков этого лица возникает новое ощущение. Сравнение следов указывает ребенку, что это не то, чего он искал, и он начинает плакать: новое ощущение, новый след, новый материал памяти. Нужно много времени, чтобы ребенок запомнил лицо своей матери или кормилицы и сразу приучился бы различать людей. Какая громадная работа! Никогда в последующей жизни человеку не приходится делать такого большого запаса чувственных ощущений, какой делает ребенок. И потому детство есть именно пора собирания материала и формирования памяти, та великая пора жизни, когда кладется основание всему будущему нравственному человеку, подготовляется из него гражданин, член семьи и общества.
Пора наиболее сильной памяти есть возраст от 6 до 14 или 15 лет. Это именно та пора, когда еще не сформировавшийся организм не проснулся ни для идеальных стремлений, ни для страстей, ни для порывов полового чувства. Душа живет как бы механически, для полной ее деятельности недостает еще многих стимулов. Собирая безразличный материал, она действует по закону инерции, не делая из собранного материала полного употребления и даже не имея еще сил сплести из него сеть полных представлений, сложить мировоззрение.
Вот почему период механической памяти есть самый главный, самый важный период человеческой жизни; он тот роковой период, когда ненужные или излишние следы оставляют навеки свои глубокие и нередко ничем неискоренимые борозды.
Ясно, что не все равно, каким материалом сформировать память, и кто думает иначе, тот думает метафизически. Есть еще много психологов и педагогов, — а за ними стоит целая масса обыденных воспитателей, отцов и матерей семейств, — воображающих, что всяким материалом можно изощрить память. Память вовсе не инди-ферентная способность, силы которой можно упражнять, как силы молодой лошади. Вы можете укрепить мускулы жеребенка безразличными тяжестями, заставляя его возить и песок, и камень, и картофель, и яблоки. Но память — не способность, память — только материал и потому она и будет такой, из чего вы ее сложите.
Бедные дети! Какие убийственные эксперименты совершают над вами ваши мучители-педагоги! Что это, преднамеренная ложь или заблуждение? Недавно мне случилось слушать одного педагога, который доказывает, что латинский язык и грамматика развивают человека гораздо лучше, чем естествознание. Лгал ли этот человек, желая выставить себя действующим по убеждению, — я не знаю, но я знаю, что с метафизической точки зрения он и не мог говорить иначе. Если память — жеребенок, то, конечно, все равно, чем ее упражнять. Но так как она — сумма того, что человек помнит, то не все равно — давать ли ей в 1виде складочного материала латинские слова или факты естествознания.
Было время, когда для изощрения памяти учили маленьких детей стихам и басням. Это время, слава богу, прошло, но новое не стало лучше старого. И до сих пор воспитывающее большинство, считая память прирожденной способностью, обременяет ее ненужными вещами. Изменились лишь средства изощрения, но не руководящая идея, и наши педагоги вполне убеждены, что память можно не только оттачивать, но что ее можно оттачивать на одном и том же оселке для всего; что отточив ее на латинском языке, мы разовьем ее и для истории, и для географии, и для физики, и для чего хотите. Общее упражнение памяти имеет свое объяснение, но не в том, в чем ищут его педагоги старой школы. Например, зная грамматику своего родного языка, уже гораздо легче усвоить грамматику какого-нибудь иностранного языка. Но это происходит вовсе не оттого, чтобы новому приобретению помогала изощренная память. Происходит это оттого, что множество, повидимому, вновь усвоиваемых понятий входят уже готовым материалом, например, поня-
тия о частях речи, о склонениях, о спряжениях и т. д. Но как бы ребенок ни изучил хорошо грамматику греческого языка — она не поможет ему нисколько при усвоении фактов исторических или естествознания, потому что между теми и другими не существует никакой родственной связи, никакой ассоциации.
Мы уже знаем, что память — не способность, что она формируется известными следами, оставляемыми в душе, что факты тем легче усвоиваются, чем существует более тесная между ними ассоциация. Поэтому накопление материала, образующего память, не есть вовсе безразличное действие. Оно должно иметь свою строгую постепенность и связь, потому что только постепенность и связь могут облегчить труд запоминания и сделать экономию душевных сил, сберегая их от бесполезной траты.
-Силы души, скапливающие материал памяти, не бесконечны; они имеют свой предел и свой конец. Если все они будут направлены в одну сторону накопления фактов, то, наконец, их не достанет для усвоения этих фактов Люди с необыкновенными средствами запоминания — люди очень редкие, их зовут гениями. И зовут их так потому, что они отличаются тем всеобъемлющим материалом и теми необыкновенными средствами души, которые формируют их редкий разум. Большинство людей не имеет таких средств, и потому всякая расточительная, ненужная трата их сил, есть невознаградимое зло для общества, для истории, для прогресса. Задача воспитания заключается именно в том, чтобы передавать памяти только факты полезные, только такие, которые ведут к усвоению других, находящихся с ними в связи фактов, и тем облегчают твердое их запоминание. Все же факты единичные, разрозненные и как бы случайные, все, что не может найти и не найдет приложения в последующей жизни человека, вводимое силой как материал памяти, есть вредное расхищение душевных сил ребенка, а вовсе не укрепление и не развитие его памяти.
Насколько пропадают силы людей, может указать следующий общеизвестный факт. Одна стереотипная фраза гласит, что всякий живой, не затупевший человек непременно вступает, наконец, в период внутренней ломки, в период критического отношения к своему мировоззре-
См. примечание 6-е, стр. 399 — 400.
нию и начинает выкидывать за борт все ненужное и лишнее. Но что значит выкидывать за борт? Выкидывание есть процесс сличения разных очевидностей, разнородных и противоречивых фактов, примирение которых оказывается невозможным. У затупленных людей, духовные основы которых слабы и скоро заполняются известным содержанием, уже не достает сил для новых восприятий. Так называемые живые, не затупевшие люди — больше ничего как более богато одаренные натуры, у которых есть еще достаточный запас душевных основ для новых восприятий. В виду высшего физиологического и психического напряжения, в пору возмужалости, когда душевные стремления получают наибольшую напряженность, новые факты, усвоенные душевным аппаратом, производят разлад и разрыв в прежних ассоциациях, и честный работник — рассудок — начинает чувствовать неловкость своего положения. Ему приходится подводить разные итоги и каждый их них противоречит другому. Что же делать? — и вот начинается сортировка и новая комбинация всей массы материала памяти, всего нового и старого, отделение нужного от ненужного. Работа эта не легкая и свершается она всегда в ущерб душевных сил, доведенных до высшею напряжения. В душе все как бы спутывается, все сдвинулось со своего места, старая сплетенная сеть мировоззрения разорвалась на части, новые факты еще не возведены в сознание, все надо рассмотреть, проверить, сличить и рассортировать, и затем из проверенного и пригодного материала сплести сеть нового мировоззрения. Этот страшный труд свершается нередко путем очень мучительного процесса, под давлением запуганного и робкого чувства, относящегося недоверчиво к новому и трудно расстающегося со своими первыми ощущениями. Справедливо, что предрассудки искореняются труднее всего; они исчезают вполне только в том случае, когда ассоциация новых представлений оставит более глубокие борозды, чем сеть старого мировоззрения. И это делается не сразу, не одним теоретическим усвоением, не одной заменой лишь некоторых фактов, а именно гармоническим и прочным слиянием всех отдельных ассоциаций в одно неразрывное, связное целое. Если такого слияния не совершится, если новые следы будут слабее старых и укоренятся временем и упражнением недостаточно прочно, — то в результате является двойственность, известная под названием либерализма. Либерализм, как неокрепший порыв, легко поддается увлечению; но там, где требуются для поведения все силы и вся активность души, он пойдет в направлении более окрепших старых следов.
Другая страшная ошибка, идущая рядом с загромождением памяти ненужными фактами, есть так называемое педагогическое развитие. Мы знаем уже, что развитие есть рассудочный результат, есть именно тот итог, который подводится фактам, та сеть мировоззрения, которая сплетается сознанием из всех чувственных восприятий и из внутренних душевных процессов. Следовательно, развитие есть собственный (процесс души, который будет тем более совершенным, чем более основного материала приобрела душа. Но развиватели рассуждают иначе: они видят в рассудке стальное лезвие, которое можно оттачивать совершенно независимо от материала памяти, тогда как рассудок именно зависит от материала. Думая оттачивать эту воображаемую способность, они вместо фактов, вместо нормального материала дают душе готовые выводы и вместо свободы поселяют рабство мысли. Развитие вовсе не этот процесс, оно вовсе не механическая гимнастика душевных основ, и память нуждается не в готовых фразах, не в внешнем давлении чужой мысли, а в фактах, фактах и фактах. Введенные вдушу, они собственными ее силами будут возведены в сознание и создают то развитие, которое мы называем рассудком. Это процесс органический, внутренний и, давая душе готовый вывод, вместо того чтобы дать ей факты для вывода, вы не развиваете, а притупляете душевные силы, лишая их самодеятельности.
Возраст до 14 — 15 лет именно та пора, в которую следует зарядить подрастающего человека фактами. Это возраст механической работы души и механической памяти. Дайте ребенку и юноше не безразличный материал, не смесь драгоценностей и всякою старого хлама, не расточайте его сил на ненужную работу, на труд, который не принесет ему никакой пользы, предохраните его от постройки дома, который может быть ему придется потом разрушить, собирайте только настоящий и хороший строительный материал, и когда наступит пора возбудившегося сильного сознания, когда душа возмужавшего юноши проснется для полных внутренних душевных про-88
цессов, когда сердце его забьется первою любовью, — вы не поверите, вы изумитесь, какой удивительный замок построит молодая, сильная душа. Не обольщайтесь, не заблуждайтесь и не воображайте, что вы строитель этого замка. Вы, воспитатели, только скромные подрядчики, доставляющие на место постройки кирпич, известь, песок, дерево; если вы навезли дрянной кирпич, гнилое дерево, — чего же вы удивляетесь потом, что постройка вышла дрянная и гнилая? Но если вы доставите бронзу, золото, малахит, материал для лепной работы — возмужавшая душа выстроит из него чудный замок, и вы с гордостью можете любоваться на него и радоваться, что это из вами доставленною материала. Неужели вам этого мало? Оставьте свои крепостные привычки, не считайте чужой души своим рабом, а себя строителем египетской пирамиды, не давите молодую душу! Свобода — вот что ей нужно. Не рабов, не египетских фелахов мы должны растить, не вечных детей, подавленных авторитетом чужой мысли, а людей самостоятельного чувства, самостоятельной мысли, уверенных в своих нравственных силах и носящих в своей душе чувство человеческого достоинства.
Периодом до 15 лет потому именно и нужно пользоваться, что эта пора бывает только раз в жизни и потом уже не повторяется. Только в это время механического запоминания можно ввести в душу множество фактов и знаний, которые потом усваиваются уже с трудом. Несколько позже, когда в юноше пробуждаются идеальные стремления, когда являются в нем страсти, всякое механическое заучивание утрачивает свой интерес. Не память ослабевает в это время, как думают обыкновенно, а просто душа занята другой работой и хотя она воспринимает новые представления, материал памяти копится попрежнему, но этот материал не отличается больше прежним разнообразием. В нем замечается известная тенденциозность, ибо силы души направлены теперь на подведение итога; они выплетают сеть мировоззрения, они создают так называемый образ мыслей, они пополняют запас памяти лишь в тех местах, где чувствуются разрывы и пустые промежутки, нарушающие цельность сети. И чем больше живет человек, тем так называемая память становится одностороннее и специальнее. В старости и она слабеет, ибо ослабевшая стремительность к внешним впечатлениям ослабляет чувственное восприятие, и человек роется больше в давно скопленном материале, только комбинируя его по-новому и дополняя его вновь слабо.
Говорят еще, что память слабеет по мере развития философской способности. Это одна из фраз, изобличающих свое метафизическое происхождение. Мы уже знаем, что память слабеть не может, потому что она собранный и постоянно увеличивающийся запас фактов. В этом запасе может быть большее или меньшее разнообразие, он может делаться в одну сторону, но собирание материала никогда не прекращается и поэтому память не только не слабеет, а, напротив, постоянно растет. Так называемая философская способность есть только известный рассудочный процесс, это стремление привести все накопленные факты в стройную систему, стремление, живущее во всякой душе, но не для всех осуществимое. Конечно, каждый человек живет внутреннею жизнию; нет ни одного, кто бы не пытался слагать себе или не слагал себе известного образа мыслей, потому что каждый живет, а жить значит действовать, а для действия нужны руководящие стимулы. Но не вс$ из материала памяти в состоянии создать одинаковые представления, сложить полное, беспромежуточное и наиболее безошибочное мировоззрение, высвободиться в этом процессе души от посторонних впечатлений и влияний, мешающих верному итогу и правильной постройке, создать себе благоприятные житейские обстоятельства. Философская голова поэтому есть такая голова, в которой группы представлений размещаются в стройном, спокойном единстве, без промежутков и порывов; которая свободна от ложных представлений и предрассудков; которая чужда грубых противоречий; которая работала под гармоническим ровным давлением разнообразных душевных сил и вследствие нормального состояния основ — пришла к нормальному выводу. Понятно, что такая голова в момент плетения сети представлений из собранного уже материала может приостановиться собиранием нового, если сделанный запас вполне достаточен для работы. Но это вовсе не ослабление памяти. Напротив, философские головы, более чем другие, пополняют запас своей памяти и постоянно создают из своего материала новые и новые комбинации. Философской головой даже нельзя быть без громадных воспринимающих средств, потому что из скудного материала ей нечего строить.
Но большинство людей — не философы; большинство лишено тех гармонических средств, которые создают философское мышление, и находится обыкновенно в трудных житейских (положениях. Хотя память есть вообще единственное основание для всех душевных построений, но не нужно забывать, что в душе существуют еще агенты, под влиянием которых возводится постройка и которые действуют нередко, как самая беспокойная и шумная камарилья. Запас фактов, конечно, коренное основание, из которого возникает весь будущий нравственный и интеллектуальный человек; но материал, скопленный в виде памяти, может в рассудочном результате изображать самую разнообразную сеть, смотря по тому, при каких условиях и обстоятельствах она создавалась. Два человека, при одном и том же запасе памяти, сложат два совершенно различных мировоззрения, если они формировали свой образ мыслей при различных житейских обстоятельствах. Чувство, при котором они воспринимали факты, сообщает им иногда самую разнообразную подкладку, то более или менее темную, то более или менее розовую. Горе, радость, бедность, богатство, нравственный гнет или свобода оставляют рядом с воспринимаемыми фактами следы известных чувственных ощущений, которые, как самостоятельные величины служат вспомогательным материалом, сообщающим известный характер или цвет слагаемому образу мыслей и работе рассудка; здесь память действует только одной стороной, предлагая лишь мертвый материал, жизненность которому придает более или менее сильное и более или менее приятное чувство, которым сопровождалось его восприятие. И бедный, и богатый смотрят на умершего с голоду человека. Факт и для того, и для другого одинаков; но только в разных местах души он у них пристроится и вступит в различные ассоциации представлений. У бедняка есть уже целый ряд следов той же категории, созданных практикой его собственной жизни. Новый след для него — только логическое продолжение того, что существует, последняя цифра для итога, который подведет разум. И чувство, постоянно сопровождавшее прежние факты, при этом новом, финальном факте достигает своего высшего предела и кладет
свой глубокий, черный след в душу бедняка. В богаче, выросшем в довольстве, подобный факт, может -быть, первое явление, оставляющее одиночный след, для которого нет никаких предварительных ассоциаций представлений. Даже десятки подобных следов могут действовать безразлично на душу богача, потому что в массе всех следов его души и фактов его жизни эти ‘печальные следы являются чем-то разрозненным и одиночным, не находящим себе места в ассоциациях всех остальных светлых представлений, послуживших материалом для сплетенного им мировоззрения. Поэтому жизнь, ставящая человека в то или другое положение для восприятия материала памяти, имеет всегда могущественное влияние на весь склад его понятий и на все его поведение. При подобных условиях слагается человек, предоставленный собственным средствам наблюдения и лишенный всякой воспитательной помощи. И так растет повсюду масса народа. Окруженная фактами, слишком однородными, слишком скудными и подавляющими, она слагает себе сеть того печального мировоззрения, которая держит в косности и живущие, и ряд последующих поколений. Новые факты проникают в нее медленно, а научное наследие веков, эта память предыдущих мыслящих поколений, ей неизвестна. Чего же вы удивляетесь медленности народного роста!
Но не будем гордиться и мы, образованные и правящие люди, и особенно мы, педагоги. Что делаем мы воспитанием? Да и воспитываем ли мы? Мы делаем одно из двух: или навязываем своим детям самих себя, или, махнув рукой, оставляем их расти на улице. В первом случае они являются продолжателями наших личных несовершенств; во втором — они жалкая копия необразованной толпы, всех ее нелепостей, предрассудков и предвзятых, готовых выводов. Я могу привести поразительный факт последнего рода. Один из умнейших современных русских людей, ученый и литератор, но, увы! — не психолог, когда зашла речь о религиозном воспитании его дочери, сказал, что он не хочет насиловать ее совести и потому в это воспитание не вмешивается. «Но разве то воспитание, которое ей дают нянюшки и прислуга, не насилование совести? Почему же насилованием будет только ваше воспитание?» — возражали ему, и умнейший русский человек замолчал, не найдя ответа. Чего же ждать от неумнейших?.. Все оставляет след в душе ребенка, ложь и
Правда, Истина и заблуждение. Не охраняя детей от ошибочных восприятий, от вредных фактов, не следя за своим собственным поведением, не предупреждая вредных влияний, мы тем самым формируем ненормальную душу и предоставляем случаю делать то, что должны делать сами. Испорченное не всегда поправляется. Что нужно думать о воспитании, которое рассчитывает поправлять в будущем то, что оно портит в настоящем? Воспитатели, воспитатели!..
Так как человек создается только теми плодами, которые воспринимает его душа, и теми ощущениями, которые сопровождают эти восприятия; так как постройка, которую должно возвести сознание, зависит от рода и качества материала, оставившего след, — то воспитание является той могущественной и исключительной силой, которая одна формирует и создает нравственного и общественного человека. В сущности же все воспитание сводится к памяти, и потому величайшая роль воспитателя, все его социальное значение и заключается в том, чтобы доставить пригодный материал и ввести его в душу теми путями и при тех сердечных ощущениях, при которых был бы возможен нормальный вывод и образовался полный, всесторонний рассудок. Воспитательным материалом служит при этом весь запас памяти всего человечества, достающийся каждому последующему поколению от предыдущего. Что такое наша цивилизация, культура, наука? Они память веков, запас, скопленный всеми угасшими поколениями, служащий -нам воспитательным материалом. Это наследие веков, эту память народов мы и должны передать детям, сообщив им, как факты, плоды трудов величайших мыслителей и гениев, которых произвело человечество. Но то ли мы передаем? Передаем ли мы весь запас памяти, скопленный человечеством до его настоящего исторического момента, или только память давно минувших веков? Какому веку принадлежит память простонародья? Какому веку принадлежит память необразованной черни? Много ли людей, овладевших памятью XIX века?..
ВООБРАЖЕНИЕ
Поэты любили некогда называть себя певцами богов, а поэтический талант — даром неба. Этим способом вопрос, конечно, разрешался и просто, и приятно, но не верно. В поэтах есть действительно что-то, что встречается He во всех людях, и это «что-то» — их необыкновенно впечатлительная, требовательная и подвижная душа, богатая сильно воспринимаемыми впечатлениями, из которых воображение создает свои удивительные и разнообразные ткани. Но воображение — не больше, как простой работник, которому материал дает память, а богатство запаса памяти зависит от силы и деятельности воспринимающего душевного аппарата.
Воображение нужно не для одних поэтов, оно в такой же степени нужно и для ученых, и для мыслителей; оно нужно для всякого человека. Ни один гений, никто из тех, кого история зовет благодетелями человечества, не обходился без влияния необыкновенно сильного воображения, побуждаемого страстью. Мы изумляемся великим людям и великим изобретателям. Но разве Бернар Палисси мог бы не изобрести глазури, когда шестнадцать лет, изо дня в день, его воображение работало в одном направлении и постоянно подводило рассудку именно то, что не могло не привести его к известному, определенному выводу? Разве Сен-Симон, с шестнадцати лет думавший в направлении общего блага и наблюдавший только факты человеческого страдания, мог прийти к каким-либо другим идеям и выводам? Разве Шекспир, Магомет, Мюнцер, Иван Гус, Конт, Байрон могли выйти чем-нибудь иным, кроме того, чем они были? Мы изумляемся только результату, но не видим процесса, с которым получился этот результат. Какая изумительная работа души ему предшествовала! Весь запас памяти душа перебирает и выворачивает согни, тысячи раз; комбинирует его в известные ассоциации представлений; видя неудачу, снова их разрывает, снова строит; закрепляет результат в памяти как новый материал; пользуется этим материалом для новых бесконечных ассоциаций и представлений, и всю эту работу свершает, может быть, в течение десятка лет, а может быть и целой жизни, изо дня в день, с необыкновенной энергией и быстротой, с поразительной силой и живучестью всего нервного организма. Вас изумляет, что Магомет стал проповедовать в сорок лет; но вы забыли, что он уже с одиннадцати лет думал в том направлении, которое и должно было создать из него великого реформатора. И все великие религиозные и другие реформаторы выступили не сразу; громадная по силе, многосложности, быстроте и энергии душевная работа предшествовала их учению, и чем эта работа была полнее, чем вывод ее был безошибочнее и ближе к интересам большинства, — тем и слово их имело большее значение и действовало прочнее.
Подобное фанатическое движение мысли имеет всегда односторонний характер. В этой односторонности весь секрет ее влияния и ее исторического значения. Страстный фанатический человек глядит на весь мир под своим углом зрения и видит только то, что ему нужно видеть. Все силы его души работают в одном направлении и услужливое воображение подбирает из запаса памяти именно тот материал, который ассоциирует с этим направлением. Человеческая мысль, как бы концентрируясь в этих отдельных фанатических и односторонних личностях, дает обыкновенно и историческим эпохам или моментам то же одностороннее направление. Тут больше ничего, как реакция, в которой могут принимать и принимают участие целые поколения, внося свою поправку в ошибки предыдущего одностороннего мышления. Вот почему история идет как бы скачками и колебаниями. Но в этих скачках и колебаниях, в этой односторонности страстного мышления и заключается именно величие исторических эпох и исторических личностей. Величие — всегда односторонность и тем большая, чем оно страстнее. Поэтому-то страстные люди большею частью односторонни. Но страстность, дающая односторонность воображению, не виновата, если односторонность мышления получает вредное направление. В этом виновато только воспитание. Страстный человек, внося в свой рассудочный процесс односторонние факты, поступает так только потому, что воспитание дало ему односторонний материал, из которого он уже сплел известные ассоциации представлений, служащие материалом для последующей работы души. Не забывайте, что душа — то, что из нее сделает материал, доставленный для ее переработки.
Человек не родится с готовым воображением, как он не родится с готовым рассудком и памятью. Воображение не есть сила; оно не может создать ничего, материала для чего не имелось бы уже в памяти; оно не более, как новая комбинация существующих уже следов и представлений, известный результат рассудочного процесса, своего рода мышление. От того процесса, который называется собственно мышлением, воображение отличается лишь тем, что Не сопровождается уверенностью в действительности воображаемого. Если сумасшедший воображает себя генералом, солдатом, королем и совершенно уверен в действительности этого — он не воображает, а мыслит. Поэтому-то один сумасшедший был совершенно прав, когда сказал Пинелю: «Доктор, или вы. дурак, или я дурак; как же вы хотите меня уверить, что я не вижу и не слышу этого, когда я все это вижу и слышу!». Этот сумасшедший мыслил, а не мечтал.
Поэт, художник, изобретатель, ученый, пользуются всегда известным, готовым материалом, который они комбинируют в известные новые представления. Они не могут выдумать ничего, для чего материала не было бы в действительности. Поэтому их комбинации имеют всегда большую или меньшую реальную сущность; их построения должны быть близки жизни, близки действительности, должны иметь тенденцию к осуществимости, иначе они переходят в простую мечтательность и в сказки. Человек, полный жизни, человек, мысль которого стремится немедленно перейти в рефлекс действия, не мечтает.
Активные и энергические люди пользуются своим воображением, как средством для прогрессивного мышления и такого же поведения. Можно сказать, что их воображение идет рядом с их поведением. Это здоровый органический процесс, в котором силы души составляют одно органическое целое с действующим телом. Но не то замечается в так называемых мечтательных характерах. Их фантазия работает не под влиянием ближайшей осуществимой действительности, а как бы вне согласия с активностью и с возможностью осуществить свои мысли. Обыкновенно такое состояние является вследствие бедности или полного отсутствия таких действительных событий, которые бы могли придать работе воображения активный характер, и тогда человек уходит в свою душу и живет своими внутренними процессами. От недостатка здоровой деятельности мечтающий человек сидит больше спокойно на диване и позволяет своей фантазии уводить себя в сказочный мир или совершенно невозможного, или слишком отдаленного. И энергические люди уходят иногда далеко в своем воображении, но они и идут за ним, и приходят, наконец, к своей цели; мечтающие же никогда не додумываются до дела. Таким образом, парализующая пассивность является главной причиной мечтателыюсти, если бедная или неудовлетворяющая действительность сковывает поведение человека и если сами обстоятельства жизни позволяют ему сидеть со сложенными руками. Прежде мечтательные характеры вырабатывались преимущественно среди обеспеченных и скучавших от праздности женщин. Труд, деятельность, экономическая независимость, дающая возможность свободного выбора среды, — вот лучшее средство против мечтательности. Но социальное положение женщины и до сих пор мешает ей создать те нормальные условия, при которых она могла бы явиться полезной общественной силой и, при неудачно сложившейся жизни, не уходила бы в болезненную мечтательность.
Воспитание воображения начинается вместе с формированием памяти, которая доставляет ему материал, следовательно уже очень рано и вполне в зависимости от памяти. Перерабатывая материал, доставляемый памятью, воображение создает из него новые комбинации, которые снова закрепляются памятью и служат последующим материалом для дальнейшей работы воображения. Поэтому не все равно, из какого материала будет формироваться память ребенка и какие ассоциации представлений оставят следы в его душе.
Проследите за движением своего воображения и вы увидите, что его работа, его характер и направление зависят вполне от качества, количества и разнообразия скопившегося материала. Вы встречаете нищего или пьяного мастерового. Впечатление, произведенное ими на вас, может вызвать два совершенно противоположных движения воображения, смотря потому, с какими простыми элементами вашей души вступят они в ассоциацию. Предположим, что нищий вызвал в вас чувство омерзения, вам представляется, что ваши деньги пойдут в кабак, что благотворительность только плодит нищенство, увеличивает пьянство; хорошо бы, если бы нищие не надоедали своим попрошайством, не шлялись по улицам, не занимались обманом и воровством и — шаг за шагом вы приходите к репрессивным средствам. Но тот же омерзительный нищий мог возбудить в вас и совершенно иные ассоциации представлений. Чувство омерзения к бедному, изможденному виду уводит ваше воображение в квартиру нищего, вы рисуете себе жалкую обстановку его жизни, его лишения, нужду, голод, холод, невежество. Вы задаетесь вопросом:
«почему!», а за одним вопросом следует другой; ваше воображение дает всей вашей мысли движение в социальном направлении; вместо области репрессивных мер, вы уходите в область идей высшего порядка и глубоко задумываетесь над социальным моментом, в котором вы живете. Пьяный мастеровой точно также может увести вас или в интересы его хозяина, в регламентацию, в область идей своекорыстного экономизма, смотрящего на рабочего, как на простую производительную, машинообразную силу, или — заставить вас войти в душу этой машины, увидеть в ней такого же человека, как вы, но страдающего, подавленного, беспомощного, ищущего выхода, делающего попытки к освобождению. И вот ваше, воображение извлекает йз запаса памяти все, что вам известно из истории этих попыток. Страсть придает более или менее яркий колорит этим картинам и, если они воспроизведены с достаточной силой, чтобы оставить в душе глубокий след, то ваша память обогатится новым, готовым материалом для будущих работ сознания.
Ребенок, при своей неразвитой душе, трудно справляется с материалом памяти и потому его воображение работает гораздо выпуклее и ярче, чем у взрослых. Но уже у детей замечается та наклонность к действительному и реальному, которой часто недостает взрослым. Мы удивляемся, что детям можно рассказывать всякий вздор, и они выслушивают его с затаенным дыханием и всеми силами своей души переживают вымышленные события и страдания небывалых героев. Но ребенок не знает вымысла, для него все правда и самая глубокая жизненная правда; он не мечтает, он не умеет относиться к жизни объективно; для него не существует рефлексии; у «его нет охлаждающего и убивающего душу опыта. Поэтому не удивляйтесь, что несчастия какого-нибудь козла или преследуемой шавки поражают его точно так же, как его собственные страдания. Умейте только пользоваться свежими силами детской души, не засоряйте ее ненужным материалом, давайте ей жизненную, людскую, человеческую правду.
Чувство действительности и жизненной правды выражается и во всех играх ребенка. У него стальные перья изображают пушки, куча сложенных книг — крепость, маленькие обрубки дерева — французов и пруссаков. И пушки эти у него палят, как настоящие, и обрубки дерутся, точно живые люди, и всеми своими душевными силами ребенок переживает французско-прусскую войну, устроенную им на своем детском столе. Ребенок хочет жить, он деятелен и активен, и работа воображения дает ему материал для этой жизни, потому что душа его, лишенная опыта, не знает еще невозможного. Но стесните в ребенке порывы свободной активности, заставьте его сидеть в углу, и он или зачахнет от скуки и отупеет, или же превратится в пассивного мечтателя.
Поэтому-то игра и имеет для ребенка такое важное воспитательное значение. Игра ребенка — его жизнь, он в ней самостоятельная свободная личность, пытающая и развивающая свои силы; он в ней полный человек, пользующийся небольшими средствами своей еще не сформировавшейся души, чтобы жить своей полной детской и неполной человеческой жизнью. Для действительной жизни у ребенка еще слишком мало душевного материала, мало следов, мало сложившихся представлений; у него их довольно только для игры. Если бы ребенок в первом своем возрасте уже владел такой массой следов и вереницей многообразных представлений, то работа его воображения соответствовала бы вполне окружающей его действительности, он бы жил жизнию взрослою и не играл.
Так как игра есть действительность ребенка, то по этой действительности вы можете уже определить то движение воображения, которое даст, может быть, главный характер всей его будущей жизни. Материал для своей игры ребенок берет только из мира, его окружающего. Из чего же другого его и брать! Вот почему поведение родителей и всех окружающих ребенка имеет такое решительное влияние на склад его понятий. В разные исторические моменты, у разных народов, в разных социальных слоях одного и того же народа — дети играют в разные игры. Было время, когда война была главной детской игрой, наступит вероятно пора, когда иная политическая практика заставит детей забыть эту игру. Но чтобы определить движение детского воображения, наблюдайте ребенка в мелочах тех отношений его героев, судьбою которых он управляет. Когда последняя французско-прусская война заставила многих детей играть в войну грандиозных размеров, то и в подробностях игр явились соответственные частности: — явился военный суд, расстрелива-7» 99
Нйе, повешение, более Или Менее жестокое. Мне случалось видеть и суд над Базеном, и суд над Наполеном III, сражение между империалистами и республиканцами, причем у одних мальчиков брали всегда верх императорские войска, у других — республиканские, у одних расстреливались республиканцы, у других коммунары. Ушинский говорит, что он видел мальчиков, у которых пряничные человечки получали чины и брали взятки. А повелительный детский тон и распеканье — «я так хочу!» «чтобы этого вперед не было!» «я этого не люблю!»... О дети, достойные своих родителей! Целые поколения растились в этой порче, и что удивительного, что из них не вышло ничего...
У детей замечается еще одна особенность, обыкновенно исчезающая у взрослых — потребность перемены, необыкновенная живучесть и подвижность. Для ребенка простые белые бобы превосходно изображают настоящих солдат, гораздо лучше, чем какие бы то ни были игрушечные солдаты, купленные даже на Итальянском бульваре. У него бобы превращаются и в французов, и в пруссаков, и в англичан, и в русских, и в запорожцев, и в поляков. Любой боб изображает по очереди то Базена, то Наполеона, то Шанзи, то Тараса Бульбу, то Остапа, смотря по тому, что требуется. Но дайте ребенку игрушки неподвижные, не позволяющие связывать с ними отрывочные, быстро меняющиеся представления и ассоциации детского воображения — и такие игрушки сейчас же надоедают ребенку.
Рядом с потребностью перемены живет в детской душе и консервативная струя. Создавая неверные представления и комбинируя из отдельных обрывков и ассоциаций новые вереницы, детское воображение привязы- вает их к тем игрушкам, которые их вызывали. Эти представления оставляют в детской душе такие прочные следы, что ребенок вполне привязывается к своим игрушкам и те из них любит больше, которые заставляют его переживать более полную жизнь. Всякая новая вещь и новая игрушка привлекает любопытство ребенка, но у него с нею нет еще душевной связи, она не заставляла его еще переживать новых ощущений; и пока между ребенком и игрушкой не возникнут более прочные отношения, пока она не оставит в его душе более глубоких следов — его симпатии лежат преимущественно к старой игрушке.
Консервативный элемент детской души указывает, может быть, больше всего на важность прогрессивного материала, который должен быть доставлен для работы воображения. Заставляя воображение брать факты, из которых трудно формируется прогрессивное настроение, заставляя воображение комбинировать эти факты в группы представлений положительной социальной непригодности, воспитатели только надрывают бесполезно силы детской души. Одним и тем же трудом создается глупец и человек умный, честный и бесчестный, прогрессивный и отсталый, полезный и бесполезный, гражданин и раб. Но если вы уже вложили в ребенка материал, из которого должен сформироваться раб; если следы трусости оставили в его душе глубокие борозды, — требуются необыкновенно счастливые органические условия, чтобы впоследствии эти страшные следы сменились другими, более человеческими. Душа — мешок только известного размера; если вы наполните ее дурным материалом, где же останется место для хорошего, в то время когда прекратится ваша воспитательная порча и ваше развращающее детскую душу влияние?
Детское воображение обыкновенно берегут очень мало и детскую доверчивость эксплуатируют самым страшным образом. Чувство страха, вытекающее из чувства самосохранения, конечно, самое могущественное чувство; и оттого-то им нужно пользоваться не только с крайней экономией, но, что еще важнее — направлять его в верную сторону. Рабов и трусов создаем мы из детей своим обыденным с ними обращением! Пугание детей домовыми, волками и ведьмами кончилось; глупых сказок теперь детям не рассказывают. Но разве это единственные страхи, которыми можно запугать детскую душу, единственные страхи, которыми можно заставить воображение подбирать известные односторонние ассоциации, создающие робких и затупленных людей? Прежде у нас страхи были только домашние и детей пугали глупые няньки; теперь у нас начинает появляться воображение коллективное и страхи получают общественный характер. Глупых нянь сменили глупые и запуганные матери, превратившие воспитание в страхование от опасностей, и глупые отцы, воспитывающие в своих детях только хлебные мысли.
Детское воображение нужно беречь, может быть, больше всех остальных сил детской души, потому что именно оно подсовывает материал работающему сознанию. Обратите внимание на играющего ребенка. Одни и те же бобы у него и французы, и пруссаки, и коммунары, и империалисты. Один ребенок любит больше наказывать и даже придумывает квалифицированные казни, — он вешает солдат не просто, а за ноги; другой больше награждает, поощряет и убеждает; третий прибегает к примиряющим средствам. Откуда эта разная работа воображения? — Только из окружающей ее среды, из окружающей домашней жизни. Воображение, выросшее на дурном материале, никогда не подберет для сети формирующихся представлений именно того, что нужно для его безошибочности, особенно если страхи уже введены в детскую душу и страсть, поддерживающая силу воображения, подавлена. Нужна вся свежесть и энергия души, нужна необыкновенная сила благородной страсти и особенная возвышенность одушевляющих идей, чтобы человек после 25 лет мог разорвать ошибочные и грязные ассоциации воображения молодости и создать из них сеть возвышенных, благородных и широко-гуманных представлений. Человек, особенно женщина, воспитывавшаяся и погрязшая в узком эгоизме тупой, замкнутой семьи, почти никогда, — разве только при очень благоприятных внешних обстоятельствах, — не увлекается на путь более широких интересов жизни; решительное же большинство образует общественный слой, погрязший в личном своекорыстии и в том индивидуализме, который не хочет знать, что для человека нет худшего советника, как его собственное я. Не подавляйте детской страсти и детских порывов, не заставляйте их скрываться внутрь души, и только тогда, в пору окончательного формирования руководящего мировоззрения, воображение, одушевляемое благородным увлечением, выдвинет из накопленного душою материала все возвышенное и благородное, выкинет за борт все негодное, и рассудок подведет возвышенный и благородный итог. Но прежде всего изгоните страхи из своей собственной души; тогда у вас не поднимется рука тушить благородный огонь, согревающий и одушевляющий период юности. Из подавленных, резонерствующих и рефлектирующих юношей, ушедших в один головной механизм, не создастся никогда благородное поколение. Только честное воодушевление, только честная страсть создает человеческое величие. Где эта страсть подавлена, — не ищите ни человека, ни гражданина, ни матери, ни отца.
О воображении, как и о памяти, как о рассудке, существуют ходячие обыденные понятия, против которых бороться было бы не трудно, если бы наши воспитатели читали психологические сочинения. Под воображением понимается какая-то блестящая способность, существующая преимущественно у светских и образованных людей, у поэтов и у женщин. В этой способности видят нечто детски-легкомысленное, игривое и пригодное для украшения жизни. Люди серьезного ума, по ходячим понятиям, лишены воображения. Чтобы возразить на это установившееся мнение, нам придется повторить то, что мы уже говорили о памяти.
Воображение есть сила души, берущая материал из запаса памяти и представляющая его для выводов рассудка. Мы бы сравнили воображение с подвижными картинами, на которые смотрит рассудок, останавливает некоторых из них, составляет из них общую картину и передает ее на сохранение памяти; воображение, вместо прежних картин, берет уже теперь целые панорамы, снова движет их, рассудок снова их останавливает, делает новые комбинации, создает новые панорамы, опять сдает их памяти и т. д. бесконечно. Ясно, что не характером картин определяется сила воображения, а только многообразием и постоянством передвижения. У поэта в картинах и панорамах рисуются природа, порхающие и поющие птицы, солнце и любовь, людское страдание или людское счастье, — вообще жизнь в ее большем или меньшем многообразии, смотря по воспринимающим силам душевных основ. У математика вы 1 бы рассмотрели в панорамах передвижение известных математических величин и формул, из которых его сознание комбинирует новые, более сложные величины и формулы. У легкомысленной, недоразвитой, деревенской барышни — ряд глупых изображений, где на первом плане фигурирует любовь, замужество, спальня, дети, потому что в ее памяти воспитание и не оставляло других ‘следов. У светского человека подбор картин будет иметь светский, легкомысленный и остроумный характер. Если душевные основы этих людей сильны и живы, передвижение совершается быстро, запас памяти велик и постоянно пополняется, то из поэта может выйти гениальный поэт, из математика — научное светило, из деревенской барышни — очень страстная жена и безумно любящая мать, а из светского человека — блестящий великосветский лев. Во всех этих случаях воображение делает свое дело одинаково; не оно создает картины, и от вас, воспитатели, зависит, чтобы создавать из детей поэтов, воинов, математиков, односторонних матерей или пустых светских львов и даже подлецов и негодяев. Математик, конечно, не будет иметь поэтического воображения, но ведь и у поэта не будет воображения математического, хотя сила воображения у них одна и та же. Без сильного воображения не может быть великого ума, и у глупцов воображение всегда вяло и двигается медленно. Это вопрос уже организма, основ души, наследственности. Их нельзя создать воспитанием и этого от вас не просят.
ВНИМАНИЕ
Если хотите определить человека, слушайте не то, что он говорит, а наблюдайте, что он слушает. Направлением внимания лучше всего определяется человек; он может маскироваться в разговоре, но внимание его выдает. Внимание есть целое нашей души, стремящейся к тем или другим ощущениям-; им характеризуется моральный человек, в нем можно прочесть историю человеческой души, разглядеть ее строй.
С первых шагов ребенка, определяется верно характер следов, дающих направление вниманию и указывающих, в какую сторону оно идет. Поэтому не все равно, какое создать в ребенке внимание: создать внимание хорошее — значит создать хорошего человека, открыть его душу для всего гуманного, благородного, человечного; внимание — двери души, в которые безразлично может входить все честное и бесчестное, умное и глупее, доброе и злое, свет и тьма, смотря по тому, в какую сторону двери отворены. Отворите их к свету, в душе поселятся светлые, хорошие ощущения и рассудок выработает из них сеть светлых человеческих представлений; откройте их к мраку — и тогда, сеятели, наслаждайтесь плодами того, против чего вы сами протестуете.
Физический и социальный мир есть тот бесконечный источник, из которого наша душа черпает свой материал. Но все ли она берет, что действует на внешние чувства, все ли световые явления, все ли звуковые колебания производят в нас ощущение света и звука? Все ли окружающие нас подробности жизни доходят до нашего сознания? Нет, «только самая ничтожная часть впечатлений воспринимается нашим нервным аппаратом для окончательной переработки; громадная же масса их скользит по нас, не проникая внутрь души. Попробуйте наблюдать за своим вниманием хотя самое короткое время, и вас изумит громадное количество явлений физического и социального мира, для которых ваша душа остается совершенно равнодушной, которых вы не замечали и которые, может быть, теперь только впервые вы заметите. Вы слышите, например, стук маятника и бой часов, вы слышите разговор детей в другой комнате, вы смотрите на проходящих мимо вас людей, но разве все эти явления оставляют в вас какой-нибудь след, разве ваша душа их восприняла, разве они послужили для нее каким-нибудь материалом? Работая умственно, или занятые какой-либо мыслью, вы еще больше выделяете себя из впечатлений внешнего мира, вы смотрите и не видите, вы слушаете и не слышите, точно ваша погруженная сама в себя душа совершенно замкнулась для всего, вас окружающего. Читая книгу, вы читаете в ней не все, что написал автор, а только то, что вами воспринимается. Пускай никогда не любившая девушка прочтет «Кто виноват?» и пусть прочтет «Кто виноват?» женщина в двойственном положении чувства; разве они прочитают одно и то же? Мы видим, мы слышим, мы читаем только то, что желаем видеть, желаем слышать и желаем читать; мы видим, слышим и читаем только то, что нас интересует и только к этому чутка наша душа.
Но что значит чуткая душа, что может ее интересовать, чего мы можем желать? Наша душа чутка к тому и интересовать ее может только то, что возбуждает в ней большее число следов. Поэтому интерес есть основа внимания, и мы можем быть внимательны только к тому впечатлению, которое приливает к следам, ранее образовавшимся в душе. К тому, следов чего нет в нас, мы не можем быть и внимательны. Музыкант, управляющий оркестром, слышит все звуки каждого инструмента и замечает не только ошибки второстепенных исполнителей, но и прямо назовет взятую ошибочно ноту. Генерал, быстро проходя по рядам солдат, замечает малейшее уклонение от формы; но заставьте генерала дирижировать оркестром или дирижера делать смотр войскам, разве они что-нибудь заметят? Новое впечатление, приливающее к старым следам, позволяет нам видеть множество мелочей, совершенно исчезающих от того, у кого не сложилось подобного внимания.
Но ведь и стук маятника, и бой часов оставляют в нашей душе следы; множество нравственных впечатлений, приливая к следам уже образовавшимся, возбуждают тоже наше внимание. Отчего же не ко всему и не всегда наше внимание бывает одинаково стремительно? Душа требует простора, требует деятельности и всегда всеми силами своими стремится именно к тому, что дает больший материал для ее деятельности. Между двумя предметами или явлениями привлечет ваше внимание только то, которое вполне захватывает все стороны вашей души. Девушка-невеста открывает свое внимание только в сторону супружества и любимого ею человека, потому что лишь в этом направлении душа ее находит себе наиболее полную деятельность. Всякая страсть действует таким же образом. Она открывает душу всегда в сторону таких впечатлений, которые полнее ее возбуждают. Образы и представления, возбужденные в душе, воображение ассоциирует с тем или другим материалом памяти и составленную таким образом подвижную панораму представляет на суд сознания.
Хотя внимание действует в направлении наиболее сильных и глубоких следов, но оно может обнаружиться и в других направлениях. Чтобы внимание было возбуждено, нужно действовать на него или простым путем, или, если прямые следы слабы, влиянием на ближайшие ассоциации представлений. Одностороннее мышление является обыкновенно от одностороннего внимания и если бы эта односторонность была абсолютной, то перевоспитание взрослых было бы невозможным. Но нет в душе таких следов, которые не были бы связаны с другими родственными им следами, и нет такой души, в которой не было бы следов всех родов. Мир физический и социальный для всех один и тот же, никто не может себя из него выделить, никто не может освободиться из под его влияния. Разница между людьми гораздо менее, чем это может казаться, и если внимание — двери, через которые проходят впечатления внешнего мира, то при известных обстоятельствах двери эти у всех могут быть отворены в одну сторону.
В жизни народов бывают эпохи и даже целые периоды, когда общее внимание обращено в одну сторону и когда поэтому мышление имеет один общий характер. Разве были бы возможны завоевания Магомета и созданный им великий переворот, если бы внимание аравитян не получило одного общего направления? Что такое реформация, что такое великая французская революция, как не последствия одностороннего внимания, овладевшего каждым отдельным человеком? Могут пройти века, прежде чем окажется возможным подобное явление; но вот является гений, в котором концентрируется память предыдущих веков, которою внимание открыто в направлении общественного блага, которым двигает ничем неугасимая страсть. Пусть он ошибается, пусть он фанатик, но разве не за фанатиками идет толпа, разве филистеры что-нибудь создали? В этом фанатике только глубже сидят известные следы, но они есть и во всех. И он действует на то, что есть во всех, и все начинают замечать то, чего они до сих пор не замечали, и внимание открывается у всех в одну сторону, и масса новых впечатлений приливает в коллективную человеческую душу, и душа чувствует новый простор, перед нею открывается более широкое поприще деятельности, и человечество устремляется на него. Если бы в коллективной душе не было соответственных следов, разве было бы возможно создать известное коллективное внимание? Европейская внутренняя политика всегда очень хорошо знала эту внешнюю сторону психологического факта, хотя правящие люди и никогда не занимались психологией. Несмотря на преобладание метафизического мировоззрения, внутренняя политика всегда была глубоко реальной и реальный классицизм опередил идеализирующий реализм. Воспитание народов шло именно в направлении искусства быть невнимательными, которое так высоко ставил Кант в отдельном человеке. Европа училась не тому, чтобы блъ внимательной, а тому, чтобы быть невнимательной. Каждый смотрит в свою сторону, и задача многих правительств заключалась именно в том, чтобы не могло сложиться коллективного внимания. Свободное слово есть самое могущественное средство, воспитывающее внимание в направлении наиболее широкой деятельности; при Людовике XIV Магомет был бы невозможен. Бонапартизм употребил все свои средства на то, чтобы воспитать Францию в невнимательности, и потому никогда еще свободное слово не преследовалось во Франции так строго, как при Наполеонах.
То или другое направление коллективного и отдельного внимания можно задержать, но не остановить. Оно хотя медленно, но постоянно развивается в направлении наибольшей свободы единоличного поведения, дающей наибольший простор душевной деятельности. Человеческую душу нельзя запереть, она будет всегда чутка к тому, что дает ей больший материал для ощущений, и всегда отвернется от того, что напоминает ей монастырь. Либеральный пропагандизм потому и действует на многих сильно, что он манит простором и что редко можно встретить такого страдающего человека, который не желал бы освободиться от своих страданий. Если бы в детях воспитывали хорошее внимание, прогресс шел бы ровнее.
Но что такое хорошее внимание? Хорошим вниманием мы назвали бы такое внимание, которое открывает душе возможность наиболее обширного поприща деятельности, открывает ее для наибольшей массы прогрессивных впечатлений. Чем ограниченнее и изолированнее эта сфера, тем внимание будет хуже, чем она шире, полнее, человечнее — тем оно будет лучше. Внимание помещицы-барышни, воспитанной только в стремлении к супружеству и выискивающей себе женихов, будет хуже внимания девушки, воспитавшейся в социальных понятиях и готовящейся к общественному поприщу.
Основание хорошему вниманию следует класть уже в первом возрасте ребенка, потому что раз испорченное трудно потом поправляется. Есть множество людей, которые всегда рассеяны, всегда раскидывают свое внимание и никогда не в состоянии ни на чем сосредоточить своей мысли. Дробиш рассказывает об одном идиоте, ие имевшем понятия ни о медицине, ни о латинском языке, которому была прочитана латинская медицинская книга, и он повторил ее от слова до слова. Этот факт указывает, как важно сосредоточенное внимание. Каждый по себе знает, что при отсутствии внимания можно читать десятки раз одно н то же место и ничего из него не упомнить. При беспорядочном воспитании, вместо внимания создается невнимательность. В ней большею частию бы-J08
вает виновато молочное самолюбие родителей. Гении редки, но каждая мать готова видеть в своем ребенке гения. Й вот молодого гения забрасывают массой самых разнообразных сведений; его память превращают в кладовую, куда сваливаются в кучу самые разнородные предметы, или вовсе не имеющие между собой никакой связи, или имеющие связь очень отдаленную. В душе набирается масса следов недостаточно глубоких и слишком разнообразных, которые и образуют ассоциации. Но в этих ассоциациях нет ни прочной логической связи, ни солидности. Воспринимающая душа ребенка раскидывается в массе таких рассеянных и слабо связанных следов, соединившихся нередко с чуждыми им следами. Бывают дети, которых внимание слабо потому, что вообще в них слабы душевные стремления; это уже органический порок, а не искусственное одичание, с которым бороться гораздо труднее, а иногда и бесполезно.
Молодая душа вообще мало способна к сосредоточению; дети не умеют фиксировать внимания и управлять своими мыслями. А между тем, только в этом навыке лежит начало солидного и глубокого мышления. Человек, не привыкший смолоду сосредоточивать своего внимания, никогда не выйдет ни серьезным мыслителем, ни серьезным ученым. Он может обладать громадным запасом памяти, но память эта не послужит ему ни к чему, если его внимание блуждает над ее материалом и ни на чем не умеет остановиться. Навык над вниманием, создаваемый постепенно, укрепляется упражнением и, наконец, может быть доведен до поражающего результата. Уча азбуку, ребенок уже создает свое внимание; приучаясь разрешать в голове математические задачи, он приобретает навык фиксировать свою мысль. Но в первое время внимание ребенка может отвлекать всякий посторонний звук; всякий пролетевший воробей заставляет ребенка забыть и азбуку, и классные занятия, и внимание его, открытое для целой массы более живых впечатлений, уведет его в поле, в общество играющих товарищей, а услужливое воображение раскинет перед ним свои увлекательные панорамы. И какая разница с теми титанами энергического мышления и однопредметной страсти, которые среди величайших мучений не чувствуют пытки потому, что их внимание приковано в другую сторону, а воображение подсовывает им другие картины! Вас изумляет Муций Сцевола, сжигающий свою руку. Это больше ничего, как факт сосредоточенного внимания; это источник того самоуправления, которому мы удивляемся в сильных и сосредоточенных характерах, приучавшихся направлять свое внимание известным образом.
Занимаясь теми или другими предметами, мы можем приобрести навык смотреть на них известным образом и думать в известном направлении. Такое однопредметное внимание может быть часто болезненным процессом. Люди, сосредоточивающие свое внимание исключительно в области сердечных чувств, расстраивают свой нервный организм иногда до того, что кончают помешательством. Подобный сентиментальный идеализм замечается преимущественно у женщин. Неудовлетворение жизнью, обманутая любовь, потеря любимых людей заставляет их замыкаться в себя и культивировать скорбное чувство. Внимание их, направленное в одну сторону, подставляет воображению одни мрачные картины; рассудок кует из них мрачные мысли, и вся душа работает под давлением постоянно свершающихся в ней болевых процессов. Такая узость души происходит от одностороннего воспитания внимания, не направленного в область более широких человеческих интересов. Любящему, нежному чувству не давалась никогда более здоровая и разнообразная пища. Чувствующий организм сосредоточивал все свои силы лишь в той узкой области семейного особнячества, который не создал еще ни одной хорошей жены, ни одной хорошей матери. Подобная жена вносит в новую семью лишь запас нежных чувств и сердечных одноличных процессов, в которые погружена ее душа, и самый скудный запас ассоциаций представлений. Ее внимание, направленное в одну сторону, глухо и немо для всего, что не возбуждает тех скудных следов души, которые нацарапало в ней глупое воспитание. Открыть ее внимание в сторону общественных интересов уже поздно. Разве это жена, разве это мать, разве такая женщина в состоянии воспитать своих детей для той области общественных чувств, в которую ее душа никогда не заглядывала? И вот из поколения в поколение создаются ограниченные любящие матери, и мыслители бесплодно восклицают: «дайте нам лучших матерей и мы будем лучшими детьми», и этих лучших матерей нет, и мы не становимся лучшими, и наше внимание никак не может выкарабкаться из узких интересов семьи, и — не открытое в другую сторону — оно снова нас гонит в семью, и затем мы уже удивляемся нашему равнодушию к общественным делам и к общественным интересам. Да разве наши матери, наше семейное воспитание открывало когда-либо наше внимание в эту сторону? Четырехлетний американец уже говорит о выборах президента; а какие разговоры в семье слышит русское четырехлетнее дитя? Наша провинциальная семья и до сих пор неприступная крепость, все в ней таинственно и замкнуто, все в ней государственная тайна; и глядя на эту замкнутую таинственность, думается, не вертеп ли это каких-нибудь преступлений и злодейств?
Воспитание здорового, хорошего внимания заключается в том, чтобы спасти душу от всякой предвзятости, преднамеренности и однопредметности. Ум наш должен быть формирован не для какой-нибудь специальности, не для какой-нибудь частной деятельности или одной науки и одностороннего мировоззрения; наше сознание должно чувствовать себя дома везде. Свободный ум может явиться только тогда, когда воспитание создало свободное внимание, открытое в сторону высших и возможно широко захватывающих интересов. Болевые процессы погруженной в себя души, сентиментальный идеализм, эгоизм семейного особнячества немедленно распустятся в том более широком и всестороннем круге деятельности, который откроет для души хорошее внимание.
Создать хорошее внимание значит создать хорошего, честного человека, свободного от низких страстей и позорящих увлечений. Создать хорошее внимание значит создать подбор таких ассоциаций, которые дадут поведению человека всегда благородное и великодушное направление. Английские психологи справедливо приписывают воспитанию внимания громадное моральное значение. Они думают, что внимание есть основная руководящая сила души, создающая великие характеры, великие деяния, великих людей, потому что поселяет привычку ассоциировать только благородные и честные представления. Руководящая роль внимания легко наблюдается на людях замкнутых. Приучая себя постепенно подчиняться известным понятиям, они приобре-
тают навык открывать свое внимание постоянно в сторону только этих понятий. Как бы ни было сильно душевное потрясение или волнение, но рядом с ассоциациями представлений, вызванных гневом, радостью или другими причинами, в них от упражнения возбуждаются параллельно ассоциации, вызывающие реакцию самообладания и добрых мыслей. Вначале эта борьба бывает трудна и перевес остается не всегда за самообладанием; но, по мере первых побед, вторые становятся легче и активное внимание переходит, наконец, в пассивное, так что человеку уже не приходится делать над собой никаких усилий, чтобы вызвать перевес хороших чувств. Страстные, дурные, мешающие течению хороших мыслей возбуждения, путем того же навыка, постоянно утрачивают свое влияние и, наконец, может выработаться такой характер, в котором всякое возбуждающее впечатление переходит совершенно пассивным, непроизвольным, незаметным для души процессом в добрую и великодушную реакцию.
Постепенно и с первой молодости приучая ребенка ассоциировать с каждым порывом, вызывающим злое действие, привычку к его подавлению ассоциациями противоположными, легко создать так называемые цельные натуры. Цельные натуры замечаются преимущественно между женщинами недостаточно развитыми, но любящими, нежными и более или менее страстными. Воспитанные под гнетом, приученные не обнаруживать никаких порывов, они совершенно незаметно вырабатывают привычки пассивного самообладания, созданного не путем сознания и душевной борьбы, а процессом простого навыка под внешним давлением. Люди такого характера действуют как брошенный камень; он летит всегда в одном направлении. Цельная натура не знает рефлексии; в ней все соединилось в одно неразрывное целое, чуждое противоречий, сомнений, колебаний. Если цельная натура обладает сильной страстью, сильным умом и огромной энергией, если все способности ее души работают в социальном направлении, если ее душа, не удовлетворяясь ограниченным кругом семейного особнячества, стремится в ширь мировых, общечеловеческих интересов, то получится великий фанатический характер и великий общественный деятель. Благородство чувств, соединенное с необыкновенной энергией и возвышенностью помыслов, бывает отличительной чертой людей этого сорта. Припомните Гуса. На него надевают бумажный колпак с нарисованными чертями и предают его душу анафеме; «а я предаю ее господу богу», отвечает с кротостью Гус; костер уже зажжен и какая-то благочестивая старуха, радеющая о спасении своей души, спешит с головнею, чтобы прибавить и своего огня; Гус смотрит на нее и кротко улыбается и может быть в этот момент любит еще более то несчастное, затупленное и страдающее человечество, за свободу которого он умирает. Из души точно с корнем вырваны все ассоциации злых и негуманных представлений. Здесь внимание открыто исключительно в сторону любви к человечеству, в сторону справедливости и правды, и никакой другой порядок представлений не возбуждается в этой благородной и глубоко любящей душе. Да, это односторонность — но односторонность человеческого величия. История знает много примеров подобной односторонности внимания.
Внимание, воспитанное в сторону одной кротости и всепрощаемости, не всегда еще создает полного человека. Есть характеры, выработавшие в себе всепроща-емость до того, что они уже перестают возмущаться. Они прощают всякое зло, всякую несправедливость, всякое угнетение с христианской добротой, переходящей только в личное болевое чувство и не выражающееся ни в каком внешнем действии. Кому вы служите, кроткие люди, кому прощаете? Вы мучитесь, вы болите, ваши христианские, кроткие чувства возбуждают к вам личные симпатии всех, кто вас знает, но разве вы не похожи на ту благочестивую старуху, которая поджигала костер Гуса? Есть характеры менее сердечные и любящие, в которых преобладают ассоциации себялюбивых, эгоистичных представлений. Их самообладание переходит в объективный индифферентизм, утрачивающий точно также способность всякого протеста. Этим путем одностороннего внимания воспитывается вся масса филистер-ствующего равнодушия, заботящаяся только о личном спокойствии и устраняющая себя от всего, в чем не замешан ее личный интерес. Формула этих людей — «моя хата с краю». Этим путем слагаются практики с узким кругозором, верные счетчики на коротком расстоянии, вся та масса жалкой посредственности, которая в двадцать лет застраховала себя от всяких благородных порывов и великодушных увлечений и знает только одно чувство — страха. В момент общих увлечений они идут за теми, кто увлекается; в моменты реакции они переходят на сторону реагирующих. Они всегда там, где меньше опасности, где, не рискуя ничем, можно получить многое. Они рассуждают всегда благородно и поступают всегда «благоразумно». Из этой массы не вышел еще ни один великий человек, ни один великий характер; это балласт человечества, серединная сила, лежащая между тупостью и умом, покоем и движением, сном и жизнью.
С концом детства еще не кончается воспитание внимания, напротив, оно развивается и растет по мере накопления новых следов. Известный род занятий может давать вниманию большую и большую односторонность и, наконец, совершенно замкнуть его от всего, что не имеет связи с этими занятиями. Но направление внимания все-таки определяется теми первыми следами, которые будут заложены в душу ребенка. Ни чувство страха, ни гнев, ни самолюбие, ни своекорыстие не должны быть агентами детского внимания. Конечно, личные чувства прежде всего дают направление вниманию, и воспитателю бороться с ними в детской душе очень трудно. Но ведь никто же и не говорит, что воспитание внимания вещь легкая. Нужно обладать громадным терпением, чтобы шаг за шагом вести ребенка настоящим путем и заложить в нем начало тех хороших следов, которые должны создать из него честного человека.
Учите ребенка быть внимательным к жизни и поселяйте в нем навык сосредоточенности. Не потому мы не видим и не слышим того, что свершается вокруг, чтобы мы не могли этого видеть, а только оттого, что никто не приучил нас видеть. Войдите без внимания в часовой магазин, и беспорядочный стук сотни маятников будет для вас безразличным шумом. Но стоит вам только обратить на них внимание и вы усмотрите целую массу особенностей, подробностей и частностей, которые вызовут в вас ряд совершенно новых мыслей, которые без внимания никогда бы у вас не явились. А разве для большинства людей окружающая их жизнь не тот же часовой магазин с безразличным стуком маятников?
Навык сосредоточенности дает силы мысли, и сосредоточенное внимание — то же самое, что сосредоточенное мышление. Без сосредоточенного внимания невозможен сильный ум. Лунатики только потому и ходят так смело по краю крыши, что все их внимание устремлено на один акт. Сосредоточенное внимание, создавая энергию мысли, создает энергическое поведение и серьезное отношение к явлениям жизни.
Но сосредоточенность не есть изолирующая себя от жизни замкнутость, она не есть объективность и равнодушие, она не олимпийское величие невозмутимого покоя и верхового отношения к мелочам жизни, к мелким людям и к мелким людским страданиям. Напротив, научите страдать с страдающими и плакать с плачущими; научите той сосредоточенности, которая не понесет головешки под костер Гуса и не выродится в трусливое благоразумие.
РЕАЛЬНОЕ МЫШЛЕНИЕ
Ум и чувство сбивают еще и до сих пор с толку людей, хотя знамя реализма водружено уже давно и каждый воображает, что его видит, что даже стоит под ним, что держится рукой за его древко. Бессознательный дуализм, борьба ума и чувства — слишком старая история, и Рим, с его знаменитым римским правом, служит превосходным наглядным примером того, как далеко чисто-рассудочное движение мысли от истины.
Мы уже знакомы с ролью душевных факторов — внимания, памяти, воображения в рассудочном процессе. Рассудок творит из материалов, ему доставленных, понятия, суждения и умозаключения. Но напрасно мы станем искать в умозаключении какой-нибудь самостоятельной душевной работы, создающей истину. Это холодный головной процесс, в выводах которого может быть столько же правды, сколько и лжи. Вы говорите: «Кай человек, все люди смертны, следовательно, Кай смертен» — и очень довольны открытой вами истиной, что Кай смертен. Вам предлагают другой силлогизм: «Кай зеленый, все деревья зеленые, следовательно, Кай дерево», и вы недовольны этим силлогизмом потому, что усматриваете в нем абсурд. Что такое абсурд? В настоящем случае — прямое, очевидное для вас противоречие, вносимое повседневным опытом в ваш рассудочный процесс. Вам можно предложить и еще силлогизм, с которым вы не так легко справитесь. Например: «Катон, житель острова Крита, говорит, что критяне все лгуны; если критяне все лгуны, то и Катон, как житель острова Крита, тоже лгун и сказал неправду, следовательно, критяне не лгуны. А если критяне не лгуны, то Катон, как житель острова Крита, не лгун и сказал правду, следовательно, критяне лгуны. Если же критяне лгуны, то Катон, как житель острова Крита, тоже лгун и сказал неправду, следовательно, критяне не лгуны» и т. д. бесконечно. Тут больше ничего, как головной фокус, в котором простыми логическими построениями вы можете играть, как шариками, не кончая никогда игры и, может быть, не умея найти, в чем ошибка. Каждый из этих силлогизмов верен в отдельности; разлагая его на суждения, мы находим, что каждое верно и что также верен и общий вывод или умозаключение. Но почему же при верных суждениях и при несомненно верных умозаключениях обнаруживается, что Катон то лгун, то правдивый человек? Ясно, что суждения, послужившие основанием умозаключению, содержат какую-нибудь неверность, вытекающую или из недостаточного числа наблюдений, или из ошибочного опыта. Конечно так. Следовательно, одни логические построения, одни выводы разума далеко еще не дают нам несомненной истины. Проверкой суждений путем умозаключений мы убеждаемся не в безусловной истине, существующей в понятиях и суждениях, а только в правильной их логической связи.
Молодежь, слагающая свое мировоззрение, ищет своих истин большею частью этим чисто головным путем. Запальчивые, бесконечные споры — чисто головные попытки дойти до истины путем механического мышления и проверки понятий одним путем силлогизмов. Но, вникая в сущность тех средств, которые употребляются, мы увидим, что добываемая нами истина есть не более, как одно головное удовлетворение, оптический обман, за которым в большинстве случаев не скрывается реальная истина и не заключается иногда даже действительного практического содержания.
Вглядываясь глубже в предметы и жизнь, служащие материалом для наших суждений, мы увидим, что не все предметы понимаем одинаково и не все вещи постигаем в их сущности. Мы говорим: алмаз, железо, дерево, тяжесть, солнце, природа. Повидимому, мы очень хорошо понимаем, что говорим. Но что же мы понимаем? Разве мы понимаем сущность этих предметов, сущность явлений? Нисколько. Мы представляем себе только признаки предметов, признаки, связанные нами в известное представление о какой-то сущности, которой на самом деле мы не знаем. Слова, нами употребляемые, как метко сказал Бэкон, только заглавия предметов и, говоря словами, мы в большинстве случаев говорим только заглавиями. И что мы понимаем в предметах внешней природы, что бы нам давало понятие об истинном существе этих предметов? Мы говорим: алмаз, каменный уголь. Нас спрашивают, что такое алмаз, что такое каменный уголь — и мы перечисляем все их внешние признаки, т. е. все то, что действовало внешним образом на наши чувства и потому создало известное представление об этих предметах. Но, перечисляя признаки предметов, перечислив признаки каменного угля, мы разве понимаем, что такое каменный уголь? У каменного угля, положим, десять признаков, но разве их не могло быть пятнадцать или двадцать? Разве каменный уголь не может быть еще чернее, чем он есть, еще смолистее, еще горючее, еще тяжелее, оставаясь в нашем понятии все тем же каменным углем? Почему его признаки связаны именно таким образом, каким мы их находим? В чем именно заключается необходимость такой, а не другой связи? Кто же это знает? Да и знать мы этого не можем. Своими органами чувств мы воспринимаем только те внешние впечатления, которыми чисто головным процессом мы устанавливаем лишь отношения предметов между собой, нс не больше. Говоря алмаз, каменный уголь и воображая, что мы знаем, что мы говорим, мы собственно делаем сравнение признаков; мы говорим о видимом нами отношении признаков между собой, но не дальше.
Ни один из признаков предметов природы не заключает в себе условий неизменяемости. Так, вода в обыкновенном нашем представлении есть тело жидкое, но она бывает телом и твердым. Свинец, тело твердое, может быть телом жидким. Какой признак более свойствен воде, если она полгода бывает твердым телом? С успехами естествознания мы открываем все большую изменчивость и переходность признаков. То, что казалось нам некогда простым, оказывается потом очень сложным. Но что же мы узнали большего о самой сущности вещей, выражающейся в этом изменчивом расположении?
Мы не знаем природы, какова она есть, мы знаем ее только такой, какой она нам кажется. Мы пользуемся лишь ее средствами, не имея возможности изменить в ней хотя что-нибудь. Мы сами часть природы, сами последствие ее сил, сами результат тех законов, которым подчиняется материя и которые существовали на земле, когда еще не было человека. Что же поэтому наша свободная воля, злая воля, добрая воля? Что такое наша власть над самими собой, власть над нашими душевными процессами, когда вся наша природа есть результат общих законов, которых мы изменить не можем и которые поэтому мы только в состоянии узнать в их кажущихся нам отношениях и проявлениях. Гордясь своим всемогущим умом, мы должны, однако, сознаться, что он решительно не участвовал в произведении предметов природы и в произведении человека. Наш ум не создал ни человеческого тела, ни органов чувств, ни нервного аппарата, ни головного мозга. Он сам и вся деятельность человеческой души явились результатом постепенно выработавшейся человечеокой формы. Наш разум, наше сознание самостоятельны лишь настолько, насколько органы внешних чувств и воспринимающий психический аппарат дают им средств для работы.
Если в области сознания мы чувствуем себя свободнее, то только потому, что можем сделать себе известные представления о происходящих в нас психических процессах, хотя сущность их мы понимаем столько же, сколько и сущность всех остальных явлений природы. Опыт и наблюдение дали нам целую массу материала, который мы комбинируем известным образом и затем создаем известный результат, в котором мы как-бы властны. Но властность эта все-таки номинальная, а не реальная. Сознание, вырабатывая известные суждения, понятия и проверяя их умозаключениями, не может создать ничего вне того материала, который ему доставлен вниманием, памятью и воображением. Проверяя вывод, оно может сказать только, что он верен лишь как итог из известного числа данных, но верен ли он абсолютно? И здесь, в области мысли мы встречаемся с аналогичным явлением. Как мы не знаем абсолютной природы, а знаем предметы природы только в их главных, внешних, изменяющихся признаках и, по мере опыта и наблюдения, постепенно меняем свои представления, так и в области мысли, где мы считаем себя, повидимому, хозяевами, мы ни на одну минуту не останавливаемся на известных выводах, которые могли бы принять за особенно верные. Опыт постоянно подсовывает нам новые факты, на основании которых мы должны перестраивать свои понятия.
Очень немногие понятия имеют характер неизменяемости и могут быть признаны за абсолютные истины. Сюда принадлежат истины математические. Мы совершенно овладели понятиями математическими и теми отношениями, которые выражаются алгебраическими формулами и геометрическими фигурами. Математика — единственная область ведения, в которой нет ничего, что бы не имело полной необходимости. Возьмите любую геометрическую фигуру — треугольник, квадрат, круг; возьмите любое математическое тело — шар, цилиндр, призму; возьмите любую алгебраическую формулу — малейшее изменение отношений или признаков уже меняет их в существе и создает другое понятие. Но разве эта невозможность изменяемости существует в других понятиях, выразителями которых являются иные заглавия, иные слова? Мы не можем ничего изменить в квадрате без того, чтобы он не перестал быть квадратом, но разве в каменном угле мы не можем изменить многих признаков и он все-таки останется углем? Разве во всех остальных умственных понятиях мы точно также не можем изменить признаков, причем понятия останутся теми же? Мы говорим: государство, общество, семья, но что же в этих понятиях постоянного? В них все условно, изменчиво, подвижно. И Рим Нерона — государство, и Северо-Американский союз, под президентством Гранта, — также государство. И римская семья, где отец мог продавать и убивать своих детей, — семья, и семья европейская, где этого уже нельзя делать, — семья; и одноженная семья европейца — семья, и многоженная семья турецкого султана — семья.
В понятиях религиозных, в понятиях, обнимающих внутреннюю область души, мы находим еще большую подвижность, большую изменяемость и большее разнообразие, так что каждый человек одним и тем же словом озаглавливает только свои собственные представления, ощущения и понятия.
Пока память человечества не скопила большего запаса опытов и наблюдений, сознание из немногих фактов только и могло выработать небольшое число понятий, именно потому и имевших характер всеобщности, что их было мало. Древний человек превосходно умещался в древне-римском государстве, но разве теперешний американец мог бы жить в древнем Риме? Большего и большего простора требует себе личность, потому что, по мере увеличивающегося запаса общечеловеческой памяти, каждая отдельная личность хочет жить по-своему, вне регламентации, выходящей из чужой души. Вот почему «анархия единоличных произволов» есть тот идеал, к которому стремится личность и из-за которого она ведет свою нескончаемую борьбу с обществом.
Говоря «анархия единоличных произволов», мы именно хотим указать, какую роль в человеческих понятиях играют слова и чисто логические процессы. Мы говорим словами, и каждое произносимое слово мы, конечно, понимаем. Но всегда ли мы понимаем сущность предметов, заглавием которых слова служат? Мы гово рим: общество, анархия, свобода, жизнь, душа, религия. Употребляя эти слова, мы большею частью знаем только, каким группам чувств и представлений они соответствуют. Что такое общество? Что такое анархия? Что такое свобода? Если бы сущность предметов и понятий, выражаемых этими словами, была понятна, разве были бы возможны споры, рассуждения? Мы потому только и спорим, что не определили себе значения употребляемых нами слов и взаимного отношения тех понятий и предметов, о которых говорим. В этих чисто умственных предметах именно и выражается полнее всего личная индивидуальность каждого. Рассуждая о подобных предметах, мы рассуждаем не о том, что имеет для всех одинаковую очевидность, а, напротив, о том, что имеет для каждого свою собственную очевидность. Все наши рассуждения об умственных предметах клонятся вовсе не к тому, чтобы понять их сущность: мы стремимся собственно установить условные понятия, которые хотели бы выражать этими словами, и довести их до бесспорности.
Не всем ясно, что понимать слово, служащее известным заглавием, еще вовсе не значит понимать существо предмета, за ним скрывающегося, и проверять силлогизмами отдельные суждения еще не значит добывать истину и понимать вещи. Искусство логических построений никем не было доведено до такого совершенства, как римлянами, и римское право, конечно, может служить образцом превосходнейшего умствования. Но можно ли утверждать, что все римское умствование, все последующие юридические, государственные и социальные суждения, наконец, весь современный юридизм и условные понятия, лежащие в основе европейского общества, — суждения реальные? Нет. Все господствующие суждения составлены путем логических построений и заключают в себе только условную, номинальную истину, а вовсе не действительную, реальную. Не о том речь, откроем ли мы когда-нибудь всеобщую реальную истину, а речь о том, что в области царящих социальных понятий мы владеем только истинами номинальными, кажущимися. Мы это должны знать, а мы этого не знаем. Гордясь тем, что живем в период реализма, мы даже и не подозреваем, что думаем вовсе не реальным способом. Уже с первой молодости мы приучаем себя к одним логическим процессам, создавая из себя будущих софистов и говорунов. В своих социальных, экономических и юридических отношениях мы удовлетворяемся вполне одними логическими построениями и диалектическим способом доказательств, вовсе даже и не желая знать, что этими доказательствами мы отстаиваем только свою диалектическую изворотливость. Но что же мешает ей быть в действительности ошибкой и даже преднамеренной ложью? Как поступает юрист, готовый и обвинять, и оправдывать одного и того же человека? Как поступал Наполеон I, давивший народ во имя свободы, называвший себя императором республики? Мы не станем спрашивать, честно или бесчестно они поступали. Да и что значит честно? — французский уголовный суд судил одного известного вора за кражу. Потерпевший показал, что у него украли 800 франков. «Восемьсот! — возразил вор с видом оскорбленного достоинства, — у вас было всего четыреста франков. Надо говорить честно». — Но мы спросим, какую истину преследовали и Наполеон I, и Наполеон III — логическую, номинальную — или реальную? Вносили они в свои суждения поправки из реального мира, из новых опытов и наблюдений, освежали они их фактами новой текущей жизни? Нет, они вращались только в круге тех идей и понятий, которые были созданы предшествовавшим юридизмом, были решены чисто номинально. С благородным одушевлением они писали в своих манифестах и произносили в своих речах — свобода народов, благо граждан, счастье подданных, благоденствие государства, правосудие, милосердие; но, боже, — какой страшный смысл скрывался за этими словами! А последняя французско-прусская война и принципы государственной необходимости и политического достоинства, которые так ревниво охраняло прусское правительство! Давно уже за старыми словами реальное мышление поставило новый смысл.
Может быть никогда старые слова не расходились так с выраженным ими новым смыслом, как нынче. Люди разных понятий, говоря одними и теми же словами, решительно не понимают друг друга. И отец, подавляющий своих детей и убивающий в них всякую свободу мысли, говорит, что он поступает честно, и дочь, бегущая от такого отца, говорит, что она поступает честно. И защитник, оправдывающий вора, и прокурор, его обвиняющий, поступают честно. Мы говорим: честность, бесчестность, добро, зло, благородство, ум, глупость, счастье, равенство, — переберите все слова нравственного порядка, разве вы найдете хотя двух людей, которые бы понимали их одинаково? В чем сущность борьбы, которую объявил реализм метафизическому мировоззрению и номинализму? Только в том, что реализм хочет новой проверки старых понятий, на основании нового материала, добытого новым знанием, новым опытом, новым наблюдением. Страшный диссонанс, разъедающий современное европейское общество, происходит только от того, что в Европе преобладают понятия, составленные и решенные номинально еще бог знает когда. Разве Франция не от того трепещет и бьется целое столетие и не может прийти к соглашению, что католицизм и феодализм не хотят делать ни малейшей уступки реальному мышлению? Лучшие умы, лучшие интеллектуальные силы человечества давно ведут свою пропаганду, давно требуют от мышления жизненности; но перед ними стоит традиция веков и полуцивилизованная образованная масса, вечно выдвигающая свои средневековую мораль и неподвижные логические сооружения, воздвигнутые совершенно при иных условиях жизни, при иных требованиях личности.
В русской жизни можно указать на множество фактов того разделяющего недоразумения, которое так резко обнаружилось в последние пятнадцать лет. «Дети» отделились от «отцов», потому что за старыми словами начали видеть иной внутренний смысл. Вся деятельность новой литературы заключается именно в том, чтобы сделать смотр словам, сделать их названиями иных вещей, ввести реальное мышление вместо метафизического и номинального, проверить старые понятия новыми фактами и научить думать не словами, а реальным их содержанием.
Необыкновенно туго и медленно идет эта работа, встречая себе сильное противодействие со стороны лиц, выросших на формальном логическом мышлении и удовлетворяющихся одними головными построениями. Юри-дизм опутывает нас повсюду; личность, стремящаяся жить по-своему и найти свое личное счастье, чувствует еще везде давление юридической одноформенности, не дающей ей простора.
Так называемый «нигилизм» был первой попыткой реального мышления сделать смотр словам и дать им более жизненный смысл. Критическое отношение нигилизма было резко. Шумно и заносчиво взялся он за критику слов и понятий; он повел свое отрицание слишком смело, самоуверенно и последовательно. Но разве можно его в этом обвинить? Уже самая страстность его поведения не доказывала ли его жизненности?
Для большинства нигилизм был только известной формой и за формой не умели рассмотреть его содержания. Нигилизм, как известная форма протеста, уже исчез, но его содержание наполнило всю русскую жизнь, потому что оно исходило из существа свершавшегося у нас экономического переворота и из тесно связанных с ним всех преобразовательных последствий.
Бывают исторические явления, резко обнаруживающиеся в известных очевидных и ясных для всех переменах. Таким было, например, наше освобождение крестьян. Освобождение крестьян есть лишь формальная внешняя перемена известных условий жизни. Оно раздвинуло ее рамки, открыло новые возможности для человеческого поведения, дало ему новый простор. Но оно не могло проникнуть в мир человеческой души, да ему и не было дела до этого внутреннего мира. Освобождение было широким, всеобъемлющим, внешним историческим актом, проверка которого подлежала лишь внутреннему миру освободившейся личности, для которой оно и совершилось. И эта проверка выразилась в том социально-психическом явлении, которое известно у нас под неточным названием нигилизма. Собственно нигилизма теперь уже нет, и запоздалые нападки на него литературы, хотя бы в «Обрыве» г. Гончарова, лучше всего показали, что общественный практический разум не на стороне писателей умирающего русского номинализма.
Освободив нигилизм от его несущественных сторон, тот же самый общественный разум воспользовался лежавшей в нем жизненной правдой и, не давая, даже не пытаясь давать ей никакого заглавия, вступил на путь реального мышления. Как ни мало было число его представителей, но его последствия и влияние на русское общество гораздо шире и глубже, чем это кажется поверхностным наблюдателям. Нигилистический реализм превратился в реальное, практическое здравомыслие и проник всю русскую жизнь во всех ее мелочах. Если вы спросите, в чем сущность освобождения крестьян, вам перечислят все подробности этой великой реформы, все мелочи статистические, административные и хозяйственные, в которых она выразилась и которыми создалась новая форма отношений. Но если вы спросите, в чем сущность влияния и воздействия на русское общество нигилистического реализма, ответ будет труднее. Реализм есть собственно душа или содержимое тех отдельных стремлений личности, простор которой дали новые, более широкие рамки внешней жизни. Освобождение — внешняя форма; реализм — ее содержимое. Реализм не выразился ни в какой резкой или своеобразной перемене русской жизни, — по внешности она осталась почти прежней, — но он проник повсюду, он зашевелился в каждой отдельной душе. Раскидавшись, повидимому, по мелочам, превратившись в какую-то неуловимость, он в то же время проложил себе дорогу в понятия таких людей, которые, повидимому, были совершенно неспособны идти на какие бы то ни было уступки. Я знаю старцев, которые несколько месяцев назад считали развратом «женский вопрос», а теперь сами рассуждают со своими зрелыми дочерьми о женском труде, женской самостоятельности и т. д. Реализм незаметно, шаг за шагом, подъедает старый русский обычай, изменяет формы жизни, вытесняет рутину и перестраивает общественное мнение в направлении того нового социально-экономического движения, дорогу которому открыло освобождение.
Но мы не скажем, чтобы его влияние на общество было безошибочно. Нигилистический реализм имеет свою специальную односторонность, которая, наконец, должна вызвать поправку.
У нигилистического реализма были свои ближайшие враги и цели, и на них он устремил свою критическую силу. Он стремится к построению семьи на лучших и более свободных началах, вытесняя из нее прежний ее римский юридизм и заменяя его свободой и простотой. И в этой социальности нигилизм достиг, может быть, наиболее всеобъемлющего результата. Но в социально-экономической области его стремления принесли далеко не те результаты, которых он ожидал. Причину этого нужно искать не в бессилии нигилистического реализма. Он — только известный путь мысли, но вовсе не готовый результат. Дать что-нибудь законченное реализм не может, потому что и сам им не владеет. Требуя простоты и свободы в семье, он провозглашает только общий и общепринятый принцип. Но как этот принцип будет приложен во всех частных случаях, на каком компромиссе остановятся заинтересованные стороны — он не знает, да и знать ему этого не нужно. Литературные попытки создать руководящие образцы не могли иметь никакого всеобщего значения уж потому, что у каждого человека свой собственный внутренний мир, своя собственная душа с своими собственными требованиями и свои собственные житейские обстоятельства. Выходы к свободе и компромиссы, предложенные нигилистическим реализмом, оказались поэтому далеко неудовлетворительными. Вообще нигилизм хотел вести себя больше как организатор, чем как психолог, и потому терпел фиаско именно в тех случаях, когда он забывал, что он собственно путь мысли, а не известная форма жизни. И несмотря на то, влияние его на семью было велико. Все крайнее, неприменимое, втискивающее в известную, готовую общую форму, не было принято жизнью, как не были приняты ею синие очки или известная прическа. Но основное, реальноверное привилось, и принцип свободы водрузил свое знамя в русской семье. Дрогнула даже упорная хранительница дом -ютроевских преданий — семья купеческая. Выставленные на позор общественного мнения Кит Китычи теперь уже не общественная язва, а только последние могикане вымирающего семейного самодурства, последние остатки Московской Руси. Мы можем смело и открыто признаться, что нигилистический реализм внес в русскую семью идею свободы. А свободная семья подготовит людей, которых у нас не было.
В своих экономических стремлениях нигилизм был менее счастлив. В вопросах семьи он чувствовал себя дома, и именно потому, что относительно семьи, как юридического учреждения, нигилизм владел вполне достаточной, тоже юридической, аргументацией. Здесь мысль была в своей собственной области, в той области условного понимания, где все зависит от соглашения принять тот или другой компромисс. Вы мне предлагаете свое, я, на основании моих личных требований, предлагаю свое, и результат зависит ни от кого больше, как от нас двоих. Это тот естественный путь мысли, которым свершается социальный рост общества: личной зрелостью каждого из ее отдельных членов.
Но сфера социально-экономическая много шире, да и для разрешения ее вопросов у нигилизма недоставало реального материала. Он понимал только требования жизни, но не владел ровно никакими средствами, чтобы им удовлетворить. В этом случае его можно было бы сравнить с страдающей в супружестве женой, которая знает, что для независимости ей нужны деньги, но где их взять — не знает. Только стремления нигилизма были реальны, но средства, которыми он располагал, были логические, юридические. Понимая социальный экономизм теоретически, он сам, в сущности, не был, да и не мог быть экономическим производителем. Он был критическая сила, головной, логический деятель, но не экономический работник. Он был представителем образованного пролетариата, могшего предложить на экономическом рынке только свой головной труд. И вот рынок наполнился желающими писать, переписывать, переводить, вообще ищущими литературной работы; наполнился учителями, учительницами, медиками, акушерками, адвокатами, юристами; одним словом, только теми лицами, которые нужны для удовлетворения умственных требований страны. Что же касается удовлетворения собственно экономических требований, подъема экономических производительных интеллектуальных сил, развития умственной изобретательности, — то нигилизм оказался бессильным сделать для них что-нибудь. С одной стороны представители нигилистического реализма ушли в головной труд, с другой, вместо нормальной и здоровой экономической производительности, явились денежная горячка и спекуляция, с особенной силой выразившиеся в биржевой игре и железнодорожном деле. Но где же наши производительные экономические способности? Можно ли сказать, что они в настоящее время выше, чем были двадцать лет назад?
Что такое спекуляция, что такое денежная горячка и погоня за хлебными местами и хлебными профессиями, как не недостаток прямых производительных экономических способностей? В большинстве случаев наш современный экономизм есть ловкое перекладывание денег из одного кармана в другой. Социально-экономическое мышление, вступившее в такой путь, можно ли назвать истинно реальным? Такого ли мышления требует жизнь, общественное благо и процветание страны? Нигилистический реализм, обнаруживший такое сильное влияние на семью, давший толчок к стремлению личности к свободе, в экономической сфере сам подчинился давлению жизни и господствовавшего юридизма. Причина в том, что его средствами были те же головные, логические построения и одностороннее поклонение уму, понятому неверно. От этого нигилистическое мышление образованного пролетария пошло в исключительно экономически-приобретатель-ном направлении и стремившаяся к свободе личность пролетария ушла в экономический индивидуализм и в социальное особнячество. Но реализм не есть односторонняя поправка. Истина, которую хотели найти умом, оказалась не найденной.
Образованный пролетарий, страдавший от нищеты, и не мог поступить иначе. Его тактика и односторонность понятны. Но от кого же ждать поправки, кто должен дать русскому мышлению более верное, реальное содержание? Кто решит эти вопросы? Уж, конечно, не действующие поколения.
СЛОВО
«Музыка, — говорит Дарвин, — обладает чудной способностью вызывать в смутной и неопределенной форме те сильные чувства, которые волновали вероятно людей в отдаленные века, когда наши древние прародители привлекали друг друга посредством голосовых звуков». «Привычка издавать музыкальные звуки, — говорит он дальше, — развилась впервые, как средство ухаживанья у древних прародителей человека и ассоциировалась таким образом с самыми сильными чувствованиями, к которым они были способны, именно — сильной любовью, соперничеством, победой». На неясном языке чувства остановились животные, человек — вырос до слова.
Вникая в характер и действия музыкального языка, мы увидим, что в песнях, как замечает Личфильд, весь эффект выражаемой страсти зависит от усиленной передачи одного или двух характеристических пассажей, которые требуют большого напряжения силы голоса. Если певец обладает сильным голосом и передает эффектные места без всякого для себя усилия, то они не производят впечатления.
И слово производит свой эффект только при душевном напряжении. Нужно, чтобы в произношении его участвовало известное усилие, известное внутреннее душевное движение, и чем напряжение души больше, тем и слово действует сильнее. Гневная речь, произносимая обыкновенным, ровным голосом и не сопровождаемая соответственной мимикой лица и жестов, не может произвести (никакого эффекта. Человек, рассказывающий о своих душевных страданиях спокойным тоном и с невозмутимым выражением лица, никого не заставит верить, что он страдает. Страстная по содержанию речь или объяснение в любви, сказанное веселым тоном, производит впечатление шутки.
Речь только тогда достигает своей цели, когда за каждым словом чувствуется душа говорящего; чувствуется та сила, то душевное состояние, которое ее вызвало. Самая умная лекция или умная книга, прочитанная монотонно, вызывает в слушателях непреодолимую скуку и погружает их иногда в сон, тогда как энергичная, живая или страстная речь человека, говорящего даже с меньшим умственным содержанием, покоряет себе слушателя.
За словом должна чувствоваться жизнь, и если этой жизни нет, слово становится менее понятным, оно разносится в пространстве, не достигая души. Даже самые сухие, повидимому, чисто головные вещи становятся нам понятнее, если их говорят с известной силой и музыкальностью. Даже канцелярский доклад понятнее, если его читают энергично. И все это оттого, что мы не можем выделить себя из жизни чувства, оттого, что нет на свете таких мыслей, в которых бы оно не участвовало.
Чем действует хороший чтец и хороший актер? Только тем, что он трогает душу. Но что значит трогать душу? Трогать душу значит возбуждать в ней полные, глубокие и сильные ощущения, вызывать в ней иногда даже и такие ассоциации представлений, существования которых зритель, может быть, в себе и не воображал. Хороший актер изображает разные психические состояния с такой верностью и силой, что пробуждает те же самые душевные процессы и в зрителе. Мочалов, говорят, бледнел на сцене, как полотно; Гаррик, стоя спиной к зрителям и не произнося ни одного слова, производил, при появлении тени в «Гамлете», впечатление сильнейшего ужаса. В одном из наших губернских городов какой-то второстепенный актер, во время представления Ольриджа, возбудил неудержимый смех всего театра. Но уже через две минуты Ольридж, говоривший на языке, которого никто не понимал, овладел вполне вниманием публики.
Одной и той же фразе можно придать множество оттенков и даже совершенно противоположный смысл. В «Мертвом доме» есть рассказ об умершем в острожной больнице арестанте. Больничные сторожа раздели покойника до нага, но и с мертвою не посмели снять кандалов. Часовой, надвинув кивер на брови, подошел к трупу, молча посмотрел на него и произнес мрачно вполголоса: «тоже ведь мать была»! Острожный майор, «набрасывавшийся» на арестантов, те же слова произнес бы, конечно, иным тоном, под влиянием иного душевного состояния. И разве их нельзя произнести и мрачным, мистическим, глубоко и сильно захватывающим тоном часового, и тоном презрения, и тоном насмешки, и с досадой, и с слезливым сожалением? Одна негритянка жаловалась мировому судье на негра, который, увидев ее, свистнул очень обидным образом.
Слово — безразличный звук, без всякого содержания, если оно не действует на душу. Смысл целых фраз может быть совершенно неясен, если неизвестно вызвавшее их ощущение и если они произносятся несоответственно этому ощущению. Крестьянская женщина приходит к писарю и просит написать письмо к ее сыну солдату. «Написал?» спрашивает крестьянка. — «Написал», отвечает писарь. — «Ну, читай». — «Любезный мой сын», читает писарь густым, ровным басом. — «Ах нет, не так. Напиши: — любезный мой сын!» произносит баба нараспев, нежно и высоким тоном. «Написал?» — «Написал». — «Читай». — «Любезный мой сын», снова басит писарь. — «Ах, нет», возражает неудовлетворенная мать... так они и не столковались. Язык слова беден, когда ему нужно выражать мир души, и нет на свете таких слов, таких понятий, которыми бы можно было выразить вполне характер, цвет, силу душевных состояний. Каждый чувствует, любит, страдает, радуется по-своему, но не у каждого свои собственные слова для выражения его личных ощущений. Никакими словами нельзя описать чувств, и мы напрасно усиливались бы растолковывать их, если не в состоянии заставить их почувствовать. Средства души громадны, мир ощущений безграничен, и у каждого человека своя душа. Может ли поэтому слово, этот всеобщий, средний, условный знак, выразить одним своим бесстрастным звуком то, что вы чувствуете, и именно так, как вы чувствуете? Нет, если вы произносите «люблю», скажите его так, чтобы слышалась вся сила вашей нежнососредоточенной души. Вы говорите «ненавижу», и в усиленном тоне должна слышаться и дрожать не только ваша возмущенная душа, но должна чувствоваться и энергия ваших злых инстинктов. В слове должен выражаться весь нравственный человек, все содержимое его души, должен быть виден весь его внутренний мир. Но такого слова нет на человеческом языке. И вот, на помощь языку слов является язык телодвижений, мимика, сила и интонация звуков. Только в полной совокупности всех этих средств становится нам понятным слово.
Пока человек не владел словом, он выражал внутренний мир своих ощущений телодвижениями, мимикой и звуками. Открывая свою душу другому, первобытный человек, конечно, вначале не знал, какими средствами он действует. Воспринимая чужие ощущения, он подчинялся пассивно-внешнему влиянию, не анализируя его. Для того чтобы воспринять ощущение красного цвета, нам вовсе не нужно знать, что это красный цвет. Видели ли вы человека в состоянии ужаса? Его лицо страшно бледно, волосы стоят дыбом, дыхание затруднено, ноздри широко раздуваются, раскрытые и выступившие из орбит глаза направлены неподвижно на предмет, внушающий ужас; все мышцы приходят в судорожное движение, и, наконец, человек, побуждаемый какой-то непонятной ему силой, бежит в паническом страхе. Разве вами не овладевает то же самое чувство? Разве и вы не замираете, разве и вам не сообщается панический страх? Целые полки бежали с поля битвы, и никакой силой их нельзя было остановить. Радость, горе, любовь, боль имеют тоже свой мимический язык, выражаются в лице, голосе, телодвижениях и действуют на других путем того же нервного сочувствия, каким действовал на зрителя Гаррик, стоявший к нему спиной. Это немой язык души, понятный для всякого человеческого существа.
Даже самые слабые ощущения воспринимаются нашим нервным аппаратом, и мы заражаемся тревожным состоянием другого, когда он даже ничем не выражает своей тревоги. От человека, находящегося в ненормальном состоянии чувствующего организма, как бы отделяются какие-то лучи, отделяется что-то неосязаемое и невидимое, но тем не менее нами воспринимаемое и ощущаемое. Мы невольно подчиняемся чужим душевным движениям и ощущаем веселое или подавленное состояние духа, не умея объяснить себе его причины и даже не подозревая, откуда оно идет. Путем одного нервного сочувствия мы можем страдать чужим страданием совершенно бессознательно, не зная его причины, его мотивов, его состава и ощущая одно тревожное, смутное, непонятное, болевое состояние. Но один немой бессознательный язык нервного сочувствия не мсг удовлетворить человека.
Каждое чувство, каждый порыв — любовь, ласку, зависть, радость, печаль — первобытный человек выражал известным образом, более или менее шумно — звуком, мимикой, телодвижением. Но воинственный крик торжествующего воина, крик радости, нежные звуки любви и ласки были не больше, как внешним отражением внутреннего душевного состояния в его настоящем моменте; то был рефлекс, но еще не слово.
Чтобы явилось слово, нужно было заметить, что дуШевнЫе движения выражаются всегда в известной свойств венной им форме; нужно было точно подметить и определить эту форму. И когда человек совершил эту работу, он дал названия своим чувствам и ощущениям, обозвал их известным словом, приклеил к ним ярлыки. Как рефлекс выражал настоящее состояние чувствующего организма, так слово выразило его прошедшее состояние. Но рефлекс есть как бы само чувство; он — непосредственное, невольное ёго выражение, идущее следом. Слово же только представитель, й человек, употребляющий известные слова, произносит одни заглавия чувств. Он может даже стоять совершенно вне тех чувств, названия которых произносит. За слбвом, как за простым ярлычком, могла скрываться полнейшая пустота чувства, фраза, обман, актерство. G появлением слов для обозначения умственных предметов, язык чувства утратил еще больше свою силу и создалась возможность объективности, т. е. такого отношения к жизни, когда человек держит себя третьим лицом, выгораживает себя из социальных явлений, не переживая их в процессах личного чувства.
Трудным, болевым процессом выработало человечество язык чувств и мыслей. Мы, не участвовавшие в родах слов и получившие уже готовый их лексикон, готовый запас названий, не имеем понятия о трудности этих родов; прежде чем человек сказал слово «люблю» или «ненавижу», он должен был выстрадать целый ряд ощущений, итогом которых явилось произнесенное слово. Каждое слово есть поэтому результат очень трудного и мучительного предыдущего, которое следовало пережить, прежде чем явилось ему название. Язык слова есть психическая история человеческих мучений. Не радость и счастие творили человеческое слово, а горе и страдание. И это горе и страдание история написала на каждой своей странице. История человечества — это вечная борьба и вечная битва. Самые лучшие, повидимому, праздничные слова созданы вовсе не праздничным состоянием человеческой души. Чтобы придумать слово «человеколюбие», нужно было выстрадать много мучений, вынести громадную массу жестокосердия и бесчеловечья. Вы думаете это слово — итог хороших моментов доброго чувства? Нет, оно просто крик отчаяния, взывающего к тем светлым и добрым сторонам души, которые страдающий и угнетенный человек чувствовал в себе и хотел найти в другом.
«Человеколюбие» есть только ярлычок того многовекового протеста, который носил в себе подавленный человек и наконец обозвал этим словом. Не человеколюбием началась история, а бесчеловечием, и когда человек воззвал к человеколюбию, он выстрадал уже такую массу безнадежного горя, он сознал уже на столько свое бессилие, что ему оставалось одно — просить пощады.
А милосердие, прощение, правосудие, беспристрастие, благость, доброта, помилование, помощь и все слова нравственного порядка, обозначающие христианские чувства! Для нас это очень короткие слова, которые мы произносим скоро и легко. Но что же мы знаем из того тяжелого, трудного и продолжительного процесса, которым дочувствовалось и додумалось до них человечество? В этих словах накопились все прошлые исторические чувства человечества, за ними стоит целая история. Да, слова эти не рефлексы, потому что они явились после крика отчаяния, неправосудия, преследования.
Рефлексы исчезли вместе с чувствами и болевыми процессами, которые их вызывали, и если бы не явилось слово, что бы мы знали о прошедших страданиях коллективной и единоличной человеческой души? Слова, которыми мы владеем — наследство памяти, оставленное нам всей предыдущей историей. Они коротки, они могли бы быть еще короче, но историческое предыдущее, создавшее их, длинно, очень длинно, бесконечно длинно. Говоря словами, мы говорим названиями, не чувствуя их исторического и культурного содержания, не переживая процессов, их создавших, не имея даже приблизительного понятия о труде, каким скопили его наши прародители. Да, немногое мы знаем из истории слов, которыми говорим, и из скорбных процессов души, которыми они были созданы. Легкомысленно играем мы словами, не умея нередко даже близко подойти к душевным процессам, их создавшим.
Много есть слов, которые, конечно, незачем и чувствовать, если изменились сами создавшие их чувства и человеческая душа живет уже иными процессами. Человечество растет и зреет, чувство и мысли его улучшаются; что понималось известным образом в культурный период — понимается иначе в период исторический, в период пробудившейся критической мысли. Слово «ревность» произносит и турок, и европеец; но разве они выражают этим словом одни и те же душевные процессы?
У турка ревность — дикий, сильный и злой порыв, стремящийся к рефлексу разрушения; у европейца это уже легкое чувство неудовлетворенной солидарности, ассоциирующее с доброжелательством. Если, наконец, осилит доброжелательство — исчезнет и чувство ревности, а с ним и его название. Месть черкеса и месть цивилизованного англичанина — названия двух совершенно несходных душевных состояний. Одна выражается в ряде бесконечных убийств; другая — в объективном, спокойном отношении, не вызывающем никакого злого рефлекса. По мере того, как умягчаются дурные страсти, по мере того, как улучшаются чувства, социальные и личные отношения, меняется в чувственное содержание слов. Но исчезает ли с этой переменой энергия души, исчезает ли сила страсти и упорство человеческих стремлений, умирает ли чувство, или оно только меняет свою форму, оставаясь в существе тем же? Правда, много слов утратило свой прежний характер, мягче и мягче становится человечество, но сущность его интересов и стремлений та же. Взамен умирающих слов являются только другие. Как прежде человечество выстрадало свои слова, так оно творит их и нынче -и тем же трудным процессом. Новые слова, правда, рассудочнее, но внутренняя история их гораздо многосложнее, а выстрадавшее их чувство, конечно, не меньше.
Слово служит представителем не одних чувств, но и понятий. Слово обнимает весь мир души человека — отраженную ею природу, социальную жизнь и внутреннее чувство. В слове — запас всего передуманного и перечувствованного человечеством; понятно, почему к слову может явиться благоговейное, мистическое уважение, как к чему-то таинственному, непостижимому и чудесному. И действительно, нельзя не изумляться механизму души, силе и быстроте ее работающего аппарата.
В словах, обозначающих понятия, заключается такая же многосложная история мысли, как в словах чувства — история чувства. Слова, обозначающие понятия — тоже не больше, как названия. Мы говорим «человек», но сколько предварительных понятий, представлений, сравнений, сколько труда мысли было употреблено прежде, чем явилось это слово, скрывающее за собой чрезвычайно сложную сеть постепенно вырабатывавшихся и зревших представлений. Или слова социального порядка — пауперизм, равноправность, свобода, гражданин и т. д.
Словам этим предшествовал целый ряд процессов страдавшего, бессознательного чувства, затем целый ряд сравнений и оценок социальных условий и положений лица, и только после того, как чувства и понятия выяснились и обособились из других представлений, явились им названия. Если хотите узнать, как велика концентрирующая сила слова, как велик его психический состав, как длинна его история, попробуйте сделать определение хотя бы слову пролетарий. Для полного объяснения его нужно написать целую книгу. Но не меньше изумительна быстрота нашего сознания. Сказав «пролетариат», «пролетарий», «равноправность», «свобода», «равенство», «гражданин», «закон», — мы в одно мгновение пробегаем мысленно целое необозримое поле понятий, создавших эти слова, и сразу понимаем значение каждого из них, их родство, сходство и различие.
Сопоставляя и группируя известные слова в известном порядке, мы составляем идеи. Идея заключается не в самих словах, которые выражают только понятия, она — нечто искусственное, составное, независимое от слова, и потому имеет характер некоторой произвольности. Идея есть результат рассудочного процесса, могущественным средством которого является слово. Весь процесс нашего мышления совершается словами, и если бы не было слов, не было бы и законченного мышления. Только от недостатка сознания и непривычки анализировать свои психические процессы, мы не замечаем многосложного процесса мышления посредством слов. Мы говорим: «пролетариат, как социальное явление, есть зло новой истории». Разложите это предложение на части, разберите состав каждого понятия, выражающегося в каждом отдельном слове,, и, наконец, идею, заключающуюся в подборе именно этих, а не других слов. Перед вами возникает громадный мир чувств и представлений, постепенно пережитых социальным и единоличным человеком, возникает целая история социальной, коллективной души. Вот где Секрет человеческого развития, единоличного ума и социальной пригодности или непригодности отдельного человека; секрет того, что люди говорят одними словами, не понимая и не чувствуя того, что они говорят.
Только то составляет истинно нравственное приобретение человека, в восприятии чего его душа участвовала всеми своими силами. Нельзя воспринимать чувств по их описаниям и нельзя усваивать мыслей или понятий, если они не могут быть обработаны нашим сознанием. Вы говорите ребенку: «пролетариат, как социальное явление, есть зло новейшей истории». Но разве он в силах понять из них что-нибудь! Каждое из этих слов есть сложное понятие, составленное из целой массы простых понятий. И ни одно из них, может быть, еще не известно ребенку. «Пролетариат»... Чтобы ребенок мог понять, что значит пролетариат, он должен знать, что такое бедность, лишение, нужда и пауперизм, как ее обобщение. Ему нужно испытать собственным организмом, что значит голод, когда поесть нечего; что значит холод, когда надеть нечего; ему нужно понять, что такое сознающая себя бедность умственных и физических средств, которые должны остаться неприложенными, потому что на рынке труда слишком много рук. И почему «пролетариат» социальное явление? Что значит социальное? Каким путем мысль из единоличной дорастает до — обобщения? Когда известные общественные аномалии называются социальным злом? Отчего пролетариат неизвестен кафрам и не был известен Европе 17-го столетия? Отчего он стал язвой новейшей истории? И что такое «история»? Как же вы хотите, чтобы двенадцатилетний ребенок не произносил вашей фразы о пролетариате, как простой подбор слов, даже и внешней красоты которого он представить себе не в состоянии!
Но послушайте, с каким увлечением тот же самый двенадцатилетний гимназист рассказывает историю Христинин Младена, рассказывает о битвах гайдуков с турками. Мальчик точно вырос на два вершка, голос его понизился двумя тонами, помужал; каждое слово он не только отчеканивает, но произносит всеми силами, всем напором своей души. Вы чувствуете, что мальчик — в сфере чувств и понятий, вполне ему ясных и знакомых; ему все понятно в поведении Младена, он точно сидит вместе с ним в засаде, точно вместе с ним стреляет в турок. Послушайте, каким тоном в другом рассказе он произносит слова Камилла: «Римляне покупают свою свободу не золотом, а мечом». Конечно, не все в этой фразе ему понятно, но ему понятен ее общий героический тон, ибо ему известны героические чувства, которые ему не раз приходилось переживать в детских потасовках с товарищами. Но вот он говорит отцу: «папа, какой ты смешной, с сигарой, отчего ты не куришь трубки?» И вы видите, что он произносит только слова, или по крайней мере скрывает за ними не тот смысл, который заключается в них для отца, курящего сигару, но не курящего ни трубки, ни папиросы, о которых мальчик, никогда не куривший, не может иметь никакого чувственного представления.
А взрослые разве не те же дети? Многие ли из них не дети? Взрослые точно также говорят одними словами, если им не известен во всей подробности элементарный состав понятий, выражаемых словами. Взрослые произносят: «свобода», «равноправность», «наука», «знание», не понимая состава этих понятий и не нося в душе ощущений, из которых они вышли. Причина этого непонимания заключается в ограниченности представлений, в скудости запасов памяти, в бедности следов души, в бесцветности движущихся панорам воображения. Слово будет всегда пустым звуком для того, кто не знает всего психического и исторического его состава и не воспринял его элементов чувством и мыслию. Только те слова нам вполне яонЫ; понятия которых имеют для нас жизненное значение. Если бы можно было предохранить вполне детей от понятий, им недоступных, если бы можно было каждое новое для них слово провести через чувства в мысль и сознание — на свете было бы меньше говорунов.
Привычка к словам является у детей легко, если с ними слишком спешат и дают читать книги не по их умственным средствам. Легче всего оказываются болтунами так называемые «острые» дети. Родители радуются, что их дети говорят умными словами, не понимая что за умным словом нет души и что из ребенка растет будущий софист, юрист и говорун. У простолюдинов гораздо меньше слов, чем у нас, но те, которыми они говорят, они понимают лучше образованных. Болтуны завелись у нас с тех пор, как лет двадцать назад стало входить к нам много новых слов. Но к нам вошли слова, а не их понятия, и мы стали говорить не понятиями, а подбором слов. Баловство словами продолжается и до сих пор; хуже — оно растет, плодя либеральное филистерство и то жалкое, механическое мышление, которое еще принесет нам много горьких плодов в будущем.
Чем человечество было моложе, тем больше жило оно чувством и говорило языком чувств; чем человечество становится развитее, чем сложнее становятся ею отношения, тем больше язык чувства сменяется языком мысли. Но только что же из этого? Значит ли это, что чувства перестали служить подкладкой мысли и что в основе социальных отношений не лежит попрежнему единоличное бессилие? Мы должны становиться человечнее, язык чувства должен смениться языком мысли, потому что не чувство может развязать гордиев узел всяких неурядиц, а мысль. Но разве филистерство, говорящее словами, говорит социальными мыслями? Оно говорит то, чего оно не знает и, как двенадцатилетний гимназист, повторяет фразы, не понимая их смысла.
Вы только тогда и (поймете чужие мысли и стремления, когда поймете душу каждого социального понятия, выражаемого каждым отдельным словом, и его прочувствуете. Русская семья не окажет никакой услуги будущей России, если она, как нынче, будет создавать только холодных резонеров, филистеров, болтунов и софистов.
УМ И ЧУВСТВО
В обиходном представлении чувство всегда противополагают уму; в чувстве видят какую-то неразумную силу, которая вечно все напутает и напортит, если вмешается в дело ума. Неужели чувство — враг? И откуда явился презрительный взгляд на чувство?
Историческое прошлое не одной России и Европы, но всею человечества не может похвалиться таким спокойным здравомыслием и рассудочным содержанием, которое бы дало человечеству готовую программу для безошибочного коллективного поведения. Но жалеть об этом — значит желать конца истории. «Если бы бог держал в правой руке всю истину, — говорит Лессинг, — а в левой постоянное, живое стремление к ней, с условием, что я буду вечно заблуждаться, и сказал бы мне: выбирай! — я со смирением бросился бы к его левой руке и воскликнул: Отче, дай! Чистая истина только для тебя одного!» Чистая истина именно только для бога. Сегодня окажись она в руках человечества, — на завтра ему уже нечего будет делать.
Мыслители, искавшие руководящих истин, были, конечно, правы, когда в голых средствах чувства не находили орудия для отыскания законов мира. Не сердцем, а головой строили они свои логические системы, и думали они, конечно, не чувством, а умом. Но тот же Кант, который видел в чувствах и страстях помеху свободному, независимому мышлению, разве не в чувстве почерпал всю свою силу? Разве не страсть одушевляла мыслителей, когда они отдавали идее, которую преследовали, все свои силы? Разве Аристотель, Платон, Сократ, Галилей, Ньютон, Бэкон, Маккиавелли, Кант, Гегель, Конт — эти, по-видимому, преимущественно головные организмы, не были самыми страстными людьми? И почему мыслительным способностям следует отвести первое место, а чувству — второе? Можете ли вы сказать, какое колесо в часовом механизме первое и какое последнее, когда ни одного из них нельзя вынуть без того, чтобы механизм не перестал действовать?
Больше всего, по своей популярности, помог у нас этому воззрению Бокль. «В мире нельзя найти ничего, — говорит Бокль, — что менее подвергалось бы изменению, чем великие начала, из которых состоят нравственные системы. Делать добро другим, жертвовать для их пользы своими желаниями, любить ближнего, как самого себя, прощать врагам, сдерживать страсти, чтить родителей, уважать тех, кто стоит выше нас — в этом и немногом другом состоят существенные начала нравственности. Но они были известны много тысяч лет тому назад, и ни одной йоты, ни одного параграфа не прибавили к ним все проповеди, поучения и афоризмы, какие только могли произнести моралисты. Сравнив неподвижное положение нравственных истин с постоянным развитием умственных, мы найдем поразительную разницу. Все нравственные истины, имевшие влияние, b сущности тождественны; все важнейшие умственные системы существенно различны. Умственное начало не только способнее нравственного к (развитию, но еще результаты его прочнее и оно способно к передаче; тогда как нравственные качества отличаются более личным и одинаким характером».
Наше общество, накинувшееся на Бокля, не совсем верно применяло его рассуждения к требованиям русской жизни. Бокль говорит о знании, как о мериле цивилизации. И, конечно, личным чувством и сердечными рефлексами невозможно мерить исторических успехов народов. Успехи эти определяются только видимыми и осязательными последствиями, созданными всеми человеческими способностями. Но мы говорим не о нравственных правилах и морали, не о прописных сентенциях, которыми хотели управлять общественным поведением; мы говорим не об ошибках моралистов, мы говорим о роли чувств в психических процессах человека, об участии его души в общественной и личной жизни. Мы говорим не об истории, не о результате, а о человеке, как творце общественных порядков и о его личных душевных средствах;- мы говорим о той новой душе, которую открыла новая, опытная психология. Можно ли сказать, что человек не стал лучше, что он не стал добрее, что его чувства не улучшились, что он не стал теперь гуманнее? Уж одно появление этого слова доказывает, что явилось и новое умственное чувство, прежде людям неизвестное. А история разве не указывает на целый ряд фактов, убеждающих, насколько воспиталось теперь чувство! Недавно в Лондоне казнили женщину, и при казни не было никого, кроме официальных лиц. Когда роковая веревка затянулась, шериф и священник упали в обморок. Разве так, в том же Лондоне, свершались казни прежде? Разве свидетели казней падали в обморок? Кто же протестует теперь в Англии против смертной казни, — ум ли, изыскивающий логические препятствия для ее отмены, или чувство, ее уже отменившее? Лекки, в своей истории рационализма в Европе, приводит целый ряд доказательств против Бокля, отрицающего прогресс чувств.
История ошибок ума едва ли не длиннее истории ошибок чувства. Если, как говорит Льюис, хорошее умствование заключается в уменьи сопоставления фактов и воспроизведении их в уме в порядке их действительной последовательности, то римский юридизм есть, без сомнения, умствование образцовое. Но какой же его конечный практический результат? Что выиграло римское общество и последующая жизнь, кроме отрицательного опыта? Чисто рассудочное движение мысли, т. е. головной, логический процесс, не знает внутри себя никакой сдерживающей силы. Он может идти по избранному им раз направлению до абсурда, если его не исправит чувство. Что может быть негуманнее римского права и, однако, найдите в нем хотя одну логическую ошибку. И почему, спрашивается, отец не может убивать и продавать своих детей, если дитя собственность отца? Какие представите вы юридические опровержения, если признали раз безошибочность римских юрйдически-экономических принципов? Вот почему идея права и власти достигла, наконец, в римском мировоззрении такого крайнего логического развития, что Диоклетиан вообразил себя Юпитером Олимпийским, Антоний и Клеопатра, воссев на трон египетских фараонов, заставили воздавать себе божеские почести, а в лице Нерона римская идея дошла, наконец, до абсурда.
Что же дало средства для поправки этого, очевидно, ошибочного логического вывода? Что поправило ошибку римского суждения? Что вызвало христианский протест личности? Не философы, не мыслители внесли историческую поправку. Простые люди, являвшиеся разрушителями могущественного государственного здания и всего древнего государственного мировоззрения, черпали свои несокрушимые средства не в логике, а в простых чувствах своего бесхитростного сердца. И новый принцип равноправности провозгласило не превосходное римское юридическое умствование, а простые люди.
Бокль, указывая на второстепенную роль нравственного принципа, говорит вовсе не то, что поняли у нас. «Огромное большинство людей, — пишет он, — должно всегда оставаться в среднем состоянии, быть ни слишком глупыми, ни слишком умными, ни слишком добродетельными, ни слишком порочными, но покоиться в мирной и приличной посредственности, принимая без большого затруднения ходячие мнения дня, ничего не наследуя, не производя скандала, никого не удивляя, но держась на одном уровне со своим поколением и мирно подчиняясь нравственным началам и научным выводам, общим веку и стране, в которой они живут». Бокль говорит здесь о том равновесии ума и чувства, которое создает золотую посредственность и образованную чернь. И действительно, в былом русском образованном обществе уже установилось известное равновесие; наш грубый русский ум находился в счастливом равновесии с нашим, не менее грубым, русским чувством. Но вот освобождение крестьян и другие реформы, продукты чисто головные и юридические, дают толчок русской мысли, и русская душа теряет свое равновесие. Золотая середина выскакивает из себя, принимается читать и думать. Бокль необыкновенно удачно является к нам в самый момент толчка и становится нашим Колумбом. «Ума, ума, знаний!» раздается повсюдный клич. И за ним является горячка знания безразличного, беспорядочного, бессистемного: «прочь чувство — оно источник самодурства, нелепости, им не приобретем знаний, им нельзя думать, мы хотим ума!» И кто же это требовал ума, кто горячился, кто кричал? Та самая золотая середина, которая до тех пор пребывала в мирном равновесии грубых чувств и глупых мыслей. И эта жалкая середина, не способная подняться выше своего ограниченного уровня, отдавшись тому, что она поняла под умом, нарушила прежнее равновесие и пошла в холодное, резонирующее, головное филистерство, направив свою мысль на мелочные обиходные расчеты и обозвав умом свою односторонность и тупость своих душевных основ. Если, основываясь на Бокле, мы примем, что ум и знание руководители жизни, что ими только расширяются исторические рамки, то разве об уме филистеров говорил Бокль, когда-он мерил цивилизацию Англии! Не против процесса мышления, не против среднего человеческого сознания, не против психологических процессов ищущей истины человеческой души говорим и мы. Мы говорим только против нарушенного равновесия, против заносчивой самоуверенности того недомыслия, которое овладело людьми, желавшими протестовать против старины. Но знаете ли, куда вы пришли, горевшие некогда неудержимым жаром мысли люди середины? Вы пришли к абсурду, ибо нет ничего злосчастнее ходячих понятий, если люди не понимают смысла слов. Тем, кто стал молиться одному уму, чувство показалось чем-то очень маленьким, смешным и ребяческим; они вообразили, что чувство есть слабость, унижающая человека и мешающая преуспеянию России, нечто такое, с чем нужно покончить, как с детской ошибкой и с грехом молодости. А как вы думаете, чувство Муция Сцеволы, когда он жег руку, было детски-слабое и унижающее? А страсть, с которой работали Декарт, Кант, Спиноза, Конт и все остальные мыслители, была глупостью? Не потому ли у нас явилось обиходное презрение к чувствам, что наши обиходные чувства слишком мелки и дрянны? Но разве наши обиходные мысли лучше?! Наконец, известно ли вам, что все наши прогрессивные стремления коренятся в неудовлетворенном личном чувстве? Гегель, этот замечательнейший мыслитель не только XIX века, но может быть и всех веков, говорит, что без страсти нельзя составить ничего вели кого. Что же вы унижаете чувство!
Отдел чувств составляет в психологии самый необработанный отдел; до того необработанный, что разные писатели принимают даже разное число чувств. Как выражается Вайтц, психология ушла так недалеко, что не может даже их перечислить вполне. Причина в том, что процесс сознания или акт мышления поддается гораздо легче наблюдению; он проще, однороднее и менее субъективен, чем процесс чувства. Мы можем думать все более или менее одинаково и сообщать друг другу свои мысли. Но чувства вовсе не так легко отделимы от души и передать их один другому мы не можем. Например, мы можем сойтись в критической оценке какого-нибудь человека, но мы не можем сообщить друг другу чувств, которые он в нас возбуждает, и каждый будет испытывать свое собственное чувство. Это свое собственное, специальное чувство, мы не в состоянии выразить вполне ясно в представлениях, мы не можем измерить его ими, не в состоянии выразить всего того, что происходит в нашей душе, и психолог Бэн предполагает даже возможность существования таких индивидуальных чувств, которые никогда не могут сделаться известными всему человечеству. Мир чувств является, таким образом, глубокой, неразрешимой загадкой.
Трудность, а может быть даже и невозможность, исследовать мир чувства в том именно широком объеме, чтобы понимание его было доступно всякому, дало слову «чувство» неясный, расплывающийся и темный смысл, допускающий самое широкое его толкование и чрезвычайно смутное обиходное употребление. Даже у немцев, французов, англичан слово «чувство» имеет столько значений в разговорном языке, что, по замечанию Миллера, нельзя определить, которое из них настоящее. Психология точно также не выработала еще одного общего условного значения этого слова и в сей момент стоит только в передней вопроса о человеческом чувстве. Милль, например, слову «чувство» придает чрезвычайно широкий смысл. Он говорит, что чувство и состояние сознания — выражения однозначащие; в чувство входит все, что сознается духом; все, что он чувствует или, другими словами, что составляет часть его собственного чувственного бытия. «На разговорном языке чувство не
всегда однозначаще с состоянием сознания; чувством часто называются преимущественно те состояния, которые понимаются принадлежащими к проявлениям человеческой природы в ощущениях или в душевных движениях; при этом чувства признаются отличными от деятельности, относящейся к восприятию или умствованию. Но это есть принятая неправильность языка». Милль не разделяет чувств на телесные и душевные, он говорит, что все ощущения суть состояния души. Телесными чувствованиями называется только такой разряд чувств, который производится непосредственными состояниями тела; тогда как другой разряд чувств, например, мысли и душевные движения, возбуждаются не непосредственно какими-либо действиями на телесные органы, но ощущениями или прежними мыслями. Такое воззрение вводит нас уже в область цельной души, связанной одним общим единством, не разделяющим мысли от чувства, а составляющим из них одно неразрывное целое, чуждое, того антагонизма, который навязывает уму и чувству обиходный разговорный язык. Чувство не в сердце, а так же, как и ум, в голове.
У французов, немцев, англичан слова sens, Sinn, sense и sentiment, gefiihl, feeling имеют разный смысл; у нас же для этих разных оттенков существует только одно слово «чувство». Попытки ввести в употребление слово «чувствование» не имели успеха потому, что по самому производству слово «чувствование» обозначает совсем не то, что им хотели обозначить. Отсутствие в языке соответственного слова служит доказательством, что область чувства — область очень темная и неясная для русского обиходного сознания, и не нужно быть знатоком русской истории, чтобы согласиться с правиль-ностию этого замечания. Мы еще и до сих пор не имеем уважения к процессам чужого внутреннего чувства, к внутреннему миру другого человека, не имеем уважения к личности.
Слово «чувство» мы употребляем безразлично, но в нем заключается два смысла. В одном оно обозначает внешние чувства — зрение, слух, вкус, обоняние; в другом — внутренние чувства души, т. е. те процессы, которыми она отзывается на воспринятые ею внешние ощущения.
Хотя ощущения такие же внутренние акты души, но между ними и тем, что мы называем собственно внутренними чувствами, — большая разница, которую каждый легко может наблюдать в себе. Если вы воспринимаете какое-нибудь приятное ощущение, например, слышите музыку, видите человека, к которому стремится ваша душа, и производимые ими приятные ощущения прекращаются не по вашему желанию, то вы испытываете чувство неудовольствия; или обратно — внезапное прекращение болевого, неприятного ощущения вызывает чувство довольства. Во всех подобных случаях первое ощущение уже прекратилось и приятное или неприятное чувство, которое мы испытываем затем, есть уже второй акт души, нечто совершенно новое и независимое от ощущения и как бы самостоятельное чувство. Вот это-то и есть внутреннее чувство, для обозначения которого у нас нет слова.
Но мы замечаем еще и другое явление. Одни и те же ощущения могут вызывать в нас разные чувства, и то, что было для нас приятным сегодня, огорчит нас завтра, или то, что возбудило в нас теперь чувство гнева, вызовет в другой раз смех. Во всех этих случаях органы внешних чувств действуют одинаково, ощущения остаются теми же, но душа наша отзывается на них различно, точно изменился весь ее строй.
Перемена строя души еще заметнее в различные периоды жизни. Что некогда радовало и веселило нас, может впоследствии огорчать; с чем были связаны яркие розовые представления, может уже перестать возбуждать в душе сладкие ощущения и представляться безразличным; наконец, то, что нас огорчало, может нас радовать. Ясно, что с нашей душой случилась какая-то перемена и что она отвечает теперь уже иными звуками на те же самые ощущения. История нашей души, выражающаяся в этих переменах, есть поэтому история наших чувств.
Ни одно впечатление, нами воспринимаемое и перерабатываемое процессом сознания, не входит полным в нашу душу. Его всегда сопровождает известное чувство. Чувства эти бывают более или менее ярки, более или менее сильны; но от них именно и зависит цвет и сила создаваемых нами верениц представлений и всего нашего миросозерцания. Чем сильнее воспринимаем мы ощущения, чем сильнее они затрагивают нашу душу, тем тверже й глубже наши представления и тем сильнее совершается обратная их передача. Что такое страстность, с которой мы так нередко высказываем свои мысли и убеждения? Это только обратная отдача душою созданных ею пр едставлений, отдача их с тою же самою силой, с какой она воспринимала ощущения при формировании представлений. Люди апатичные и вялые, вяло воспринимающие ощущения, вяло и выражают свои мысли. Только энергично сознанные мысли энергично и высказываются. Чувства — окраска мысли. Без них наши мысли — простые, сухие и безжизненные абрисы, контуры, но не картины.
Поэтому ни в чем человек не выражается полнее, как в чувствах, дающих цвет его мыслям; только в чувствах виден человек, только в них обнаруживается истинный мир его души, ее строй — ее внутренняя правда. В мыслях, словах и даже поступках мы можем обманывать не только других, но и самих себя; но лишь чувство раскрывает истинного человека. Чувством, и одним чувством, вы определите и точнее всего проверите себя. Воображение может подсунуть вам очень приятные картины вашей личности, вы можете считать себя и героем, и неустрашимым бойцом за правду, и миссионером, способным на всякие самопожертвования, и добродетельным и бескорыстным человеком, — и все это может быть одним лишь теоретическим представлением. Наблюдайте детей и вы увидите, как часто эти хвастунишки-герои оказываются трусами на деле. Наблюдайте либералов, которые говорят такими красивыми словами, и вы увидите, что это простые фразы, в которых их душа не участвует. Вот почему ум, которым мы так гордимся, не есть мерило человека, и истинный человек и его последовательное практическое отношение к миру определяются только его чувствами. Только в них одних человек не лжет и никого не обманывает. Обиходное представление, которое между чувством и умом создает измеренный антагонизм, из ума делает только красивую вывеску, и вся наша система воспитания основана на маскировании чувств, на разъединении процессов ума от процессов чувства. Знаменитый афоризм Франклина: «мало того, чтобы быть — надо еще и казаться», вошел настолько в практику всеобщего обиходного воспитания, что в каждом из нас вы найдете двух людей — одного для себя, другого на показ. Но только тот истинно цельный и надежный человек, чье чувство находится в полной гармонии с его умом; про кого можно сказать, что с светлым умом он соединяет честное, правдивое сердце; в ком головная теория не расходится с практикой чувств.
Строй или резонанс души, подвергающийся переменам в отдельных личностях, меняется точно так же и у целых народов. Этот рост чувства есть простое обобщение единоличных перемен, выражающееся в коллективной исторической форме. В коллективном строе души выражается физиономия народа, его национальность. Но на разных ступенях своего исторического развития каждый народ обнаруживает разную зрелость души и чувств. Грубые шутки, пленяющие московских приказчиков, приведут в негодование цивилизованного человека; то, что терпелось у нас общественными чувствами времен Ивана Грозного, оказалось бы нестерпимым теперь; крепостное право и все его проявления, возможные еще двадцать лет назад, возмутили бы нынче нашу общественную совесть.
Но изменение строя коллективной души, как и души отдельного человека, может быть иногда частным, временным. Чувства, выведенные на время из своего обыкновенного среднего уровня, по миновании возбуждающих причин, опять стремятся прийти к нему же. Подобные частные уклонения могут зависеть от разных причин и нередко даже от одной энергической личности. Поразительный и для многих загадочный факт этого рода представляет состояние русских общественных чувств, например, за последнее двадцатилетие. Весь строй русской коллективной души, поднимавшийся до высокого прогрессивного уровня, снова упадал на прежний уровень. И после этого еще раздаются повсюду жалобы на общественное равнодушие, на бессодержательность литературы, на ничтожество ее руководящего общественного значения. Но на кого мы сетуем, кого обвиняем? Укорять кого-либо — значит обвинять себя в непонимании коллективных психологических процессов. Нужно только понять факт — вот и все. А факт говорит, что н резонанс коллективной души меняется так же, как и резонанс отдельной человеческой души, и что душевное настроение образованных слоев, отличается довольно легкой подвижностью.
Задача политики заключается поэтому в уменьи угадывать душевное настроение общества и пользоваться им для общественно-прогрессивных целей. Какое бы ни было душевное настроение общества, в нем всегда заключается множество общественных элементов, которыми можно пользоваться в целях общего блага и сообщать общественному настроению надлежащий тон. Подобной задачи не может брать на себя литература; задача ее подчиненная. Ею выражаются лишь общественные настроения, общественные желания, общественные стремления; ею выражаются внутренние процессы коллективной души. Но дать этим стремлениям практическую осуществимость, из множества разных настроений выбрать одно, наиболее отвечающее общему благу, и к этому высшему уровню поднять все общественное настроение — вовсе не задача литературы, это уже задача политики. Политика управляет коллективным лицом, пользуясь его душевным настроением; но это настроение формируется из настроений отдельных лиц, от которых теперь все больше и больше зависит ход вещей. Если камертон отдельных личных чувств низок, — то и резонанс общественной души и общественного настроения не может отзываться благородным созвучием на призывы прогрессивных деятелей. Политика только пользуется тем, что есть; но то, что есть, создается прежде всего в каждой отдельной душе и заключается в благородном строе чувств, заключается в согласии хорошо воспитанного сердца с хорошо воспитанным умом.
НАВЫКИ И ПРИВЫЧКИ
Ливингстону во время его путешествия по Африке очень часто приходилось испытывать неблагодарность негров. Особенно огорчил его один чернокожий мальчик, взятый им из Бомбея. Ливингстон хотел «сделать человека из этой бедной-бедной твари». Он научил «бедную тварь» читать, писать, обходился с нею с самой нежной материнской заботливостью. Но когда раз экспедиция остановилась в Мпонду, мальчик сказал Ливингстону, что тут живут его родные и что он хотел бы остаться при них. Оказалось, что «бедная тварь» все наврала,что в Мпонду у нее нет никаких родных и что она поступила так просто по чувству неблагодарности, не умея оценить материнских забот Ливингстона.
С подобными фактами людской неблагодарности чаще всего приходилось знакомиться филантропам. Филантроп берет мальчика-бродягу и. подобно Ливингстону, желает сделать из «бедной твари» человека. Он ее умывает, одевает, обучает грамоте и письму, приучает к порядку и порядочности; но неблагодарная «тварь» бежит от своего благодетеля, чтобы снова жить в бедности и нищете и продолжать свою прежнюю скитальческую жизнь. Филантроп обвиняет «бедную тварь» в неблагодарности, берет нового бродягу, тот делает с ним то же, берет еще — опять то же, и филантроп все больше и больше убеждается в черной неблагодарности людей.
Не думаете ли вы, что «бедная тварь» не понимает, где лучше — в теплой комнате или на улице; что она не знает, что вкуснее — черствый хлеб или отбивные котлеты, что она считает отрепья лучше удобной и теплой одежды? Не думаете ли вы, что в «бедной твари» нет души и что она не чувствует благодарности к своему благодетелю? Все это есть, и «бедная тварь» бежит, не потому, чтобы не умела ценить наших благородных побуждений; она бежит потому, что у нее сложились уже известные привычки. Как филантроп не может расстаться со своими порядочными привычками, так бродяга не может расстаться со своими дурными. То, что филантроп обзывает словом «неблагодарность», есть в сущности «привычка».
Человек — раб своих привычек, и кто привык наблюдать за собою, тот знает, как это верно. Самые мелочные поступки наши определяются нашими привычками, весь склад нашей жизни, все наше воспитание есть собственно ряд известных усиленных привычек, которых мы не можем ни изменить, ни исправить.
Борьба с раз укоренившейся привычкой есть может быть самая трудная борьба. Пьяница очень хорошо сознает весь вред своей несчастной привычки, он хорошо понимает и предвидит все ее печальные последствия; он дает зарок никогда не пить; он клянется богом и небом, и детьми и женой, что перестанет; но проходит неделя, две, пройдет, может быть, месяц — и пьяница становится снова пьяницей. Кому не случалось видеть этих несчастных, тот не может себе представить, какая нравственная борьба происходит в них и как верно замечание Маккиавелли, что в поступках людей нельзя доверяться никаким словам, никаким торжественным обещаниям, если они не закреплены привычкой.
Если бы привычка не пускала таких глубоких корней, борьба с нею не представляла бы никаких трудностей; человек сказал бы себе «довольно» — и привычке конец. Есть общераспространенная привычка курить табак. Кто же не знает, что удовольствие, доставляемое этой привычкой, далеко не перевешивает вредных ее последствий. Но курильщику так же трудно отвыкнуть от курения, как пьянице — перестать быть пьяницей. Неудовлетворенные нервы напоминают о себе напряженным состоянием, и одной так называемой доброй воли слишком мало для того, чтобы отказаться от привычки. Бывают случаи, когда никакая в мире добрая воля, никакие ассоциации представлений, которые желаниям и стремлениям человека должны бы дать противоположное направление, не в состоянии заставить его бросить вредную привычку. Человек, чтобы отвыкнуть, готов на все, он мучится своим нравственным бессилием, его жизнь отравлена, несчастный страдает, проклинает день своего рождения и свою бесхарактерность и — никакие нравственные муки не в состоянии заставить его отказаться от раз укоренившейся привычки.
Но если, с одной стороны, пагубные и вредные привычки составляют трудно искоренимое зло, с другой — правильные, порядочные привычки необыкновенно облегчают жизнь. Привычка к порядочной, правильной, умеренной жизни — одно из главных условий здоровья и цветущей, бодрой старости. Лорд Пальмерстон семидесяти лет каждый день делал по тридцати верст верхом и сохранил до смерти юношескую бодрость духа и силу ума. Привычка к правильному распределению времени — единственное средство в короткое время сделать много. «Время — деньги», говорят англичане, и деньгами оно будет только тогда, если мы привыкнем правильно распределять его между отдыхом и делом. Самый легкий труд может сделаться непосильным, если вести его беспорядочно, и, напротив, самый тяжелый, громадный труд, при правильном его распределении и при здоровых гигиенических привычках окажется деятельностью укрепляющей.
Большинство людей делают так мало только потому, что не умеют справиться со своим временем, не имеют привычки обращаться с ним строго систематически. У таких людей ни на что не достает времени; он» суетятся, раскидываются, бросаются — и в конце концов приходят к самым ничтожным результатам. Желая оправдать свою беспорядочность, они говорят, что не могут жить по часам, что это хорошо для немцев, что это филистерство; но разве Кант был филистером, разве Пальмерстон был филистером, разве Наполеон I был филистером? Все великие люди, все замечательные мыслители отличались всегда строгими привычками и строгим порядком жизни.
Удивительное в жизни англичан и американцев не в том, что они много делают, а в том, что у них все время рассчитано на дело, что вся их жизнь сложилась в деятельную привычку. Наша же жизнь, напротив, рассчитана вся на праздность и на отдых. Мы отдыхаем не для того, чтобы трудиться, а напротив, трудимся для того, чтобы отдохнуть. Наши привычки — привычки праздной лени. Крепостная традиция с ее умственной и физической неподвижностью въелась так в нравы нашего образованного общества, что, может быть, трех поколений еще мало, чтобы мы стали походить на европейцев. Иногда приходится слышать: «что же нам делать?» Точно наша жизнь должна идти стихийно и точно обстоятельства создают людей, а не люди обстоятельства! Конечно, один человек не в состоянии бороться с дурными привычками общества; но если смолоду каж,-дый воспитается в деятельных привычках, в привычке к мысли, в привычках полезного труда, — разве будет возможна тогда та восточная спячка, та лень и умственная неподвижность, которой больна теперь наша скучающая провинция? Может быть один Петербург делает исключение из этого общего русского правила. Мы изумляемся, что заграницей газеты расходятся в сотнях тысяч экземпляров. Заграницей простой кельнер и трактирный гарсон читают газеты. Но разве нас кто-нибудь приучал к чтению, разве в систему нашего домашнего воспитания входит развитие привычки к общественному интересу, к общественным явлениям, к общественным мыслям?
Англичане говорят, что «ученье есть передача принципов, а воспитание — передача привычек»...
Конечно, воспитание в одних механических привычках дает обществу машинообразный, шаблонный характер; поэтому-то школа Песталоцци и была против английской системы, а Руссо, воспитывая своего Эмиля, хотел дать ему толькр одну привычку — не иметь никаких привычек. Противоположная крайность, в которую кидается Руссо, чтобы спасти личность, есть крайность теоретической последовательности. В ней нужно видеть лишь протест против той старой системы, на которую обрушился Руссо. Человека точно так же нельзя воспитать вовсе без привычек, как нельзя из него сделать машины.
Под именем привычек в обыденной жизни понимают такие состояния организма, которых собственно нельзя назвать привычками. Говорят — человек привык к холоду или жару, привык к переменам температуры, и в систему хорошего гигиенического воспитания обыкновенно входит приучение детей к переменам температуры. Но в сущности в этих случаях детям не сообщается никакой привычки. Организмы их, рядом повторяющихся впечатлений, приспособляются только противодействовать известным вредным влияниям, они приучаются выносить такие ощущения, которых прежде не выносили. Какие при этих приспособлениях происходят перемены в организме — неизвестно, но только этими переменами и объясняется возможность этой выносливости, при которой человек может приучить себя «пить спирт и даже есть мышьяк. Привычкой называют еще усиление тех или других способностей. Но человек, привыкший поднимать большие тяжести или работать продолжительно, достигает этого вовсе не привычкой. Он собственно развил в себе известную способность, увеличив массу своих мускулов. Здесь — не привычка, а простое увеличение силы. То же самое замечается в умственном труде. Способность к продолжительному и настойчивому труду не есть привычка, но увеличение средств ума.
Собственно под привычками нужно понимать нервные отраженные действия, совершаемые нами без участия сознания. Привычка дает нервам способность не только выполнять легко известную работу, но и возбуждать известную наклонность к такому труду. И вот в чем собственно разница между простыми механическими навыками и привычками-наклонностями, превращающимися в принципы действий.
Ребенок с первого же дня рождения начинает делать разные опыты и приспособления и создавать свои привычки. У ребенка нет ничего прирожденного, кроме его наследственности. Ему нужно выучиться видеть, слышать, комбинировать слух и зрение, выучиться чесать то место, которое чешется, научиться находить место, которое болит, комбинировать ощущения мускульные при ходьбе и т. д. Целым рядом медленных и постепенных приспособлений ребенок наконец приобретает бессознательные навыки, которыми мы потом и пользуемся, совершенно не помня, как мы их приобрели. Навык зрения — очень сложный навык. Продолжительным рядом приспособлений слагается привычка к движениям глазных нервов в известном затверженном порядке, привычка видеть двумя глазами один предмет, привычка видеть предметы в перспективе и т. д. Такой же сложный навык — владеть пальцами рук. И какой акт мы ни возьмем, каждый слагается путем более или менее сложных рефлексов, более или менее продолжительным навыком.
Случается очень часто, что, желая описать последовательно какое-нибудь сложное механическое действие, мы не можем припомнить его порядка и должны прибегнуть к привычке мускулов рук и ног, которые помнят это лучше. Известно, что большинство людей приучается писать чисто механически; но и те, которые знакомы с теоретическими правилами, прибегают, нередко к проверке себя привычкой рук. Иногда пишущий приходит в затруднение, не зная, что поставить в слове — Ь или е. Тогда он пишет это слово отдельно и обыкновенно оказывается, что рука помнит лучше, чем голова.
Чаще всего роль привычки мы можем наблюдать на голосовом органе. Бэн говорит, что едва ли какая-нибудь другая часть тела, не исключая даже руки, может достигнуть Такой ловкости в совершении бессознательных движений, как голосовой аппарат. При упражнении голосового органа мы испытываем целую массу приятных мускульных ощущений. Вот почему дети так любят петь. Любопытно -бы знать, какими физиологическими мотивами руководствуются маменьки, запрещающие своим детям петь, говорить и учить вслух? Конечно, есть
предел, за которым приятное голосовое ощущение становится неприятным; — границей служит усталость. Крик может надоедать родителям — это справедливо, но иногда родители, и особенно благовоспитанные гувернантки, не позволяют детям, и преимущественно девочкам, петь потому, что это неприлично. В провинции вы встретите дома, в которых никогда не раздавалось детское пение, между тем привычки голосового органа — одно из самых главных воспитательных подспорий. Практическое изучение иностранных языков, которое так легко дается в детском возрасте, есть собственно привычка голосового органа. Впоследствии, когда вся мускульная голосовая система освоилась только с известными движениями, она уже не в состоянии совершать других, ей незнакомых, или, по крайней мере, очень ими затрудняется. Заставьте сорокалетнего немца, не знающего ни одного слова по-русски сказать «хлеб», он будет говорить «клеб». Такую же трудность представляют для русских гортанные звуки восточных языков.
Если бы мы не приобрели с молоду привычки голосовых органов к произнесению всех слов своего родного языка, если бы нам приходилось произносить их, сознавая процесс каждого слова, создавая его всякий раз — мы не могли бы говорить. Когда вы идете — вы не думаете, что вы идете; но обратите внимание на процесс ходьбы, и походка ваша станет несвободной. Совершенно то же и в речи. Когда мы говорим, мы только думаем о том, что оказать, а не о механизме речи; наш голосовой орган идет следом за мыслью, так сказать, выкрикивает ее,действуя путем чистого навыка и привычки.
Нужно полагать, что рефлективный процесс мышления словами находится в прямой связи с рефлективным процессом голосового органа. Мы, как бы молча, произносим слова, которые думаем, так что если мы сильно углубимся в себя, сосредоточимся на своей мысли, то начинаем шептать слова, как говорят — думать вслух. Дети, углубляясь в игру, обыкновенно шепчут.
Педагогическая важность этой связи подтверждается всем известным фактом. Если ребенок будет только понимать и заучивать одну мысль -без слов, — он затрудняется ее передачей вслух, он приискивает слова, путается и, наконец, совсем сбивается. Его именно затрудняет процесс речи, механизм ее, который ему приходится создавать сознательно; у него не достает именно того навыка, который у музыкантов зовется «владеть инструментом». Поэтому ребенок должен не только запомнить мысль, но и порядок звуков, которыми она выражается. Не создав себе еще привычки «владеть словом», ребенок всегда учит вслух, и при зазубривании без этого обойтись почти невозможно.
Поэтому при учении детей их необходимо вначале заставлять учить мысли словами вслух, чтобы они развили свой голосовой орган и чтобы этот орган получил твердую привычку идти следом за мыслью. Только подобным постепенным упражнением приобретается навык выражать мысли без затруднения. Отсутствие дара слова есть собственно отсутствие привычки голосового органа. Молчаливые, кабинетные люди редко говорят хорошо.
В зазубривании заметнее всего привычка голосовых органов. Это чисто механический процесс, простой навык голосового аппарата, приобретаемый без всякого участия сознания. Можно зазубрить все, что хотите. В то время, когда мы произносим зазубренное, мы можем думать о вещах совершенно посторонних. Больше — если мы станем думать о зазубренном, мы собьемся. Одно забытое слово уже останавливает зазубренную речь. Но подскажите это слово, — препятствие преодолено, и голосовой орган опять пойдет своим полным ходом, как машина.
Практика давно уже решила вопрос о важности многих заучиваний. Если бы мы не заучивали на память таблицы умножения, и всякий раз должны были бы справляться с табличкой или додумываться, сколько 2X2 или 5X5, — много бы уходило у нас времени на эту бесполезную работу. Практика давно уже решила вопрос, что многие наши последующие действия, вся наша жизнь облегчается необыкновенно навыками, приобретаемыми нами в молодости. Практика не знала только того, что эти навыки суть известные, заученные рефлексы, привычки нервов, облегчающие деятельность мысли. Если бы математик, не зная таблицы умножения, занялся сложными вычислениями, он на часовую работу потратил бы месяц времени. Если бы человек, не имея навыка чтения, думал бы каждый раз над каждой буквой, над каждым словом, он прочитал бы во всю жизнь только одну книгу, если бы от скуки не бросил ее на первой
странице. Дети, пока не усвоили привычки читать, не любят чтения и с трудом понимают, что читают; им приходится совершать двойную работу.
Первоначальное воспитание должно заключаться в том, чтобы сообщить детским нервам полезные привычки и привычки комбинировать движения различных органов. Если вы хотите, чтобы привычка усвоилась как можно лучше и чтобы в психическом аппарате легли наиболее глубокие следы, заставляйте все органы ребенка действовать в одном направлении, упражняйте наибольшее число нервов. Чем большее число нервов заставите вы действовать, тем более вы облегчите усвоение привычки. Современная педагогия очень хорошо знает этот факт и его причины, и вот почему во всех случаях, где только возможно, она призывает к участию и слух, и зрение, к голосовой орган и даже мускульное чувство.
Все наши привычки слагаются уже в первой молодости, и чем организм моложе, тем легче укореняются в нем привычки. Поэтому уже с первого дня рождения ребенка нужно заботиться о том, чтобы он приобретал только здоровые и полезные привычки. Детский организм живет рефлексами низшего порядка; дальнейшая деятельность его нервною и мозгового аппарата, соединяющая рефлексы высшего порядка, наступает впоследствии, и те родители, которые говорят: «дитя еще глупо, оно ничего не разумеет, поймет — перестанет», прежде всего сами не понимают, что они говорят. Дитя действительно глупо и не об его уме речь. Речь о том, что рефлективная деятельность есть его жизнь, что все его акты суть рефлективные процессы, повторительным путем превращающиеся в навыки и привычки. Следовательно, все наши привычки зависят не от ума или сознания, а приобретаются чисто роковым, бессознательным путем, и пока наступит сознание, привычка может укорениться до того, что ее уже нельзя вытеснить.
Матери, предоставляющие детям свободу, поступают хорошо; ребенок должен быть предоставлен себе, ибо его организм может приобрести навыки и привычки, конечно, только своими собственными рефлексами. Но мы говорим о том, что воспитание должно быть порядочно, что с первого дня рождения следует вести ребенка строго систематически, не предоставляя исправлению в будущем того, чего не следовало портить в настоящем. Все беспорядочные привычки дети приобретают очень скоро, и у беспорядочных матерей вырастают всегда беспорядочные дети.
Область беспорядочности, о которой мы говорим, ограничивается не одной люлькой и детской: она не в одних грязных и мокрых пеленках, не в одной нечистоте, — она в беспорядочности строя всей домашней жизни, она в отсутствии организации порядка и смысла всего дома. Беспорядочный дом, — точно государство без закона, в котором никто не знает, что ему делать, и всякий делает то, что ему вздумается. Мы знаем матерей, которые приходят в отчаяние от своеволия своих 12 — 14-летних сыновей. В городе свирепствует корь и скарлатина, а дети уходят и приходят, когда им вздумается. В 11 часов вечера их еще нет дома, чадолюбивая мать чуть не плачет, она жалуется, что ее не уважают и не слушаются дети. Но разве не с пеленок ты, чадолюбивая мать, вела своих мальчиков именно так, чтобы они тебя не слушались? Ты требуешь от них рассудительности и понимания, но разве ты когда-нибудь приучала их рассуждать и понимать, разве ты позаботилась развить в них навыки и привычки высших рефлексов? Мы знаем родителей, которые страдают, как мученики, перед каждым экзаменом своих детей, которые болят душой, что их дети легкомысленничают не по летам и бегут от всякой книги, как от огня. Но что же вы сделали, чтобы ваши дети полюбили чтение, чтобы потребность знания сложилась в них в правильную, здоровую привычку и не получила того направления, которое вы сами зовете теперь легкомыслием? Вот маленькая девочка; она еще в люльке и ее кормит кормилица. Как-то случайно, когда кормилица убаюкивала ее, наклонившись, девочка погладила бровь кормилицы и ей это понравилось; на другой день то же, на третий то же, — и явилась привычка; если кормилица не даст гладить бровь, ребенок кричит, ревет, капризничает и ни за что его не уложат. Кормилицы нет, ее сменила няня, — и эта должна давать чесать бровь, а если укладывает мать, — то и она. Нервы ребенка уже привыкли к ощущениям в известном порядке и акт засыпания у него ассоциируется с приятным ощущением, испытываемым им при чесании брови. Также легко приобретают дети привычку сосать пальцы, губы, грызть ногти, брать в рот И Жевать всякую дрянь, и чего стоит отучить их потом от этих привычек! Той же маленькой девочке давался иногда «шлепс», конечно это ее огорчало, но «шлепс» достигал своей цели. Няня, конечно, не знает никакой теории рефлексов, привычек и навыков, но она из крепостных. И она учит девочку давать «шлепс» то скамейке, то стулу, то собаке-ляльке и затем приходит в обидное недоумение, когда чувствует «шлепс» на собственной щеке. Если не принимать никаких мер, этот «шлепс» превратится в привычку. Было время, когда у нас возмущались, что молодые «барышни» били по щекам своих девок. Но разве это не та же теория и практика «шлепсов»? Когда Руссо говорил, что самая лучшая привычка не иметь никаких привычек, — он, конечно, думал о привычках, позорящих человека, о привычках, которые, вместо гражданина создают дикаря, вместо чело-века-города — человека-деревню, вместо человека с характером, с привычками самообладания, с привычками хороших, добрых, социальных чувств — человека, в котором безразлично напутаны всякие привычки — и полезные, и вредные, и хорошие, и дурные. Г. Соловьев приводит в своей истории отзыв одной женщины-современницы о Петре В. Она сказала: — «это был очень хороший и вместе с тем дурной человек». И дурное Петра заключалось именно в его дурных привычках, которые в нем так укоренились, что он не мог расставаться с ними даже в такие серьезные моменты, когда, повидимому, все его внимание должно было поглощаться делами государственными.
Я намеренно привожу такой крайний пример. Дурные привычки делают Петра дурным человеком; но у него есть еще и гениальные привычки; гениальное перевешивает дурное и перевешивает в таком размере, что облик личности дает только гениальность.
В людях золотой середины вы не найдете никаких крайностей, в них нет ни злодейства, ни величия, их добродетели и поступки не бросаются в глаза, все окрашено в них одной серой краской, не режущей глаза. И, между тем, эта ничтожная доля ничтожны приьычек составляет в целом такую массу грязно-серого цвета, которая дает тон ничтожества всей общественной жизни. Петр страшен своими немилосердными казнями; но тот же Петр пишет князю — Кесарю (Ромодановскому):
«Зверь! долго ли тебе людей жечь?.. Перестань знаться с Ивашкою (пьянствовать)...». И это пишет тот самый Петр, который, ожидая в лихорадочном нетерпении сына, захваченного уже сыщиками, сам своей рукой исписывал целые листы, сочиняя проект шутовского праздника и предписания «всепьянейшему собору» по случаю избрания нового князя-папы. Из жизни людей «золотой середины» мы знаем другие факты; мы знали одного двенадцатилетнего мальчика, который видел церемонию повешения и так она ему понравилась, что на другой же день он повесил козу. Конечно дети безжалостны. Но зачем же родителям в этой безжалостности видеть детское остроумие? Из остроумного мальчика, повесившего козу, вырос холодный, бессердечный и безжалостный человек. Он так же вешал бы людей, как повесил некогда козу; но ему этого не приходилось, и уж, конечно, его бы не возмутило никогда жестокосердие никакого Ромодановского и никогда бы он не написал: «Зверь! долго ли тебе людей, жечь?». Наши нервы жаждут привычки, и нет на свете того дурного, к чему бы их нельзя было приучить. Пример — палачи.
Но от чего же в нас могут развиваться те или другие привычки, что дает тон нашим стремлениям, что создает именно тот средний серый цвет, которым окрашен теперешний исторический момент?
Наши нервы требуют деятельности, они жаждут впечатлений, чтобы отразить их известным рефлексом. Но в то же время наш психический аппарат стремится постоянно к устойчивости и к тому равновесию внутренней деятельности, которое психологи зовут нормальным состоянием души. Душа, страдающая от бездеятельности, точно также страдает и от избытка деятельности. Как всякое отсутствие впечатлений составляет для человека физическую и нравственную пытку (пример — одиночное заключение), так избыток впечатлений, обусловливающий напряженное состояние нервов, вызывающий страстные порывы, создает в душевном аппарате болевые процессы. Люди сильного нервного организма, как Петр В., теряя свое равновесие, дают, подобно исполинскому маятнику, огромные размахи в противоположные стороны. Их душа, жаждущая деятельности, можно сказать, никогда не находит успокоения и реагирует сама против себя крайностями. Но люди золотой середины, напротив, чаще устанавливаются в том состоянии равновесия, которое избавляет их душу и от страданий бездеятельности, и от болевых процессов излишней деятельности. Вот почему так важно, чтобы та самая золотая середина, от которой зависит общий тон жизни, получила возможно лучшие привычки. Дурные привычки отдельных гениальных и влиятельных личностей не могут влиять на весь тон и цвет коллективной жизни. Но масса мелочных, дурных привычек, — микроскопических единиц, образующих народ и общество, составляет уже содержимое общественной жизни; она формирует народный характер, она кладет свое клеймо на весь склад общественного быта, сообщая ему форму и окраску.
Идея прогресса есть идеал не всем доступный, с ним носятся немногие. Масса же вырастает в наследственных привычках и практический уровень жизни устанавливается именно на основании этих привычек. Сравните Петербург с уездным городом. С одной стороны — подвижность и деятельность, потребность перемены; с другой — инерция покоя, неподвижности и спячки. Провинциал, приехавший в Петербуг, очень скоро утомляется шумом и движением; для провинциальных нервов петербургская подвижность — уже избыток деятельности. И человек, выросший в привычках бездеятельности, составляет в своем коллективном целом ту массу, для которой всякая перемена, выводящая ее из ее спокойных, ленивых привычек, есть утомительный процесс, трудный и невыносимый.
Душа человека, ищущая деятельности, стремится удовлетворить ее именно в направлении наименьшего труда. Из двух лежащих перед человеком деятельностей он выберет ту, которая потребует от него меньшей работы, меньшего преодоления препятствий. Но что нам легче, где меньше этих препятствий, в каком направлении наши нервы будут искать своего удовлетворения? — В направлении наследственности тех нервных предрасположений, от которых по преимуществу и зависит будущее наших привычек.
Вопрос о наследственности — такой уже выясненный наукою вопрос, что вдаваться в его подробности нет необходимости. Впрочем, наука в этом случае только разъяснила и точно определила то, что давно подметил.а народная наблюдательность. «Яблоко не далеко падает от яблони», говорит народ; в Китае казнят детей за преступления их родителей. Инстинкт животных есть не более, как наследственная привычка.
Конечно, не всякое наследственное нервное предрасположение может обратиться в привычку. Дети инертных, ленивых, неактивных родителей при известных обстоятельствах могут сделаться очень подвижными и энергическими людьми. Дети пьяниц, при всем предрасположении к вину, могут и не выйти пьяницами. Дети жестоких родителей могут быть и не жестокими. Но для того, чтобы влияние наследственности заглохло, чтобы человек привык мыслить, чувствовать и действовать в другом направлении, нужно чтобы его нервный организм не испытывал искушения в сторону дурной наследственной привычки. Но как черты лица и игра личных мускулов, передаваясь наследственно, иногда как бы внезапно делают скачок через поколение; как черты отца являются уже не в том виде в дочери, под перерабатывающим влиянием ее женского нервного аппарата, или черты матери изменяются в лице сына, — так и наследственные привычки и наклонности могут иногда отозваться в внучках или видоизменяться при передаче их отцом дочерям или матерью сыновьям.
Вывод этот, разумеется, не особенно утешителен, да и вопрос не в утешениях. Наука разъяснила нам теперь, что такие отправления организма, как акт зрения, слуха, деятельность голосовых органов, механизм ходьбы, разнообразные движения рук и пальцев, доведенные у какого-нибудь знаменитого пианиста, фокусника или карточного шулера до изумительного совершенства, суть рефлективные навыки. Она показала, что все плоды наших знаний, все наше школьное ученье — тоже ряд известных повторяющихся рефлективных действий, устанавливающихся в привычки. Самая память есть привычка. Она показала, что принципы, руководящие нашим поведением, суть тоже только привычки — наклонности, которые создаются и укрепляются в нас известными навыками. Она показала, что наши нравственные качества — леность, трусость, жестокосердие, пассивность, безучастие, даже пьянство и страсть к карточной игре, передаются нам в виде задатков по наследству от родителей.
Но если задатки всего хорошего и дурного мы получаем в готовом виде, в унаследованном нами от родителей нервном аппарате, если в этом слово науки, — то мы знаем и другое ее слово: мы знаем, что и все хорошие качества можно поселить в людях хорошими привычками и что ими можно противодействовать вредному наследию. Мы знаем, что народный характер формируется из характеров отдельных единиц, и что личность есть именно та основная социальная единица, та исходная точка, от хороших привычек которой зависит весь уровень и строй общественной порядочности. Чем дальше, тем ярче и яснее выступает историческое значение правильно формирующейся личности и тем больше входят в общественное сознание ее права на самостоятельное, свободное развитие в направлении выгодных общественных привычек, права, ожидающего только юридического своего признания. Весь общественный прогресс и вся личная культура идут в этом направлении.
БЕЗДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Бездеятельность и порождаемые ею ощущения, несмотря на кажущуюся их неяркость, принадлежат к наиболее томящим чувствам. Ничто не гнетет так людей, как скука, тоска, апатия, оплин, горе и отчаяние.
Если хотите понять силу душевного страдания от недостатка деятельности, припомните сплин. Мы, вечно веселящиеся люди, убиваем свое время, создавая себе суррогаты деятельности. Но когда никакие суррогаты не удовлетворяют, когда для нас не существует больше развлечений, чувство бездеятельности напрягается до того, что кажется легче убить себя, чем мучиться жизнью. Последствия бездеятельности не чувствуются нами так заметно, как более острые и яркие чувства — гнев, радость, страх, только потому, что у нас постоянно под руками неистощимый запас всяких развлечений, на которые уходят Наши силы.
Скука есть следствие однообразия представлений, которые, повторяясь долго и часто, не дают душе никакого нового материала. Скука есть пустота души. Но обратно, по мере накопления материала для душевной деятельности увеличивается и сила деятельности, — чем больше душа получает, тем больше она требует. Поэтому человеку развитому требуется для душевной жизни гораздо больший материал. Образованный человек даже трудно понимает, как человек деревни или уездного города может находить развлечения в окружающей его жизни.
Тоска и горе есть вторая степень чувства бездеятельности. Когда человеческая душа привыкла уже к более широкой деятельности, и эта деятельность почему-нибудь прекращается, то человек впадает в тупое, гнетущее душевное состояние, называемое тоской. Горе создается тоже бездеятельностью, но, в противоположность тоске, оно причиняет страдание острое. Когда мы горюем, в нашей памяти возникает образ или предмет, которого мы лишились, и наше страдание выражается плачем, рыданием, резкими телодвижениями. При тоске нет этих внешних признаков страдания; при тоске мы даже не думаем о том, чего лишились, и ощущаем сердечное ущемление, упадок сил и сосредоточенную душевную боль. Но горюя и тоскуя, мы в глубине души как бы носим еще живительное чувство надежды, не позволяющей нашим силам упасть окончательно. Когда же потеря так велика, что вместе с нею прекращается всякая возможность дальнейшей нравственной жизни, душой овладевает отчаяние.
Человек отчаивается, когда он хотел бы найти деятельность для души, но перед ним стоит одно голое воспоминание о том, чего он лишился окончательно. Чувство это принадлежит к числу самых обыкновенных, хотя мы на него редко обращаем внимание. Случалось ли вам видеть, как старуха-мать идет за гробом своего единственного сына, в котором соединялись все ее надежды, все ее радости? Все вереницы ее представлений, желаний, надежд были соединены в нем, вся душа ее была заполнена только этим, для нее единственным, дорогим человеком — и вот труп его опускают в могилу и она, старая, остается одинокой среди чуждого для нее мира! Поздно ей начинать жизнь свою снова, ей не создать уже нового мира души и состояние ее можно сравнить только с состоянием преступника, которого везут на неизбежную казнь.
В горе матери чувство отчаяния выражается только повседневнее; но оно может иметь и другие формы. И фанатик, отдавшийся какой-нибудь идее, и могущественный правитель, преследовавший осуществление какого-нибудь принципа, который он считал непогрешимым, могут впасть в отчаяние, если им приходится убедиться, что все стремление их жизни было ошибкой. История представляет факты даже самоубийства правителей, которым приходилось разочаровываться в их системе. Нравственное душевное страдание Наполеона на о. св. Елены можно сравнить разве только с самой страшной, мучительной и безжалостной пыткой. Не пожелали бы мы никому также быть на месте Наполеона III после Седана. Только молодость переносит легко подобное душевное состояние или, по крайней мере, она лучше от него застрахована. Причина в том, что молодая душа еще не кончила своего роста, что перед нею впереди целая масса новых впечатлений, ощущений и возможность формирования новых верениц представлений. Вот почему молодые вдовы так легко утешаются и почему ими так легко переносится отчаяние. В сущности страдание молодой, неутешной вдовы есть не отчаяние, а только сильное, острое горе.
Апатия есть душевное бессилие. Душа страдает, не думая об утраченной деятельности, но в то же время и не стремится схватить то, чего уже нет. Душа просто устала, истомилась; испробовав многое, она отказалась от стремлений и борьбы. Апатия тоже необыкновенно тупое, гнетущее чувство, выражающееся упадком сил, равнодушием и бесчувственностью. Она хроническое страдание, обыкновенно неизлечимое и нередко доводящее до самоубийства. В таком, высшем своем проявлении, апатия есть уже сплин.
Россия не знает сплина, но она знает апатию. Апатия создается препятствиями к деятельности, хотя и непреодолимыми, но и не имеющими стихийного, рокового характера. Человеку за этими препятствиями рисуются люди, известные порядки, известные предрассудки, которым он подчиняется по необходимости, но которые имеют для него жизненный, осязательный образ. Вот образчик подобного душевного страдания. Житель юга, подвижной, впечатлительный, сердечный, но в то же время недостаточно активный и энергический, страдающий наследственной восточной ленью, принужден обстоятельствами служить в подмосковной губернии. Молодость оставила в нем целый ряд ярких воспоминаний о светлой природе юга, о простой первобытной жизни, с ее диким, действующим на воображение разноообразием, скачками, джигитованием, набегами горцев. И вот этого-то восточного человека судьба переносит внезапно в совершенно новую для него среду цивилизованной европейской однофор-менности, с ее полицейскими порядками, — в сферу служебного однообразия с ее машинным круговоротом вечно повторяющихся одних и тех же впечатлений. Человек женится, но ни любовь, ни женитьба не могут удовлетворить его; не удовлетворяют его и дети, хотя он любит их страстно; не удовлетворяет ни общество, ни служба. Во всем и везде он видит себя исполнителем лишь чужой воли; никогда он не чувствует себя самим собою; а между тем, воображение беспрестанно развертывает перед ним яркие панорамы, рисует его прошлую молодость, светлую природу юга и непосредственную простоту первобытной жизни, когда ему, ребенку, жилось так легко и свободно. Препятствия очевидны, ясны, они стоят перед ним как живые образы, он боролся с ними лет шесть и, наконец, потерял надежду попасть в свой родной Кавказ. У человека опустились руки.
Пример этот несколько крайний; он именно тот вид апатии, который известен под именем ностальгии или тоски по родине. Гораздо обыкновеннее у нас апатия, в которой душа хотя тоже страдает о потере своей родины, но эта родина не юг, не Кавказ, а та родина, которую мы создали стремлением своей молодости и от которой нам приходится отказываться в пору зрелости. Перед каждым из нас, лет в сорок, встают несокрушимой стеной известные порядки, известные предрассудки, с которыми мы, наконец, перестаем бороться, потому что устали, потому что, наконец, убедились в своем личном бессилии. Кто нашел себе дело, на котором его не слишком требовательная душа может успокоиться, — тот не впадает в апатию. Но кого не удовлетворяют суррогаты, кто упрям в своих стремлениях и не умеет примиряться, тем только один выход — хроническая апатия, с ее безучастностью.
Сплин — нечто другое. Перед вами стоят тоже несокрушимые препятствия; но эти препятствия как бы не имеют ничего жизненного, осязательного; они в самой душе вашей, в ее строе, в ее узкой ограниченности. Сплин — преимущественно болезнь англичан и, как замечено, — чаще всего бывает у богачей, удалившихся от дел. С ранней молодости трудится англичанин, чтобы создать себе состояние. Все его мысли поглощены наживой, вся жизнь его в том, чтобы создать себе богатство, все силы души его направлены на достижение одной цели и с железной энергией он не упускает ее ни на минуту из вида. И вот он достиг своего; он хочет успокоиться, наконец, он хочет отдохнуть, потому что всю жизнь свою трудился для этого момента — и что же? Вместо счастья и спокойствия, к которому он стремился, о котором мечтал, он создал себе мучение невыносимой, мертвящей скуки, отравившей праздностью всю его жизнь. Человек кончает самоубийством.
Бездеятельность — страдание, потому что нам нужна деятельность. Но что такое деятельность? И неужели можно назвать деятельностью то поведение, которое доводит разбогатевшего англичанина до самоубийства? Всякий ли труд есть деятельность, достойная человека, и разве нравственное страдание, которое следует за известного рода трудом, не обнаруживает, что в этом труде есть что-то ненормальное, нездоровое, разрушительное? Англичанин трудился весь свой век, чтобы скопить себе богатство, он отказался от всех радостей жизни, все его внимание было направлено в одну сторону, он шел одной узенькой дорожкой, он смотрел на весь мир в известные очки. Неужели он всю свою жизнь трудился,, чтобы застрелиться? Мать, сосредоточившая все свои силы на своем ребенке и доведенная до отчаяния его смертью, разве не тот же английский купец, идущий по одной узенькой дорожке и смотрящий на мир в свои узенькие очки? Разве это нормальная деятельность? Все это лишь разные виды безумия и душевной ограниченности, односторонности развития с патологическим концом.
Есть множество деятельностей, которые приводят к тем же печальным результатам. Душа, ищущая дела, кидается в какую-нибудь одну сторону и создает известную деятельность, которую собственно нельзя назвать деятельностью, как в экономическом смысле нельзя назвать трудом считание песчинок или пускание мыльных пузырей. Жизнь подобных людей не больше, как деятельная праздность, забава и убийство времени. Но труд не забава; впереди его всегда должны стоять возможно широкие задачи, и только та деятельность не оставляет чувства неудовлетворения, в основе которой лежит идея и которая дает занятие физическому и нервному организму. Если какая-нибудь из сторон человеческого организма не удовлетворена, за неудовлетворением еле-. дует страдание. Для счастия и довольства человеческого организма нужно, чтобы ум и тело были заняты одинаково. Умственный труд точно также нужен для развития и поддержания наших сил, как и труд физический. Если человека превращают в машину, как это можно видеть на фабриках с крайним разделением труда, организм его хилеет и ослабевает. Заставьте человека производить одни и те же механические манипуляции, не требующие никакого умственного напряжения, пусть он, например, вертит вечно колесо, и вы увидите, что из него выйдет. Только удовлетворение нервной системы, только умственный труд устанавливает равновесие и возбуждает в организме наиболее полную деятельность. Чтобы проголодаться, вовсе не требуется один физический труд; люди точно также могут проголодаться, работая умственно. Правда, умственный труд не развивает мускулов, но зато он необыкновенно оживляет всю нервную систему и значительно уменьшает необходимость физической деятельности. Вот почему людям, занятым умственно, сидячая жизнь не особенно вредит. Доказано, что ученые могут доживать до глубокой старости и что люд», привыкшие к умственному труду, гораздо лучше выносят дурной воздух, недостаток пищи и перемену климата, чем люди, у которых действуют вяло нервы, но сильно развиты мускулы.
Поэтому только ту деятельность нужно считать действительной деятельностью в психологическом смысле, которая полнее удовлетворяет мозговой и нервной потребности. И вот что мы называем идеей. Лишь такая деятельность может вполне нас удовлетворить, и лишь тот труд будет трудом в социальном смысле, впереди которою стоят, как идея, наивозможно широкие задачи. Труд без идеи не есть жизнь и отдаться неустанному труду с какой-нибудь ограниченной целью значит — отказаться от жизни. Труд бедняка крестьянина, все помыслы которого направлены на то, чтобы прокормить себя и семью, не есть жизнь. Английский купец, наживающий себе сплин — не живет также. И никто не живет, кто в самом труде не соединяет идеи, дающей его стремлениям высший интерес. Такой человек не создает ничего великого, ничего даже истинно честного и истинно благородного. Сочинитель, пишущий только для денег, будет жалким писакой; художник, думающий об одних деньгах, будет жалким маляром.
Инженер, живописец, музыкант, чиновник, офицер — возьмите кого хотите — если в деятельности этих людей нет более широких общественных задач, если мысль их сжата одним личным хлебным кругозором — не более как простые, жалкие ремесленники. Ремесленником будет всякий человек, который не умеет подняться выше личного своекорыстия. Ремесленником будет даже государственный человек, если в его труде нет того психического момента, который только один и дает всякой деятельности право называться общественно-человеческой. Кэрри смотрел на общественные обязанности человека с исключительно экономической точки зрения, когда отправление общественных обязанностей назвал ремеслом. Чиновник действительно ремесленник, если он превращается в канцелярскую машину; но зато кто же и назовет его общественным деятелем? Ограниченность и отупение — вот клеймо, которое накладывает на человека механический хлебный труд и узкое своекорыстие.
Умственный прогресс человечества имеет в себе, по-видимому, что-то фаталистическое. Поэтому происхождение фаталистических систем совершенно понятно. Конечно, мы понимаем теперь фатализм иначе; но мы понимаем его иначе потому, что понимаем закон причинности. Простолюдин и недодумавшийся человек, перед которым стоят непонятные для них факты, с полным правом впадают в недоумение перед тем, что перед ними свершается, и начинают, наконец, видеть во всем «судьбу», начертавшую и указавшую все заранее.
Но наука не знает фатализма, она знает только ряд фактов, вытекающих один из другого; она берет их и изучает как последствия и затем говорит, что из таких-то причин вытекают такие-то следствия. Наука берет организм, страдающий душевно или физически, она исследует формы этих страданий, их сущность, их причину и затем констатирует, что для нормальной жизни нужна гармоническая деятельность мускульного и нервного аппарата. Если недостает одного из этих условий, то, при крайнем перевесе мускульной деятельности, человек превращается в чистую механическую силу и в то же время хилеет и делается негодным для дела; если же он
отдается с излишеством мозговому труду, то, обессиливая свою нервную систему, сходит с ума. Если организм человека в своих нервных процессах удовлетворен не вполне, — человек испытывает страдания бездействия; если он удовлетворен односторонне, — он впадает в отчаяние или кончает самоубийством.
Человек, как комплекс известных сил, требует удовлетворения этих сил. Подвергаясь лишению, он страдает и умирает. Иногда он искусственно ускоряет свою смерть, потому что, в сущности, он уже умер. Никто не может изменить законов физического и нравственного человеческого бытия. Мы можем только следить за ними, изучать их, подчиняться им и наблюдать, чтобы они не были нарушены. Но мы не можем заставить человека отказаться ни от жизни чувством, ни умом, ни от физической жизни. Как только условия человеческого общежития нарушают эту гармонию, — вступает в свои права противоположный закон: закон вырождения и вымирания.
Мы не можем изменить и закона того нравственного бытия, из которого вытекает прогресс чувств и мыслей. Деятельность не есть человеческая выдумка, она — одно из последствий своей причины, и причина деятельности — в чувстве сходства и различия или в чувстве сравнения, создающего наше сознание.
Когда душа испытывает одно ощущение — чувство сравнения в ней явиться не может. Чтобы в нас явилось это чувство, необходимо воспринять два или несколько ощущений. Противоположное ощущение, воспринятое нами, создает в нас известный процесс чувств, который служит основанием умственного сознания. Если бы мы могли лишить человека зрения, слуха, обоняния, если бы мы замуровали его от всех внешних впечатлений, — мы только этой ценой могли бы купить отсутствие чувственного и головного сознания. Но разве вы можете это сделать?
Головное сознание, о котором мы уже говорили, разбирая умственный процесс, есть совершенно безразличный акт нашей души, выводы которого могут быть совершенно безразличны. Они могут быть и подлы, и благородны, честны и бесчестны; но такую оценку их делает не головное сознание, а наше чувство. Оно одно определяет характер выводов холодного разума и их социальную пригодность или непригодность. Только чувство сознания, возникающее из чувства воспринятых нами ощущений, показывает нам предметы в прямом их отношении к комплексу нашей души и к интересам наших стремлений.
Чувство сознания дает нам еще возможность узнать о существовании у нас всех других чувствований. Только чувство сходства и различия создает в нас подобную возможность; ощущая в себе противоположные процессы, мы пользуемся ими как материалом для изучения процессов своей души и, по мере их изучения, мы лучше и лучше узнаем себя, приучаемся следить за малейшими столкновениями противоположных чувств, мы научаемся понимать, отчего мы страдаем, что нас делает счастливыми, чего нам недостает и что нам нужно. Материал этот растет по мере его разработки, и чем мы больше трудимся в самих себе, чем больше является в нас внутренней работы, тем шире сфера умственной деятельности, обнимающей все стороны нашей души, тем полнее мы живем, тем полнее мы удовлетворены. Старинный афоризм, что богатому дается больше, а от бедного отымется и то, что имеет, находит в этом случае свое оправдание. Но этот афоризм — одно внешнее констатирование факта, но не разъяснение его психологических и социальных причин; а в них-то и весь вопрос. Мы не установим мировой гармонии, если от одних отымем все, а другим дадим все. Есть иной закон распределения, и только его моралисты называют справедливостью.
Наблюдая над нашими чувствами, мы замечаем, что чем сильнее работает в нас сознание, тем более слабеет то чувство, на которое оно направлено. Или наоборот: чем сильнее овладевают нашей душой, например, порывы страдания, гнева, любви, тем слабее становится сознание. Порывы чувства с крайне усиленным концом могут иногда и совсем затемнить сознание. Подобное крайнее усиление чувства, если оно имеет острый, яркий характер, называется аффектом. Но усиление чувства может иметь и более хроническую форму: между чувством и сознанием может быть прочная связь, и в таком случае одно усиленное чувство придает и нашей мысли силу только в одном направлении. Философы, фанатики, замечательные кабинетные мыслители или выдающиеся общественные деятели именно люди такого склада души.
Весь интерес их жизни заключается только в одном чувстве; в этом чувстве сосредоточена вся их душа, вытеснившая из себя все остальные чувства, и только в направлении этого чувства работает их мысль. Повиди-мому холодные, равнодушные ко всему, они в сущности равнодушны лишь к тому, что не имеет связи с их делом. Если хотите узнать, как холодны эти люди, попробуйте напасть на них со стороны их страсти!
Если бы силы нашего организма, стремящегося к деятельности, были беспредельны, то и для нашего ума не было бы предела. Но каждый на себе замечал, что мысль его может работать лишь до известной степени, что для него в головном труде есть известная черта, за которую он не может перейти, и такое состояние умственного бессилия дает нам знать о себе чувством умственного напряжения.
На чувство умственного напряжения обращают мало внимания и педагоги, и родители, и мы сами, думающие люди. Каждый из воспитателей замечал, что, несмотря «а искреннее желание самого ребенка понять то, что ему толкуют, он все-таки ничего не понимает. Я знал одного девятилетнего мальчика, которого учили алгебре. На вопрос учителя, чему равны о плюс Ь, ребенок отвечал — «об»; а — b выходило у него тоже «об»... Как ни мучился с ним учитель, как ни наказывали его строго за нули, — ничего не выходило. На следующий год, когда умственные силы ребенка окрепли, он совершенно легко понимал то, чего не понимал годом ранее. Я знал одного господина — это был уже не ребенок, в котором было необыкновенное желание сделаться умным, знающим, начитанным. Он читал поОтоянно умные книги, и чем заглавие их было новее и мудренее, тем он сильнее на них накидывался. Человек проглотил массу книг, человек напрягал постоянно свой мозг, постоянно болел чувством умственного напряжения и — кончил тем, что поглупел. На лбу его явились особенные характерные морщины, как у человека много думающего; но это был один только оптический обман, и мысль его в действительности не выросла ни на волос. Работая умственно, не напрягайте никогда мысли, делайте только то, что вам дается легко и просто и не доводите себя до того состояния, которое называется умственным напряжением. Когда у лошади нет сил везти, — вы ей кнутом не поможете. Только та умственная работа успешна, которая по нашим силам и материалом которой мы овладели. Работайте гениально. Под гениальностью мы понимаем не то, что понимала передовая немецкая молодежь в начале нынешнего столетия. Гениальность, о которой мы говорим, — не «больше, как соответствие наших умственных сил с материалом, которым они располагают. Если материал превышает силы ума, — одно средство: или оставить работу, или производить ее по частям, комбинируя материал несколько иначе. Задача воспитателей именно в том и заключается, чтобы поставить ребенка в возможность овладеть вполне своим материалом. Этого правила не только должны держаться воспитатели маленьких детей, но и детей взрослых. Популяризация есть одно из таких же средств. Пристрастие читающей публики к беллетристике и к легкому изложению есть один из признаков тою, что мысль общества еще недостаточно сильна, чтобы воспринимать идеи в другой форме.
Когда мысль зрела, когда чувство, возведенное в сознание, выражается в потребности сознательной деятельности, то человек осуществляет свою мысль в деле. Но если нам приходится приостановить этот преемственный процесс, — промежуток между представлением и фактом выражается в нашей душе чувством ожидания. Предположите, что кто-нибудь в известный час должен прийти к вам; все ваши представления связаны с этим часом и, так сказать, остановились на этой точке, чтобы найти свое продолжение или в деле, или в мысли. Ожидаемое лицо не пришло, и в вас возникает известное, характерное чувство.
Чувство ожидания, если оно испытывается долю, переходит в другие чувства — в скуку, гнев, и даже в страх. Скука является, когда ожидаемое перестает давать душе достаточную работу и, следовательно, надоедает повторением одною и того же. Но если с ожидаемым связано удовлетворение какому-нибудь стремлению, — мы станем испытывать другое чувство и чаще всего гнев.
От темперамента и от воспитания зависит, с какой силой человек будет выносить чувство ожидания. Одни ждут спокойно, не волнуясь и ничем не обнаруживая своего чувства ожидания; ожидая, они могут заниматься совершенно посторонним делом. Другие, напротив, высказывают сильное волнение, рвутся и мечутся и не умеют перенести свое внимание на посторонний предмет. Люди стремительные и с раздражительными нервами труднее всего выносят ожидание. Легче всего выносят его люди недостаточно живые, мало стремительные, вялые или тупые, т. е. именно тот самый сорт людей, который легче выносит скуку и легче переносит душевную бездеятельность. Поэтому терпение вовсе не добродетель, а скорее всего признак слабой душевной стремительности. Безусловно терпеливых людей в сущности нет: каждый нетерпелив; но только у каждою свое собственное терпение. Один терпеливо ждет одного, другой терпеливее ждет другого. Но если человек, воображающий себя влюбленным, ждет совершенно равнодушно свидания, — поверьте, что он не очень влюблен. Если человек, платонически мечтающий о свободе, ждет совершенно спокойно минуты своего освобождения, — поверьте, ему не очень нужна свобода. По характеру терпения, как и по вниманию, вы можете определить характер человека. Одни нетерпеливы, когда неудовлетворено их тело, другие, — когда не удовлетворен их ум, их чувства, их душа. Наблюдайте, в чем именно человек нетерпелив, — и вы его узнаете!
Конечно, привычка может развивать терпеливость; но это совсем не та привычка, как, например, механический навык в слесарном или токарном деле, или привычка к порядку. Мы можем становиться терпеливы, потому что созрели мыслью, потому что поняли закон преемственности известных понятий, идей и явлений. В этом случае наше терпение не есть перерыв и оно не страдание, а только зрелый акт известной активности, постоянно стремящийся удалить известное препятствие. Припомните процесс, которым Англия отменяла свои хлебные законы, припомните процесс, каким отменилась ею смертная казнь за воровство в один шиллинг. Прогрессивная партия, стремившаяся к отмене старых законов, почти тридцать лет из года в год вносила свои билли; каждый год приобретала она на свою сторону новые голоса, пока не достигла большинства. Это было тоже терпение, но того же рода, с каким Бернар Палисси достиг открытия глазури на фаянсе или с каким Фультон построил, наконец, пароход. Терпение же, с которым феллах сидит перед своей норой и произносит с благоговением: «Аллах Керим», или терпение того индейца, который восемнадцать лет спал на гвоздях и, когда его простили, не знал другой постели, наконец, терпение деревенской бабы, выносящей целый век побои своего мужа, — не терпение, а выносливость.
Если на пути нашей деятельности, какого бы рода она ни была, входит представление, которого мы вовсе не предвидели, — в нас является чувство неожиданности. Чувство неожиданности, как перерыв нашего душевного процесса, может быть приятно и неприятно, смотря по тому, с какими вереницами наших представлений оно вступит в комбинацию. Если у вас мало денег и вы рассчитываете каждую копейку, то почтовое объявление, приглашающее вас получить сто рублей, будет для вас очень приятной неожиданностью, и наоборот, вы испытаете очень тяжелое чувство, если, ожидая получить сегодня сто рублей, получите вместо них письмо с отказом. И в умственном процессе чувство неожиданности может быть приятно и неприятно. Химик, исследующий новое тело, если внезапный случай поможет его работе, испытывает, конечно, чувство приятной неожиданности.
Но вообще — неожиданность мешает самостоятельной душевной работе. Вот почему это чувство бывает неприятно людям сосредоточенным, живущим почти исключительно внутренними процессами, и душевной работе которых, поэтому, всякая неожиданность мешает. Напротив того, люди неразвитые, в которых мало самостоятельной внутренней жизни, любят помогающее вмешательство случая. Есть множество людей и даже умных, в которых живет какая-то мистическая вера в случай. Наполеон верил в него.
Если, с одной стороны, люди вполне самостоятельные и сложившиеся не любят ничего случайного, напоминающего каприз и произвол, мешающего стройному течению жизни, то с другой, — такие характеры легко переходят в деспотическую крайность и желают ввести, наконец, во всем одноформенный порядок и устранить всякую неожиданность. Вот почему люди-деспоты, действующие всегда по простой и немногосложной программе, стремятся к водворению такой организации жизни, при которой поведение отдельной личности не может явиться внезапной нарушающей неожиданностью.
Отсутствие неожиданности влечет поэтому к застою и к рабству и отнимает от жизни один из главных элементов прогресса. Одноформенность находила бы тогда свое оправдание, если бы она была результатом последнего слова знания. Но такого слова наука еще не сказала. Порох, изменивший физиономию мира, был изобретен случайно. Сила пара и гальванизм были открыты тоже случаем. Если бы одноформенность могла исключить неожиданность, — у мира не было бы ни пороху, ни железных дорог, ни электромагнитного телеграфа.
В явлениях социальной жизни неожиданность играет такую же прогрессивную роль, вводя, как новый элемент, случайность, исправляющую ошибки общего мышления. Чем больше мысль принуждена бороться с поражающими ее явлениями, тем безошибочнее идет она к своему последнему выводу. Одноформенность, устраняющая неожиданность, лишает сама себя средств поправки и потому всегда впадает в односторонность. Вот почему, чем общество одноформеннее, тем оно менее развито, ибо материалом для его суждения служит меньшее число явлений. Древний Египет только потому и был ограничен. Обратное этому мы видим в новейшем демократическом обществе, где каждая отдельная личность является действующим элементом общественной случайности, где, следовательно, обществу беспрестанно приходится сталкиваться с неожиданностями и постоянно проверять себя.
Конечно, избыток поражающих на каждом шагу неожиданностей парализует нашу уверенность и ведет к чувству сомнения; но это опять крайность, создающая нерешительные, неуверенные характеры, лишенные определительной точности в своих стремлениях. Еще недавно нашему обществу пришлось испытать чувство неуверенности, когда, после одноформенного установившегося склада общественной жизни, на нас нахлынула масса новых, неожиданных идей. Очень может быть, что при новых условиях мы бы и справились с этой массой неожиданностей; но для этого ни у старых, ни у молодых не достало подготовки. Уверенность — такое чувство, которому нужен прочный материал. Требуется, чтобы в душе человека нацарапались крепкие следы и чтобы в нем выработались твердые желания. Только тогда возможно и энергическое стремление. Но может ли человек идти уверенно к цели, когда у него ее нет и когда он не знает, чего хочет? Есть цели простые, всем доступные, всем понятные, и вот почему так легки и устойчивы стремления молодежи к деньгам и к хлебным занятиям. Но совсем не таковы наши стремления к возвышенному и благородному, о чем мы так запальчиво говорим одними словами. Чувства и понятия этою порядка усвои-ваются труднее, формируются из более сложных представлений и только тогда они не боятся никаких неожиданностей, когда переходят в полную уверенность.
ВОЛЯ
Ни об одном элементе души не было столько противоположных и разноречивых мнений, как о воле. В воле для каждого человека выражается как бы высшее представление о самом себе: — воля предмет его гордости и достоинства. Признавая себя господином своей воли, принимая волю за нечто независимое, самостоятельное, за силу, которою он управляет йо своему произволу, — человек чувствует свое человеческое я, свою независимость, свободу, свое царственное положение в природе и в ряду других людей.
Такое воззрение человека на волю вполне понятно. Основание его коренится в том общем душевном ощущении цельности и неразрывности комплекса души, из которою истекает наше стремление к возможности такого поведения, в котором бы влияющим элементом был исключительно внутренний мир нашей души, сложившаяся сеть ее собственных представлений. Дорожа тем, что человек зовет волей, он в сущности дорожит своей независимостью, своим правом сохранить в неприкосновенности свое я, высвободить его из под давящих внешних влияний, принуждающих ею действовать под гнетом посторонней силы. Отказаться от воли значит отказаться от личной свободы, отдать себя в руки чужого произвола, быть рабом, а не господином. Отождествляя, таким образом, волю с свободой, человек отстаивает свою волю, чтобы отстоять свою свободу и свое право на самостоятельное существование.
Бессознательно и смутно лежит стремление к свободному проявлению своей воли в нашем чувствующем организме. Оно начинается рядом простых рефлексов, переходящих постоянно в более сложные акты, которым придают потом значение разумной и сознательной воли.
Едва родившийся ребенок уже окружен целой массой внешних влияний и на каждое из них он отвечает каким-нибудь рефлексом. Он слышит звук и поворачивает голову в сторону звука, перед ним явилось блестящее тело, блеснул огонек, — и он останавливает на нем свои глаза; его беспокоит неровность постели или укусило насекомое, — и он начинает тревожиться, шевелиться и, если препятствие не устранено, — ребенок кричит. Он голоден и, если его не накормят, — плачет. Каждое внешнее впечатление сопровождается всегда известными мускульными сокращениями, т. е. более или менее сложными рефлексами действия. Первые мускульные сокращения очень несложны. Ребенок открывает или закрывает глаза, поворачивает голову, протягивает руки и ноги и шевелит ими в разных направлениях. Наблюдая эти первые движения, вы увидите, что они находятся в строгой, последовательной связи с теми внешними причинами, которые их вызвали. Они всегда отвечают на них. Вначале ребенок не умеет согласовать свои движения и потому в них заметен какой-то элемент случайности, какие-то неудачные пробы и попытки. Только целым рядом опытов и постепенных приспособлений ребенок устанавливает связь между своими органами и приучается управлять своим слухом, зрением, движением рук и ног и голосовым органом. Ребенку нужно проделать много приспособлений и опытов, прежде чем он приучится протягивать руку к предмету и брать его, прежде чем он выучится согласовать свои внутренние стремления с голосовым органом и, наконец, высказывать свои желания словом. Необыкновенно многосложным процессом достигает ребенок того, повидимому, простого результата, который обнаруживается в его хотении. И в этом результате заключается первая школа жизни ребенка, процесс его нравственного роста и развития.
Пока ребенок мал, пока он ползает, пока он неуверен в своих движениях, пока он в полной зависимости от окружающих движений и впечатлений, которыми он не умеет еще овладеть, наше родительское око строго хранит и оберегает его. Мы даем дитяти полную свободу
Мы рабы его и слуги, охраняющие каждый его шаг от помех и противодействий. «Чем бы дитя ни тешилось — лишь бы не плакало», говорят нянюшки и матери. От ребенка не требуется ничего, — ему только дается все.
Но вот ребенок растет и крепнет; он уже ходит, бегает и не только говорит, но и рассуждает. Мир души его расширился, а более сложные внешние впечатления создали в нем и более сложную систему рефлексов. То, что казалось нам прежде простым и бессознательным, то, что выражалось одними мускульными движениями, в которых мы не находили смысла, получает теперь свое -выражение в слове, речи, мысли: ребенок начинает походить уже на большого человека. Загляните в сущность происходящих в его душе процессов, — в них не произошло никакой основной перемены. Разница заключается не в качестве того, что в нем совершается, а только в большем накоплении душевного материала; новый, поражающий нас процесс представляет лишь одно количественное различие.
Хотя ребенок остался и тем же, — он стал столько больше и сложнее; но наши родительские отношения к нему изменяются и в нас является небывалая до того времени требовательность. Пока ребенок был мал, мы не только позволяли ему делать все, мы даже помогали ему делать все. Вся жизнь его была рядом оттолчек, ничем не стесняемых, которыми он отвечал на все поражавшие его явления и на все внешние впечатления. Ребенок жил свободно, не зная ни ограничений, ни стеснений; он жил, как ему жилось, рефлектируя под влиянием ничем не стесняемых органических процессов. Но теперь мы хотим, чтобы он поступал только известным образом; мы связываем его поведение с известными нравственными представлениями; мы требуем, чтобы в основе его действий лежали известные мотивы, различаем в них начало доброе от начала злого и спрашиваем одного доброго. Прежде ребенок хотел как ему вздумается, и всякое его хотение, переходившее в действие, мы признавали законным; теперь мы требуем, чтобы он хотел только известным образом, мы требуем воли и под именем воли понимаем одну добрую волю. Но изменился ли ребенок в своем существе, чтобы мы имели право предъявить ему такое требование? Разве он живет не в той же среде, не в той же природе? Составляет ли он нечто новое или он лишь одно продолжение своего предыдущего? Откуда возникает наше новое требование? Отчего его не было прежде? Отчего оно явилось теперь? Если ребенок жил и прежде одними простыми рефлексами, которые мы берегли, лелеяли, охраняли от всякого противодействия, зачем мы начинаем поступать иначе, когда они из простых превратились в более сложные, оставшись в своем существе теми же, чем были?
Ребенок последовательнее нас, — его родителей. Незаметно, постепенно, шаг за шагом, идет он своим путем и душа его копит свой материал, подобно нарастающему кому снега. Это все тот же снег, ком лишь стал больше, сложнее, богаче содержанием потому, что в нем прибавилось снежинок. С первых своих подвигов в колыбели ребенок рос в свободе и независимости, он к ним привык и теперь хочет того же, чем он пользовался до сих пор. Ребенок привык всякое движение, всякое ощущение превращать в известный активный рефлекс. Заметив эту последовательность и научившись согласовать свои движения с выражением голосового органа, он говорит: «я хочу», и этому «я хочу» он придает смысл чего-то независимого, решающего, повелительного, что он связывает со своим я, с внутренним миром своей души. В детском «я хочу» выражается маленькое самодурчесКое я ребенка, не желающего признать над собой никакого другого закона, никакого постороннего вмешательства и внешнего давления.
В этом бессознательном стремлении спасти свое неясное, смутное я, ребенок собственно охраняет свое органическое, физиологическое право выражать внешним рефлексом воспринятые его Душою впечатления и внутренние душевные процессы. Ребенок привык уже жить свободно, не подчиняясь никаким посторонним давлениям, разрывающим цепь его представлений. Оберегая свое «я хочу», ребенок собственно ревниво охраняет целость своей души, не допуская вмешательства в ее жизнь того, чего еще в ней нет. В этой узости и заключается детская воля.
Наблюдайте детей и вы на каждом шагу заметите, как крепнет в них ошибочное представление о роли их свободного я, как этим путем они легко переходят к привычке выделять себя из других людей и своим «я хочу» вытеснять всякое чужое «хочу». Ребенок слишком глуп, чтобы понимать свои собственные процессы и чтобы уметь заглядывать вглубь своей души. Его внутренняя жизнь кажется ему очень простою или, вернее, она ему не кажется ничем именно потому, что она непрерывный ряд бессознательных рефлексов. Если ребенок почувствовал голод, он говорит: «я хочу есть», идет сейчас же к шкафу, отворяет его, берет кусок хлеба и ест. Неправда ли, это очень просто? Если на улице мальчики пускают змея, ребенок говорит «я хочу», берет свой змей, идет на улицу и запускает его под облака. Если его товарищи идут гулять, купаться, собираются кататься на лодке или верхом, или играть в мяч, или бить кого-нибудь, он говорит: «я хочу», и идет играть, гулять, кататься и бить. Ребенку все это кажется необыкновенно просто, он смотрит, видит, затем захочет и делает. Он всегда делает то, что он хочет, он говорит «я хочу лечь» и ложится, «я хочу идти» и идет, «я хочу поднять руку» и поднимает. За этой кажущейся простотой для ребенка скрыты те многосложные пружины и процессы, которыми воспринятое им внешнее впечатление перешло в его короткое, непосредственное «я хочу». Механизма душевного процесса для ребенка совершенно не существует, он живет как бы вне его, он только хочет и делает.
Недавно мне случилоь говорить с одним тринадцатилетним мальчиком об игре одной актрисы. Мальчик относился чрезвычайно порицательно к ее исполнению и необыкновенно ревниво отстаивал свое мнение. «Я не знаю почему, но мне ее игра не нравится и никакими доказательствами ты меня не убедишь», говорил он мне. «У меня свое мнение, я не хочу повторять чужого и не хочу быть ничьим хвостом». Ребенок этот всегда необыкновенно настойчиво отстаивает свое «я хочу», и стоит громадного труда убедить его принять другое мнение. Порицая, например, игру не понравившейся ему актрисы, он впадает в противоречия, напрягает свой мозг, чтобы найти доказательства в свою пользу, кидается в софистику, в искажение фактов и необыкновенно туго и с сильной борьбой уступает. В числе возражений я ему говорю: «чтобы судить, нужно иметь данные, так?» — «Так», отвечает он. — «Ты судишь из каких данных?» — «У меня данных никаких нет, но я чувствую, что она играет не так. В роли сказано, что она должна быть застенчивая, скромная и трусливая девушка, а разве она была такая?» — «Хорошо, отвечаю я ему, но игра Ж. тебе понравилась?» — «Да», отвечает ребенок. — «А игра мамы?» — «Да». — «Но ведь и они были не тем, чем должны были быть по мысли автора. Ты говоришь, что судишь по-своему, но если ты ссылаешься на автора, значит повторяешь его слова. Ты не хочешь быть ничьим хвостом, а разве ты не хвост, когда ты не делаешь того, что делают семиклассники и взрослые, но делаешь то, что делает твой друг и авторитет Митя? Ты только вместо одного хвоста идешь за другим и всегда тянешься за каким-нибудь хвостом...».
Разговор этот не особенно важен по своему содержанию, но он важен по своей общей сущности. Все дети более или менее похожи на этого мальчика, они все оди- каково бессознательны и все одинаково ревниво отстаивают свое нежелание быть чьим-нибудь хвостом. В сущности, не быть ничьим хвостом значит для них отстоять свою свободную волю и действовать без насильственного разрыва своих представлений. Ребенок совершенно прав, когда говорит: «я не знаю почему, но я так хочу», и он действительно не знает почему; но он уже многое видел, многое думал, многое понимает, и это многое сложилось в нем в несознающую себя непосредственность, в известный, хотя и не особенно богатый, но все-таки довольно округленный комплекс души, и эту-то свою душу он охраняет и оберегает от всякого постороннего насилия. В сущности он не против того, чтобы быть чьим-нибудь «хвостом», но он хочет быть хвостом своих собственных желаний и хотений, не умея понять только, что его хотения точно такой же несвободный результат, как и всякое другое поведение другого человека.
Этот пример важен еще и в другом отношении. Мы имели здесь дело с ребенком, не сознавшим своих душевных процессов, не умевшим понять в их кажущейся простоте необыкновенной многосложности и зависимости. Ребенок не знает, что вся его жизнь есть непрерывный ряд чередующихся рефлексов, что все его детское мировоззрение есть неизбежная сеть неустранимых, предшествовавших впечатлений, что оно сложилось таким потому, что не могло сложиться иначе, и что его хотения, в которых участвует кажущаяся ему его свободная воля, есть одно из неизбежных последствий всех тех внешних влияний и личных органических особенностей, которых ни устранить, ни создать, ни изменить он не может.
Мир и законы мира как внешней природы, так и внутренней природы человека в ее социальных проявлениях, продолжаются непрерывно, развиваясь с неведомого нам момента мироздания. Конечно, тринадцатилетний ребенок, уверяющий, что он не хочет быть ничьим хвостом и воображающий свое «я хочу» независимым от общей мировой связи, есть лишь факт детского недомыслия. Но вот дитя растет, повинуясь бессознательно своим процессам, растет, не задумываясь никогда над тем, что значит «я хочу», не заглядывая никогда сознающим оком во внутренние процессы своей души, и вырастает наконец в большого человека. Он сохранил свои детские и ребяческие представления о своей мировой изолированности, о своем независимом я, о своем всемогущем «я хочу». И целые века росло человечество, как рос приведенный мною для примера тринадцатилетний мальчик, не зная ничего из процессов своей личной души, пока, наконец, постепенно зревшая мысль и постепенные наблюдения не создали того нового знания, которое сделало акты души предметом опытного исследования. Психология одно из последних знаний, и вопрос о воле один из тех трудных вопросов, с новым разрешением которого наименее мирится человек. И взрослые, как наш тринадцатилетний мальчик, отстаивают в этом вопросе собственно свою личную свободу, свое личное право быть тем, чем они есть, свое нежелание быть средством эксплуатации ближнего и рабом чужого произвола. Но тут есть недоразумение. Давно известно, что развитой человек самый несвободный человек. А если человек есть продукт природы и общества, в чем же для вас обида, что вы часть природы, что вы часть общества, что вы продукт обстоятельств?
Ламарк обратил первый внимание на необыкновенную приспособленность животных к среде, в которой они живут. Внешняя и внутренняя их организация, нравы и инстинкты — все до мелочей приспособлено в них к местности, условиям и обстоятельствам, в которых они находятся. Рыба, например, живет в воде и, согласно условиям этой среды, устроены ее органы дыхания, ядения, движения. Исполинский кит и микроскопический снеток устроены по одному плану и питаются одним способом.
На земле, где большее разнообразие, замечается и большее разнообразие в животных. Какая громадная разница между львом, верблюдом, быком, лягушкой, змеей! Вглядитесь в условия их организации и вы увидите, как каждое из этих животных приспособлено к своему месту, к своим обстоятельствам, к своей пище. Все их привычки, весь склад жизни, все их поведение именно такие, чтобы животные могли продолжать свою жизнь. Лев поражает вас необыкновенной смелостью, силою и ловкостью. Весь его боевой вид говорит вам, что он создан для вечной войны, для вечного добывания себе средств существования путем борьбы и насилия. Отымите от льва его железные мускулы — и с ними пропадет его необыкновенная сила, ловкость, смелость, самоуверенность и тот нравственный апломб, с которым он выступает на арену жизни. Лев перестанет быть львом. Посмотрите на верблюда — тихий, флегматический, спокойный, но в то же время необыкновенно высносливый, терпеливый и упрямый, он всем своим видом, характером, поведением, всем своим верблюжьим мировоззрением говорит вам, что родился в каменистой, безводной пустыне, от таких же, как он, родителей. Разве верблюд, лев, кит, лягушка могли изменить что-нибудь в природе, в которой они живут? Нет. Чтобы сделаться тем, что они есть, им, как полагал Ламарк, оставалось лишь приспособиться к своей среде. Будь они иными, и их существование прекратилось бы. Заставьте льва жить в океане или перенесите кита на Атлас — и они вымрут. Ламарк, обративший первый внимание на отношения животных к среде, доказывал, что у тюленя, гуся, утки плавательные перепонки образовались оттого, что, усиливаясь плавать легче, они расширяли пальцы; что у лошади длинная шея потому, что она, для добывания травы, должна была тянуть вниз голову; что у быка рога потому, что ему нечем защищаться, кроме головы. Поставив таким образом животного и человека в прямую зависимость от природы и объясняя происхождение той или другой организации рядом приспособлений к тем целям, которым они должны служить, Ламарк смотрел на природу, как на что-то постоянное, неподвижное, принуждавшее животных к вечному, бессознательному подлаживанию.
Дарвин, явившийся продолжателем Ламарка, кроме приспособления, указывает и на перемены самой природы. Если животное постоянно приспособляется к среде, то ясно, что его заставляет изменяться изменяющаяся среда. Вместо одного влияющего агента является взаимодействие сил. Животное, стремящееся сохранить свою жизнь, приспособляется к среде и в то же время земная поверхность, под влиянием геологических и климатических перемен, изменяет тоже свои условия. Дарвин приводит множество примеров того, как изменяется животная организация при взаимодействии переменяющейся природы и подлаживающегося к ней организма. Например, отчего на Мадейре преобладают бескрылые жуки? Дарвин объясняет это явление очень просто: в течение целого ряда поколений, может быть тысячи или более, жуки, летавшие слабее других, потому ли что их крылья были менее развиты, или просто от лени или недостатка энергии, должны были подвергаться меньшей опасности быть занесенными в море и отвыкали летать, а жуки, более смелые, более сильные, более энергические и потому предпринимавшие более смелые путешествия, чаще заносились в море и погибали. Все решительные жуки должны были этим способом исчезнуть, а вялые домоседы получили решительный перевес и создали, наконец, бескрылую породу. Подобным же путем домашний гусь перестал походить на гуся дикого и смелый, мужественный кабан превратился в вялого, апатического борова.
Изменение животных совершилось под влиянием подбора, и посредством такого подбора родичей, при котором самка подпускала к себе соответственного самца. Под влиянием бессознательного стремления к существованию, родители подбирали друг друга по сходству наиболее выгодных признаков. Постепенно, едва заметно, в течение миллиона лет сложились этим путем организации, вполне приспособленные к своему собственному существованию. Рядом приспособлений к среде сложились и инстинкты, ибо инстинкт есть не более как наследственная привычка. Кто научил бобра строить свои удивительные дома? Кто научил едва вылупившегося гусенка плавать, а пчелу и муравья — жить благоустроенным обществом? Никто, кроме «наследственности. Все их поведение — наследственные рефлексы, известные приспособления к среде и к обстоятельствам, в которых им приходится действовать. Льва никто не научил ни мужеству, ни ловкости, ни энергии — они простые результаты его наследственности, прилагаемые лишь его стремлением к существованию для добывания пищи. Инстинкты, как наследственная привычка, сохраняются иногда долго после того, когда они и не нужны. Так свинья и нынче пред наступлением холодов таскает солому, совершенно бессознательно повторяя своего прародителя, устраивавшего некогда на зиму теплое логово.
Человек совершенно так же тесно связан с природой. Если бы солнце только на один градус выделило больше или меньше теплоты, если бы земля только на одну линию была меньше того, что она есть, — изменилась бы вся ее поверхность и изменился бы весь расчет времени. Там, где теперь льды — росли бы бананы, северного оленя сменил бы, может быть, верблюд,- а эскимоса — краснокожий...
...Подчиняясь той природе, в которой человек живет, он должен подчиняться закону силы и материи, образующему круговорот жизни. Закон этот наука открыла и разъяснила только недавно.
Во всяком движении существуют два элемента — материя и сила. Материя есть то, что движется, а сила то, что двигает. Матепия и сила действуют неразрывно, и сила есть неотъемлемое свойство материи. С тех пор, как существует мир, в нем не прибавилось и не убавилось ни одной частички. Материю нельзя уничтожить никакими средствами и нельзя создать вновь ни одного атома. Все, что есть, только меняет свою форму, и в этой перемене формы совершается круговорот бытия. Если мы не замечаем проявления силы, то только потому, что она переходит в другую форму. Если же сила проявляет себя, то она вовсе не является как нечто не существовавшее, а лишь обнаруживает себя в открытом движении. Например, вы ударяете молотом по наковальне. Повидимому, сила исчезла вместе с ударом, но в сущности она перешла в другую форму. Дотроньтесь до молота и до наковальни — они теплы: сила перешла в теплоту.
И всякая живая сила, как бы ни изменилась ее форма, не претерпевает при этом ни малейшей потери в самой себе. Ударив молотом по наковальне, вы произвели тепло, но вы произвели тепла ровно столько, сколько потратили силы на удар. Человек подчиняется во всех
своих отправлениях и действиях тому же закону переходящей, живой, силы. Все наши внутренние и внешние процессы, вся наша нравственная жизнь, выражающаяся в разных актах души, подчиняется тому же закону. Когда мы мыслим — мы расходуем на этот процесс свою живую силу. Когда мы хотим, желаем — мы тратим свою живую силу. Всякое наше напряжение: умственное, нравственное, всегда истощает наше тело и чем оно сильнее, чем продолжительнее, тем оно больше поглощает средства нашего организма. Если расход живой силы не будет пополнен — организм окажется, наконец, не способным действовать. Только из запаса физических сил мы почерпаем свою нравственную силу, и так как живые действующие силы образуются без всякого нашего вмешательства, то, конечно, и для создания их ничего не значит наша власть.
Основной источник развития сил в нашем организме заключается в пищевом процессе. А так как всякая часть организма имеет в самой себе пищевой процесс, то, следовательно, она заключает в себе и источник своей живой силы. К чему бы йи прилагалась наша живая сила, — в сущности она остается одной и той же и лишь только переменяет форму. Процессы эти не отличаются в существе ничем от того процесса, при котором вы, ударяя молотом по наковальне, превратили свою живую силу в теплоту. Для живой силы нашего организма совершенно безразлично, во что ей перейти. Во взятом нами случае она перешла в теплоту, но вы точно также можете ее употребить на то, чтобы поднять и перенести известную тяжесть, расколоть или перепилить дрова, написать сочинение, мыслить, рассуждать, спорить, играть на фортепиано, рисовать. Во всех этих процессах действует одна и та же ваша сила, принимающая только разные формы. Мы не можем совершить ни одного физического движения — произойдет ли оно вне или внутри нашего организма — без того, чтобы на него не потратилось известное количество живой силы. А так как все наши внутренние процессы суть тоже движения, но только совершающиеся в нервных и мозговых вибрациях, то, следовательно, и все наши умственные и нравственные процессы — лишь перемена формы той живой силы, источник которой заключается в пищевом процессе.
Началом жизни, какую бы высокую интеллектуальную форму она ни принимала, служит прежде всего наш организм. Но наш организм не может существовать без питания, а для питания нужна пища, ибо без нее мы не будем иметь физических сил, без которых опять невозможны никакие движения, ни физические, ни нравственные. Если организм не будет постоянно пополняться пищею — он не пополнит своих утрат и в нем не явится энергии, которая в сущности есть переход живой силы в желание, направленное для достижения цели нашего существования. Цель же нашего существования заключается в поддержании нашего организма на счет материи, существующей в природе, посредством сил, почерпаемых человеком, животными, растениями из одного общего источника — солнца.
Во всей органической деятельности человека энергия есть общий и основной акт. Все остальное, как говорит Бэн, и наше сознание, есть не больше как факт случайный. Только энергия, переходящая в действующую силу, ставит нас в известные активные отношения к силам природы и заставляет нас пользоваться ими для своих выгод. Когда земледелец, говорит тот же Бэн, выходит утром пахать поле, то он находится под влиянием двигающей им энергии или воли, и в этой воле есть известное сознание. Назовите усилие, происходящее в человеке, как хотите — волею или чем-нибудь другим, но не само по себе это сознание побуждает земледельца браться за плуг. Истинный источник его мускульной силы, принимающей форму энергии и воли, направленной на известное дело, есть в сущности сильное излияние мускульной и нервной деятельности, происходящее от хорошо переваренной пищи и здоровоЬэ дыхания. «Превращение пищи и тканей есть условие sine qua поп, а сознание — только «случайная принадлежность», говорит Бэн.
Итак, человек живет в природе, как один из атомов этой природы, и, по Дарвину, носит в себе стремление к существованию и борется за него. Стремление к существованию выражается в нем в форме разных желаний, а чтобы желание пришло в исполнение, требуется известная энергия, создающаяся в человеке пищевым процессом. Что же касается сознания, то в акте так называемой воли оно помогает лишь выбору средств. Но так как средства мы можем выбрать только из того материала, который скопили в себе памятью, умом, воображением, т. е. из тех данных, которые в нас есть, то ясно, что раз эти данные определились, если они нам так же известны, как данные заданной математической задачи, то и человек будет действовать с силой и неизбежностью пули, выстреленной из ружья, или брошенного камня, и мы вперед предскажем его поведение.
Когда младенец, живущий своей простой рефлективной жизнью, делает, что он хочет, — он живет, как говорится, одними растительными процессами. Повиди-мому это для всех ясно. Но едва ли.
Младенец в колыбели, действительно, существо изолированное, замуравленное от всего того, что совершается вне его детской. Все человечество заключается для него в нем одном, в его матери и его няньке; весь мир его в его люльке, и в этом мире он царь, и он хочет быть владыкой своего мира, и он действительно владыка, насколько это ему позволяют.
Сделавшись ребенком, младенец вступает уже в более сложные отношения к людям, при которых каждый стремится сохранить свое я и проложить дорогу только своему «я хочу». Из изолированного младенца ребенок становится существом общежительным. Сначала он занимал в природе очень маленькое место, которое не было нужно другим и потому на него не было претендентов; теперь же, по мере роста, ребенок забирает больший и больший круг, описывает больший и больший радиус и своим кругом задевает другие круги, описанные радиусами других людей.
Для младенца пожелать значит захотеть; а захотеть значит сделать. Когда «перед ним блеснет огонек, — он поворачивает глаза в сторону света и ничто не мешает его движению. Когда он слышит звук, — он поворачивает голову в сторону звука; он видит свою бренчащую игрушку, тянется к ней и ее берет. Что бы ребенок ни увидел и ни услышал, что бы он ни пожелал, — желание овладевает всегда всею его душой. Младенец не знает никаких препятствий, каждое его желание переходит в хотение, в энергию для его осуществления, в волю.
Но недолго младенец наслаждается своей мировой изолированностью и недолго он эксплуатирует свою мать 188
или няню, — эти первые орудия нестесняемой ничем младенческой воли. Ребенок видит, положим, горящую свечу, блестящий кипящий самовар и тянется к ним. При виде этих предметов, в нем является желание взять их. Как вы поступите? Конечно, вы позволите дитяти дотронуться до пламени и до кипящею самовара. Излишняя теплота подействовала на него неприятно; он обжег легко руку, он плачет. Что это значит? То первый урок ребенка, первая добытая личным опытом от-толчка, первый рефлекс препятствия его воле; младенец почувствовал, что не всякое его желание осуществимо, не всякое может перейти в решение и во всемогущее «я хочу».
По мере того, как младенец растет, чаще и чаще являются перед ним случаи, когда его желание должно остаться одним неудовлетворенным желанием, когда ею хотение получает внешние толчки. Дитя, положим, отломило голову своей любимой куклы и вы приклеили эту голову. Дитя видит свою куклу в прежнем ее виде, а, может быть, она кажется ему новой, и оно тянется к ней, чтобы ее взять: дитя желает и хочет. Но голова еще не присохла. Как вы объясните это дитяти, когда оно не имеет понятия о клее и не знает, что неприсохшая голова может отвалиться? Вы просто не даете куклу, вы прячете ее. Ребенок, чувствуя неудовлетворение, начинает плакать; Или дитя привыкло гулять; но гулять нельзя, потому что собираются тучи. Ребенок же видит только светлое солнце и никаких туч не замечает. Или у ребенка явились признаки простуды и ему нужно посидеть дня два дома. Как вы растолкуете ему, что на горизонте тучи, что может пойти дождь, что при простуде гулять нельзя? Вы своих причин ни за что не сделаете ясными дитяти, которое едва только еще выучилось призиосить «мама» и «папа». Вот начало капризов. Каприз не беспричинный плач, — это первые уроки воли, первые случаи в жизни ребенка, когда он чувствует, что делается не по нем, что его желания не могут переходить в акты решимости, что перед ним несокрушимые препятствия. Если бы вы могли объяснить дитяти свои причины, как они ясны вам, дитя бы не плакало, потому что оно бы их поняло. Чтобы дитя могло сложить в себе представление, что не всякое его желание может переходить в волю, ему нужен длинный ряд опытов и неприятных оттолчек. Какие Дети чаще всего капризничают? Только такие, которых баловали, все желания которых постоянно исполнялись. Дитя, не привыкшее к отказам, не переносит никакого запрещения.
Дети, которых ведут последовательно, гораздо легче находят свое место в природе; они уже с первых шагов научаются определять границы своих владений, свои отношения к людям, приучаются разделять возможное от невозможного, приучаются понимать, что не всякое желание, не всякий акт души и чувственное представление могут переходить в решение. Привычка встречать препятствия делает их более равнодушными к невозможностям и уже смолоду приучает к обдуманности.
Не смущайтесь тем, что вам приходится резко и бесповоротно отказывать детям. Пусть только ваши отказы будут также неуклонны и неизменны, как законы природы. Кипящий самовар, как бы ни обжегся об него ребенок, не поторопится остынуть и огонь горящей свечки не поспешит угаснуть, как бы ребенок ни плакал; клей, которым вы склеили куклу, не высохнет скорее от того, что ребенок очень хочет играть; но вы, нежные и любящие родители, размякнете, потому что вам жаль своего плачущего ребенка. И вот вы десятки раз изменяете свои запрещения и решения. Чего сегодня нельзя, то завтра можно. Вы делаете уступки на каждом шагу и вводите в свои отношения к детям начало произвола. Когда ребенок увидит и поймет, что исполнение его желаний зависит от степени его настойчивости, зачем он станет уступать, зачем отказаться ему от своей настойчивости? И, вырастая в привычке постоянной борьбы, в расчете на чужую уступчивость, ребенок теряет свою границу и вырастает в притязании залезать в чужой круг и надавливать на чужую волю.
Старшие, единственные и особенно любимые дети только с большим трудом и процессом борьбы приучаются находить границу между невозможным и возможным. Везде, где есть несколько детей, старший ребенок всегда главенствует, и старший брат, если он только не особенная рохля, обижает младшего. Это происходит частью потому, что в большинстве случаев, первенцам живется лучше, а во-вторых потому, что первенец в то время, как он еще единственный ребенок, приучается уже забирать все в свои руки. Но вот явился второй брат.
Первый, по привычке, знает только свою волю; а вы желаете восстановить равновесие, чтобы спасти от загона волю младшего. Желая дать перевес желанию младшего и заставить уступить старшего, вы входите в их отношения третьим элементом — давящей силой. На кого, вы думаете, рассердится старший? На вас? Нет, он рассердится на младшего, ибо он увидит в нем помеху, которую он может сокрушить и которой прежде не было. Пока не было младшего брата, ему некому было уступать, и он это помнит, это знает. Нет ничего труднее, как установить равновесие между двумя братьями и, устанавливая это равновесие, не возбуждать в них взаимного злого чувства. Каждый из них тянет в свою сторону, а принужденная уступка возбуждает или зависть, или мысль о том, что с ребенком поступили несправедливо. Вот где наиболее трудный пункт воспитания. Трудный, во-первых, потому, что история не знает ни одного практического случая идеальной христианской любви, а во-вторых, потому, что на свете нет такого мирового судьи, который мог бы примирить двух спорящих детей. Нам говорят, что истинно любовным отношением детей можно успокоить. Но процесс успокоения заключается не в том, что дети поймут правду данного случая. Ребенок уступит не потому, чтобы признал суд правильным, а потому, что в нем явится или другое чувство, или надежда на другую выгоду, или новое желание, и он перестанет придавать важность спорному предмету.
Родители, требуя от детей доброй воли, вводят в их понятия и чувства новый элемент, прежде им недоступный. Процесс воспитания детей в доброй воле заключается в том, чтобы в случае неисполняющегося желания возбудить в ребенке мысль, намерение и действие в пользу не своего я, а чужого. Основной пункт детских препирательств и основной источник воспитания злой воли есть понятие о собственности. Дитя, лежащее в колыбели, считает все своим. Оно не знает никакой разницы между «твоим» и «моим», не знает никакого запрета и в действительности владеет всем тем, что оно видит. Дитя, сделавшееся ребенком, ведет свою борьбу за существование исключительно в области собственности и все ссоры, все споры и все препирательства детей заключаются в том, что каждый желает овладеть чужою вещью. Каким путем вы воспитаете детскую экономическую волю в направлении добра? Вы говорите ребенку: «это твое, а это не твое — чужое»; «чужое брать не следует»; «чужое брать стыдно», «если ты возьмешь, я тебя высеку»; «не смей трогать».
Но кроме такой противодействущей практики, существует и другая; множество детей вырастает совершенно в иных понятиях. Им не только никогда не говорят: «не бери чужого», их не только не бранили никогда, когда они брали чужую вещь, — их хвалили и ободряли, и понятие о чужой собственности сложилось в них путем чувственных сочетаний совершенно другого характера, чем в первом примере.
Каким же образом будет действовать воля в этом и другом случае? В первом случае, когда ребенку постоянно твердили о том, что не следует брать чужого, и если ребенку случалось иногда -погрешить, — его бранили или наказывали, у него при виде чужой, его пленяющей вещи, хотя и явится желание ею овладеть, но рядом с этим желанием явится еще и целый ряд парализующих представлений. Если парализующие представления окажутся сильнее, желание будет побеждено и не перейдет в акт решимости овладеть чужою вещью; если же желание не будет побеждено, потому ли, что оно сильнее противодействующих представлений, или потому, что в ребенке совершенно смутно понятие о чужой собственности — чужая вещь будет взята.
Процесс такой внутренней борьбы бывает иногда необыкновенно многосложен и труден. Желание может быть подавлено иногда в половину, и вещь, пленившая ребенка, не перестает, мучить его воображение. Тогда ребенок начнет придумывать разные средства, чтобы овладеть вещью, он станет взвешивать все, что говорит «за» и «против» его желания, станет комбинировать все возможности и невозможности, и если после всех pro и contra желание овладеть чужою вещью пересилит желание от нее отказаться, — ребенок может решиться на воровство. Сила желания зависит от напряженности стремления, давшею толчок желанию. Чем больше число душевных сторон захватывает желаемый предмет, тем, конечно, и самое желание будет сильнее. Работа души в этом процессе заключается именно в том, чтобы рассортировать чувственные желания и подвести им итог с тем, чтобы дать своему решению и акту выполнения правильное направление.
Процесс сортировки, дающий нашим желаниям верное движение, называется обдуманностью. Обдумывание совершается одинаково как у взрослых, так и у детей. Ребенок, желающий овладеть чужою вещью и взвешивающий все «за» и «против», собственно обдумывает свой будущий поступок, т. е. берет из своего опыта все те материалы, которые могут дать его решению то или другое направление. Детский опыт не особенно богат, поэтому и детское обдумывание не особенно многосложно и запутано. Так, в вопросе о чужой собственности детское представление вращается между простым «бери» и «не бери». Детское понимание «чужого» тоже просто. Для взрослого вопрос о собственности много сложнее. Для него собственность не всегда только очевидная, осязаемая, чужая вещь. Идя к корню понятия, взрослый в собственности видит результат труда. Всякий результат чужого труда есть уже поэтому чужая собственность. Всякий чужой труд есть следовательно неприкосновенная святыня, ибо источником его — чужая сила. Посягая на чужой труд, мы посягаем на чужую силу и, эксплуатируя ее в свою пользу, мы ее воруем. В сущности, решительно все равно, завладеем ли мы чужой силой, как источником труда, или воспользуемся результатом труда, как ее последствием. Человеку, усвоившему такие понятия, обдумывание его экономического поведения становится много сложнее и тем оно будет труднее, чем последовательнее человек мыслит.
Кроме чисто экономического элемента в экономическое обдумывание могут вводить и другие представления. Вы — отец семейства, у вас больные дети, больная жена, у вас мать, которой нужно помочь, и в то же время у вас на руках общественное имущество. Прямо чужой собственности, в простом ее детском представлении, вы не возьмете; вы понимаете, что это воровство, а ваш взгляд на воровство установился так твердо, что вы не решитесь украсть, даже умирая с голоду. Но v вас на руках казенный холст, сукно, казенная крупа, мука; вы можете сделать из них экономию и эту экономию удержать в свою пользу. Вам кажется, что никто от этого не потерпит и что прямо вы ни у кого не воруете. Возьмем мотивы более сильные. У вас на руках казённые деньги; жена ваша больна, а детей своих вь! так любите! Вы, конечно, знаете, что ждет вас за растрату; но во-первых, она может не открыться; во-вторых, вы можете успеть ее пополнить, в-третьих, ваша нужда в деньгах так велика, страдание домашних так сильно, вы так боитесь возможности смерти жены, что вам остается только один выход и — вы поступаете по инерции влечения более сильного.
Необдуманность часто является от того, что у человека не было достаточных уроков опыта; поэтому дети всегда необдуманны, а обдуманность вырабатывается только постепенно. Дети избалованные, которым позволялось все, и дети слишком легкомысленные отличаются обыкновенно необдуманностью: они действуют всегда в направлении первого рефлекса. Поэтому баловство вредно не только потому, что оно создает эгоистическое мировоззрение, но еще и потому, что отодвигает уроки опыта. Пусть лучше ребенок в первой молодости и в своей семье получит толчки жизни, которые создадут ему правильный взгляд на его поведение, чем станет получать эти толчки впоследствии. Чужие жалеть не станут.
Вопрос о том, правильно или неправильно действует ваша воля, добрая она или злая, поступаете вы обдуманно или необдуманно, иногда необыкновенно затемняется. Например, вы больны или раздражены, или находитесь под впечатлением гнева, вызванного каким-нибудь посторонним обстоятельством. Находясь в таком ненормальном состоянии, вы под впечатлением гнева делаете неприятность человеку, вами любимому, и наговорите ему много лишних, необдуманных слов. В состоянии раздражения мы очень часто обижаем любимых нами людей и затем мучимся сожалением. Люди вспыльчивые и раздражительные чаще всего мучатся подобными поступками, противоречащими их общему отношению к любимым людям, потому что очень легко отдаются минутным влечениям. Часто являющееся раскаяние и сожаление за свою стремительность и необдуманность создает, наконец, в человеке целый ряд новых представлений и это новое служит ему в будущем уроками осторожности.
Осторожность является лишь тогда, когда человек привыкает сознавать свое поведение и внутренние процессы своей души. Так как процесс этот требует известной степени развития, целого ряда опытов и наблюдений над самим собою, то осторожность не замечается у детей и является лишь у людей более взрослых, создавших себе привычку обдуманности. Привычку же эту можно воспитать легче и скорее всего в первой молодости. Вот почему несдерживаемое ничем баловство приводит, в конце концов, к необузданности. Необузданный не знает в себе никакой внутренней дисциплины и подчиняется лишь одному внешнему давлению и внешней невозмож ности.
Когда обдуманность, применявшаяся ко многим случаям, заготовит решение для каждого из них — в человеке является убеждение. Например, чувство доброты и примеры старших приучили вас смолоду помогать нищим. Затем, впоследствии, из других фактов жизни, вы узнаете, что нищие вовсе не так несчастны, как это вам казалось; что деньги, вами даваемые, пропиваются в кабаке; что нищенство есть промысел; что, помогая нищим, вы не убавляете нищества, а, напротив, его плодите. Тогда в вас является убеждение, что человеческой бедности помогать этим путем совершенно бесполезно, и под влиянием такого убеждения вы перестаете подавать нищим и не делаете никакого исключения. Или человек раздражительный, горячий, не владеющий собой, недостаточно развитой и умный, делает вам на каждом шагу неприятности, просит прощения, обещает исправиться, одним словом, вы возитесь с горьким пьяницей, который мучит и вас, мучит и себя и затем вечно повторяет одно и то же. Наконец, в вас слагается убеждение, что пьяница неисправим, и вы перестаете верить обещаниям пьяниц.
Убеждение, создающееся этим путем, есть собственно тот итог сформировавшегося представления, которое при столкновении с другими представлениями выступает в сознании во всеоружии своей законченности и дает бесповоротное решение вашему поведению. Убеждение, сложившееся целым рядом предыдущих опытов, спасает человека от напрасного труда повторять снова старое, проходить вновь по дорожке, которою он ходил десятки раз, приходя всегда к одному и тому же концу; спасает от раскаяния.
Если бы при обдумывании приходилось всякий раз исследовать всю область души и примерять всякое вновь явившееся желание ко всем отдельным представлениям Поодиночке, то обдуманность была бы почти невозможна. Процесс обдумывания совершается в нас гораздо проще, благодаря тому, что в каждой душе слагаются цельные сети представлений, которыми мы и проверяем свои желания. При обдумывании мы меряем наши желания целыми сложившимися в нас заранее чувственными понятиями, правилами, убеждениями, предубеждениями, измеряем свои желания, так сказать, полными, огульными, уже готовыми системами представлений. Одни из них могут поддерживать наши желания всею своей силой, другие с такою же силой могут им противодействовать, третьи могут оставаться совершенно нейтральными. Но так как никакой человек не в состоянии сложить в себе целой, безошибочной проверочной системы, то, как бы мы ни обдумывали своего поведения, мы никак не можем быть вполне застрахованы от ошибки и, следовательно, от раскаяния.
Наши желания, убеждения, стремления, сеть всего нашего мировоззрения есть собственно итог того материала, который восприняла и переработала наша душа. Но материал может быть недостаточный и даже очень скудный, переработка его слаба, итог неверен. Человек может ошибаться в корне своих представлений, как это бывает с дурно веденными детьми, или он может ошибаться в отдельных итогах, вследствие ложных понятий, в которых он вырос. Нет ни одного человека, в котором бы не было каких-нибудь неверных итогов и ошибочных понятий. Конечно, кто знает больше, кто думал больше, кто чувствовал всестороннее и чья жизнь богаче числом правильно усвоенных фактов, на стороне того и меньшая вероятность ошибки. Легче всего ошибается тот, кто беднее содержанием и верными итогами.
Лучшее средство избегнуть ошибок и раскаяния — сформировать себе хорошие генеральные понятия. Генеральные понятия, это те широкие; общие представления, которыми вы придаете один цвет всему своему мировоззрению. Мы уже видели, как формируются мировоззрения о собственности; но собственность есть лишь одно из частных представлений; генеральное представление заключается в понятии «человек». В этом общем понятии понятие о собственности расплывается как часть в целом.
От общего понятия, которое мы составим себе о человеке, зависит все наше частное и общественное поведение. Разбалованный, легкомысленный ребенок, поглощенный исключительно мыслями о самом себе, незаметно, шаг за шагом, сложил целую сеть представлений, в которых повсюду фигурирует только его я, а все остальные люди являются лишь орудиями и средством эксплуатации. Для такого ребенка, когда он вырастет, всякий человек есть враг, с которым он борется. У него не может быть к людям ни широких, теплых чувств, ни широких, гуманных отношений. Суживая свой кругозор до размера своего личного я, он будет становиться ограниченнее и теснее в своем поведении, бессердечнее и холоднее ко всему тому, что не прикасается непосредственно к его я. Купеческий сынок, вырастающий в счетах и расчетах, будет видеть в каждом человеке только предмет для своей денежной эксплуатации. Человек, смолоду приученный к праздности, которому обеспечение дало возможность направить всю свою деятельность на одни удовольствия, будет сортировать людей только по их приятности и неприятности, по пригодности к собутыль-ничеству, к скандалу и разврату. Есть люди, до того привыкшие заниматься своей драгоценной особой, что вне ее для них не существует никаких других помыслов. Эгоисты всегда трусы, потому что прежде всего они думают только о себе. Извращение хороших, человеческих залогов при эгоистичном воспитании может доходить до того, что человек совершенно замкнется в себя и выделит себя из других людей. Я знаю любопытный факт мнительности, созданный подобным эгоцентрированием. Человек удаляется от всего того, что хотя малейшим образом может нарушить его личный покой; человек не примет участия в споре потому, что спор может его волновать; человек не позволит явиться к себе никакому резкому чувству потому, что на другой день он будет чувствовать себя нехорошо. Что бы человек ни делал, что бы он ни говорил, в какие бы отношения он к людям ни вступал, первый вопрос: как все это отразится на его. драгоценной особе, не проведет ли он бессонной ночи, не потерпит ли от волнения его пищеварение? Эгоцентрирование доходит здесь до мании.
Родители! Если вы хотите создать из своих детей членов общества и истинных граждан, прежде всего сформируйте в них гуманное генеральное понятие о человеке. Человек не враг для человека, он для нею не предмет для эксплуатации, он для него равноправное существо, орудие взаимной солидарности. Не бойтесь, что такое понятие превышает средства детской мысли. Это понятие будет формальным понятием, т. е. таким, которое через мысль подействует, наконец, и на чувство. У каждого времени, у каждого века есть свои формальные понятия, которыми определяется характер общей деятельности. Эти понятия мы приобретаем, просто заучивая их наизусть. Вначале они для нас простые слова, и для многих они останутся и на всю жизнь словами; но даже и для таких людей они будут руководителями их воли, потому что за этими словами стоит порицающее общественное мнение и потому что нет человека, который бы его не боялся и в ком бы не было стыда. Еще недавно, по господствующему у нас мировоззрению, позволялось жить чужим трудом, барствовать, сидеть сложа руки и бить себе подобных. Крестьянин был ничем, народом мы считали только самих себя; но в последние пятнадцать лет эти старые формальные понятия совершенно изменились. Каждый отдельный русский не стал нисколько лучше и добродетельнее; но изменились формальные понятия, которые дают уже другое направление частной и общей воле.
При переходе от старых понятий к новым неизбежны ошибки, ибо только то понятие твердо, которое сформировалось путем чувственных восприятий. Воспринятые нами холодные, головные выкладки могут быть гораздо лучше наших чувств, и своими личными чувствами мы можем впадать в противоречие с своими заимствованными мыслями. Наша новая идея совершенно верна в практическом смысле; но, чтобы она была тверда и последовательна, нужно, чтобы в каждом отдельном лице воспитались хорошие соответственные чувства. В воспитании этих личных хороших чувств заключается наша главная современная задача, потому что никогда еще наши подрастающие поколения не впадали в такое противоречие личных чувств с формальными идеями, какое замечается теперь. Напускным холодом и бессердечием веет от новой молодежи, которая растет на наших глазах и для которой нет ни человека, ни человечества, а есть только ее собственное гяд и своя личная выгода. Новая молодежь застыдилась сердечности и обозвала ее глупостью, не понимая того, что ее новый ум есть уже давно известное и пережитое Европою филистерство, вытекающее из ограниченности общественного кругозора.
Итак, желание есть основа воли. Но желание, если мы станем прослеживать его с первого момента рождения ребенка, — не больше как простой рефлекс, в котором необыкновенно важную роль играет наследственность. Есть множество наследственных условий, от которых зависят наши наклонности, наше усваивание тех или других привычек и, следовательно, большая или меньшая определенность наших желаний и характера нашей воли. Сын пьяницы легче всего сделается пьяницей; дети запальчивых и страстных родителей будут более наклонны к ошибкам воли, чем дети родителей спокойных и флегматических; из двух детей, воспитываемых одинаково, будет склоннее к ошибкам тот, чье поведение тянется сильнее в сторону дурной наследственности. Если при воспитании мы не примем мер, чтобы парализовать одностороннее предрасположение ребенка, мы заставим его воспитаться из последующих опытов жизни и своей небрежностью поставим его на путь ошибок, раскаяния, а может быть, и преступления. Вероятность этих ошибок будет тем больше, чем меньше парализует их жизненная среда и чем большее искушение представляет жизнь. Человека, сделавшего преступление, вы накажете и будете считать себя правым; но будет считать себя правым и наказанный, если он вам ответит, что его так воспитали. Человеку мало знать, что одно можно, а другого нельзя, что одно хорошо, а другое худо. Обдуманность не помогает, когда нет материала для правильного решения. Вот человек, в которого никто ни разу не заложил ни одного следа гуманных генеральных понятий; разве он может не потерять социального равновесия, и разве вы обвините его за то, что он идет своей кривой дорожкой, когда его никто ни разу не поставил на прямую?
Воля получает чаще всего ошибочное направление, если деятельность человека не находит себе достаточной пищи. Деятельность совершенно безразлична к наполняющему ее содержимому; вы в этом можете убедиться, обратив внимание на детей, которых держат слишком строго. Если вы будете запрещать детям все, вы не убьете в них потребности деятельности, вы только дадите
ей иное направление. В былых кадетских корпусах, где детей держали слишком строго и где чтение и мышление считалось вольнодумством, являлись всегда грубые шалости, драки, молодечество, тайный разврат, пьянство. Деятельность, не находившая другой пищи, шла в направлении злой воли, потому что желаниям и не было другого исхода. Если источником воли служит наша живая органическая сила, если для этой силы решительно безразлично, в какую перейти форму, если для того, чтобы колоть дрова и чтобы думать, служит нам одна и та же сила, то ясно, что, не встречая свободы в одном направлении, она пойдет по другому.
Область деятельности исключительно телесных стремлений очень ограничена, — безгранична лишь область умственная. Только в этой области, по мере расширения нашей деятельности, мы приобретаем новые средства, и чем больше является в нас удовлетворения, тем мы чувствуем больше стремлений к новым и новым удовлетворениям. Поэтому жизнь души безгранична, тогда как удовлетворение одних телесных стремлений скоро теряет для нас свое значение. Только при гармоническом удовлетворении тела и души мы сохраняем свое нравственное равновесие и наши желания дают правильное движение нашей воле. Но если это равновесие нарушено, если умственная область сокращена, — свободные силы идут преимущественно на удовлетворение стремлений, которые, однако, скоро притупляются. Тогда мысль направляется как бы на искусственное возбуждение физических стремлений и всею силою души мы стараемся возбудить в себе искусственно то, что было уже удовлетворено и не нуждается в новом удовлетворении. Это-то и есть разврат. Когда старый волокита раздразнивает себя воображением, заставляя его выдвигать перед собою картины прошлых наслаждений; когда он все силы своей души устремляет только на то, чтобы создать вновь исчезнувшие телесные стремления — он развратничает. И все попытки подобного рода, в какой бы области телесных стремлений они ни свершались, но где душевные и умственные силы идут на подогревание тела и на искусственную чувственную жизнь, — разврат. Будет ли то личная или общественная мысль, которая в своем стремлении к деятельности направится от высшего к низшему, — название такому ошибочному движению воли 200
будет всегда одно. В первом случае — разврат личный, во втором — общественный. Припомните историю императорского Рима и новый Париж, когда он после своих стремлений к свободной общественной деятельности подпадал под власть Наполеонов или Кавеньяков, — это время всегда скверных личных поступков и усиливающихся преступлений.
СТЫД
Мы не можем представить себе человека вне общества, и потому душевные процессы важны для нас только по отношению к обществу, в зависимости их от общественной солидарности.
Одно из чувств, находящихся в самой тесной связи с общественностью, есть стыд. Внешним образом стыд проявляется в краске лица.
Дарвин говорит, что краснота лица у застыдившегося человека зависит от ослабления мышечных оболочек мелких артерий, вследствие известных влияний на сосудодвигательные центры, от чего волосные сосуды переполняются кровью. При сильной умственной тревоге такое влияние может распространяться на все кровообращение; но краска стыда, появляющаяся на лице, вовсе не зависит от деятельности сердца. Мы можем вызвать смех щекотанием кожи, плач — ударом; но краску на лице мы не можем вызвать никакими физическими средствами, никакими внешними действиями на тело. Единственное влияние, которому она подчиняется, есть влияние ума, и потому стыд есть чисто умственное чувство. Обращая внимание на свой стыд, мы не только не остановим краски стыда, но, напротив, усилим ее.
Молодые краснеют гораздо легче стариков, но дети в самом раннем возрасте не краснеют. Впрочем, Дарвин говорит о двух маленьких девочках; красневших, когда им было от двух до трех лет, и еще об одном чувствительном ребенке, годом старше, красневшем, когда его упрекали за какой-нибудь проступок. Причина, почему дети не краснеют в раннем возрасте, конечно в том, что умственные способности очень маленьких детей еще недостаточно развиты. Вот почему и идиоты почти никогда не краснеют.
Женщины краснеют гораздо сильнее мужчин, и у стаpyx краска стыда является много чаще, чем у стариков; даже между слепыми замечено то же самое. Но чтобы довести слепых до краснения, нужно приучить их понимать и сознавать, что на них смотрят посторонние люди. Таким сознанием создается в человеке привычка обращать на себя внимание, и тем значительно усиливается способность краснеть.
Обыкновенно краснеет только лицо, уши и шея; но многие, краснея, чувствуют, что все их тело горит и чешется. Из этого нужно заключить, что влиянию краснения подвергается вся поверхность кожи. Бывали случаи, хотя и редкие, когда, вместо краснения, являлась бледность. Причина, почему в большинстве случаев краснеют только лицо, уши и шея, по мнению Дарвина, заключается только в том, что кожа лица и соседних с ним частей тела постоянно подвергается влиянию воздуха, света и переменам температуры, от чего мелкие артерии приобрели способность не только охотно сокращаться и расширяться, но даже развились гораздо сильнее, чем на остальных частях поверхности тела. В этом же причина, почему лицо краснеет от всякого сильного напряжения, от гнева, от легкого удара и даже просто от жара.
Чувство стыда вызывает в нас всегда непреодолимое желание спрятаться. Застыдившийся человек отворачивается всем телом и преимущественно лицом и почти всегда опускает глаза вниз или смотрит в сторону. Но так как в то же время сконфуженный желает скрыть свой стыд или, по крайней мере, не показаться сконфуженным, то он делает тщетные усилия смотреть прямо в лицо другому, вызывающему чувство стыда, и борьба между этими противоположными стремлениями производит беспокойное движение глаз. Поэтому-то еще древние греки говорили, что «стыд живет в глазах» и у нас есть поговорка о «бесстыжих глазах». При сильном краснении иногда замечается слабое отделение слез. У людей же впечатлительных берет всегда верх непреодолимое желание спрятаться. Одна дама рассказывала Дарвину, что встретила случайно в Лакской больнице девушку, которую знала прежде и которая с тех пор бросилась в разврат. Когда дама хотела подойти к ней, бедная женщина спрятала свое лицо под одеяло и никакие убеждения не могли заставить ее открыть его. Подобное же вы можете наблюдать над маленькими детьми, которые или тоже 203
прячутся под одеяло, или под влиянием застенчивости скрывают лицо свое в платье матери, а иногда просто бросаются лицом в ее колени.
Стыд, вызывая краску в лице, производит вместе с тем такой беспорядок в умственных способностях и в душевном настроении, что в человеке является своеобразное неловкое состояние, называемое замешательством. В состоянии замешательства люди теряют присутствие духа, говорят неуместные вещи, заикаются и даже делают неловкие движения и гримасы. Любопытный факт этого рода сообщает Дарвин: «В честь одного очень застенчивого господина давался небольшой обед, и он, встав, чтобы поблагодарить своих приятелей, сказал речь, выученную очевидно наизусть, совершенно про себя, не произнося ни единого слова вслух. При этом он делал различные жесты, показывавшие, что он говорит с большим одушевлением. Его приятели, заметив в чем дело, аплодировали его воображаемому спичу и таким образом не дали ему заметить, что он произнес его втихомолку. Впоследствии этот господин сообщил своему приятелю с большой радостью, что на этот раз он, кажется, говорил не дурно».
Умственные состояния, вызывающие краснение, суть застенчивость, чувство стыда и скромность; основная же причина их есть внимание к самому себе. Первоначальным мотивом краснения было, конечно, внимание к самому себе, но обращенное исключительно на наружность в связи с мнением других людей. И мнение других людей есть именно существенный элемент, без которого невозможны ни застенчивость, ни стыд. Мы вовсе не дорожим своим собственным мнением о своей наружности, но мы боимся того, что подумают о нас другие, и только эти другие вызывают в нас краску стыда. Есть множество людей неряшливых и крайне неопрятных дома, когда они одни, и очень щепетильных относительно своей внешности, если они знают, что могут обратить на себя внимание. Подобная щепетильность особенно сильна и до сих пор в купечестве, которое дома мало заботится о своей внешности, но зато необыкновенно чувствительно к мнению других в присутствии посторонних.
По тому, что именно возбуждает в людях чувствительность, вы можете определить характер руководящих ими мыслей. Посмотрите на наши общественные гулянья и вы заметите, что поведением людей управляют мысли не
высшего порядка. Боязнь суда обнаруживается не в стремлении людей устранить порицания за отсутствие вкуса, за отсутствие нравственной свободы или за неумение держать себя с известной уверенностью, — люди тщеславным образом показывают только свое богатство, как бы стараясь перещеголять друг друга дороговизной одеяния. Они гуляют — точно связанные по рукам и по ногам, точно они ходячие вешалки из магазина дорогих материй. Вы видите, что для людей этой степени умственного развития не существует ничего, вне пустого тщеславия своим богатством, и что их желание нравиться не доросло еще до сферы тех понятий, когда внешность служит лишь выражением верного понимания гигиенических условий и чистоплотности. При этом же вы заметите, что женщины, не только из купечества, но и из образованного слоя, гораздо чувствительнее к общественному мнению о своей внешности, чем мужчины. И это служит верным признаком того, что интересы мужчин шире интересов женщин. Даже по цвету одеяния можно судить о разнице понятий между мужчинами и женщинами. Господствующий цвет мужского одеяния есть серый или черный и, вообще, темный, не кидающийся резко в глаза; женщины, напротив, выбирают цвета яркие, выделяющие их из толпы, делающие их заметными и способные, как им кажется, вызвать похв.алу и удивление. Эту же черту вы заметите и в мальчиках, и в юношах, чувствующих особенную наклонность к ярким и цветным галстукам. Чем человек развитее, чем он больше проникается идеями высшего порядка и живет более высокими человеческими интересами, тем он ставит себя в меньшую зависимость от суетных забот о своей внешности. Он не станет одеваться так, чтобы возбудить общий смех своим чудачеством, но не оденется и так, чтобы заставить видеть в себе человека не развитого. Чистоплотность и опрятность — вот все, чего требует от себя человек, переросший уже момент, когда все внимание к себе ограничивается исключительно наружностью.
Но и люди из образованного слоя могут быть чувствительны к похвалам о своей внешности, даже если их понятие и выше купеческого уровня. Так, молодые мужчины и молодые женщины всегда очень чувствительны к мнению особ другого иола. Молодой человек, даже не особенно застенчивый, покраснеет до ушей при самой легкой насмешке над его наружностью со стороны девушки, к мнению которой в серьезных вещах он отнесся бы презрительно. «Нет влюбленной счастливой парочки, — говорит Дарвин, — дорожащей любовью и одобрением более всего на свете, которая то и дело бы не краснела во время ухаживания. Даже варвары Огненной Земли краснеют преимущественно в обществе женщин и главным образом по поводу вещей, касающихся их наружности». Но причина этого краснения — не одно суетное желание нравиться, а половое стремление. Поэтому-то немолодые женщины, не пережившие периода половых стремлений, сохраняют сильнее желание нравиться, чем немолодые мужчины, и краснеют гораздо чаще чем они.
Чтобы могли явиться нравственные причины стыда, нужно, чтобы ему предшествовали нравственные мотивы. Если чувство стыда в первом периоде своем является следствием порицания нашей наружности, то во-втором, нравственном периоде, оно является от порицания или даже от одной боязни порицания наших ‘нравственных побуждений или поступков. Но и здесь, как при стыде вследствие порицания наружности, нужно, чтобы были люди, мнением которых мы дорожим. Никто не стыдится ни младенцев, ни животных. Римлянки не стыдились своих рабов, жены турецкою султана не стыдятся своих евнухов, наши помещицы не стыдились крепостных, и мы не стыдимся того, кого не уважаем и к мнению кого совершенно равнодушны. Следовательно, чувство стыда находится в прямой связи с чувством уважения и с тем значением, какое мы придаем личности.
Стыд не есть что-либо прирожденное — он результат общественности. «Дети в очень раннем возрасте не краснеют, — говорит Дарвин, — и вообще не обнаруживают никаких других признаков самосознания, сопровождающих обыкновенно краснение. Одна из их главных прелестей есть именно полное отсутствие забот о том, что думают об них другие. В этом возрасте они смотрят на незнакомца пристальными, не мигающими глазами, как на неодушевленный предмет, и этому взгляду никто не может подражать из взрослых». Если, таким образом, чувство стыда находится в прямой зависимости от понятия и развития, то оно должно меняться вместе с переменой понятий. Того, чего стыдятся одни, не стыдятся другие. Есть люди, которые даже хвалятся тем, чего стыдятся
Другие. Факт этот подмечается чаще всего в детях и особенно в мальчиках, которые любят щеголять глупым молодечеством и, самоуверенно отдаваясь преувеличенному представлению о своих силах, не находят границы между 1ероизмом и насилием. Римская женщина, не стыдившаяся быть нагой при рабе, уже выросла в современную женщину, которая стыдится быть голой не только при черном невольнике, но даже при мальчике четырех лет. Еще недавно бездеятельность и праздность служили у нас предметом тщеславия, еще недавно наши помещицы стыдились работать за деньги; но теперь считается стыдом заставить работать за себя другого. Для восточной женщины — позор открыть свое лицо; есть дикари, которые стыдятся надеть платье. Поступки, считаемые похвальными у одного народа, считаются постыдными у другого. История развития понятий есть поэтому история развития стыда.
Человек всегда стыдится того, что ведет к дурной славе. Чувство стыда — всегда чувство неприятное, и, следовательно, человек, его испытывающий, страдает вдвойне — нравственно и физически. Так как стыд есть чувство умственное и находится в прямой связи с теми идеями, которые общество признает обязательными, то и область стыда так же обширна, как общественные отношения. Стыд поэтому есть одно из тех сдерживающих средств, которые ставят человека в его пределы, и вот почему могли явиться позорящие наказания, как одно из сильных средств исправления. Конечно, позорящие наказания никогда не достигали своей цели, но это вовсе не потому, чтобы в человеке вообще мало было чувства стыда. Стыда и позора не может испытывать человек, окончательно выскочивший из общества, как и есть люди не стыдящиеся обнаруживать свои половые стремления. Но кроме того, в глубине души преступника лежит убеждение, что он не мог поступить иначе, что он не виноват, и потому позорящее наказание является ненужным оскорблением.
Силу стыда можно определить вполне по влиянию на людей насмешки. Большинство людей необыкновенно к ней чувствительно, а в самолюбивых людях боязнь насмешки доходит до болезненной раздражительности. Что такое боязнь гласности, как не боязнь общественного стыда и общественного позора?
Мо если стыд йвляется, с одной стороны, правильным и нормальным чувством, то с другой, он проявляется и в ложной форме, и называется тогда ложным стыдом. Поэтому насмешка может не только исправлять человека, но и портить. Позор же перед мнением дураков приводит всегда к печальным нравственным последствиям. Наблюдайте, например, за видоизменением чувства стыда в гимназисте, по мере его перехода из класса в класс. В первом возрасте мальчика вы увидите те его формы, в которых обнаруживается умственная и нравственная слабость ребенка, и в то же время гимназист первого или второго класса, подчиняясь безусловно глупому «общественному» мнению своих товарищей-перво-классников, ставит ни во что более развитое мнение семиклассников и своих родителей. Гимназист теперь в поре глупого героизма. Он больше дикарь, чем европеец. Никакие гражданские идеи ему недоступны, и он приходит в восторг только от подвигов какого-нибудь индейца Эльсоля. «Чему вы удивляетесь в Вашингтоне? — спрашивает он. — А вот молодец Эльсоль! Когда убийца его матери, Дакома, проколол его копьем — он полез по копью и убил Дакому!» Растолкуйте гимназисту, чем Вашингтон выше Эльсоля! И создав себе авторитет в Эльсоле, ребенок повсюду и везде делает только насилие. Все величие для него в том, чтобы бить по зубам; он не умеет протягивать руки, потому что в нем нет великодушных чувств, он умеет только показывать кулак и всякую уступку, всякую нравственную силу считает стыдом. В поре третьеклассного франтовства гимназист пленяется цветными галстуками и сапогами с толстой подошвой. Он считает полнейшим позором надеть сапоги с тонкой подошвой, если бы их сшил сам Пель. Только постепенно, по мере чтения и размышлений, он превращается в семиклассника, пытающего уже свою мысль на общественных вопросах и на человеческих гуманных отношениях. Таким образом, с переменой понятий и стыд меняет свою форму.
Развитию ложного стыда много способствует этикет или условия так называемых светских приличий. Светские приличия имеют тесную связь с нравственным чувством и основаны на обычаях, установленных, более или менее издавна, равными или высшими нас людьми, мнением которых мы дорожим. Поэтому всякое нарушение правил общежития, даже всякая случайная невежливость или неловкость вызывают в нас самую сильную краску стыда. Солидарность приличий так в нас сильна, что особенно впечатлительные люди краснеют даже за неловкость или невежливость лнц посторонних. И несмотря на такую силу обычая и на его нравственный источник, во многих случаях в обычаях и приличиях нет никакого смысла. Они служат только причиной ложного стыда. Скажите, почему стыдно в очень знойный день быть без галстука? И, конечно, нужно быть Одю-боном, чтобы отважиться явиться без галстука в аристократическое лондонское общество! Есть люди, которые стыдятся за свое платье, сшитое не у Шармера; есть люди, которые стыдятся, что род их не записан в шестой книге! Чего же хотят люди, делающие подобные глупости? Они хотят сохранить свое равное достоинство, не хотят быть ниже и хуже других, они хотят быть не смешнее других.
Думать умно нисколько не труднее, чем думать глупо: в том и другом случае механизм труда один. Поэтому и боязнь общественного мнения на столько же питает ложный стыд, на сколько она может воспитывать нас в стыде истинном. Довольно человеку сознать свою виновность перед людьми, чтобы устыдиться и покраснеть. Не совесть вызывает краску стыда в лице. Мы можем самым искренним образом сожалеть о каком-нибудь сделанном нами проступке; нас может мучить сильнейшее угрызение совести за какое-нибудь преступление, но если наш проступок или преступление никому неизвестны, — мы не краснеем. «Не самое сознание вины, но мысль, что другие считают нас виновными, покрывает наше лицо румянцем стыда, — говорит Дарвин. — Человек может, не краснея, стыдиться внутренно самым искренним образом какой-нибудь маленькой лжи, сказанной им; но стоит ему только подумать, что его уличили, в особенности люди, которых он уважает, и кровь немедленно бросится ему в лицо. С другой стороны, человек может быть убежден, что бог видит все его поступки; может глубоко сознавать свою вину и просить прощения; но все это, по мнению одной госпожи, чрезвычайно склонной краснеть, никогда не вызывает краски в лице. Объяснение этого различия между сознанием, что богу или людям известны наши дурные дела, лежит, мне кажется, — говорит Дарвин, — в том, что людское порицание безнравственных поступков несколько сродни их порицанию наших внешних недостатков. Факт, что путем ассоциации оба ведут к одинаковым результатам. Не один человек, обвиненный в каком-нибудь преступлении, сильно краснел, несмотря на свою полную невинность. Простой мысли, что другие находят, будто мы сделали злое или глупое замечание, совершенно достаточно для того, чтобы вызвать краску в лице, хотя бы мы и глубоко были убеждены, что нас ложно поняли. Поступок может быть хорошим или совершенно безразличным; но если чувствительный человек представит себе, что другие иначе смотрят на него, — он непременно покраснеет». Педагогам не мешало бы подумать об этом. «Ты покраснел, значит ты виноват», — говорят иногда не ошибающиеся педагоги, воображающие, что они читают без ошибки в детской совести.
Итак, общественное мнение и суд людской есть главный мотив стыда во всех его формах. Но что значит — общественное мнение? Можно ли считать общественным мнением — мнение моей улицы? Можно ли считать общественным мнением — мнение десяти моих знакомых? Можно ли считать общественным мнением — мнение уездного города, в котором я живу? Конечно, все это общественное мнение; но которого мнеНия мНе следует держаться, — которое для меня закон и мой истинный, непогрешимый судья? Общественное мнение лежит в нас самих, Оно зависит от нашего развития,, от идей, которые в нас, от понятий, которые мы себе выработали, от принципов, руководящих нашим поведением. Мы сами создаем свой суд, сами выбираем своих судей. Суд общественного мнения есть суд третейский. Человек, боящийся мнения своей улицы, — сам житель этой улицы. Человек, боящийся мнения своего города, — сам житель этого города. Гимназист третьего класса потому и не краснеет от мнения семиклассников, что он еще не семиклассник. И как ни справедливо, что мнение одного умного человека стоит мнения тысячи дураков, но чтобы дурак дорожил мнением умных, — сделайте сначала его самого умным.
Мы подошли теперь к той опасной черте, которую так легко переступить и за которой наступает крайность. Если суд деревни не есть всегда для нас высший суд, если к известному суду мы можем относиться слегка, им пренебрегая; если свое личное мнение мы ставим иногда выше мнения людей, то где тот предел, до которого мы можем идти, не впадая в неуважение к людям?
Порча человека начинается слишком рано и слишком незаметно. Капля за каплей она отравляет душу и, наконец, совершенно ее развращает. Чувствуя страдание от порицающего нас общественного мнения, мы испытываем удовольствие, когда нас хвалят. Но яд похвалы — тот сладкий мед, который очень легко переходит в лесть и понемногу заставляет нас думать о себе лучше, чем мы имеем на то право. Чаще всего похвала, рассчитанная на возбуждение самолюбия, создает самодовольство и приучает ребенка выделять себя из других детей и ставить себя выше и непогрешимей. В детях является привычка сравнивать себя не с самим собою, а с другими, оправдывать себя во всем и считать себя лучше других. Такая форма самодовольства приводит, наконец, к очень сложному чувству превосходства над другими и к верховому взгляду на людей. Человек постоянно держит себя выше, смотрит сверху вниз и, наконец, вырабатывает в себе ту форму тщеславной гордости, вследствие которой утрачивает свое социальное место между людьми. Дарвин так описывает внешние стороны гордого человека: «Он держит себя прямо, как бы чувствуя, что он очень высок, и старается казаться по возможности больше. В виде метафоры говорится, что он вздут или напыщен — гордостью.
Павлин или индюк, расхаживающий с распущенными перьями, приводится часто как живая эмблема гордости и чванства. Чванливый человек смотрит на других свысока и, опустив веки, едва удостаивает замечать их. На некоторых фотографиях одержимых манией величия голова и тело больного выпрямлены, а рот плотно сжат. Это последнее движение, выражающее решимость, является, я полагаю, — говорит Дарвин, — от полной уверенности человека в самом себе».
В этой картине мы видим крайнюю форму гордости, и такие типы не особенно часты. Гораздо обыкновеннее та переходная форма, на которую мы наталкиваемся почти ежедневно. Это не есть ни та крайняя уродливая гордость, о которой говорит Дарвин, ни та истинная гордость, которая тоже очень застенчива и боится людского осуждения. Это — самодовольство ограниченности, которая редко конфузится, потому что ценит себя слишком высоко и ставит себя выше всякого мнения. Такое самодовольство есть, в сущности, меднолобость, страдающая ограниченностью, скопившая себе маленький запас мыслей, дальше Которых она идти не в состоянии, и потому сделавшая из них свое евангелие.
Не только отдельные люди, но даже целое общество может переживать подобный аристократический момент. Считая себя выше общественною мнения, люди оскорбляются всякой возможностью критики их поступков и гласным отношением к их поведению. Мелочная щепетильность и обидчивость побуждает людей этой степени умственного развития видеть во всяком обличении личное оскорбление и диффамацию. Аристократическое чувство неравенства заставляет человека считать себя выше общественного суда, хотя в то же время он его боится и заискивает общественной похвалы.
Чувство подобной гордости и преувеличенное мнение о самом себе вырабатывает постепенно то эгоцентрирование, при котором не человек желает служить людям, а хочет заставить людей служить себе. Делая других своей целью и орудием, человек приучается смотреть на других только как на известное средство н даже утрачивает чувство самого обыкновенного сострадания. Поэтому на гордость нужно смотреть как на неверно направленное чувство любви.
Мы не говорим здесь о половой любви, хотя корень этого чувства один и тот же и заключается именно в чувстве влечения к людям. Мы не можем не любить людей, потому что не можем жить без них. Само по себе чувство влечения безразлично; но социальный момент его заключается в том удовольствии или неудовольствии, которое получается от удовлетворения или неудовлетворения нашего стремления к людям. Если бы гордый или напыщенный человек был умнее, он бы глубоко страдал, узнав, что его не любят, но в том то и дело, что уверенность в своей безошибочности всегда скрывает от него истину, и гордый человек меньше всего судья своих собственных поступков.
Наше влечение к людям может существовать только при известной поддержке, т. е. если сами люди поддерживают наше к ним влечение. Как лампа гаснет без масла — так гаснет и влечение, если оно не поддерживается. Но зато, чем сильнее и многообразнее наше влечение, тем сильнее становится и наша привязанность. Больше всего должен любить людей тот, чья душа получает от них наиболее разнообразную и обширную деятельность. Такие мыслители, как Сен-Симон, должны были любить людей до страсти, до безумия, потому что — что же другое могло дать их душе больший материал для деятельности, как не вопрос о судьбе и счастьи человечества? Люди этого сорта, люди с широко развитыми требованиями и мыслями, направленными в сторону человеческого блага, всегда остаются прогрессивными людьми и никогда их любовь не обращается в чувство отвращения.
Отвращение есть противоположный полюс любви. Оно обыкновенно является, когда неудовлетворено чувство влечения или когда оно обмануто. В своей социальной форме чувство, противоположное любви, есть мизантропия. Мизантропия — тоже крайность; но в предварительном, недоразвитом виде она встречается так же часто, как и чувство тщеславной гордости.
Каждый человек хочет, чтобы ею любили, но человек легко приучается требовать больше, а давать меньше. Сестры милосердия — исключение. И вот, сам же эгоцентрирующий человек начинает огорчаться, что другие так же эгоцентрируют, как и он. Постоянные оттолчки, встречаемые человеком на каждом шагу, постепенно приучают его сторониться от людей и делаться все хуже и хуже, и больше любить человечество в его идеале, и меньше любить отдельного человека. Здесь ошибка в том, что с самого начала человек требовал больше, чем следовало, и не мог найти меры человека. Мизантро-пизм создается незнанием и мечтательностью; чем яснее становится природа человека и чем больше вырабатываются общественные понятия, тем мизантропизм и разочарование должны становиться реже. Порой мизантро-пизма был XVIII век, когда люди больше всего мечтали. От него не спаслись даже Руссо и Вольтер, несмотря на всю силу своего ума.
В людях обыкновенных способностей их кажущийся мизантропизм совсем не то, за что он себя выдает. Руссо мог возненавидеть человека потому, что он его слишком любил; но те, кто разбивается в жизни от мелочей и разочаровывается лет в тридцать — не больше как черствеют. Их мизантропизм и жизненный опыт есть в сущности мелкий, дрянной эгоизм. Они перестают любить людей не потому, чтобы сами хотели дать людям много, а потому, что хотят получить много, ничего не давая; но даром никто ничего не дает. Никто не дает больше того, что получает, и закон такого социального спроса и предложения называется на социальном языке законом человеческой солидарности.
Большинству педагогов и воспитателей закон этот вовсе не известен; вот почему и наши дети не имеют о нем никакого понятия. Все наше воспитание направлено на то, чтобы приучать детей к эгоцентрированию. Каждый хочет быть центральным телом, хочет, чтобы около него вертелись люди, как планеты. Каждый приучается только думать о себе и уже с первой молодости порывает свою связь с людьми, приучаясь думать исключительно в направлении своих хлебных и личных интересов. Индивидуализм внедряется в нас уже с первого класса гимназии. Общество, вырастающее из подобных людей, может ли иметь общественный стыд, может ли иметь чувство равного достоинства? Там, где каждый считает себя лучше других, может существовать только спесивая гордость и заносчивость, но нечего искать понимания взаимной солидарности, ибо она предполагает равенство, чувства же равенства в нас родители не воспитали. Вот почему нам понятнее всего ложный стыд и почему мы больше боимся быть не одетыми по моде, чем поступать не по-человечески. Чувство общественного стыда еще наше будущее.
ХАРАКТЕР
Если не на каждом шагу, то очень часто, если вы не слышали, то можете услышать, что создать характер, значит создать человека, и создать людей с превосходным характером, значит — создать превосходное общество.
Во все времена характеру приписывалось громадное значение; во все времена приводили в пример людей с замечательным характером; цитировали их поступки, их слова и душевным величием замечательных людей старались возбуждать благородные чувства молодежи.
Но почему же все примеры преданности, благородства, самопожертвования, патриотизма пропадали даром л каждый шел своей дорогой, каждый поступал по-своему? Почему благородные примеры не исправляли никого, и у каждого слагается свой собственный характер? Что такое характер?
О характере писалось много, «о полного исследования о нем не существует ни в одной литературе. У нас в последнее время явился «Характер» Смайльса, книга, которая, как говорят, читается. Если эту книгу читают, ясно, что предмет ее представляет общий интерес. Но разрешает ли Смайльс те вопросы, которые придают интерес его книге? Нет.
Книга Смайльса есть не больше, как собрание поучительных примеров. Примеры его неоспоримо хороши и назидательны; они возбуждают ощущение какого-то смутного благородства и согревают чувства, но сознания не трогают и до него они не доходят, потому что не дают ничего ясного, определительного, точного.
Причина в том, что Смайльс только констатирует факты, но не углубляется в их душу; он является не больше, как представителем того общественного мнения, которое ограничивается одним внешним наблюдением человеческого поведения и ходячей моралью, каждому из нас знакомой.
Ходячая мораль есть единственный вывод, который делает общественное мнение из своих наблюдений, и потому если вам нужны поучения, нравственные анекдоты, изречения, максимы, афоризмы — вы найдете их у Смайльса неисчерпаемое количество. Но если вы ищете общего руководящего принципа, чтобы при воспитании своих детей стоять на твердом психологическом фундаменте, вы такого фундамента у Смайльса не найдете. Смайльс не психолог и не мыслитель — он моралист, отражающий собой общественное мнение среднего английского буржуазного общества.
Но мнение это все-таки важно и к нему следует относиться почтительно. Оно — та крепко установившаяся сила, которая своим влиянием дает тон общественным требованиям и вместе с тем исходит из наблюдений весьма тонких, верных, многообразных. Наука не только не обходит этих наблюдений, как результата многовековой человеческой опытности, напротив, она ими дорожит, ими пользуется. Наука только идет дальше. Взяв факты, констатированные общественной наблюдательностью, наука их разъясняет, отыскивает в них общие начала и устанавливает принципы.
Мы в своем изложении будем держаться того же порядка. Сначала мы приведем факты в том виде, как их подметила жизнь, и затем попытаемся указать заключающиеся в них общие. психологические принципы, которые должны служить основой воспитания.
Совершенно справедливо, что характер составляет одну из величайших движущих сил в мире. В своих благороднейших проявлениях он заявляет человеческую природу в ее лучшем виде, потому что показывает лучшую сторону человека. Только люди, истинно превосходные во всех положениях, поддерживают все хорошее и доброе в мире, и если бы их не было, — не стоило бы жить.
Гений вызывает удивление, но характер возбуждает уважение. Гений есть дело мозга, характер есть дело чувства; а в общем ходе жизнью управляет чувство. Гениальные люди действуют на разум, люди с характером — на совесть. И если перед первыми благоговеют, то за вторыми идут.
Великие люди, большей частью, — исключения, да и само величие есть нечто относительное. Положение же большинства так сжато, что очень немногим представляется случай выказать себя великими.
В жизни большинства нет ничего героического, и поведение его отличается очень мелочной, будничной повседневностью. Но именно потому, что жизнь большинства сосредоточена в сфере, обыкновенных обязанностей, самыми влиятельными качествами оказываются те, которые наиболее требуются в обыкновенной жизни. Для домашнего обихода нужны не столько утонченные добродетели, сколько нравственные начала, стоящие на одном уровне с обыкновенной жизнью.
Ум не есть необходимая принадлежность высокого характера. «Горсть добрых дел стоит четверика учености», сказал Джорж Герберт, а Новый Завет почти не упоминает об уме и постоянно обращается к чувству. Умственные способности очень часто уживаются с самой низкой нравственностью, и быть умным еще не значит быть честным и благородным.
Богатство тоже не всегда уживается с благородным характером и нередко идет рука об руку с развратом. В руках людей слабых богатство только искушение и источник дурного.
Бедность — охотнее уживается с благородством. Человек может не иметь ничего, кроме трудолюбия, воздержанности и честности, и одних этих качеств совершенно достаточно, чтобы занять почетное место в ряду лучших людей. Бернс говорит, что отец наказал ему вести себя с достоинством, если бы даже у него никогда и гроша не было, потому что без честной, мужественной души никто и пинка не заслуживает. Совет действительно превосходный! Лучший человек, которого Смайльс встретил в свою жизнь, был работник одного из северных графств. Лютер, умирая, не оставил тоже ни гроша, а между тем его нравственное влияние было громадно и его уважали больше, чем всех взятых вместе современных ему немецких государей. Однажды известный своим богатством и роскошью оратор посетил философа Эпиктета. Эпиктет принял его холодно. «Ты будешь только критиковать мой слог, — заметил философ, — так как в тебе нет искреннего желания познакомиться с нашим учением». — «Хорошо, — отвечал оратор, — но если я приму твое учение, то буду таким же бедняком, как ты». — «Да я и не нуждаюсь в богатстве, — ответил Эпиктет; — ив конце концов, ты все-таки беднее меня: патрон, или не патрон, — что мне за дело! я не забочусь о том, что думает обо мне Цезарь, я никому не льщу, моя мысль для меня целое государство, — вот мои богатства».
Талант и гений не служат тоже ручательством характера, если у гения не достает добросовестности и правдивости. Только правдивость внушает доверие и только на правдивого человека можно положиться. Вот почему не сила ума, а характер обнаруживает влияние на людей. Влияние людей с характером бывает нередко вовсе несоразмерно с их умственными дарованиями. Они действуют какой-то скрытой, чарующей силой, словно люди железного закала, являются орудием чего-то сверхеетест-венного. «Мне стоит ударить ногой по земле Италии, — сказал Помпей, — и передо мной встанет армия». «Никогда, — говорит Мишле, — не был Цезарь более жив, более могуществен, не внушал более страха своим врагам, как в ту минуту, когда труп его лежал пронзенный ударами».
Деятельность великих людей остается прочным памятником человеческой энергии. Человек умирает, но дела его переживают его. Люди, идущие вперед по лучшему и благороднейшему направлению, являются настоящими маяками в деле человеческого прогресса. Благоговение и уважение к таким людям поэтому неизбежно. Моисей, Давид, Соломон, Платон, Сократ, Эпиктет до сих пор останавливают наше внимание и влияют на образование характера, несмотря на то, что прошли века после их смерти. Теодор Паркер сказал, что один человек, подобный Сократу, имеет для страны более значения, чем несколько штатов вроде штатов Южной Каро-дины. Если бы этому штату привелось в настоящее время прекратить свое существование, он оставил бы менее следов в мире, чем Сократ.
Великие деятели и великие мыслители создают историю, которая есть не что иное как бесконечное развитие рода человеческого, под влиянием людей с характером, людей, из которых состоит настоящая аристократия человечества. Поэтому-то Карлейль и сказал, что история человечества есть история великих людей. Другой мыслитель заметил, что на каждое историческое явление следует смотреть, как на удлиненную тень какого-либо великого человека. Исламизм — тень Магомета, пуританство — Кальвина, лютеранство — Лютера. На современную Италию наложил свою печать Дант. В течение многих столетий слова поэта служили сторожевыми огнями для всех истинно хороших людей между его соотечественниками. Он был пророком свободы и из любви к ней презирал гонения, ссылку и смерть.
В Англии целый ряд даровитых людей, появлявшихся в различные эпохи, своею жизнью и примером способствовали образованию многостороннего национального характера англичан. Подобные люди — настоящая жизненная сила той страны, которой они принадлежат. «Имена и память великих людей — приданое наций, говорит один писатель. Ни разорение, ни опустошение, ни рабство, — ничто не в силах лишить ее этого наследия. При каждом ускорении пульса народной жизни, умершие герои встают в памяти людей и кажутся им величавыми зрителями, которых присутствие выражает одобрение. Чувствуя на себе взгляд таких знаменитых свидетелей, ни одна страна не погибнет. Такие люди — соль земли как при жизни, так и по смерти. Что делали они, то и после них во всякое время будут вправе делать их потомки. Пример их живет в стране и является постоянным поощрением и одобрением для тех, кто имеет мужество принять его за образец».
Те же самые качества, которые определяют характер отдельного лица, определяют и характер нации. Без правдивости, честности, благородства и мужества нация не приобретет уважения других наций и не будет иметь значения. В конституционном правлении, где все классы более или менее принимают участие в делах общественных, национальный характер обусловливается нравственными качествами большинства. Учреждения страны, как бы ни были они хороши и законны, как бы они ни были высоко нравственны, только в очень незначительной мере могут способствовать поддержке национального характера...
Если поведением людей управляет патриотизм высокий, благородный, то такие патриоты, правящие народом, дорожат памятью и примером великих людей прошлого времени и создают себе историческую славу, а народу — хорошие учреждения. Величие народа — только в величии его нравственных качеств, соответствующих величию его правителей. Афины были очень маленьким государством, но и до сих пор история не знает другой страны, которая в искусстве, литературе, философии и по своему патриотизму занимала бы равное с Афинами место.
Когда Людовик XIV спросил Кольбера, почему он, такой могущественный правитель, не мог покорить маленькой Голландии, Кольбер ответил: «потому, ваше величество, что величие страны зависит не от объема территории, а от характера народа. Энергия, трезвость и трудолюбие голландцев — вот настоящие причины, почему вашему величеству стоило так много труда победить их». В 1608 году посланники короля испанского, приехавшие в Гаагу для переговоров о мире, увидели человек восемь или десять, которые, выйдя из маленькой лодки на берег, сели на траву и принялись закусывать. Завтрак их состоял из хлеба, сыра и пнва. «Кто такие эти путешественники?» — спросили посланники одного поселянина. «Это наши благородные господа депутаты штатов», — отвечал крестьянин. Тогда один из посланников шепнул другому. «Надо заключить мир, это не такие люди, которых можно было бы покорить».
(Какие же нравственные элементы формируют характер? История делает такие указания, а наблюдения констатируют следующие факты.
Каждый шаг вперед в истории человечества совершался в виду препятствий и затруднений и был сделан людьми доблестными и неустрашимыми, вождями мысли, великими изобретателями, великими патриотами и великими тружениками на всех путях жизни. Нет той истины, нет того учения, которым бы не приходилось борьбою пробивать себе дорогу, подвергаясь поношению, клевете и гонениям. «Где бы великая душа ни облекла своих мыслей в слово, там является для нее Голгофа», говорит Гейне.
Сократ на 72-м году своей жизни должен был выпить отраву, потому что его учение было не согласно с духом господствующих партий. «Теперь настало время отправляться, — мне умирать, а вам жить; но кому из нас достался лучший удел, этого никто не знает, кроме бога», были последние слова Сократа его судьям. Джиордано Бруно был сожжен живым за то, что изобличал ложную философию своего времени. Когда инквизиторы объявили ему приговор, Бруно с гордостью сказал им: «Вам страшнее произнести мой смертный приговор, чем мне выслушать его!» Слава Галилея как ученого почти затмилась славою его как мученика. Роджер Бэкон за свои химические исследования был обвинен в чародействе. Инквизиция обвинила Везаля в еретичестве за то, что он стал изучать строение человеческого тела на трупах. Бэкона обвинили в том, что его исследования, основанные на опытах, подрывают христианскую религию. Коперника преследовали как безбожника. Кеплера заклеймили названием еретика. Спинозу отлучили от общины.
Развитие религиозных идей представляет подобную же нескончаемую цепь мученичества и замечательных примеров мужества. Религиозных мучеников гораздо более, чем мучеников науки. И мужество этих людей тем более замечательно, что одному человеку приходилось бороться с легионом. «Добрый монах, будь осмотрителен в том, что делаешь, ты вступаешь в борьбу более жестокую и трудную, чем все сражения, в каких мы перебывали», — сказал Лютеру один старый воин. И Лютер сам знал, на сколько сильнее его противники. «С одной стороны, — говорил он, — ученость, таланты, численность, величие, высокое общественное положение, власть, святость, чудеса, с другой — Виклеф, Лоренцо, Валла, Августин и Лютер — ничтожное существо, выскочка, стоящий почти один с немногими друзьями». Напрасно друзья уговаривали его бежать и не ездить в Вормс. «Нет, — отвечал Лютер, — я отправлюсь, хотя бы мйе пришлось там встретить втрое больше чертей, чем черепиц на крыше». Когда же ему грозили герцогом Георгом, он ответил: «Если бы девять дней шел дождь герцогами Георгами, я бы все-таки отправился». Энергия и мужество Лютера росли по мере затруднений, которые являлись. «Никто из немцев, — говорил Гуттен, — не презирает так смерти, как Лютер». Джон Эллиот сказал: «лучше десять тысяч смертей, чем осквернение моей совести и душевной чистоты, которую я ценю выше всего в мире».
Умственная неустрашимость есть одно из условий независимости. Всякий должен быть сам собою, действовать собственными силами, думать своей головой и выражать только свои собственные чувства. Кто-то сказал, что человек, не осмеливающийся иметь свое суждение, есть трус; тот, кто не хочет его иметь — лентяй, а тот, кто иметь его неспособен — дурак.
Решительный человек опирается на свое мужество, как на гранитную скалу. Вот почему люди, обладавшие даже и не вполне гениальными умственными средствами, достигали изумительных результатов. Такими людьми были: Магомет, Лютер, Нокс, Кальвин, Лойола. Мужество идет обыкновенно рядом с мягкостью характера, и мужественный человек более других способен на великодушие. Рассказывают, что в Париже, при постройке одного дома, обрушились леса и все находившиеся на них люди упали на землю. Только двое работников — один молодой, другой средних лет, повисли, ухватившись за закраину. Доска сильно гнулась под их тяжестью и грозила каждую минуту обломиться. «Петр! — крикнул старший, — отпусти, не держись! Я отец семейства!» — «Да, правда!» — ответил Петр и, выпустив край, за который держался, упал и расшибся до смерти. В битве при Детингене эскадрон французской кавалерии налетел на английский отряд. Но когда командующий французским эскадроном офицер, наскакав на командира англичан, увидел, что у него только одна рука, которой он держал узду своей лошади, француз шпагой отдал ему честь и поскакал дальше.
Великодушный человек, по словам Аристотеля, поступает с уверенностью в счастии и несчастий. Он знает что может его унизить и возвысить. Его не приведет в восторг успех и не огорчит неудача. Он не станет ни искать, ни избегать опасности; он молчалив и не особенно боек в разговорах, но, когда представляется необходимость, выражает свое мнение открыто и смело. Он способен восхищаться, потому что ничто не возбуждает его зависти; он не обращает внимания на оскорбления; он не говорит о себе и не осуждает других; он не плачет и не кричит о пустяках и ни у кого не просит помощи.
Мужество выражается в самообладании, которое есть то же мужество, но в другой форме. Чтобы быть нравственно свободным, человек должен привыкнуть управлять собою. В преобладании власти над самим собою, — говорит Герберт Спенсер, — заключается одно из совершенств идеала человека. Не действовать по увлечению, не кидаться то в одну, то в другую сторону, повинуясь только желанию, стоящему в данную минуту выше всех других, но уметь сдерживать себя, сохранять равновесие, управляться совокупным решением всех чувств, собранных на совещание для всестороннего обсуждения поступка и для спокойного решения вопроса — вот цель, к которой должно стремиться нравственное воспитание.
Первой и лучшей школой нравственной дисциплины служит семья, и наилучше регулированная семья та, в которой дисциплина наиболее совершенна и в то же время наименее чувствительна. Любопытный факт в подтверждение важности строгой домашней дисциплины приводит одна английская писательница. Одна леди, посетившая вместе со своим мужем большую часть сумасшедших домов Англии и континента, заметила, что наибольший процент больных состоит из людей, которые были единственными детьми у своих родителей и потому в детстве редко встречали противоречия своим желаниям и никогда не знали дисциплины. Люди же, выросшие в многочисленной семье и приученные к самонаблюдению и к сдерживанию себя, несравненно реже сходят с ума. Когда в присутствии Питта кто-то спросил, какое качество наиболее необходимо для первого министра, один из собеседников ответил — красноречие, другой — знание, третий — труженичество. «Нет, — возразил Питт, — самое необходимое — терпение». Несмотря на общее мнение, что терпение есть ослиная добродетель, в Питте оно соединялось с необыкновенным присутствием духа, с силой и быстротой как в соображениях, так и в действиях.
Горячий характер — не всегда дурной характер. Но чем человек стремительней и горячей, тем он должен иметь больший навык к самообладанию. Горячий нрав есть запас необработанной энергии, которая непременно израсходуется на полезные дела, если только дорога к ним будет вполне открыта. Кромвель в молодости был раздражителен, своеволен, сердит, неукротим и непокорен. Громадный запас его юношеской энергии шел на грубые выходки, и Кромвель составил себе репутацию буяна. Но когда энергия Кромвеля нашла себе дело на поприще общественной жизни, он почти двадцать лет стоял во главе Англии.
О Вашингтоне говорят, что его власть над своими чувствами даже в минуты опасностей и сильных затруднений была так велика, что у людей, не знавших его близко, сложилось убеждение, что он человек спокойный и бесстрастный. Между тем, Вашингтон был горяч и порывист. Биограф говорит о нем: «Его темперамент был горячий, но ему удалось, наконец, после долгих и постоянных усилий, сдержать свой характер и обуздать свои страсти, несмотря на многие разные искушения, которым он подвергался». Профессор Тиндаль говорит о Фарадее: «Под его мягкостью и нежностью скрывалось пламя вулкана; он был человек нервный и вспыльчивый; но сумел с помощью высокого самовоспитания обратить этот огонь в центральное пламя, в движущую силу жизни, и не дать ему расточиться в бесполезных страстях».
Для личного счастья не менее необходимо наблюдать за словами, чем за поступками. «Да хранит вас бог, — говорит одна писательница, — от разрушительной силы слов! Есть слова, которые разлучают людей вернее острого меча. Есть слова, наносящие такие раны сердцу, которые не заживают во всю жизнь». «Какое-нибудь слово, — говорит Бентам, — сказанное так, а не иначе, часто решало судьбу дружеских отношений, а быть может и судьбу целых государств». «Язык мудрого, — сказал Соломин, — в сердце, сердце глупца — на языке». «Молчи, — сказал Пифагор, — или же говори что-нибудь, что было бы лучше молчания».
Но бывают времена и случаи, когда молчание становится преступлением. Человек с высокими чувствами не может не отдаться благородному негодованию при виде низости и подлости: «Я не желаю иметь никакого дела с человеком, которого ничто не может привести в негодование, — сказал Перте; — дурных людей больше, чем хороших, и дурные берут всегда верх потому, что обладают большею смелостью. Нам не может не нравиться человек, действующий решительно, и только поэтому мы делаемся, нередко, его сторонниками. Я часто раскаивался, зачем я говорил, но еще чаще раскаивался в том, что молчал».
Рядом с самообладанием стоит долг и правдивость. На могиле барона Штейна написано: «Его нет было неизменное нет; его да было — да. То и другое имело одинаковую силу. Он давал свое согласие с тщательной осмотрительностью; его слова и мысли были ясно определены; его слово было для него законом и печатью».
Твердое сознание долга есть венец характера. «Долг, — говорит одна английская писательница, — есть цемент, связывающий все нравственное здание; без него ни власть, ни добродетель, ни правдивость, ни счастье, ни даже любовь не имеют прочности. Без долга все здание, на котором построено наше нравственное существование, распадается под нами, и мы остаемся среди развалин, удивленные и пораженные при виде нашей собственной пустоты». Долг основан на чувстве справедливости, вдохновляемой любовью, которая есть совершеннейшая форма добродетели. Долг — не чувство, но принцип. «Будьте бедным и оставайтесь таким, молодой человек, — сказал Гейнцельман; — пусть вокруг вас другие богатеют с помощью обмана и вероломства; оставайтесь без должности и без власти, когда другие, посредством. искательств, достигают высокого положения; переносите горесть неосуществившихся надежд, когда другие путем лести наслаждаются осуществлением своих; умейте обходиться без милостивого пожатия руки, ради которого другие ползают и раболепствуют; замкнитесь в собственную добродетель и постарайтесь сыскать себе друга и насущный хлеб. И если вам удастся, не запятнав своей чести, поседеть, трудясь над своим делом, воздайте хвалу господу и умрите».
Жить — значит действовать с энергией; жизнь — борьба, в которой надо драться храбро и честно. Серто-рий сказал: «Человек с достоинством должен побеждать честно и не употреблять дурных средств даже для спасения своей жизни». Эпиктет говорил: «Мы не выбираем себе ролей в жизни, и они от нас нисколько не зависят. Наш долг — ограничиваться их хорошим исполнением. Раб может быть так же свободен, как консул, — а свобода есть высшее благо, перед ней принижаются все другие; все другие, кроме нее, ничтожны; с нею все другие не нужны, без нее — невозможны. Людям нужно внушать, что счастье не там, где они его ищут: оно не в силе, ибо Мирон и Офелий не были счастливы; не в богатстве, ибо Крез не был счастлив; не во власти, ибо консулы не были счастливы, и не во всем этом вместе, ибо Нерон, Сарданапал и Агамемнон вздыхали, плакали, рвали на себе волосы и были рабами обстоятельств и игрушкою призраков. Счастье в нас самих, в истинной свободе, в отсутствии низкого страха или в победе над ним, в полном самообладании, в возможности пользоваться довольством и миром и вести невозмутимую жизнь в бедности, изгнании, болезни». Помпей, когда друзья уговаривали етб не уезжать из Рима во время бури, ответил: «Ехать мне необходимо, а жить не необходимо». И, пренебрегая опасностью, он исполнил то, что считал своим долгом.
Долг связан тесно с правдивостью. Человек долга прежде всего правдив в своих словах и действиях. Он говорит и делает только то, что должно, как должно и когда должно. «Правда обусловливает успех джентльмена», — сказал Честерфильд. Кларендон сказал о Фалклен-де: «Он так строго был предан правде, что скрыть что-нибудь для него было так же трудно, как украсть». Мистрис Гутчисон сделала такой отзыв о своем муже: «Он никогда не говорил того, чего не думал; никогда не обещал сделать того, что считал выше своих сил, и всегда исполнял то, что исполнить был в состоянии». Правда связывает общество, и без этой связи оно бы раопалось и превратилось в анархию и хаос. Ни семья, ни общество, ни народ не могут быть управляемы ложью.
Но бывают люди до того бесчестные и узкие в своих взглядах, что они даже гордятся своим иезуитским искусством говорить двусмысленно и употребляют всевозможные увертки, чтобы скрыть свои настоящие мнения. Откровенное лганье, более смелое и даже порочное, внушает менее презрения, чем иезуитские двусмысленности и великосветское вилянье.
Не в одной этой форме может обнаруживаться лживость. Она заключается иногда и в умалчивании или в преувеличивании, в утаении или в искажении истины, в притворном согласии с чужим мнением, в обещаниях или в намеках на обещания, которых мы не имеем намерения исполнить, в нерешимости сказать правду, когда сказать ее требует долг.
Для успеха в жизни есть еще одно необходимое условие — кротость нрава. «Да не подумает никто, — говорит Смайльс, — что кроткие люди слабы и нерассудительны; напротив, самые широкие и многообъемлющие натуры обыкновенно бывают самые добрые, самые любящие, самые доверчивые и самые сильные надеждою и упованием».
Хотя веселое расположение духа в сильной степени обусловливается прирожденным темпераментом, тем не менее, его можно приобрести и воспитать в себе не хуже всякой другой привычки. Кто-то просил Лютера указать ему средство против меланхолии. «Веселость и мужество, — ответил Лютер, — Невинная веселость и разумное мужество лучшие лекарства как для молодых людей, так и для старых и вообще во всех возрастах против мрачных мыслей». «Этот великий и неотесанный человек, — говорит Смайльс про Лютера, — обладал всею нежностью, на какую способно, только женское сердце. Лютер любил музыку, детей и цветы». Величайшие из гениальных людей были большею частью люди веселые, довольные, не искавшие ни денег, ни власти. Таковы были: Гомер, Гораций, Виргилий, Шекспир, Сервантес, Лютер, Бэкон, Рафаэль, Мильтон, Галилей, Декарт, Ньютон, Лаплас.
Про естествоиспытателя Абози расоказывают слёдующее: желая определить общие законы, регулирующие атмосферное давление, он в течение 27 лет делал ежедневно свои наблюдения и бумагу, на которой их записывал, клал подле барометра. Но вот к нему поступила раз новая горничная и, желая выказать свое усердие, начинает приводить все в порядок даже и в кабинете Абози. Раз Абози входит в кабинет и, не видя своих заметок, спрашивает горничную, что Она сделала с бумагой, лежащей около барометра? «О сэр, ответила горничная, -бумага эта была так грязна, что я взяла и сожгла ее, а вместо нее положила чистую». Абози скрестил руки на груди и после непродолжительного молчания сказал горничной: «Вы уничтожили результаты 27-летнего труда: вперед не дотрагивайтесь ни до чего в этой комнате».
Кроткое и веселое расположение духа имеет своим источником любовь, и та же любовь служит источником хороших манер и внешнего изящества поведения. «Сама добродетель может оскорблять, — говорит епископ Мидльдон, — если она соединяется с отталкивающими манерами».
Манеры до некоторой степени указывают на характер человека и служат внешней оболочкой его внутренней природы. Они выказываются в вежливом и приветливом обхождении, но настоящая и лучшая вежливость та, которая основана на искренности. Она должна быть внушена сердцем, должна быть полна добродушия и проявляться в готовности способствовать счастию ближнего. Истинная вежливость неразлучна с уважением к личности другого и без нее невозможна.
Люди выказывают свое неуважение к другим разными способами, например, небрежностью в одежде, неопрятностью, дурными привычками, и все это будет невежливостью. Гугенотский проповедник Давид Ансильон имел обыкновение говорить, «что отсутствие старания в подготовке обличает неуважение к публике».
Но подобно тому, как под грубой оболочкой скрывается иногда самый сладкий плод, так и грубая внешность очень часто скрывает добрую и полную сочувствия душу. Джона Нокса и Мартина Лютера уж никак нельзя назвать людьми, отличавшимися манерами и изяществом. Напротив, в своем обращении они были излишне строги и жестки. «Кто же вы такой, — спросила Мария Шотландская Нокса, — что смеете поучать владетельных особ этого королевства?» — «Подданный, рожденный в пределах того же государства», отвечал Нокс.
Впрочем, многие невежливы не потому, чтобы они хотели быть такими, а потому, что они не умеют лучше поступать. Многие кажутся жесткими, сосредоточенными и гордыми, тогда как, в сущности, они только застенчивы. Застенчивость есть черта англичан. Только застенчивостью объясняют манеру англичан сторониться в обществе, отворачиваться друг от друга и во время путешествия забираться в противоположные углы вагона. Покойный принц Альберт был одним из самых благосклонных и приветливых людей и в то же время — из наиболее застенчивых. Застенчивостью отличались Ньютон, Шекопир, Байрон, Вашингтон, а про Натаниэля Гоуторна рассказывают, что когда в комнату, где он был, входил чужой, он оборачивался спиною, чтобы его не узнали.
РАЗДВОЕННОСТЬ ХАРАКТЕРА
Составными элементами характера общественное мнение считает стойкость, энергию, неустрашимость и мужество, самообладание, правдивость, кротость, ласковость и обходительность, веселое расположение духа. Все эти элементы обнимают область чувства. Ум общественная наблюдательность выделяет из характера; ей известно, что люди даровитые и с блестящими умственными способностями не всегда отличаются благородством чувств и что быть умным человеком еще не значит быть честным.
Общественная наблюдательность смотрит на характер как на нечто имеющее положительное содержание. Говоря: человек «с характером», мы предполагаем в человеке присутствие какой-то сложной нравственной силы. И если хотим сказать, что в человеке этой силы нет, мы говорим: человек «без характера».
Для большинства сила характера служит синонимом силы воли; но мы уже знаем, что воля есть стремящаяся к осуществлению энергия желания; мы уже знаем, что воля есть сила совершенно безразличная; оттого-то и признают волю добрую и волю злую. Поэтому не воля составляет содержание характера, а характер — содержание воли.
И в «характере» заключается подобная же двойственность. Если, говоря «характер», мы предполагаем положительное содержание чего-то хорошего и благородного, целый комплекс душевных особенностей, которыми поведение одного человека отличается от поведения другого, то уже самым предположением подобного содержания мы допускаем и его отсутствие. Мы потому и говорим «белый», что противополагаем ему «черный»; мы потому говорим «характер», что в нас существует представление о «бесхарактерности».
Моралисты-воспитатели всегда знали могущественную силу примера и подражания; вот почему они и старались действовать на подъем духа своих воспитанников примерами замечательных людей. Но если мы взглянем на жизнь не с праздничной стороны, то увидим, что в наших повседневных отношениях, в той жизни, с которой мы боремся, царит не «характер» в его благородном, идеальном представлении, а напротив, «бесхарактерность». В конце концов, благородство, конечно, берет перевес над низостью и мелочностью чувств: конечно, оно управляет прогрессом; оно является той светлой точкой, к которой прокладывает себе путь общественная жизнь; но, к сожалению, благородный характер для нас не критерий нашего собственного поведения, а только неуловимый идеал. Мы перед ним преклоняемся с благоговейным удивлением и восторгом; мы смотрим на Вашингтонов, Лютеров, Сократов, Эпиктетов как на светлые точки, как на недостижимую высоту и потому восхищаемся ими только «теоретически». Они для нас не реальные идеи, способные наполнить нас своим содержанием, а нечто находящееся вне нас, равняться с чем мы даже не посмеем и думать. Мы опускаемся на колени перед идеальными образами, на которые смотрим уже заранее как на недостижимые идеалы, и даже не пытаемся им подражать, предрешив, что им подражать мы не в силах.
Характер, как идеал благородства, служит нам критерием лишь при оценке чужого поведения. Выгораживая себя, мы не выгораживаем никогда других; мы извиняем себе всякую собственную дрянность и не извиняем дрян-ности только в других. Нет ничего труднее, как заслужить наше уважение, потому что каждый из нас имеет перед своими глазами хотя и смутный, но все-таки довольно определенный идеал человеческого достоинства, к которому приравнивает других. Закон же причин и последствий каждый береЖет лишь для себя.
Преувеличенное воззрение на себя и неуменье верно оценить свои силы — причина тому, что массу цивилизованного или, вернее, образованного человечества составляет, как выразился удачно Стюарт Милль, «собирательная посредственность». Каждый из нас оправдывает свою собственную дрянность, недостаток своего умственного и нравственного мужества, тупость чувств, мелочность мыслей, безучастие к делам ближнего, трусость, эгоизм, себялюбие, низкопоклонность, лесть. И нередко подобное растление чувств и мыслей выдается за образование, за уменье жить, за благовоспитанность! Свет наполнен именно этим сортом «благовоспитанных» людей, в которых не шевелилась никогда ни одна благородная мысль, поведением которых не управляло никогда ни одно социальное чувство.
Педагоги и моралисты предлагают юношеству примеры человеческого величия в лице каких-нибудь десяти — ста единиц, выработанных человечеством в течение сотни тысяч лет своего существования. Моралисты сделали бы лучше, если бы дали нам массу той человеческой испорченности, той умственной и сердечной гнили, которая собственно и составляет действующее и руководящее человечество. Сколько дрянности и нулей на одного человека с нравственной силой и благородным, цельным характером! И когда люди приходят в изумление от подавляющего количества нулей, когда они изумляются малому числу светлых единиц, они говорят: «Да, прогресс покупается дорогою ценою». Но такое сознание не подвигает нас ни на шаг вперед, потому что мы думаем не о том. Не о том должны мы говорить, что Сократ, Эпиктет, Вашингтон стоят слишком дорогой цены, а о том, что слишком дешевы и ничтожны мы — почва и собирательная посредственность.
Общественная наблюдательность ограничивается в воспитании нравственными сентенциями. Ее точка отправления всегда моральная. И странное противоречие! Чем больше и настойчивее усиливалось общество поднять уровень нравственности образованного слоя, тем он больше падал и падал. Живые образцы замечательных характеров становились все реже и реже, человек точно вырождался, а дрянность плодилась все больше и больше.
На наших глазах в какие-нибудь 10 лет можно уже ясно видеть, насколько упал уровень личного характера и как вместе с ним понижается и уровень характера общественного. Характер ныне растущего поколения уже совсем не тот, какой был у поколения предыдущего. И по мере того, как мы сами становимся меньше, нам кажутся выще, величественнее и титаничнее моральные гиганты Греции и Рима, которых дают нам в образцы. Напрасно питаем мы к этим гигантам платоническое изумление; напрасно мы пытаемся проникнуть мыслию в классический мир; чем глубже мы в него, повидимому, уходим, чем больше мы ему отдаемся, тем он дальше от нас, тем он для нас недоступнее, потому что мы сами становимся все меньше и мельче.
Представители собирательной посредственности не могут не замечать этого факта. Они его и замечают, но они его не понимают. Чем настойчивее гонятся они за тенью древнего величия, тем она уходит от них дальше, и чем более они думают действовать головными средствами, тем больше характер и нравственность уступают свое место бесхарактерности и безнравственности.
Общественная наблюдательность владеет множеством драгоценных фактов; но, к сожалению, она не сумела справиться со своим богатым материалом, и в этом причина, почему наше умственное и нравственное воспитание так слабо. Мы не скажем, чтобы наука уже овладела законами образования характера. Эти законы еще не определены, и не определены они вот почему: законы образования характера суть законы производные; они могут быть констатированы лишь тогда, когда будут определены законы души; только зная законы души, мы можем сказать, что данные обстоятельства повлияют таким или другим образом на образование характера. Следовательно, пока не существует психологии, нельзя с полной безошибочностью руководить формированием точно известных нравственных организмов. Но мы таких строгих требований и не предъявляем; мы не требуем готовой науки и готовых писаных законов; мы хотим только, чтобы общество и общественная практика в деле воспитания людей не стояли ниже своих наблюдений, чтобы они пользовались как следует тем материалом, которым владеют.
Так — и мы этим начали свое настоящее письмо — практика подметила, что ум и характер могут очень часто не уживаться, изображая собою две взаимно-исклю-чающие силы. Практика заметила верно факт; но она его не поняла; она лишь констатирует известное явление, не зная, от каких причин оно происходит. Если ум и характер являются обыкновенно врагами и, таким образом, раскалывают человеческую душу на две половины, то ясно, что такое ненормальное следствие вызвано ненормальными причинами. Что такое хороший ум? Хороший, сильный и обширный ум есть не больше, как хорошо организованное собрание многообразных знаний; чем больше таких знаний, чем полнее выплетенная из них сеть представлений, тем и умнее человек. Но ум не есть независимая сила; материал для него доставляется органами чувств; материал этот проходит через чувствования, получает от них свой цвет и окраску и в таком дополненном виде становится достоянием мысли. Чувство, следовательно, необходимый элемент при всяком головном восприятии. Чтобы образовать обширный и сильный ум, нужно много наблюдать, много зНать, много думать. Но то, что в ходячем, обыденном мнении принимается за ум, есть не всегда ум психологии, о котором мы говорим. Главный составной элемент ума есть память, и без хорошей памяти, прочно и легко удерживающей материал, из которого ум выплетает свои наблюдения и заключения, нельзя, конечно, создать и сильного ума; но зато тем легче формируются умы мелкие, ограниченные, ничтожные. Ребенка очень рано можно заставить жить чисто головными процессами и направить все силы его души на одну мозговую деятельность. Мы на каждом шагу встречаем детей, память которых с ранней молодости загромождается ненужным материалом, который не только не помогает правильным практическим выводам, полезным для жизни, а, напротив, мешает им. Детский ум, загроможденный смолоду подобным материалом, воспринимаемым не через душу, а одним мозговым путем, через память, вводится этим искусственным путем в сферу односторонней деятельности. Все воспринимаемое ребенком минует его сердце и идет прямо в голову; ребенок живет вне жизни чувства и знает одни нервно-мозговые процессы. Поставленный вне всех сердечных ощущений и получая один теоретический материал для развития теоретического ума, ребенок приучаемся воспринимать все исключительно головным образом. Он даже не создаёт себе понятий — он владеет только словами. Благородство, честность, правдивость, мужество, энергия, неустрашимость являются для него голыми словами, которые он знает твердо, употребляет безошибочно в соответственных случаях, но истинная сущность которых никогда не шевелит его сердце. И чем ребенок больше сидит за книгами, чем больше он учится, чем больше его память обременяется исключительно головным книжным материалом, — тем ограниченнее и теоретичнее становится область его душевной жизни и тем более ничтожным делается его характер.
Характер формируется тоже из материала, потому что без материала ничто в человеке сформироваться не может. Но материалом характера служит все то, что входит в область чувства. Чтобы в ребенке явилось чувство великодушия, нужно чтобы материал, воспринятый душой, возбудил в нем подобное чувство; чтобы в ребенке явилось мужество и неустрашимость, нужно, чтобы практика его детской жизни дала ему возможность создать в себе неустрашимость и мужество; чтобы в ребенке явилась энергия, нужно, чтобы он имел возможность развивать свою настойчивость. Но возьмите ребенка, в которого подобный материал не входит никогда путем его практических детских отношений; возьмите ребенка, сфера чувств которого ограничена, который не знает, что значит желать и действовать, что значит жить практически. Окруженный книгами и учебниками, он живет всегда в теоретическом, головном мире; он знает только один этот мир и только в нем одном достигает известных результатов и успехов. Разве это результаты жизненные, практические? Нет, они всегда книжные и теоретические. Ребенок приучается только жить памятью, воображением и мыслью, он смело разрешает, но только головой, все препятствия и затруднения; он воюет в голове с разными затруднениями и страхами; он переживает всю жизнь головными процессами; он все чувства превращает в головные чувства и в то же время стоит одинокий, изолированный от действительной жизни, не переживая ее. Человек, развивающийся таким односторонним путем, может достигнуть большой смелости в головных комбинациях и в то же время сложить себе характер самый ничтожный, и только потому, что для образования характера ему не давался надлежащий, практический материал. Вот причина, почему нарушенное равновесие детской души, — когда воспитатели и родители, не понимая, что такое ум, сводят его к простой памяти и излишне загромождают ее ненужным и нередко бесполезным материалом, и в то же время замыкают область чувства, не позволяя жить и развиваться практически-свободно, — создает те ничтожные характеры, которые больше и больше стали появляться в последнее время.
Мы не скажем, чтобы у этих слабых людей вовсе не было характера; но их характер головной, потому что весь опыт их жизни совершается лишь в области голой мысли. И они испытывают удачи и неудачи; и им приходится преодолевать препятствия и затруднения; и им приходится раскаиваться и мучиться. Но вся эта жизнь переживается исключительно в головной сфере, в очень узком, ограниченном и одностороннем мире. Что же касается нравственной жизни, жизни чувства и житейских отношений, то жизнь эта совершенно чужда таких людей; зная «все», они не знают одного — самих себя, потому что над собой им никогда не приходилось работать, им никогда не приходилось ни думать о себе, ни задумываться над собой. Им может быть все известно, за исключением собственного внутреннего мира.
Недавно я видел одного 13-летнего ученика; я часто вижу подобных учеников, потому что их у нас очень много. Ученик, которого я видел, — белокурый, полный, красивый мальчик, с румяными щеками. Бго наружность показывает, что для него вся его собственная внешность не составляет предмета размышления. Прически у него нет никакой; его волосы ни короткие, ни длинные, торчат в разные стороны и образуют миллионы неправильных проборов; лоб его прямой, правильный, красивый, с резко выдающимися двумя возвышениями, которые френолог назвал бы «философскими желваками»; взгляд, несколько потухший, неподвижный и как бы устремленный вдаль. С таким взглядом изображен Наполеон в известной картине, под Ватерлоо. Но этот подернутый плевою взгляд внезапно оживляется и глаза ребенка начинают блестеть, если перед ним является предмет, привлекающий его внимание. Что же обращает его внимание, какой разговор его интересует? Мне говорили, что с раннею детства он не знал другого общества, кроме общества взрослых;
ему неизвестны никакие детские игры; он не играл ни в мяч, ни в лапту, не развивал своих мускулов ни бе--ганьем, ни прыганьем, никогда не жил в детском мире и не знает его отношений. Ему известна только солидная, благоразумная компания взрослых — и он держит себя взрослым. Все игры, которые ему предлагали в доме, где я его видел, были для него скучны; его не занимала ни игра в солдаты, ни музыка, ни пение, ни карты. Хозяин дома, такой же тринадцатилетний ученик, перепробовал все, чтобы занять своего гостя; но гость смотрел «в даль» и переживал какие-то головные процессы, крутил своими головными колесами, как заведенные часы, и не отдавался ни одному из окружавших его впечатлений. Наконец, явились на сцену «книги» — и тогда гость почувствовал себя в своем мире. Он обнаружил такие познания, каких трудно даже было от него ожидать. Он знал по рисункам больше 300 видов насекомых! И зато вне сферы книг обнаружил полнейшее безучастие ко всему; точно в груди его совершенно было мертво и все движения души сосредоточивались исключительно в голове. В училище, как мне говорили, он совершенный одиночка; вечно тихий и уединяющийся, он поглощен своими книжками и уроками, и товарищи ему совсем не нужны. Все силы ребенка, вся активность его ушли в одну сторону. Но разве такая жизнь может выработать характер? Что знает этот ребенок о процессах своей души, когда для него не существовало никогда других интересов, кроме интересов головных, теоретических, и когда он не переживал живого чувства? Ребенок этот читает, он читает много, он читает о великих людях древности, о великих патриотах, его изумляют Гораций Коклес и Муций Сцевола; но это изумление чисто «теоретическое», потому что в своей детской практике он никогда не бывал даже приблизительно в подобном положении. Возьмите его руку и начните ее жать, — и он заревет. И когда вы ему скажете, что Муций Сцевола, которым он восхищается, сжег свою руку и не кричал, он вам отвечает: «да, ведь, это больно!».
А между тем ребенок верен природе человека; ошиблись только те, кто его воспитывал. В ребенке сложилась целая вереница представлений и ассоциаций рассудочных, потому что только одни рассудочные представления в нем и залегали. Все же, что мы понимаем по сердечному чувству: благородство, самопожертвование, преданность, патриотизм, великодушие — никогда в виде непосредственного чувства не входило в его душу. Нельзя сказать, чтобы эти чувства были ему неизвестны; он знает их хорошо, он помнит твердо их названия, он их даже ощущает в себе, но только в рассудочных ассоциациях, а не в ассоциациях по сердечному чувству. Он переживает их как понятие умственное, но он никогда не переживал их как понятие сердечное. Поэтому и Муция Сцеволу он только «понимает». Когда вы жмете ему его собственную руку, это для него первый опыт чувства, и он совершенно справедливо отвечает, что ему «больно», потому что он никогда не боролся с подобными ощущениями и ему никогда не приходилось их побеждать.
Подобной разрозненностью загроможденного и механически развитого ума с никогда не жившим чувством создаются люди, превосходно умеющие «рассуждать» о добродетели и в то же время не чувствующие ее своим сердцем; создаются люди, превосходно рассуждающие о справедливости и несправедливые в действительности; честные в мыслях и бесчестные в поступках; герои патриотизма в голове и малодушные трусы в жизни; общественные деятели в теории и узкие себялюбцы в повседневной практике.
Древний мир, которым мы так пленяемся, не знал этой раздвоенности и не знал он ее потому, что не знал «книжек». Мы понимаем и пользу книгопечатания, и величие заслуги Гуттенберга; мы знаем, что Стефенсон не виноват, что железные дороги эксплуатируются с целями войны и разрушения и что в последний французско-немецкий погром они послужили на пагубу Франции. Мы говорим не о пользе, а о вреде. Древний человек жил непосредственной жизнью; он был практик, он был человек гармонического развития; его ум не оттягивал его чувства, а его чувство не подавляло его ума. Он жил на форуме, на площади, на улице, среди живых людей и их интересов, — он жил на лоне природы. Мысли воспринимал он не путем «книжек» и мертвого слова, а из живой, непосредственной речи, исходившей из непосредственных ощущений, возбуждаемых живою действительностью. И оттого он был цельным человеком, с цельным характером. И нынче те народы, которые живут непосредственной жизнью, вырабатывают себе тоже цельные,
сильные, энергические характеры. Каждый американец — цельный человек, потому что жизнь не подавляет его природы и не заставляет его насильно уходить в головную деятельность. Для жизни чувством и для практики общественного чувства американцу не закрыта деятельность. Не так живут другие народы и особенно на континенте Европы. У нас книгопечатание превратилось в средство спекуляции, наживы и эксплуатации, а стремление к «умственной жизни» перешло свою черту. Мы превратили «книжки» в злоупотребление и, уйдя всеми своими силами в область теоретического мышления, убиваем свою душу, расслабляем свой организм, искусственно плодим нервные болезни, создаем физически слабых людей и наконец, — творим все усиливающуюся и усиливающуюся бесхарактерность.
Я знаю другого мальчика, и ему тоже 13 лет. И его чуть ли не с пеленок хотели сделать «умным», он выучился читать сам и читал все, что ему попадалось. Мозг его привык к! известного рода раздражению; но практическая активность и жизнь сердца ему не дались. Не позволяйте ему читать, — он скучает, он не знает, что ему делать, он не находит себе места в природе и не знает, куда пристроить свои силы, потому что его силам известно одно направление — чтение, превратившееся для него в какой-то сладострастный процесс. Он может читать книгу с конца, с начала, с середины, потому что он читает не для реального, положительного результата, а читает для того же, для чего другие прыгают, бегают, резвятся. И ребенок растет кабинетным, книжным сиднем и чувства его не знают жизни и никогда в нем не сложится «характер».
И если бы книжки, многочтение, многоучение, холодное, мертвящее, формальное, только бы вырывали человека из жизни! Нет, они атрофируют всю его душу. В ребенке не только не явится характера, в нем не явится никогда и хорошо сложившегося, сильного, обширного ума.
Между умом и характером существует тесная аналогия. Как ум формируется ассоциациями полных и разнообразных головных представлений, так характер формируется из полных, разносторонних и плотно сплетенных ассоциаций по сердечному чувству. Ум формируется в теоретической области, характер — в практической. Для развития ума нужно много знать и много передумать; для полного, сильного, закаленного характера нужно много перечувствовать, много испытать, нужно много ошибаться, раскаиваться, бороться, одним словом, нужно жить. Но ни ум, ни характер не должны идти отдельными путями. Только тот создает себе обширный, не ошибающийся ум, кто прошел школу чувства и думал через чувство; точно также только тот создает себе характер, кто жил много, полно и всесторонне сердцем. В гармонии такого опытного, реального ума, с таким опытным реальным чувством заключается гармония души и «цельный» характер. Только взаимной проверкой опытов чувства с опытами ума мы можем создать себе душевную полноту и только жизнью чувства создать себе характер и приобрести уважение людей, потому что человек ценится не по тому, как он думает и говорит, а потому, как он чувствует и поступает.
Мы оттого пленяемся великими образцами древности, что чувствуем свое противоречие и ощущаем в себе душевный разлад. Мы отдаемся всеми своими симпатиями благородным чувствам, которые возбуждают в нас герои древности, только потому, что сами никогда не живали такою жизнью сердца. И в то же время мы чувствуем всю захватывающую ее силу, потому что чувствуем полное отсутствие вокруг нас материала для такой же жизни. Не находя живого материала в живой действительности и стремясь к подобным освежающим ощущениям, мы ищем и находим их только в книгах. Весь свой век живем мы идеалами и мечтой, не находя никакой возможности создать себе характер по своим платоническим идеалам. Вот одна из причин мечтательности, идеализма и непрактичности.
Но это недостаток только нас, образованных людей, Деревня его не знает; деревня создает людей с сильным и цельным характером. Современный крестьянин, как и древний грек, живет на лоне природы, в среде непосредственного чувства и практической мысли. Общественные интересы крестьянина, конечно, не те, какие были у древнего афинянина, но мы и не говорим об этих интересах; мы говорим только о влияниях и о той гармонии умственной и сердечной жизни, которая одна и формирует цельный характер. Без суровой, неподатливой среды, несокрушимой и твердой, как судьба, как рок древнего грека, не может сформироваться никакой характер. Вот почему в наше время нервных, больных людей — людей с закаленным характером можно найти только в простонародьи, и вот почему семинаристы нередко поражают нас своей энергией, настойчивостью, своей способностью для всякого трудного дела, своей силой в борьбе с физическими, нравственными и умственными препятствиями.
, Таким образом, сильный, цельный и полный характер формируется только гармоническим развитием ума и чувства в суровой, неподатливой среде. Нравственное содержание характера, конечно, не определяется этими элементами, и если общий строй жизни не благоприятствует выработке нравственных понятий, то сильные характеры будут вырождаться только в сильных злодеев. Вопрос о нравственном содержании характера будет нашим последующим вопросом; теперь же мы хотим сказать, что основным агентом, формирующим человеческий характер, является жизнь, жизнь неподатливая, трудная и суровая, жизнь практическая, действующая на полный комплекс чувств, а не теоретическая, головная, книжная. Исключительно теоретическая, книжная жизнь создает только людей ничтожных и бесхарактерных вот почему наше время есть время ничтожных характеров. Не организацией и практикой жизни создаем мы свое благородство, а вычитываем его из книжек.
ФАКТОРЫ ХАРАКТЕРА
Да, только жизнь сердца формирует характер; неправильное же, изолированное развитие ума его уничтожает, — душа человеческая вырастает в сторону одного резонерствующего ума, а чувства остаются в зачаточном виде. Таким образом, практическая жизнь является главным агентом при формировании характера.
Рядом с этим агентом стоит другой, не менее могущественный — нервный организм человека, тот самый организм, который достается нам путем наследственности и рождения.
Практика глубокой древности знала уже могущественное влияние наследственного организма при формировании характера и выразила свое наблюдение в учении о темпераментах.
Учение древних о темпераментах основано на гипотезе о четырех элементах — воздухе, огне, воде и земле, и соответствующих им четырех качествах: теплоте, холоде, сухости и влажности. Этим четырем качествам отвечали темпераменты и характеры: флегматический, желчный, сангвинический и меланхолический.
По учению о темпераментах, в человеке флегматическом все психические процессы совершаются медленно, ум его не отличается быстротой, а чувствования овладевают им не быстро. Хотя мысли флегматика текут и с меньшей быстротой, чем у других людей, но, несмотря на то, ум его может достигнуть большой силы и развития. Главная особенность флегматика заключается в его спокойствии и хладнокровии. Он медлен и сдержан в своих решениях и не делает ничего, не обдумав предварительно. Не отличаясь живостью чувствований и быстротой умственной работы, флегматик, тем не менее, может достигнуть замечательных результатов терпением и настойчивостью. Флегматик не годится для дел, в которых требуется быстрое сосредоточение силы, но зато он действует вернее для целей отдаленных. Флегматик спокоен, вынослив и терпелив в страданиях и потому мало трогается страданиями других; вообще, он как бы равнодушен к другим людям, выделяет себя от них и не любит мешаться в чужие дела. Умеренность и отсутствие резкой живости считается отличительной чертой флегматического темперамента.
, Холерик или желчный отличается необыкновенной энергией, железной настойчивостью и страстностью. Холерики обладают значительной телесной силой, переносят легко труд продолжительный и утомительный и отличаются в работе каким-то настойчивым упрямством. Страстный, гордый, мстительный, честолюбивый холерик обнаруживает необыкновенную глубину и продолжительность чувства и, когда его страсти встречают противодействие, он может быть даже ужасен. Поэтому постоянный в дружбе — он неумолим во вражде. Отдаваясь страсти, холерик не способен к размышлению. Он не поддается чужим влияниям и, увлекаемый своей страстной энергией, идет вперед напролом, пока не погубит себя. Люди этого характера всегда обнаруживают сильное влияние на других и, когда они облечены властью, пользуются ею с железной настойчивостью. Такими людьми были: Магомет, Лютер, Петр I.
Люди сангвинического темперамента отличаются легкой подвижностью чувств и мыслей и малой их продолжительностью. Сангвиник легко увлекается всем, быстр и переменчив; поэтому он непостоянен в своих склонностях, дружбе, любви и ненависти. Он больше раздражается, чем сердится, и больше увлекается, чем любит. Поверхностный и легкомысленный, легко отдающийся первым впечатлениям, сангвиник их так же легко забывает. Он щедр на обещания, но на слова его полагаться нельзя; он любит строить проекты, жить мечтой и воображением в будущем, но в настоящем делает мало; снисходительный к себе, сангвиник снисходителен к другим и не возмущается человеческими слабостями и даже пороками; он ласков, обходителен, доброжелателен, любит общество и вообще нравится женщинам.
Меланхолик обнаруживает особенную наклонность к подавленному состоянию духа. Он как бы живет под давлением неприятных ощущений и, если сангвиник весь удовольствие, меланхолик — весь печаль. Меланхолик боязлив, недоверчив, нерешителен, легко обижается и оскорбляется, малейшее препятствие лишает его энергии, малейшая трудность его затрудняет; он преувеличивает свои страдания, гонит от себя прочь светлые ощущения, и замогильный мир для него милее живой действительности. Вечно страдающий и недовольный, он легко симпатизирует чужим страданиям и потому жалостлив.
, Учение о темпераментах не выдерживает критики: резких границ, установляемых между темпераментами, в действительности найти нельзя и, конечно, вы в свою жизнь не встретили ни одного человека, который бы без всяких исключений был или холериком, или сангвиником, или меланхоликом, или лимфатиком. Всмотритесь в себя, припомните свои разные душевные состояния, в разные моменты жизни и в разных возрастах, и вы найдете в себе все темпераменты. Если Петра Великого взять за представителя холерического темперамента, то, как реформатор и государственно-политический деятель, он представляет самые резкие черты своего холеризма. Страстный, увлекающийся, энергический, он идет напролом всех препятствий и действует тем неукротимее, чем сильнее препятствие. Он страстен в дружбе и страшен в ненависти. Отдаваясь всеми силами души тому, кого он полюбил, он остается верен своему чувству и в то же время беспощадно последователен и неумолим в Своих преследованиях. Он поднимает снова уже давно покопченные дела, и в его лексиконе нет слова амнистия, потому что ему неизвестно чувство пощады. По всем этим чертам Петр чистокровный холерик. Но возьмите другую сторону его жизни — жизнь частную, и вы увидите в Петре сангвиника. Он легко отдается первым минутным впечатлениям; ищет наслаждения, ищет перемены ощущений и, как сангвиник, увлекается своими грубыми удовольствиями и потехами. По своей недоверчивости и по подозрительности — Петр чистый меланхолик, а по своему упорству в достижении отдаленных целей, по той терпеливости, с какой он сооружает и переделывает свои административные сооружения, — чистый флегматик.
Наблюдайте людей, сличайте их в разные моменты их душевного состояния и в продолжительный период их жизни и вы увидите, как один и тот же человек бывает настойчив и переменчив, медлителен и быстр, увлекающ и основателен и подвижен в своих чувствах. В одно и то же время человек может быть флегматиком в одном и сангвиником в другом, холериком по отношению к одним людям и меланхоликом по отношению к другим.
Если, таким образом, учение о темпераментах не выдерживает критики и не оказывается последовательным в применении ко всем случаям и людям, то чем же объяснить его многовековое существование, чем объяснить, что его держится так твердо повседневная практика и господствующее общественное мнение? Причину этого нужно искать в том, что в основе своей учение это все-таки верно, что оно создано верно,й наблюдательностью над живыми людьми, над живой повседневной действительностью, и что каждый из нас находит в этом учении самого себя. Учение о темпераментах не выносит только ученой критики, но против его поэтической стороны, против тех генеральных типов людей, которые оно создало, разделив человечество на четыре психические группы, мы ничего сказать не можем. Вот почему, не придавая учению о темпераментах научного и педагогического значения, нельзя не признать в нем художественной верности типов, помогающих понимать людей и оценять их психологически.
Новейшая психология, отвергая учение о темпераментах, тем не менее признает важность физического оргаНйзма в деле формирования характера и, вместо четырех типов древних, дает один. Учение древних о темпераментах новейшая психология сводит к крепости первичных основ души, к ее впечатлительности и к живости восприятий. Эти три основных элемента души находятся непременно в каждом человеке и у каждого в своей собственной, известной пропорции. Различие между людьми зависит не от того, чтобы в ком-нибудь не было того или другого элемента, а только от силы этих элементов и от разной пропорции их комбинации, дающей разным душам разный химический состав.
От чего же зависит то или другое состояние основ организма и те или другие их комбинации? Ни психология, ни физиология не могут еще ответить на этот вопрос. Но из наблюдений известно, что влияющими факторами на деятельность души, на ее большую живость, впечатлительность и крепость, являются общее здоровье и силы организма, быстрота физиологических процессов, состояние нервной системы и ее впечатлительность.
Общее здоровье, сила и крепость организма всегда считались необыкновенно важными агентами психической деятельности. Но это учение древних так же, как и учение о темпераментах, не подтверждается практикой. Не всегда здоровый дух был только в здоровом теле. Скорее можно сказать, что здоровый, сильный дух был в слабом теле. Большинство великих людей и мыслителей были или люди больные, или люди болезненные. Многих из них нервное раздражение доводило почти до мономании. Люди, поражающие нас своей энергией и силой характера, бывали тоже не всегда людьми здоровыми. Припомните времена инквизиции, религиозных гонений и процессов за ведовство. Сколько мужества и неустрашимости обнаружили люди слабые и больные, истерзанные и полуживые от мучений пытки! Их энергия не падала, а росла по мере их страданий и самая сильная напряженная энергия обнаруживалась, именно, в те моменты, когда, повиди-мому, ей невозможно было существовать.
Но если теория «здорового духа» и не совсем подтверждается практикой, то из этого вовсе не следует, чтобы слабость или сила телесного организма не имели никакого влияния на качество наших душевных работ. Большая или меньшая крепость организма и его другие условия обнаруживают неизбежное влияние на характер. Глухонемые могут служить лучшим доказательством. Или возьмите ребенка, родившегося со слабым зрением. Даже один этот физический недостаток может повлиять роковым образом на весь будущий характер ребенка. Слабое зрение закроет от него половину природы и отнимет от его души полмира. Вместо того, чтобы, пользуясь своим органом зрения, жить непосредственными впечатлениями, ребенку придется по необходимости сосредоточить силы своей души в другом направлении. Книги могут сделаться его главным материалом и, постепенно втягиваясь в чтение, он будет больше и больше уходить в область теоретического мышления, сосредоточит всю свою психическую деятельность в умственной сфере, развитие же чувств пойдет в нем сравнительно медленнее. Общее ма-лосилие организма может иметь другое, более пагубное влияние. Ребенок, который чувствует, что всякий из его товарищей сильнее его, ребенок, который чувствует, что путем борьбы ему ничего не достигнуть, может уйти или в хитрость и привыкнуть думать в мошенническом направлении, или же развить в себе завистливость и злость. Ребенок, чтобы не отстать от своих товарищей и не лишиться своих выгод, станет искать свою силу в хитрости; или же, если ум его недостаточно изворотлив и ребенок принужден делать постоянные уступки, душу его начнет сосать зависть, а с завистью поселится в нем озлобление. Сильный мальчик вероятнее всего сложится добрым человеком, сознание силы научит его снисходительности и уступчивости, а уверенность в том, что он мог бы достигнуть своего, сделает его кротким и великодушным. Но избыток сил грозит и другой опасностью. Как ребенок, слабый физически, может сделаться легко книжником, так ребенок, сильный физически, может уйти в активную, практическую деятельность и задержаться умственно. Сильный мальчик только потому и будет развиваться тупо, что избыток сил заставит его искать преимущественно сильной телесной деятельности. Отдаваясь ей всеми своими силами, он будет отставать умственно и привыкнет к умственной лени.
Если таким образом различное содержание сил обнаруживает несомненное влияние на формирование характера, то из этого вовсе не следует, что противодействовать этому влиянию невозможно. В этом противодействии и заключается задача воспитания. Если слабый ребенок может сложить в себе завистливый и злой характер, из этого вовсе не следует, что всякий слабый человек должен быть непременно завистлив и зол. Если сильный ребенок может отстать в умственном развитии, из этого вовсе не следует, что сильные люди глупы. У Демосфена была очень слабая грудь, однако, он приучился перекрикивать бушующее море. Зенон отличался необыкновенно тщедушным телосложением, но он выработал в себе привычкой организм, легко переносивший бури и непогоды, холод, голод и всякие лишения. Этим Зенон стал главою стоиков. Чтобы воспитать в ребенке сильный характер, дельный и гармонический, нельзя, конечно, не обращато внимания на силу организма. Но с тех пор, как наши воспитатели и, преимущественно, наши маменьки-воспита-тельницы узнали о важности физического воспитания, они кинулись в чадолюбивую крайность. Действительно, нужно создавать здоровые организмы, детей нужно и кормить хорошо, и одевать соответственно; но чадолюбивая боязнь уводит нас в крайность и, вместо здоровых людей, обществу дают эпикурейцев — слабых, изнеженных. Послабление и баловство растет как снежная лавина и, раз отдавшись ему, мы незаметно уйдем в бесповоротную крайность, из которой нет выхода.
Другой влияющий агент есть большая или меньшая быстрота всех свершающихся в ребенке физиологических процессов. В них заключается источник впечатлительности и живости. Чем быстрее совершаются в организме физиологические процессы, чем быстрее восстанавливаются ткани тела, тем быстрее восстанавливаются и силы, которыми располагает человек. Поэтому, вообще у людей, у которых быстро свершаются физиологические процессы, идет быстро весь круговорот их психической деятельности, и, конечно, эта быстрота не может не обнаруживать сильного влияния на яркость и многообразие представлений, на глубину и продолжительность чувств.
Быстрота возобновляющего процесса не зависит от внешнего здоровья и кажущейся силы. Есть дети слабые, у которых пищеварение и обмен вещества совершается очень быстро, и есть дети очень крепкие и здоровые, у которых восстановление потраченных тканей идет много медленнее. Первые обнаруживают во всем сильную энергию, набрасываются на все всем напором своих сил; вторые действуют спокойно, без увлечения, точно ими руководит какой-то расчет. Придерживаясь теории темпераментов, первых можно бы назвать сангвиниками, вторых — лимфатиками. Причина такого различия заключается в различной впечатлительности нервов.
Быстрые дети, действующие всем напором сил, без расчета и экономии, легче от того подвергаются опасности одностороннего развития. При их нервности их гораздо легче сделать головными, книжными, теоретическими, в ущерб развитию чувств. Если головное развитие такого ребенка вести раньше развития его мускульной системы, то он весь уйдет в нервность. Я имею случай наблюдать подобного ребенка. Это ребенок слабого сложения, вытянувшийся так, что товарищи прозвали его «селедкой», живой и впечатлительный. Пищевые процессы и обмен веществ совершаются в нем необыкновенно быстро, ткани восстанавливаются скоро, так что он никогда не бывает болен долго, а порезы заживают у него скоро. Ребенок отличается большой энергией; но его энергия действует коротким ударом и на близкое расстояние. Он начал рано читать и учиться, и многоучение отвлекло уже давно все его силы в мозговую деятельность и нарушило равновесие души. Теперь поправлять прошлое поздно, да и невозможно потому, что все небольшие силы ребенка уходят на учение и свободного запаса их не остается. Остается ждать поры возмужалости, когда любовь заставит проснуться его спящее чувство и даст ему вторую половину души; но это — будущее. Если бы в этом ребенке нервы были менее впечатлительны и раздражительны, он, может, учился бы с меньшей энергией, был бы средним учеником, но зато в душе его явилась бы гармония. Теперь же сомнительно, чтобы в нем сложился когда-нибудь «характер». Лучшая пора для этого прошла. Привычка нервов раздражаться известным образом уже определила его нравственную физиономию, сложила черты, установила его нравственный склад.
Подобные дети вовсе не редкость. Из их примера можно видеть, что быстрота и впечатлительность, при обстоятельствах, не благоприятствующих развитию характера, гораздо легче уходят в душевную односторонность, если учение поглощает все силы и не оставляет свободного их запаса.
Вообще, впечатлительность не ручательство за нормальное развитие; напротив, она представляет большую опасность ошибок и порчи. Потому-то за впечатлительными детьми должен быть особенно тщательный уход. Легче всего уходит она в легкомыслие. Впечатлительный ребенок набрасывается на всякую новизну, быстро переживает свои ощущения, снова набрасывается и, быстро сменяя одно новое другим, постоянно заваливает себя целой массой впечатлений. Ему просто некогда вздохнуть. Впечатлительный ребенок напоминает в этом случае сумасшедшего и обезьяну, которые тоже живут в мире быстро сменяющихся впечатлений; но вся их масса скользит по поверхности души, не оставляя в ней прочных, глубоких следов и не завязывая узлов представлений. Впечатлительному дитяти некогда сосредоточиться, — оно вечно разбрасывается, и ни одно чувство, ни одна мысль не проводят в его душе глубокой черты сразу. Отдаваясь своей изменчивой, раскидывающейся впечатлительности, ребенок всегда и во всем мелок; то, что он выигрывает в количестве и многообразии, — он теряет в качестве, т. е. в глубине и прочности. Чтобы впечатлительный, живой ребенок усвоил что-нибудь прочно, нужно действовать на него глубоко и сильно. И если его раскидчивость не будет сдержана с самого начала, она переходит в привычки беспорядочности, в жажду ненужных перемен, в разбросанность занятий, в привычку переходить от одного незаконченного дела к другому, и душевные основы, носящие на себе все признаки энергии, выработаются в характер, лишенный всякой энергии, в боязнь настойчивого труда, в привычку заниматься мелочами и пустяками.
Сильная впечатлительность, большею частью, неразлучна с раздражительностью нервов, и нервная раздражительность есть один из влиятельнейших агентов при формировании характера. Раздражительность нервов — главное основание большей или меньшей полноты или быстроты, с которыми ребенок отдается злым и добрым чувствам. Дети с недостаточно раздражительными нервами отдаются гораздо туже чувству гнева, радости, — тогда как у детей раздражительных чувства эти почти моментально разливаются по их организму и овладевают всем их существом. У первых детей замечается как-бы односторонность души, точно они чувствуют одною ее частью; тогда как ребенок раздражительный, если он сердится, обращает на гнев все свои силы. Нервная раздражительность и быстрота, с какою чувства разливаются по всему организму, служат одним из оснований для развития страстного характера; без нервной раздражительности невозможно быть фанатиком никакого дела, без нее невозможно создать страстность, без нее нельзя быть ни апостолом науки, ни увлекающимся общественным деятелем, ни любящим, преданным, хорошим человеком. Раздражительность нервов, сопровождающаяся тонкой восприимчивостью, служит основой тонкого ума и тонко чувствующего сердца, потому что дает возможность ощущать и подмечать такие мелкие сходства и различия, каких человек менее раздражительный не воспринимает. Без этих свойств нервной системы невозможно ни высшее развитие ума, ни высшее развитие чувства. Но, с другой стороны, под дурными влияниями, они могут развиться в такие нравственные уродливости и недостатки, к каким вовсе неспособны люди с меньшей раздражительностью. Страстность и увлечение и тонина впечатлительности могут быть направлены на недостойные, низкие цели, на одностороннее преследование мелких личных интересов, к тогда все то, что могло бы при иных обстоятельствах сформировать благородный общественный характер, уходит на мелочи, на формирование ничтожного, злого и мстительного человека.
Чтобы раздражительность и впечатлительность являлись полезными агентами, нужно чтобы они соединялись с крепостью нервов. Крепость же нервов есть их памятливость, без которой невозможен ни сильный, основательный ум, ни глубоко и сильно чувствующее сердце. Легкость и мелочность ума и чувства есть именно недостаток памятливости, неспособность нервного организма схватывать быстро и удерживать долго и прочно следы впечатлений. Чтобы в людях легких следы впечатлений нацарапывались глубоко и чтобы в них завязались узлы крепких представлений, нужно слишком частое повторение одних и тех же представлений.
, Но одна память, как бы ни была она крепка, не служит еще ручательством ума и хорошего характера. Есть много детей, отличающихся необыкновенной памятью, из которых потом вырастают самые обыкновенные люди. Память — склад сырого материала; для сильного ума и для сильного чувства, конечно, должен быть собран и богатый материал, но если богатый материал попадет в слабую душу, которая не сумеет с ним справиться и его
переработать, — он ее подавит. В этом только и причина, что из людей с обыкновенными силами многоучение создает не гениев, а затупленные ограниченности.
Хорошая память может даже прямо вредить характеру. Вот ребенок, у которого память сложила уже многообразный материал, а воображение представляет изобильный ряд подвижных картин. Ребенок кажется старше своих лет, развитее и умнее; он необыкновенно ловок, находчив и изобретателен в играх. Играет ли он с товарищами в войну, — у него уже есть целый запас вычитанных сведений и он неистощим в изобретении новых положений, разнообразных случайностей и перемен. Дети, знающие менее, смотрят с благоговением на своего изобретательного товарища, предоставляют ему управление ходом игр и склоняются перед его авторитетом. В данном случае память, служащая с пользою развитию ума, может вредно действовать на развитие характера. В ребенке является авторитетность, является привычка быть первым, выделять себя из других, привычка повелевать, со всеми ее неизбежными последствиями, с неспособностью переносить возражения, замечания, поправки, необыкновенная чувствительность ко всякому противоречию и противодействию. Я знаю одного ребенка, которому счастливая память именно и послужила таким образом; она заложила в нем только привычки авторитетности и властолюбия и привела его к преувеличенному воззрению на свои собственные силы. Свифт справедливо говорит, что только те люди и делают глупости, которые не знают меры своих оил. Детское понимание ума — понимание очень ограниченное; они понимают его не так, как мы; для них ум есть почти исключительно острая память. Поэтому дети с острой и сильной памятью легче склонны к ошибкам характера и легче теряют свое место в природе, усваивая привычку выделять себя из других и считать себя лучше.
Изложенное нами учение, возводящее все человеческие организмы к одному общему единству, объясняет гораздо точнее факторы характера, чем учение о темпераментах, разделяющее людей на группы. Пред нами возникает один цельный человек и один общий тип, построенный по одному плану. Если для большего уяснения себе этого типа мы можем найти две формы — живой и впечатлительный организм и организм менее живой и впечатлительный, то это деление будет больше поэтическое, чем научное, ибо научными средствами нельзя установить подобных точных границ. Три основных душевных элемента, о которых мы говорим: крепость, живость и впечатлительность, находятся в каждом в таких разнообразных и неодинаковых комбинациях, что именно от этого разнообразия комбинаций зависит бесконечное разнообразие людей и совершенная невозможность подвести их под те чистые типы, которые устанавливает учение о темпераментах. В одном человеке, при сильной впечатлительности, может недоставать памятливости, и потому он обнаружит наклонность к легкомыслию; в другом сильная память может быть лишена впечатлительности нервов, и из него выйдет зубрила, вырастет человек ограниченного ума и тупых чувств; в третьем хорошая память соединяется с сильно раздражительными нервами, и из него может сформироваться сильный, страстный и глубокий характер; в четвертом, лишенном памятливости, раздражительность перейдет в легкомысленную порывистость, в короткую, изменчивую страстность, поддающуюся мгновенным влияниям, и образует разорванный, неустойчивый, колеблющийся характер.
Но помимо того, что в каждом человеке залоги или основы души находятся между собою в разнообразных пропорциях и комбинациях, основные формы душине служат еще доказательством того, чем выйдет человек. Два человека с совершенно одинаковыми основами могут выйти совершенно различными людьми. Ребенок, владеющий превосходно устроенным зрительным аппаратом, может развить свою душу в направлении красок и образов; точно так же как ребенок с хорошо развитым слухом представляет вероятие сделаться музыкантом. Но из этих детей точно так же может не выйти ничего. Человек с залогами страстности может выйти энергическим реформатором, фанатиком науки или общественным деятелем, но точно так же, при тех же залогах, душа его может встать на путь антисоциального развития, и тогда из человека сформируется только замечательный злодей. Залоги души и ее основы указывают нам лишь на вероятность, а не на возможность. Но для того, чтобы из человека вышло именно общественное существо и гражданин, чтобы он мог сформировать именно тот характер, который требуется для исполнения роли, которую он должен играть в жизни, — нужно, чтобы вероятности были поставлены в соответственные им условия. Поэтому-то основы души — не больше, как действующие, безразличные силы, результат деятельности которых зависит от материала, который будет им дан для переработки. При одинаковых силах можно достигнуть разных результатов, и потому характер важен не сам по себе, не в своей безразличности, а по своему нравственному содержанию.
ТЕОРИЯ СЧАСТЬЯ
Мы говорили уже, что чувство свободы есть содержимое нашего организма в душа нашей души; что быть свободным, значит мыслить, чувствовать и действовать, руководствуясь свсим собственным контролем.
Но свобода есть только возможность проявлять в действии свои собственные силы, ибо человек есть вечно работающий рефлективный аппарат, постоянно воспринимающий внешние и внутренние органические впечатления и постоянно отдающий их внутренними и внешними рефлексами. В этой сложной машине, в ее полном органическом целом, совершаются постоянно необыкновенно сложные и запутанные процессы, вечно стучат и двигаются колеса и в вечном движении психическою и физиологического аппарата заключается «жизнь».
Оставьте человека на пустынном острове одного, психический аппарат его будет действовать и человек будет «жить». Поставьте его среди людей, он будет тоже «жить», и психический аппарат его будет тоже действовать. Человек «всегда» живет, пока он Действует, и смерть есть собственно бездеятельность, покой.
Человек как психический аппарат действует потому, что он не может не действовать, и так как жизнь есть усложненная рефлективкая деятельность, то в психическом смысле человек есть глубоко-эгоистическое существо, в котором все процессы совершаются для него самого, ради его самого и составляют содержимое его деятельности.
Когда Робинзон Крузо поселился на необитаемом острове, он был истинным царем мира, потому что его беспрестанно расширявшаяся деятельность встречала препятствия лишь в непреодолимых силах природы. Но вот явился Пятница, и внезаино царство Робинзона кон
чилось. Рядом с непреодолимыми силами природы явилась новая, мешающая сила и за одним кокосом потянулось двое. И чем больше являлось пятниц на свете, тем царство каждого отдельного Робинзона становилось ограниченнее и каждое эгоистическое «я» встречало более и более усложнявшиеся препятствия. Как поступить? Как примирить свой эгоизм с чужим эгоизмом, как помирить лицо с лицом, лицо с обществом?
Вопрос этот явился первым вопросом сознательного человеческого духа и попытка его разрешения составляет главную задачу мыслителей всех времен. И в самом деле, что такое неурядицы частной и общественной жизни? Что такое опыты тех или других политических форм? В чем причина вечного личного недовольства, народных волнений, внутренних и внешних войн? Все это неразрешенный вопрос об отношении лица к обществу; все это борьба личности, стремящейся к свободной деятельности, с ограничивающим ее стремлением другой личности к тому же. Только в Свободной, нестесненной деятельности человек находит свое счастье, только к этому tчастью он и стремится, берется из-за него, из-за «его идет на Смерть. Должно быть, это благо дорого для человека, если без него он не хочет жить. Если человек за свободу отдает свою жизнь, значит, кто-нибудь лишает его этого блага; вначит, сам человек мешает другому жить и сам же внедряется в чужую жизнь. Как же устроиться, чтобы не мешать другому, и какого начала следует держаться, чтобы быть счастливым?
Древних мыслителей мучили эти вопросы; но они их не разрешили; они оставили нам две теории, которых и до сих пор держится человечесВво. Стоики руководящим основанием для поведения признавали мудрость; эпикурейцы — наслаждение.
По учению Эпикура высшая нравственность заключалась в поведении, доставлявшем высшее наслаждение, а высшим наслаждением он считал добродетель. Эпикур ставил нравственное наслаждение выше физического и сам, действительно, мог служить образцом умеренности и нравственности. Но где же граница между высшим и низшим, и почему духовное наслаждение‘следует предпочитать физическому? Если мы примем за основание своего! поведения наслаждение, то для нас все равно, чем наслаждаться. Почему душу следует предпочесть телу, и почему быть добродетельным приятнее, чем быть недобродетельным? Наконец, где граница между душой и телом и можно ли доказать, что существуют чисто материальные и чисто духовные наслаждения? Если каждый человек есть независимый, самостоятельный психический аппарат и если руководящим началом каждого будет служить наслаждение, то очевидно, что общий принцип исчезнет, каждый будет жить и наслаждаться по-своему, делая только то, что ему приятно. Почему бы мне не лениться, если это мне приятно, почему мне не покушаться на чужую свободу, на чужой труд, если я этим путем покупаю возможность наслаждения? Каждый будет гнаться только за тем, чтобы увеличивать массу своих личных наслаждений, нисколько не думая о том, что он заставляет страдать другого. Эта теория — теория борьбы и вражды, теория поглощения одного человека другим. Сам Эпикур, конечно, нашел границы; но он нашел их только для себя и только потому, что был благородный и честный человек. Но если человек, под давлением эпикурейского принципа, будет развиваться не под такими условиями, если жизнь не заложит в него добродетельных стремлений? И что такое добродетель, если не-добродетель может быть приятнее? Вопрос о добродетели отодвигается, очевидно, на второй план и -становится даже спорным вопросом. А если человеку представляется несколько наслаждений — какое из них выбрать? По каким признакам определить, что одно выше и благороднее другого, какому отдать предпочтение? Эпикур говорит, что мудрый человек избирает наслаждения продолжительные. Но почему продолжительное наслаждение следует предпочесть короткому и сильному? Если я страстный, энергический человек, почему мне не пережить жизни коротким сильным ударом, почему я должен растягивать наслаждения, поглощая их капля за каплей, вместо того, чтобы прожить бурно, страстно и быстро?
В этой теории есть еще более роковая и опасная для нас поворотная точка. Если человек должен стремится к наслаждению, то очевидно, что каждая невозможность достижения должна порождать страдание. Чем человек энергичней и сильней накидывается на наслаждения и чем больше разнообразие его стремлений, тем, конечно, он чаще должен встречать неудовлетворение и чаще быть несчастным. Следовательно, теория счастья приводит к несчастью, и человек будет тем несчастнее, чем он хочет быть более счастливым. Эпикур видел это противоречие и потому советовал ограничивать свои потребности. Но где же предел этого ограничения, и не уводит ли оно, наконец, в противоположное учение — в учение стоиков?
Стоики проповедовали нетерпимость наслаждения и в этом видели начало мудрости. Они проповедовали презрение к наслаждениям и фанатически враждебно относились ко всем удовольствиям. Но если мудрость в лишениях и ограничениях, то где же им предел и кто самый мудрейший? Теория стоиков приводит прямо к аскетизму, к умерщвлению плоти, к самобичеванию. И почему стоик видел мудрость в ограничении своих потребностей и такую мудрость ставил выше всего? Конечно, только потому, что в ограничении своих потребностей он испытывал такие же наслаждения, какие испытывал эпикуреец в полном удовлетворении всех желаний. Стоик хотел противоречить эпикурейцу и против его физических наслаждений выставил свою мудрость. Но разве он не наслаждался своей мудростью, разве он в сущности отличался чем-нибудь от Эпикура, который тоже ставил душу выше тела?
В сущности этими учениями только констатировался существовавший общественный порядок, а вовсе не разрешался психологический вопрос. Учения эти указывали только на то, что в обществе существуют и борются два противоположных элемента. Представители обеспечения и довольства, владея средствами жизни, хотели ими пользоваться для жизни! и для оправдания своей практики придумали теорию наслаждения. Эта теория была теорией богатых. Эпикур, разделив нарлаждения на высшие и низшие, хотел указать богатым лучшие цели и отвлечь их мысли от грубых, материальных наслаждений: он хотел облагородить общество. Стоики явились представителями всего бедного и бессильного помочь себе своими силами. Они явились представителями голодающей, беспомощной массы и отнеслись презрительно к наслаждению, как лисица к винограду. Но их мудрость была не добровольная и их стоицизм был напускной. Нравственная сторона учения стоиков заключалась в том, что, вместо бесплодной, разъедающей зависти, они поселяли чувство гордости и собственного достоинства. Бедняк в отрепьях начинал чувствовать в себе нравственную силу и в рабе пробуждалось чувство независимости. Стоик смотрел презрительно на богатого и, Щеголяя в рубище, чувствовал себя таким же человеком, каким был богач в пурпуровой мантии. Богач своими богатствами не мог дать ему ничего и все его подачки и милости он отталкивал с презрением. Когда Александр Македонский спросил Диогена, не может ли он для него что-нибудь сделать, Диоген попросил его не заслонять ему солнца. Царедворцы не поняли этого ответа и засмеялись, но Александр понял. И действительно, для человека нет другого выбора из двух крайностей, как находиться в одной или в другой; это два единственных практических положения. Вот почему людям обеспеченным всегда была понятнее и ближе теория наслаждения, а людям бедным — стоицизм. Вся жизнь вырабатывала тех и других в этих двух противоположных направлениях и, конечно, стоиком мог быть только бедняк, а не обеспеченный богач, не знавший никогда суровой, неподатливой среды, вырабатывающей силу и энергию на борьбу с препятствиями.
Эти два учения остаются и до сих пор самыми понятными и распространенными; их до сих пор пропагандируют писатели и романисты, и практика жизни, практика большинства, не знает других стремлений. Если мы всмотримся ближе в стремление людей к богатству, то увидим, что в этом они вовсе не так виноваты. При теперешних условиях общежития, при теперешнем развитии меньшинства богатство есть одно из условий независимости и свободы. Никто не имеет такой возможности встать вне многоразличных давлений других личностей, как богатый. Разберите всю нашу повседневную жизнь и вы увидите, что только обеспеченное положение дает человеку независимость. При теперешнем развитии понятий каждый продает себя потому, что продает свой труд, и это безразлично — продает ли он свой труд лицу или государству. Человек становится неизбежным рабом опутывающих его форм, отношений и учреждений и может вырваться из них только при одном условии — богатстве. Вот почему практическая речь называет материальное обеспечение «независимым» состоянием.
Стремление к богатству, как к источнику независимости, потому и составляет главное стремление бедняков, что они бедняки. В этом стремлении их жизнь, и в достижении обеспеченной свободы — задача их существования. Но стремление остается стремлением; наслаждение, к которому человек стремится в будущем, в настоящем покупается только лишением. Чтобы сделаться эпикурейцем в будущем, надо быть стоиком в настоящем, и таким образом стоицизм и эпикуреизм сливаются в одной душе. Даже железный Рахметов, спавший на гвоздях, курил гаванские сигары, и в этой кажущейся непоследовательности заключалась истинная последовательность.
Современный стоицизм проповедует то же, что проповедовал стоицизм древний, и так же, как и этот, не разрешает вопроса. Ни у одного теперешнего стоика нет мерила для оценки его поведения и нет такого руководящего начала, которое давало бы содержание его душе. Теория теперешних стоиков — теория экономическая, но не психологическая. Новый стоик, как и стоик древний, замыкается в принужденное гордое величие и только потому смотрит сверху на эпикурейца, что сам стремится им сделаться. Если такой стоик становится фанатиком своей идеи, он, как Рахметов, проповедует самоистязание и самоумерщвление. Он искусственно создает какого-то идеального среднего человека, норму потребности которого ставит нормою своего поведения. Но средней границы на свете нет; ее найти нельзя и, следовательно, она не может служить общим руководящим принципом. Рахметов не ест апельсинов, а ест арбузы. Но разве в той же России, в Петербурге, арбузы не дороже апельсинов? Каждый менее богатый смотрит на более богатого, как на аристократа, и вопрос об аристократизме и демократизме, эпикуреизме и стоицизме, построенный на экономической идее, является, таким образом, источником вражды, а не соглашения, потому что сам по себе он есть враждебный принцип. Стоик суров, пока обстоятельства жизни заставляют его своею несокрушимой властью сидеть в бочке Диогена. Но он сидит в бочке только потому, что у него нет другого помещения; стремления же его иные, он хочет довольства и наслаждения и, в сущности, не стоик, а эпикуреец. И вот наш стоик направляет все свои силы па то, чтобы выкарабкаться из своей бочки, и когда он, наконец, из нее выкарабкается, он смотрит на других карабкающихся стоиков другими глазами и не считает себя уже более стоиком. Это обыкновенная житейская история; история, в которой все путается и мешается и никто не может найти своего места, потому что ни теория наслаждения, ни теория стоицизма указать ©го не могут. Констатируя повседневный факт, теории эти разделяют людей по богатству, учат людей зависти, ненависти и вражде, но не дают им в руки истинного психического руководителя.
В древнем мире учения о наслаждении находили равновесие в учении о государстве. Польза государства служила силой, ограничивавшей стремление лица к наслаждению. Человек имел право наслаждаться свободно лишь до тех пор, пока его наслаждение не наносило ущерба общественному интересу.
Но этот уравновешивающий принцип исчез вместе с древним миром. Древнего человека, поглощаемого государством, сменил новый, и идея равноправности и равного достоинства уравняла теперь всех людей. В древнем мире человек служил государству, в новом — государство служит человеку. Государство есть именно та охраняющая и сберегающая сила, которая гарантирует каждой личности свободу, счастие, «жизнь».
Признавая руководящим началом древний принцип наслаждения, мы впадаем в непоследовательность. Если цель жизни наслаждение и если государство должно обеспечить счастье каждой отдельной личности, то что же обуздает единоличный произвол? Личность, лишенная всякой узды, выскочит из себя; каждый будет жить, как ему живется, делать, что ему нравится, и каждый более слабый задохнется в этой атмосфере бесконечного насилия. А государство, покровительствующее лицу, должно будет покровительствовать такому порядку. Что же останется от общества и государства?
Подобное противоречие могло быть примерно лишь установлением такого нового принципа, который был бы присущ всякому человеку и лежал бы в самых органических его основах. А так как природа, общество, человечество, мир и вся окружающая нас действительность имеет для нас значение только по отношению к нашей душе и настолько, насколько они в ней отражаются, то ясно, что в этой самой душе и следовало искать безошибочного общего основания для человеческого поведения. Руководящий принцип мог быть поэтому только психологическим. Новое европейское общество формулировало его словом «счастье» и «правом на счастье». Каждый человек хочет быть счастливым, должен быть счастливым и имеет право быть счастливым. В первый раз это выра-256
жение получило легальное юридическое утверждение в американской конституции; затем оно было употреблено французами. Кант, доказывавший непоследовательность древнего принципа, говорит, что человек не только должен быть счастлив, но и должен быть достоин своего счастья. Законоведы и юристы приняли эту мысль и ввели ее в действующие юридические постановления. Не впадают ли философы, юристы и законоведы в непоследовательность?
Человек ничего не должен. Психология не знает ни должного, ни недолотого. Она знает только, что человек как психический аппарат действует по неизбежным законам причин и последствий; что поведение его не больше, как рефлекс; что если он поступает так, а не иначе, значит, он и не может поступать иначе, и что, таким образом, понятие о должном исчезает в собственном противоречии. Поэтому психология не морализирует; не ее дело учить людей тому, что они должны делать; ее задачи ограничиваются тем, чтобы показать, какие явления возникают как следствия известных причин и при каких причинах какие последствия неизбежны. Таким образом, для психолога исчезает моральный принцип, что человек должен быть достоин счастья, и остается только, что человек должен быть счастлив и что он имеет право на счастье.
Заменив формулу «наслаждения» формулой «счастья», психология установила один общий принцип, одинаковый для каждого отдельного человека, и следовательно, для всех людей. В древней формуле такого общего момента нет. Разве Иван Гус испытывал какое-либо наслаждение, когда его жглина костре? И в чем могло заключаться наслаждение человека, который для какой-нибудь отвлеченной цели обрекал себя на лишения, страдание и смерть? В чем могло заключаться наслаждение суворовских солдат, карабкавшихся через Альпы? В чем могло заключаться наслаждение наполеоновских гренадер, которые соглашались лучше умереть, чем уступить хоть один шаг неприятелю? Разве теорией наслаждения можно объяснить такое явление? По этой теории, напротив, следовало, чтобы суворовские солдаты не шли в поход, а наполеоновские гренадеры не сражались. Теория наслаждения допускает только одно страдание — неудовлетворенного стремления. Но к чему стремились наполеоновские гренадеры под Аустерлицем, — неужели только к тому, чтобы отдыхать после сражения на голой и сырой земле?..
Величайшее счастье человека — «жить» и величайшее несчастье — «не жить». Жизнь есть никогда не останавливающийся психический процесс, выражающийся в свободном поведении. Хотите понять жизнь, — взгляните на ребенка. Еще грудным, лежа в люльке, он постоянно воспринимает внешние впечатления и отдает их. У него не проходит ни одной свободной минуты, он весь деятельность и жизнь и несчастлив только тогда, когда не может быть свободен. Но вот ребенок уже овладел своей мускульной системой и — он бегает, поет, шумит, кричит, стучит как сумасшедший и ни одной минуты не остается праздным. Машина работает, не останавливаясь. Посадите ребенка на стуле и велите ему быть неподвижным — детей часто таким образом наказывают за шалости — и что же? Не прошло и минуты, — ребенок уже болтает ногами, выщипывает из своего платья ниточки, — и машина опять работает. Спросите, для чего, какой во всем этом смысл? Ни для чего: — жизнь есть вечное движение и вечная деятельность, у нее нет других целей, кроме деятельности и движения.
Усложненный душевный мир развитого человека вводит в его жизнь множество элементов и связывает их сознанием в одно цельное. Но сущность жизненного процесса остается тою же роковою неизбежностью, как падающая лавина. Сеть установившихся представлений не есть сила двигающая, — она сила направляющая, в корне же всего лежит рефлектирующий организм, никогда не знающий покоя.
Жизнь далеко не наслаждение; миллионы людей никогда ничем не наслаждались, и будет справедливее, если мы скажем, что с первого своего появления человечество только страдало. Не это ли страдание людей создало и Эпикура, хотя из его школы сделали не то, чего хотел он. Впрочем, страдаем ли мы или наслаждаемся, — к чему ведут эти слова? Живя, мы гонимся не за наслаждением, не за страданием: мы просто живем. К каким придем мы результатам, что в частности или вообще даст нам жизнь и куда она нас уведет, — кто об этом из нас думает? Мартин Лютер, выступив против католицизма, не думал о том, сожгут его или нет, вопрос жизни
заключался для него не в этом, а в тех психических процессах, которые в нем происходили на основании ассоциаций представлений и чувств, сложившихся в его душе. Если бы целью жизни Лютера было наслаждение, — он послушался бы совета своих друзей и не поехал бы в Вормс. Но он не только поехал, он заключил свою речь знаменитыми словами: «Здесь я перед вами и иначе поступить я не могу. Аминь». В этих словах вся психология. И так же поступили Иван Гус, Бруно и все великие мученики науки и мученики идеи. Их миллионы, имена их не известны, но каждый из них, как Мартин Лютер, поступал потому, что не мог поступить иначе; каждый из них страдал и мучился. Скажите — для чего, если жизнь наслаждение?
Кто бы вы ни были — трус или человек мужественный, филистер или порядочный человек, человек крошечного самолюбия и мелких чувств или человек прощающего, великодушного сердца, — загляните в свою душу и вы скажете, как Лютер: «Иначе поступить я не могу». И поступая так, как вы поступаете, вы не справляетесь с тем, будете ли вы наслаждаться, или нет, но руководитесь иными мотивами и идете своим путем в направлении, на которое поставила вас жизнь. Деловой англичанин, задавшийся мыслью скопить деньги, чтобы провести старость в праздном наслаждении, впадает в сплин и кончает самоубийством.
То, что люди зовут целью, совсем не то, что они понимают. Обшей цели нет, а есть только частные удовлетворения желаний, и в этих-то удовлетворениях и заключается наслаждение. Но наслаждение не цель жизни, ею не может быть законченный и подведенный итог, ибо законченный итог есть прекратившаяся деятельность, а прекратившаяся деятельность — смерть, а не жизнь.
Жизнь заключается в самом процессе движения, в процессе достижения. Деловой англичанин, задавшийся мыслью скопить деньги, жил до тех пор, пока их копил; кончив, — он кончил жить. То, что зовут обыкновенной целью, есть не больше, как сознательный элемент, дающий известное направление нашей деятельности. Цель — это наш идеальный руководитель, и как этот руководитель иногда ошибается, можно видеть из того, что большинством людей руководят самые ничтожные мелкие цели, которые приводят их к таким же результатам.
Ничтожная цель делового англичанина привела его к самоубийству. И в то же время цель для нас все; отнимите ее у человека — и человек отказывается от жизни. Отчего стреляются гимназист, срезавшийся на экзамене, или влюбленный юноша, не встретивший взаимности? У них пропала цель жизни, исчезло содержимое души, дающее направление их деятельности; что же им делать, когда им кажется, что им уж больше делать нечего, когда они не чувствуют в себе никакого материала для жизни?
Но цель тут ни причем; причина в ничтожности и ограниченности сети представлений и всего мировоззрения. Ничтожный результат получился потому, что в основе его лежали мелкие чувства и мелкие мысли, и тут, но только в иной форме, мы видим тот же процесс, какой совершается в разбогатевшем англичанине, отказавшемся от дел. Вот почему на языке моралистов убийство зовется безнравственностью, а на языке психологов — следствием скудости представлений и отсутствия идей.
Жизнь есть деятельность души, и чем шире эта деятельность, чем большая масса представлений ее возбуждает и чем больше струн задевает она в душе, тем полнее жизнь. Человек не родился Робинзоном и живет он не на необитаемом острове. Он только потому и живет, что его окружают природа и люди. Следовательно, вся его жизнь, все содержание его природной деятельности зависит от окружающего мира, и его «я» существует нравственно лишь потому, что существует другое «я». Но мы уже знаем, что душевная деятельность идет, всегда расширяясь. Чем больше завязывается в человеке узлов представлений, тем шире и полнее сеть его мировоззрения, потому что каждый новый узел дает его душе работу и заставляет его завязывать новые узлы. Это бесконечный прогрессивный процесс, в котором личное «я» только потому и составляет центральную точку, что есть другие «я», без которых человеку нечего делать и невозможно жить. Вот узел той солидарности, которая связывает нас с людьми, дает содержание всему нашему мировоззрению, определяет характер нашего поведения и двигает каждого отдельного человека и все человечество в направлении общественного интереса и общего блага. Общественная жизнь есть самая полная жизнь, потому что дает деятельным силам человека наибольший материал.
Поэтому-то, несмотря на все задержки и уклонения, об,-щественный прогресс остановиться не может, ибо источник его в самой душе человека, в законе его сил.
Если, таким образом, жизнь есть деятельность, взятая в отношении к другим людям, если характер есть сумма особенностей, дающая цвет человеческому поведению, то ясно, что характер должен получить именно такое содержание, которое двигало бы все поведение человека в направлении общественного прогресса и общественного блага. Только эта идея есть высший критерий поведения, высшая цель наших поступков, склонностей и стремлений. Жизнь есть счастье только тогда, когда человек может вполне и свободно пользоваться своими силами в расширяющемся направлении, и самая полная и всесторонняя жизнь есть самая счастливая жизнь. А всесторонняя жизнь — только общественная.
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ВЛИЯНИЯ
В повседневной практике воспитания все спутано, неясно, рутинно и не имеет твердой опоры в точном, научном принципе. Поэтому мы, воспитатели, раскидываемся в мелочах, частностях и противоречиях и не только не умеем подкрепить ни одного своего воспитательного правила психологическим доказательством, — мы поступаем хуже: сбиваем с толку детей и портим вое детское нравственное мировоззрение, вводя в него юридизм, метафизические приемы мышления и привычку говорить словами.
Дети, может быть, не меньше нас взрослых ищут одного руководящего начала и ариадниной нити, которая бы выводила их из лабиринта их детских недоразумений. Каждый, даже не особенно пытливый ребенок, ищет такого основания, чтобы подвести под него свое поведение. Причина, по которой ребенок поступает таким образом, очень проста: ребенок чаще, чем мы с вами, убеждается в существовании неизбежного закона причин и последствий. Отыскивая руководящий принцип, ребенок проверяет вас, своего воспитателя.
Один девятилетний мальчик спрашивает своего отца: «папа, скажи когда и за что ты на меня сердишься?». Ребенок верно подметил факты своей жизни, но только не умел возвести их к ясно сознанному единству. Желая удовлетворить требованиям своих воспитателей, всякий ребенок старается определить, что они позволяют и чего не позволяют. Как же это узнать? Есть вещи легко доступные, есть трудно доступные.
Ваш сын, положим, учится в гимназии, вы хотите, чтобы он был умен и учился хорошо, вы делаете ему замечания, выговоры, вы его наказываете за единицы. Вы говорите ребенку, что он не будет умен, если не будет учиться хорошо. Понять ваши требования нс трудно и ребенок очень скоро их понимает. Он почти сразу запомнил, что ум есть ученье, а чтобы хорошо учиться, нужно быть прилежным и долбить свои уроки. И он их долбит, он прилежен, он получает хорошие баллы и доволен и счастлив родительской лаской. Да и как не понять таких простых фактов, такого простого следствия, такой простой причины? Конечно, ребенок не понимает, что такое ум, — да знают ли это и его родители? — но он очень хорошо понимает, чего от него требуют, и превосходно подметил неприятные практические последствия, идущие следом за неисполнением этого требования.
Совсем другое, когда ребенок вступает в область нравственных отношений, в ту сложную область чувства, в которой он живет. Здесь, что ни шаг, то противоречие, неясность, неточность, неопределенность и разное толкование одних и тех же отношений. В этой широкой области для ребенка все смутно, начиная с беспричинных, пови-димому, процессов внутреннего чувства и кончая чувствами, порождаемыми отношениями к другим людям. Детское сознание положительно бессильно справиться с маосою подавляющего его материала. Как должен вести себя ребенок, как ему согласить требования своего «я» с требованиями чужого «я»? Он встречает запрещения и замечания на каждом шагу, но почему? Есть вещи ясные и очевидные, как «ум», но еще больше неясного. Когда ребенок прибил своего товарища или брата и за это получил от отца или матери тукманку, маленький буян познает горьким опытом, что драться не следует, потому что за это его бьют самого. Но предположим, что ребенок ест за обедом сладкий пирог; он обгрыз его там, где повкуснее, а остального не хочет, и он сует огрызок своей сестре. «Фи, какая мерзость, разве это можно делать!» замечает сердито мать. А почему нельзя, спрошу я вас? Почему это мерзость? Почему мерзость отдать свои объедки и не мерзость отдать непочатый 262
кусок? Ясно, что мать смотрит на вопрос с точки зрения приличий и благопристойности. И ребенок заучивает только внешнюю сторону явления, следствие, а не причину; он заучивает на память, что такое-то действие не допускается в обществе, но почему — ему этого не растолковали. И в самом деле, почему следовало отдать весь пирог? Если отдать пирог, нужно отдать и суп, и жареное, отдать и свои яблоки. Где конец уступке? Ребенок положительно в тумане, и, конечно, он своими доказательствами скорее убедит вас, чем вы его — своими принципами приличия и благопристойности.
Вопрос становится еще более сложным и запутанным, когда для разъяснения отношений приходится вводить отвлеченные понятия о справедливости, долге, уважении, человеческом достоинстве. Известное правило практической морали: «не делай того другому, чего не хочешь, чтобы тебе делали», не подвигает ребенка ни на шаг вперед. Вы ему запрещаете давать другому объедки сладкого пирога, но он сам вовсе не против того, чтобы другой с ним поступал таким образом! Вы говорите ему, что нужно делать другим приятно, — и он отдает деревенским мальчикам свои старые изломанные игрушки, дарит запачканные, попорченные и негодные ему вещи. По теории сладкого пирога так поступать не следует, но по другой вашей теории — приятного — ребенок не делает нравственной ошибки, потому что мальчишки не только счастливы и довольны, но и сами просят подарить им обноски. Может быть, для вас во всем этом нет противоречий, но сына своего вы сбили с толку.
Ребенок по чувствам и понятиям гораздо ближе к дикарю, чем к цивилизованному человеку. Задача воспитания именно в том и заключается, чтобы создать в ребенке безошибочное сознание, дать ему такие факты, из которых бы он мог вывести руководящий принцип для своего поведения, и по возможности предохранить его от раскаяния как в настоящем, так и в будущем.
Нам говорят, будто бы семья научает лучше всего подобной безошибочности. Нам говорят, что семья дает первые уроки практической жизни, из которых полнее всего формируется благородный и честный характер. В доказательство ссылаются на Сократа, Эпиктета, Зенона, Карла Великого, Вальтер-Скотта, Вашингтона, и т. д. Но мы можем представить еще большее число фактов, когда семья и мать портили своих детей. Мудрые сентенции и нравственные афоризмы, безразлично обращающиеся в обществе, не подвигают вопроса о воспитании ни на шаг вперед. Что «народы выходят из детской» это справедливо, но если мы ответим: «то-то они так и хороши», это тоже будет справедливо. Где матери, к которым взывают друзья человечества и которых для Франции хотел Наполеон I? Действительно, первые уроки — уроки матери, и первые опыты жизни получаются нами в семье; но если бы у нас были настоящие матери, разве друзья человечества взывали бы к хорошим!
Моралисты-писатели, вроде Смайльса, указывают на примеры великих людей и цитируют слова великих мыслителей. Но ходячие фразы о семье не делают ее лучше. И разве все могут быть великими, и разве до обыкновенных людей достигают слова великих мыслителей? Каждая семья думает, что она «семья», и каждая мать воображает, что она «мать». Каждый чел век верит в безошибочность своих заключений, и вы не найдете ни одного, который бы согласился, что его убеждения ошибочны: — мир состоит из неошибающихся людей, неошибающихся матерей и отцов. Нужно сказать не то, что говорят моралисты общественному мнению; нужно, чтобы общественное мнение знало, что действительность, которою владеет практика жизни, совсем не тот материал, о котором говорят моралисты. Семья и мать должны воспитывать людей, но они их не воспитывают и причина этого проста. Семья есть микрокосм того общества, которое ее создало, и потому между обществом и семьей существует самая тесная солидарность. Каждая семья настолько дурна или хороша, насколько дурно или хорошо создавшее ее общество. Созданная сама обществом, она в свою очередь воспитывает для него членов, и в этом заколдованном круге вращается воспитание.
Вопрос о том, лучше ли совершается воспитание человека в семье или вне ее, вовсе еще не разрешен. Моралисты свои идеальные требования прилагают к идеальной семье, но укажите такую в действительности? Все усилия прогрессивной мысли в последнее время направлены именно к тому, чтобы создать нормальную семью. А могут ли ненормальные отношения создать нормальные последствия; может ли быть воспитано человечество в требованиях моралистов, если, прежде всего, именно недостает требуемой ими семьи? Если Вашингтон предлагал устроить один общий университет для всего североамериканского союза, — университет, в котором вся американская молодежь могла бы воспитываться в одном общем направлении, он, конечно, знал, чего хотел. Спартанца воспитывала не семья, а школа и товарищество. Дух заведения, которым отличаются школы Англии и Америки, не фраза. Наконец, мы думаем, что для воспитания чувств и для сформирования целого, закаленного упругого характера школа представляет п раздо больше материала, чем невежественная семья.
В защиту семьи мы могли бы сказать, что, под руководством настоящей матери, она могла бы влиять на формирование добрых и великодушных чувств. Семья чужда черствой одноформенности, казарменного быта воспитательных заведений и не знает фабричной дисциплины школы. В семье ребенок имеет возможность сохранить наибольшую свободу чувств и действий; он живет среди самых разнообразных впечатлений, как внутренней, домашней жизни, так и тех, которые являются в нее извне, вследствие сообщения с внешним миром. Но вот тут-то именно и поворотная точка взаимодействия общества и семьи.
Мы не можем выделить семью из окружающей ее жизни. Элементы внешнего мира, с которыми она входит в общение, должны в ней отражаться и иметь в ней свои корни; семья чиновничья, купеческая, дворянская, мещанская, крестьянская — живут каждая в кругу своих интересов и в своем мире. Все отношения, все разговоры, все нравственные принципы бнешней жизни входят неизбежно в основу жизни семьи и практика внутренних отношений несет на себе неизбежно клеймо отношений внешних. Честность, царящая в купеческой лавке, царит, конечно и в купеческой семье; дисциплина, под которой живет воин, вносится им в свой дом; чиновник воспитывает своих детей в чиновно-гражданских понятиях.
Масса живет практически, подчиняясь закону инерции, рефлектируя под давлением внешних общественных условий. Если бы этого не было, Франция Наполеона I и Наполеона III была бы невозможна. И Вашингтон хотел одного американского университета потому же. Воспитание народов в противоположных крайностях возможно только через семью, ибо лишь путем семьи можно вносить новое начало в воспитание новых поколений. Таким образом, семья, являясь, с одной стороны, сильнейшим орудием прогресса, с другой — может служить сильнейшим орудием регресса.
Вопрос, следовательно, не в семье, а в нравственном и умственном содержании, в тех началах, какие она дает детям. Прогрессивные исключения, гении и великие люди, считаются единицами; а так как массу составляет собирательная посредственность, то и семья в общем ее значении является воспитательницей этой посредственности.
В царящей повсюду практике семья есть воспитательное орудие тех внешних сил, которые давят на нее своими принципами. Семья, действительно, воспитывает чувства, как школа воспитывает средства ума; но над той и над другой стоит высший руководитель, и этот руководитель есть существующий общественный порядок, обусловленный учреждениями, законами и всем гражданским строем страны.
Семья, сама по себе, бессильна вырваться из подавляющего ее влияния. Она не может быть самостоятельно действующей силой, и если бы вздумала протестовать, то может протестовать только единично, не обнаруживая никакого влияния на общий ход внешней управляющей ею силы.
Воспитательная зависимость семьи виднее всего на той же Франции. Наполеоновский режим двадцать лет тяготел над французами. Только случай освободил от него страну. Но сделала ли что-либо французская семья, чтобы создать других людей? Ничего. И вот, во Франции не нашлось людей ни для последней войны, ни для теперешнего времени. Воспитательная несостоятельность семьи обнаружилась самым блистательным образом. Европейские либералы говорят о бессилии и дрянности Франции. Но тут нет ни бессилия, ни дрянности. Психолог бы сказал, что общественные условия Франции помешали ее семье действовать на чувство и мысль в том направлении, которое создает наибольшее счастие отдельных людей. А когда явился случай действовать в этом направлении, оказалось, что люди не умеют владеть ни чувствами, ни мыслями, которые для того нужны. Тут только психологические следствия психологических причин, созданных ошибочным режимом. Пусть Франция решит, хорош ли он, если он ведет к таким последствиям.
Из этого примера ясно, почему путем реформ и лучших учреждений можно воспитать лучшее общество. Средства семьи, повидимому, те же, а между тем являются другие люди. От чего? только от того, что каждому отдельному человеку открывается возможность думать и чувствовать в ином, более широком направлении, и интеллект, действовавший раньше в узкой сфере домашних повседневностей, теперь получает богатый и более крупный материал и потому работает более крупную работу и приходит к более крупным выводам.
Когда обыденная практика и ходячая мораль говорят о могущественном влиянии семьи на характер, они, обыкновенно, выставляют морально-метафизические требования. Воспитатели-моралисты, указывая на влияние семьи, товарищей и примера, имеют перед глазами те мелочные, обиходные добродетели, которыми формируется школьное понятие о поведении. Нам, например, говорят, что если молодые люди находятся под хорошим влиянием и надзором и добросовестно пользуются своею свободою, то они будут искать общества людей, которые нравственно стоят выше их, и будут стараться подражать их примерам. Моралисты говорят, что в обществе людей хороших молодость найдет себе лучшую и полезнейшую пищу, тогда как дурное общество разовьет в ней пороки. «Есть люди, — говорит Смайльс, — знакомство с кото-торыми немедленно рождает любовь, уважение и удивление к ним; другие же, напротив, с первого знакомства внушают отвращение и презрение. Живя с людьми возвышенного и благородного характера, вы почувствуете себя возвышенными и освещенными их светом». Какие все слова! Подумаешь, что вся задача воспитания только в том, чтобы говорить красиво о добродетели и восхищаться душевной красотой, не понимая ее причин.
Вы нам велите искать общества людей нравственно великих и опытных и предпочитать общество хорошее дурному. Но разве от нас зависит выбор своего общества, и что вы проповедуете об обществе великих людей жителю уездного города или деревни? Неужели вы думаете, что каждый из нас не хотел бы иметь своими друзьями Фемистокла, Аристида, Катона, Мартина Лютера, Вашингтона? Дайте нам их общество, и вы увидите, что мы сумеем предпочесть его обществу купеческих приказчиков, матушкиных сынков, театралов и юристов.
Обиходные пороки неоспоримо мешают человеческому благополучию. Жаль, если молодежь вместо благородного образа мыслей усваивает ничтожный, или вместо любви отдается разврату, вместо трезвости — пьянству, вместо занятий, расширяющих область чувства, ведет трактирную жизнь или играет в карты. Но что же такое обиходная нравственность или безнравственность, как не последствие обиходного образа мыслей и практики обиходных чувств? В статье «Воля» мы уже говорили, на какое безразличное употребление могут идти душевные силы, и как деятельность, не находящая себе простора и высших задач, превращается в мелочное, позорящее поведение. Следовательно, обиходная нравственность находится в прямой связи с направлением наших чувств и мыслей. Нужны особые обстоятельства, нужны скверные привычки, молодости, чтобы человек, вступивший в сферу широких общественных интересов, вел бы позорную частную жизнь. Возьмите так называемых великих людей и великих общественных деятелей; возьмите даже людей средних способностей, как теперешние прусские и французские государственные деятели. Они не потому не могут быть ни трактирными героями, ни театралами, что они нравственны, а они потому нравственны, что все их душевные силы поглощены другим делом и что ни в их чувствах, ни в их мыслях не могут быть ассоциации тех мелких представлений, которые ведут к позорящему поведению.
Фемистоклу могли не давать покоя победы Миль-тиада, но разве победы Наполеона I могли бы отнять от нас с вами хотя одну минуту сна? Заразительность примера возможна только тогда, когда есть возможность ему следовать. Мы тоже знаем силу примера и знаем все его воспитательное значение, но мы не станем укорять вас ни Фемистоклом, ни Мильтиадом, ни Наполеоном I, и даже не поставим вам в вину ваше ничтожное поведение, потому что мы знаем, иод давлением каких обстоятельств сформировалась ваша душа. В эпоху Наполеона I примеры широкоразвитого национального чувства заражали людей как повальная болезнь и один пример увлекал десятки подражателей; но в эпохи иных примеров являются и иные подражатели. Когда для человече-268
ских способностей открыто лишь обиходное приложение, смешно, как Смайльс, говорить о Фемистоклах и Мильтй-адах.
И при всем том, товариществу мы отдаем воспитательное преимущество перед семьей. Семья — основная ячейка общества, из нее оно выходит и в ней оно отражается. Следовательно, семья, в ее общем смысле, связанная органически с обществом, не может быть выше его и в общем хоре не смеет тянуть фальшивой ноты. Если в какой форме и может явиться поправка ошибочного и неверного воспитательного влияния семьи, то только в той личной форме, которую изображает собою отдельный пример и товарищеский кружок. Если кружок пьяниц и трактирных и салонных героев может дать мыслям, чувствам и стремлениям ошибочное направление, то точно так же только кружок порядочных, мыслящих, пытливых и честных товарищей может парализовать затупляющее, своекорыстное и эгоистическое влияние дурной семьи.
Воспитание начинается с колыбели, но ведь и порча тоже начинается с колыбели. Нынче всякая мать повторяет, что воспитание начинается с первого дня рождения ребенка, но это не больше как красивые слова, не возведенные в сознание и далеко еще. не вошедшие в обыденную практику воспитания. Корень воспитательной порчи заключается именно в том чадолюбии, границ которого не умеет найти ни одна мать. Мы знаем, что границы его найти не легко, но если уж приходится выбирать между стоицизмом и эпикуреизмом, то мы бы отдали предпочтение первому. Наши же матери — напротив. Все их тенденции направлены в сторону эпикуреизма, изнежения, баловства и аристократизма, создающего барчат и барышень. Значит ли это воспитывать характер и готовить человека для тех суровых толчков жизни, от которых спасает только редкое счастливое исключение? Не о развитии грубых чувств говорим мы; ибо чувства стоиков были шире, глубже, чем чувства эпикурейцев; но мы говорим о том «женском» влиянии, которое воспитывает человеческую душу вне всякой силы выносить противодействие, в непривычке встречать его и в неумении бороться с препятствиями, ибо их от детской души всегда отстраняли. Материнское потворство только изменило форму, но не исчезло, и незаметно, шаг за шагом, вносит в детскую душу порчу, расслабляя ее, расслабляя и тело. Из детей с самыми благоприятными душевными основами вырастают люди, не знающие меры своих сил, и ничто не благоприятствует этому неверному воспитанию так, как невежество матерей.
Было время, когда Россия давала суровое спартанское воспитание в своих закрытых заведениях. Но мы, прошедши эту школу, не отнесемся к ней с дурной стороны. Воспитание было, действительно, сурово, потому что стремились закалить душу и тело; в крайних своих проявлениях оно бывало даже беспощадно; но оно имело на характер более благотворное влияние, чем та реакция семейного воспитания, которая создает теперь мелочных себялюбцев, с самой первой молодости глубоко погрязающих в индивидуализме и вырастающих «первыми» людьми.
Пример: вот чадолюбивая мать, нежная, страстная и безошибочная — потому что какая же мать ошибается и какая в своем чувстве любви не ищет единственного критерия для своего воспитательного поведения? и тут-то ее ошибки. Чтобы правильно смотреть на дело воспитания и на свои отношения к детям нужно, прежде всего, не любить их страстно. Страстность заставляет чадолюбивых матерей подтасовывать факты и убивает в них всякое чувство правдивости. Мы знали не глупых, но страстных матерей, которые переносили на детей те чувства, которые питали к их отцам. Ребенок от первого мужа — любимый сын; ребенок от второго, нелюбимого — нелюбимый. Как психологические процессы, чувства эти, конечно, понятны и причины их ясны; но воспитание от этого ничего не выигрывает.
Усиленная односторонняя любовь, сконцентрировавшая все свои приятные воспоминания на первом ребенке и перенесенная на него, является именно тем элементом порчи, о котором мы говорим. От чего же первенцы и единственные дети, а иногда и дети последние, выходят большею частью неправильно воспитанными? Только потому, что любимый ребенок — кумир матери и ее любовь направлена именно на то, чтобы отстранить от ребенка все, что мешает его детскому благополучию. Мало того, что ребенок не знает отказов, но его окружает еще целая сеть безгласных поощрений, постоянно ему льстящих. В каждом взгляде матери ребенок читает одобре-270
иИе, на каждом шагу он Чувствует, что он первый, единственный человек, — центр семьи, около которого все вращается и которому все служит. И незаметно, шаг за шагом, ребенок растет в исключительном чувстве первенства, вне препятствий, противоречий и помех и вырастает несчастным «первым» человеком, с дряблым характером, с отсутствием всякой сдерживающей дисциплины, неспособным на борьбу с жизнью. Если «первый человек» наконец найдет свое место между людьми, то путем многих и многих страданий.
Испытайте борьбу с детьми, испорченными матерями, и только тогда вы узнаете, что значит первое влияние. Ребенка, выросшего до 10 или 12 лет под портящим влиянием матери, вы уже не исправите никакой личной борьбой. Ассоциации известных представлений сплелись уже так твердо в его понятиях, а ассоциации по чувствам ушли так далеко в направлении своекорыстия, что всякое единоличное влияние должно отказаться от борьбы, и благоприятную реакцию остается предоставить времени.
Что же значит время? — Пример товарищей и пора возмужалости. Пора возмужалости, раскрывая сердце юноши для любви, расплавляет ту твердую кору души, в которую заключало ее своекорыстное домашнее воспитание. До сих пор юноша жил в мире, точно Робинзон на необитаемом острове, не подозревая, что есть другие люди, и привыкши видеть только одного себя. Полюбив, он внезапно подле своего «я» увидел другое «я», о существовании которого не подозревал; любовь пробила в его сердце брешь, брешь, в которую теперь и проникнут первые чувства к другим людям и любовь к человечеству. Пот почему пора первой любви — такая важная воспитательная пора в жизни юноши.
Но рядом с чувством идет и мысль. Жившая до сих пор изолированно, она теперь в фактах и явлениях внешней жизни встречает новый, невиданный материал, какой ей никогда не представлялся под воспитательным влиянием матери и семьи. В пору юношеских увлечений общество мыслящих товарищей производит полный перелом в мировоззрении; это момент той новой работы, когда душа юноши, выкидывая за борт все ненужное и лишнее, выплетает новую сеть гуманных представлений, какой бы она никогда не сплела в своей первой обстановке.
Влияние товарищей подчиняется, конечно, тоже общему ходу внешней жизни и не во все эпохи бывает одинаково. Внешний, общественный режим может иногда более благоприятствовать восторженному настроению молодежи, а может его и сдерживать. Но мы говорим не об этом. Мы хотим сказать, что только общество товарищей может освободить юношу от ошибок эгоистичного мировоззрения и помочь ему в новом направлении. Уж одна разница лет мешает детям найти подобное духовное общение со своими родителями. Для общения требуется одинаковая свежесть сил, одинаковый размер непонимания, одинаковый размер стремлений и, наконец, известное многолюдство, т. е. полная солидарность во всем, которую юноша найдет только между однолетками. Вот почему семья никогда не может заменить товарищей, и вот почему родители, устраняющие своих детей от знакомства с товарищами, делают весьма важную воспитательную ошибку. Мы знаем детей, учеников 4-го и 5-го классов гимназии, которым совершенно неизвестно чувство товарищества и у которых нет друзей. Нам случалось слышать, как родители делали замечание за это своим детям, но разве дети виноваты в том, что их воспитали такими сами же их родители!
Книги — вот тот главный источник, из которого молодежь черпает содержание для своих новых ассоциаций представлений, которыми она проверяет окружающую ее жизнь. Поэтому обыденная воспитательная практика совершенно права, видя в книгах первое основание для развития ума и чувства. Книги, действительно, то наследие веков, в котором выразилась память человечества. Ни в одностороннем, ограниченном направлении семьи, ни в обществе пытливых и стремящихся к развитию товарищей вы не найдете того, что дадут вам великие писатели. Только книги могут разрешить сомнения пытливого молодого ума и только они дадут ответы на вопросы, которые мучат бессильный молодой ум. Но обиходная практика жестоко ошибается, если всякому чтению она придает воспитательное значение. И к сожалению, мы на каждом шагу встречаем подобную ошибку. Только счастливо одаренным личностям не мешает беспорядочное чтение, потому что их пытливая и впечатлительная душа в каждой книге может найти то, чего ищет. Но не думайте, что подобный ребенок или юноша читает всякую книгу. Беспорядочность его чтения заключается только в том, что он читает без системы. Но все, что он читает, воспринимается сильно и оставляет в его душе глубокие следы. Счастливо одаренный, пытливый ум только трудится больше, но усвоенный без порядка материал он все-таки приводит в порядок и выплетает из него полную, законченную сеть. Такие счастливые личности не правила, а исключения. Большинству их работа не под силу и потому производит в них сумбур понятий и залатает обрывки многообразных незаконченных представлений, которых слабый ум никогда не свяжет в одно общее единство. Родители, желая приучить своих детей к чтению, дают им обыкновенно занимательные книжки, — бесконечного Майн-Рнда и другое подобное чтение. Детская память усваивает, действительно, множество фактов, из которых воображение составляет потом целые вереницы пленительных картин. Но какую пользу приносит такое чтение? Оно только обременяет память ненужными фактами и отрывает детский ум от живого, действительного, отвлекая его в сторону эффектного и мечтательного.
Выбор чтения — одно из самых важных воспитательных влияний и, конечно, в соответственном выборе книг заключается самая трудная задача воспитателей или родителей. Мы знаем детей, которые прочитали целые вороха книг, но лучше бы они ничего не читали. И чем дальше, тем выбор соответственного чтения становится труднее. В самом деле, что читать и в каком порядке при гой массе книг, которыми завалены книжные лавки, и при той издательской спекуляции, которая эксплуатирует потребность в чтении? Вместр идей, теперешние книги дают только чтения и ставят лишь в затруднение родителей при их выборе. Что давать детям, что выбрать в книжном магазине, предлагающем вам тысячи разнообразных детских изданий? Никакой самый пытливый ум не в состоянии одолеть всей этой массы печатной бумаги, а если он ее одолеет, то что же он из нее извлечет? Читающие дети находятся в положительном лабиринте, из которого они не могут сами выйти и из которого их не в состоянии вывести и их беспомощные родители. При таком порядке, вместо пользы, чтение приносит вред. Наши дети стараются превращать чтение в приятное препровождение времени, заполняющее их праздный досуг, а не в работу мысли, собирающую полезный материал 18 Н. В. Шелгунов.
для полезного вывода. Ребенок читает только для того, чтобы читать, а не для того, чтобы узнать. Дети, конечно, в этом не виноваты. И потому-то еще печальнее, что ни педагоги, ни воспитатели, ни издатели, ни авторы не думают о том, чтобы создать для детей здоровое, полезное, реальное чтение.
В самом раннем детстве должны быть уже заложены геройские чувства, настраивающие душу на подвиги любви и благородства. И разве история представляет мало примеров героев? Отчего же не знакомят детей с ними? Дитя по преимуществу практик и реалист, для него все действительность. Поэтому на детскую впечатлительную душу вредно действуют вымышленные лица. Мы знаем, что детей не пленишь гражданским величием таких людей, как Вашингтон. Ребенку нужен шум, движение, блеск. Чем больше герой шумит, тем он пленительнее для ребенка. Давайте ему Александра Македонского, Юлия Цезаря, Горация Коклеса, Муция Сцеволу; давайте ему героев древности и не бойтесь, что герои бывали иногда бичами человечества. Ребенку нужна ширь чувства, ему нужны те движения души, которые бы открывали его внимание в сторону общечеловеческого, шевелили его душу крупными интересами и спасали бы его от той мелочности чувств и мыслей, которыми так изобильна окружающая его кухонная, домашняя жизнь. Не бойтесь, что бич человечества сделает и из него бича. Последующее сознание сумеет справиться с этим материалом и переработает его в правильный социальный вывод. Но зато вы открыли душу в сторону широких ощущений и заложили в ней потребность сильно двигающих чувств. А это все, что нужно.
И молодежь относительно книг находится в таком же безвыходном положении, как дети. Не то, чтобы ей не было чего читать, но она затруднена выбором и в окружающем ее диссонансе смутных понятий и противоречий положительно не может найти выхода к своей правде. Но как велика потребность пытливой, молодой, формирующейся души овладеть единством мировоззрения, видно из той жадности, с какою молодежь повсюду накидывается на чтение и с какою она хочет, чтобы ее научили, что читать. И действительно, вопрос о чтении — самый важный вопрос. Масса так называемых серьезных книг и русская периодическая печать так же его не разре-274
шают, как не разрешает его детская литература. И в то же время он мог бы быть разрешен, если бы у нас существовала «энциклопедия». Мы знаем, что, предъявляя такое требование, мы говорим почти о невозможном, что энциклопедия, разрешающая вопросы пытливой молодежи, у нас не явится; но мы собственно только констатируем факт беспомощности русской формирующейся мысли, которой еще не скоро придется овладеть средствами серьезного развития.
Обыденная практика дает большое воспитательное значение труду. Она верно подметила, что привычка к занятиям есть необходимое условие благосостояния как женщины, так и мужчины. Но что такое труд, как воспитательный элемент? Душа требует деятельности и, конечно, не всякий труд может дать ей пищу. Оттого-то мы и видим столько мелочного и бесполезного труда, столько мелочной суетливости, которые не делают людей счастливее, потому что дают душе не настоящее дело, а его суррогаты.
Обыденная практика, поступающая таким образом, конечно, в том не виновата и не от нее зависит изменить сразу действительность. Но от этого не становится лучше, а общей выгоды не прибавляется. Зачем только лицемерить! Такие проповедники морали, как Смайльс, расписывают целые книги на тему, что «праздность есть мать всех пороков», и с наглой бессовестностью выставляют в пример великих людей и гениев, которые умели найти широкий выход своим широким силам. Да разве о гениях речь, когда идет речь о воспитании детей? Гений найдет себе широкую дорогу и не зароется в суррогатах деятельности и в тех мелочах, которые опошляют и портят жизнь и роняют уровень целого общества. Писатели-моралисты советуют приучать детей к кропотливости, аккуратности, точности, бережливости, методичности и вообще к таким скромным конторским добродетелям, точно вся задача воспитания заключается в том, чтобы подготовить приказчиков. Мы знаем, что всеми этими качествами отличались великие люди, что только с ними можно извлечь из времени наибольшую пользу; но отто-го-то ваше лицемерие еще хуже. Если бы рутинная практика когда-нибудь задумывалась над психическими явлениями, она бы не сказала, что достаточно трудиться, чтобы быть счастливым. Человеку нужен не труд, а нужна деятельность. Спросите африканского раба и китайского кули делает ли их труд счастливым, а уж кто трудится больше их!
В одном только можно согласиться с обыденным общественным мнением, когда оно утверждает, что величайшая школа для формирования характера есть школа затруднений и практика жизни. Но и тут нужно условиться в словах. Действительно, жизнь есть лучшая школа воспитания, но едва ли вы будете утверждать, что школа киргизской степи и школа американской жизни одинаковы. Характер формируется борьбой и человек создается препятствиями, но не все препятствия создают силу. Труд без деятельности парализует развитие души, а не помогает ее росту; он убивает характер, а не создает его.
Ошибки общественного мнения и обыденной воспитательной практики заключаются именно в том, что словам, которые они употребляют, они не придают настоящего психологического смысла. Для обыденных воспитателей точно не существует никакой души и они серьезно воображают, что ее можно лепить во всякие формы. От того общественное мнение играет словами и понятиями нравственного порядка и для каждого слова бережет два противоположных смысла. Но человеческая душа, действуя по своим законам, признает за каждым словом только один смысл. Вот почему, несмотря на все усилия обыденной практики, люди получаются совсем иными, дети расходятся с отцами, и последующим поколениям приходится исправлять ошибки предыдущих.
Жизнь, действительно, величайший воспитатель человека, но ее воспитание бывает иногда отрицательным. В те моменты, когда людям приходится испытывать на себе последствия предыдущих ошибок, человеческое сознание, пораженное диссонансом противоречащих фактов, делает им новую проверку, подводит им новый итог и старым словам дает новый смысл, возводя их к новому единству, которого не могла разрешить ни семья, ни жизнь, ни школа.
УСЛОВИЯ СОЛИДАРНОСТИ
Общественное мнение всегда строго относилось к людям, труд которых не имел общественного характера. Всякий эксплуататор, всякий человек, пользующийся чужими трудами, вызывал презрение. Честный и благородно мыслящий человек никогда не станет пользоваться чужим трудом и свою нравственную независимость он видит именно в том, чтобы не одолжаться. Но что значит одолжаться? Это значит, брать от другого больше того, что мы ему возвращаем. Понятие о личной независимости зависит обыкновенно от строя общества и от его социальных условий. Наше крепостное право было построено на эксплуатации чужого труда, а потому наши понятия того времени о независимости были не такими, какими они теперь становятся. Было время, когда хлебосольство Москвы держало открытые столы для всех званых и незваных и поесть даром чужой обед не казалось никому оскорбительным; но теперь всякого порядочного человека возмутила бы мысль поесть даром или принять участие в пирушке и не заплатить своей доли. К сожалению, относительно других форм эксплуатации чужого труда мы менее щепетильны.
Нельзя сказать, чтобы наши воспитатели и родители не старались бы развивать привычки думать в направлении интересов ближнего. Так, мы приучаем малолетних детей делиться лакомствами, и наши матери уже очень хорошо знают, что лакомство, которым ребенок поделился, не должно быть ему возвращено. Но рядом с этим мы встречаем такую массу мелких противоречий, созданных баловством, что дети незаметно, шаг за шагом, получают эгоистическую привычку считать домашних своими рабами. Няня и мать первые рабы детей, которым не прощают и десятой доли того, что прощается другим. Ребенок легко прощает отказ постороннему, но не простит его никогда балующей его матери. В присутствии балующих матерей дети всегда капризнее и требовательнее, чем без них.
Привычка смотреть на свой дом и иа ближних, как на предмет личной эксплуатации, вкореняется в нас c первою молодостью. И баловство есть, в сущности, воспитание ребенка в эгоцентрировании, в привычке брать все от других и пользоваться чужим трудом. Дом, семья, — всегда наша деревня, то место, где мы даем полнейший простор своему личному произволу и где каждый из нас старается заставить за себя работать другого. Если общество поражает своим эксплуатирующим строем, если каждый бережет свой собственный труд и в то же время либерален на счет чужих труда, времени и средств, то причину этого нужно искать в том, что семья не воспитала детей в правильных понятиях о труде.
Посмотрите на мелочи семейных отношений и вы уви-дете, как все они клонятся к тому, чтобы воспитывать из нас эксплуататоров. Разве ребенку говорит кто-нибудь когда-нибудь о чужом труде? Он никогда не слышит даже этого слова. Он десятки раз измажет свои руки и десятки раз будет мыть их, и заставит десятки раз принести себе воду и десять раз вымыть его пачкотню. Дети наши знают только личные прихоти и ни один из них никогда не бережет ни своего, ни чужого труда. Заучивая понятия о приличиях и благовоспитанности, дети никогда не слышат того, что они должны беречь другого человека. Но не потому ли экономические понятия недоступны нашим детям, что они недоступны еше нам, воспитателям? Крепостное право уже миновало, а между тем домашних рабов вы найдете еще в каждом доме. И на них-то мы воспитываемся в старых понятиях, хотя формы жизни уже изменились.
Характер нашего домашнего воспитания и до сих пор нравственно-юридический, а не социально-экономический, каким бы он должен быть. Поэтому наше детское воспитание лишено реального, осязательного содержания и все наши воспитательные правила являются чем-то запутанным и лишенным твердой точки опоры. Мы требуем от детей манер и изящества, порядочности, чистоплотности, доброты и добродушия; мы учим их уступчивости, вежливости и, придавая всем этим словам и понятиям исключительно моральный характер, делаем их неуловимыми для детского понимания. Если ребенок пачкает и рвет все вокруг себя, если он мажется и заставляет домашнюю прислугу целый день ходить только за ним, моральными объяснениями вы не докажете ребенку, — почему это худо. И в самом деле, почему ему не вымыться, если он испачкался, и почему не убирать за ним, если он наделал беспорядков? Но встаньте раз на социально-экономическую точку зрения, и вы увидите, как много трудно объяснимых вещей сделаются легко объяснимыми. Поймите только сами, что значит труд и солидарность труда; поймите только сами, насколько человеческое общество терпит от того, что каждый старается уменьшить свой труд fta стет труда другого, и насколько слабо развиты еще наши понятия об истинной взаимной солидарности. Человек, не способный понимать всего социально-экономического значения взаимной солидарности, никогда не будет истинно свободным, истинно честным и истинно благородным человеком.
Труд, как деятельность, знает только законы меры и числа и отсюда возникает целая масса экономических условий его успешности. Если общеполезная деятельность есть единственный труд, удовлетворяющий человека, то конечно, труд этот будет тем удовлетворительнее, чем мы приносим больше общественной пользы. Мы будем тем счастливее, чем производим больше полезных результатов и настолько же больше мы окажемся полезными и хорошими людьми. Ясно поэтому, какую роль в воспитании должны играть привычки, делающие человеческий труд наиболее успешным.
В этом случае английское воспитание и его деловое направление можно считать образцовыми. Никто лучше англичан не знаком с системой и методой в труде, с экономией во времени и уменьем организовать занятия так, чтобы с наименьшею потерею времени и сил получить наибольший полезный результат. Англичане справедливо ставят так высоко воспитание деловых привычек. Привычка к хорошо организованному труду предполагает энергию, усидчивость, настойчивость, предусмотрительность, благоразумие, практическое здравомыслие, способность быстрых и верных соображений, наблюдение над людскими характерами, самообладание и нравственную дисциплину.
У нас на систему и порядок в труде и занятиях сложилось воззрение диаметрально противоположное английскому. Крепостное право, приучив нас пользоваться даровыми силами, приучило и не быть расчетливыми с даровым трудом. Поэтому ни в домашней, ни в общественной жизни у нас никогда не бывало деловых привычек, й всякий порядок, расчет и систему мы считали годными только для немцев, а не для русской широкой натуры. Начало произвола, каприза и увлечения мы вносили повсюду и не давали почти никакой цены методу, знанию и энергическому преследованию мысли в одном направлении. Нам казалось, что мы слишком гениальны для того, чтобы быть деловитыми, и что деловые привычки несовместны с русским гением. Против этого мнения можно выставить целый ряд опровергающих его фактов. Люди, которых зовут гениальными, отличались всегда деловыми и точными привычками. Они потому и гениальны, что в данное время производили столько, сколько другие произвести были не в состоянии.
Правда, так называемые мыслители и чисто кабинетные труженики бывают не всегда деловыми, практическими людьми. Но это не больше, как недостаток их воспитания и следствие односторонних привычек. Мыслители обыкновенно бывают людьми нерешительными в действительной жизни, потому что ум их, привыкший к правильным, логическим построениям, старается взвесить все, что может служить за и против их мысли. Ум мыслителя, так сказать, зарывается в ненужных мелочах, которые для людей практических не представляются препятствиями. У кабинетных мыслителей недостает привычки к гибкой и быстрой работе мысли, которая является у практиков от постоянного сношения с людьми. Гиганты в кабинете, как выразился про мыслителей один английский писатель,. в свете оказываются обыкновенными детьми. Лаплас был никуда негодный министр внутренних дел. Наполеон говорил о нем, что он ни на какой вопрос не смотрел с настоящей точки зрения. Во всем он отыскивал какие-то утонченности. Все мысли его оставались проблемами и в управление делами своего министерства он вводил дух дифференциального исчисления. Но примеры таких людей, как Лаплас, следует считать не правилом, а исключением. Исаак Ньютон был прекрасным начальником монетного двора. Джон Гершель тоже. Братья Гумбольдты были одинаково способны к ученой, общественной и государственной деятельности. И потому Мон-гань справедливо замечает, что великие люди в науке были еще более великими в делах. Если нм приходилось когда-нибудь подвергаться испытаниям, то они достигали такой высоты, на которой ясно выказывалась вся возвышенность их души и все богатство их сведений. Про мудреца Фалеса рассказывают, что когда он восстал однажды против того избытка труда, который употребляют люди для своего обогащения, то один из присутствующих заметил, что он похож на лисицу, находившую виноград кислым только потому, что она не могла его достать. Фалес задумал доказать противное — и принялся за торговлю. В одни год он приобрел такие выгоды, каких другие, повидимому, более опытные, не могли добыть во всю свою жизнь. Если в этом анекдоте есть преувеличение, то самая возможность преувеличения служит лишь доказательством верности основной мысли.
Конечно, только разностороннее развитие мысли, соединенное с практическим знанием жизни, создает пригодность человека для общеполезного труда. Тот не может быть полезен, кто не знает ничего, и Бэкон справедливо утверждал, что соединение образованного ума с практической мудростью, или начала созерцательного с деятельным, составляет высшую форму развития человеческой природы.
Если мы присмотримся к жизни, то увидим, что созерцательное и деятельное начала редко соединяются в людях. Громадную массу человечества составляют практики с очень ограниченными познаниями, с узкой наблюдательностью, никогда не познакомившиеся с теоретическим мышлением и потому лишенные созерцательности. Затем, самую ничтожную часть человечества составляют люди созерцательного начала, не знакомые, в свою очередь, с практической мудростью. Общий строй жизни, конечно, не благоприятствует соединению этих двух начал в каждом отдельном человеке. Для массы человечества, живущей механическим трудом, не делается почти ничего, чтобы дотянуть ее до высшей человеческой формы. Что же касается до так называемых образованных людей, то заботы об образовании их ума слишком далеко не достигают своей цели, и потому собирательная посредственность не обладает ни действительно образованным умом, ни практической мудростью, и до сих пор счастливое соединение того и другого в одном человеке бывало достоянием лишь отдельных, исключительных личностей и так называемых гениев.
Без соединения делового воспитания с теоретическим развитием мысли невозможно достигнуть ничего действительно выдающегося. Все великие социальные писатели соединяли в себе знание жизни и деловитость с широко образованным умом. Давно уже сказано, что даже самый гениальный человек не напишет ничего путного о человеческих делах, если ему неизвестны повседневные вопросы жизни. И если мы это замечание применим к нашей русской жизни, то должны будем согласиться, что общее ничтожество наших литературных произведений, начиная с Кирши Данилова и кончая теперешними романистами и повествователями, происходило от того, что наши писатели или вовсе не владели созерцательным началом, или же не имели никакого понятия о серьезных вопросах повседневной жизни. Громадные средства памяти и воображения пропали даром даже у таких даровитых личностей, как Державин, Пушкин и Лермонтов.
Моралисты из всех человеческих качеств делают что-то внешнее, тогда как всякий человек именно такой, а не другой, только потому, что в нем такая, а не другая душа. Создайте человеку гармоническое соединение твердо выработанной мысли с твердо выработанной практикой чувств, и перед вами будет человек, какого искал Диоген. Моралисты изумляются нравственному величию и мужеству таких людей, как Сократ, Джордано Бруно, Галилей, Кэплер, Декарт, Спиноза, Гарвей. Но что такое их нравственное мужество, как не точно выработанная и законченная мысль, сформировавшая вполне установившееся сознание? Политическая жизнь Европы, конечно, представляет много случаев такого поведения людей, которое нельзя назвать героическим. Нам часто случалось слышать об измене убеждениям, о политическом раскаянии и политическом хамелеонстве. Но политика такая же наука, как естествознание. Нельзя раскаяться в том, что березу считаешь березой, а лошадь лошадью. В том, что называют хамелеонством и раскаянием, нет в сущности ни раскаяния, ни хамелеонства. Перед нами или неустановившаяся мысль, или мысль, не прошедшая через чувства; в обоих случаях для человеческого поведения нет твердой точки отправления, а при отсутствии твердой мысли и практики чувств может ли быть человеческое поведение твердо и мужественно? Поэтому раскаиваются обыкновенно недоучившиеся дети и юнцы, либеральный порыв которых есть не больше, как душевная недоконченность. Зрелый человек будет всегда мужественен, и человек, твердо усвоивший известную идею, никогда от нее не откажется.
Мужество вовсе не такая редкая вещь, как кажется многим. Припомните религиозные гонения, припомните страшное количество войн, которые пережила Европа, припомните наш двенадцатый год, Севастополь и последнюю французско-немецкую войну. Перед вами десятки миллионов героев; но не изумляйтесь их мужеству. И вы, и каждый из нас был бы точно таким же героем; потому что идея, руководящая военными героями, и бесспорна, и проста, и общедоступна. Наш героизм спотыкается не в подвигах военной доблести, а только в подвигах мужества гражданского, потому что в наше время спорных и неустановившихся понятий мы владеем для гражданской деятельности гораздо меньшим числом вполне законченных, бесспорных идей. Вот откуда наша безразличность, наше виляние, наша переметчивость. Мы уступаем посторонним убеждениям потому, что воспитание не дало нам никаких убеждений, и пока наше воспитание не будет делать из нас людей высшей формы, в которых спекулятивно теоретическое мышление соединяется с практической деловитостью, т. е. хорошо воспитанным чувством, мы никогда не будем владеть гражданским мужеством и никогда не выставим людей с сильным характером.
Из твердого развития мысли вытекают и все остальные благородные качества, рекомендуемые моралистами, и особенно ими рекомендуемое самообладание, правдивость и долг. Самообладание больше ничего, как верное знание своей собственной меры. Люди, воспитанные в эгоцентрировании, в привычке считать себя иными и выскакивать из себя, не отличаются самообладанием потому, что только себя считают непогрешимыми и в другом не хотят видеть такого же человека. Воспитывайте ребенка в понятиях и привычках равенства, — и вы создадите человека с самообладанием. Путем моральных внушений подобные понятия трудно усваиваются детьми и легче всего они создаются простым приучением детей сдерживать свои порывы.
При обыкновенном нашем домашнем воспитании старшие дети, особенно мальчики, являются, большею частью, мучителями и деспотами по отношению к детям младшим. Вечное верховое отношение создает привычки умничанья и заносчивости, и таким образом обыкновенная семья портит детей с их раннего возраста и приучает не к мере, а напротив к преувеличенному мнению о своих силах.
Правдивость точно также неразлучна с гармоническим развитием чувства и мысли. Если в человеке сформировался цельный характер, то его слово никогда не разойдется с его поведением, а в этом только и заключается сущность правдивости. Только поэтому наименьшей правдивостью отличаются так называемые либера-листы. Они должны вечно колебаться и подделываться под других, потому что у них нет своего. Правдивость вовсе не мужество и, чтобы быть правдивым, не нужно быть героем. Выработайте себе убеждение, и вы не станете говорить «нет», когда «ла», и «да», когда «нет».
Лживость воспитывается нередко в нас ложным пониманием наших отношений к людям. Воспитываясь в привычках себялюбия и эгоизма, мы хотели казаться лучше, чем мы есть, и отсюда та путаница великосветско-сти, которая, под привлекательною формою манер и изящества, скрывает самый грубый эгоизм. Измельчившийся человек, поглощенный только собою, скрывает свои настоящие мнения и, изолгавшись до последней степени, даже гордится своим иезуитизмом, искусством говорить двусмысленно и обманывать без цели и нужды всякого встречного и поперечного. Мы не отрицаем того, что с теперешними людьми, воспитанными в мелочном эгоизме и преувеличенном воззрении на свои силы и оттого самолюбивыми, раздражительными и невыносящими возражений, резкая правда не может быть особенно ценной монетой. Но справедливо сказал один англичанин, что ему гораздо чаще приходилось жалеть о том, что он молчал, чем о том, что он говорил. Бесчестный и узкий великосветский иезуитизм и привычки себялюбия убивают, наконец, всякую способность возмущаться личными и общественными подлостями и мерзостями, и мы с раболепной улыбкой готовы жать руку всякому негодяю, который сильнее нас, или от которого мы ждем подачки. Это рабство души есть остаток того рабства понятий и отсутствия идеи равноправности и равного человеческого достоинства, додуматься до которых русской мысли еще не удалось самостоятельно.
Мы знаем, что теоретическое понимание ошибок воспитания еще не двинет нас слишком вперед. Мы знаем, что, может быть, пройдут века, прежде чем воспитание сделает из каждого человека то, что бы хотела сделать из него и недовольная существующим теория, и недовольная собою практика. Чем пристальнее всматриваешься в вопрос воспитания, тем видишь яснее всю необъятную трудность его задачи. Память человечества собрала громадную массу фактов, сотни тысяч лет прошли с появления первого человека на земле, и что нее мы видим? Громадную массу человечества, подавленную убожеством умственным и материальным, бессильную связать факты идеей и потому беспомощную в своей жизни, и над этой массой — ничтожное меньшинство интеллектуальных представителей, почти настолько же бессильных и справедливо обозванных «собирательной посредственностью».
История в том виде, как она свершалась до сих пор, была бессознательной борьбой личности с обществом, в которой личности не удалось еще завоевать себе места. Поглощенная преследованием своих отдельных интересов, личность была тем более несчастною, чем она труднее находила свою связь с обществом. В последовательном ряду развития наук — наука, изучающая человеческую душу, явилась только самой последней, да и до сих пор она еще не сложилась вполне в законченное знание. А пока эта наука не станет твердо на свои ноги, пока она не даст нам законов человеческой души и пока мы, люди образованные, не усвоим ее оснований, нечего ожидать, чтобы наше общественное и частное воспитание давало обществу и жизни таких людей, которые сумели бы сделать счастливыми самих себя и знать, что нужно для счастья других.
Мы стоим только в начале того периода мысли, когда человек становится предметом наблюдения, и быстрота человеческого прогресса будет зависеть исключительно от того, насколько быстро пойдет это изучение. По отношению к русскому обществу нужно желать, чтобы распространились психологические знания, а пока психология не сделается у нас таким же обыденным знанием, как география и арифметика, нам не следует удивляться и слишком негодовать на то, что наша общественная и частная жизнь представляет аномалии и что человек не существует для нас как предмет мышления. Научите детей думать в направлении «человека» и вы создадите иных людей, иное общество, иную жизнь. Формула безошибочного воспитания только в слове «человек»...
КРИТИКО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПУТАНИЦА (Курс педагогики. Составлен М. Чистяковым, СПб., 1875)
I
В сокровищницу русской педагогической литературы г. Чистяков внес и свой собственный перл. Следует этому радоваться или огорчаться? Если у вас есть дети, в особенности дочери, — огорчайтесь, а если у вас предвидятся правнуки, до которых не доживет курс Чистякова, — радуйтесь, что им его учить не придется. О, злополучная русская судьба! Зачем всем теперешним детям нельзя вдруг сделаться правнуками!
Судя по тому, что воспитание для нас больное место до того, что и говорить о нем надоело, что книг для детей и педагогических сочинений у нас больше, чем детей, можно было бы подумать, что педагогика и педагогическая литература привлекают к себе лучшие наши умственные капиталы, поглощают в себе лучшие интеллектуальные силы России, и — увы! Умственные капиталы — где вы? Где вы, лучшие умственные силы? Где вы, увлекающиеся благородные фанатики воспитания, — честные, прямые, искренние и неуклонные, последовательные в своем слове, неизменные в своих чувствах? Да что говорить об увлекающемся фанатизме, о пророках и энтузиастах воспитания! Они всегда считались единицами, а единицы родятся столетиями. Дайте нам хотя бы только последовательную мысль, последнее слово науки, выведите нас на дорогу, ночтобы это была одна дорога, а не две, потому что в двух направлениях думать нельзя и по двум дорогам в одно время идти невозможно, и если мудрость смотрит в корень, будьте мудры и радуйтесь за своих внуков: умственный рост тоже рост. Мы, переживающие теперь во всем пробный момент, момент перелома к новому укладу, переживаем его и в своей педагогике. Г. Чистяков с его книжкой — одна из песчинок этого переходного момента, пробный кирпич воспитательного здания, крыши которого мы с вами не увидим. Но наступит пора, когда признаки пробных кирпичей будут всем ясны и пробные кирпичи будут вынуты и заменены настоящими.
Г. Чистяков пишет свой курс для институток и, вероятно, для всех учащихся женщин, может быть, даже и для тех, которые посещают педагогические курсы. Цель его, разумеется, воспитание матерей и воспитательниц, цель его — насаждение в юных женских сердцах благородных чувств и стремлений, а в юных женских слабеньких головках — самых умных и правильных педагогических мыслей. Но ведь добрыми намерениями умощена дорога и в ад. Зачем же вы, г. Чистяков, занимаетесь таким неблагородным делом и зачем вы беретесь за садоводство, не зная его?
Г. Чистяков начинает очень издалека — с «предварительных понятий». Вы спросите: для чего? Конечно, для того, чтобы показать каждой институтке или гимназистке, каждой будущей матери и воспитательнице, что человек есть ничтожная песчинка в мировой жизни, подчиняющаяся общим мировым законам, а педагогика — только одно из вспомогательных средств, помогающих песчинке найти свое место в природе. Но точно ли так думает г. Чистяков и этого ли он хотел? В той путанице противоречий, неясностей и недомолвок, которую г-н Чистяков назвал «Курсом педагогики», трудно разобрать, в чем заключается руководящая идея автора, чему он думает поучать, какие понятия признает правильными, какому богу хочет научить молиться. Г. Чистяков похож на тех язычников, которые, желая угодить всем богам, не угождают ни одному. Желая охватить весь мир, г. Чистяков протягивает бесплодно свои короткие ручонки в пространство и ловит только воздух; желая сказать многое, он не говорит ничего; желая научить, он сбивает; желая развить познавательные способности, он дает бессистемные фразы, которых не приведешь в порядок никакой логикой. Положим, что он пишет для институток и гимназисток; положим, Что у Них очень маленькие головки, но умейте, г. Чистяков, уважать и маленькие головки: и они думают, и у них есть своя последовательность.
Г. Чистяков доказывает, что в природе ничто не уничтожается, а только изменяет свою форму, причем изменения бывают или химические или механические. В круговороте вещества разные его комбинации создают различные организмы, подчиняющиеся известным законам и образующие известные типы. В этих комбинациях все так строго последовательно, все так строго связано с законом причин и последствий, что тип всегда сохраняет свои основные свойства: из жолудя всегда вырастает дуб, из пшеничного зерна — пшеница, и что дано природой, то навсегда и останется. Г. Чистяков говорит о стремлении растений к самосохранению и к сохранению своего рода, и органический закон, которому подчиняется флора, называется инстинктом растения. Став на эту точку зрения и заговорив о неизменных законах природы, г. Чистяков, повидимому, должен был бы в этот общий основной закон включить и все животное царство; но он этого не делает или, лучше сказать, делает так, что ставит читателя в недоумение относительно последовательности природы, как будто действующей по двум законам рядом.
Г. Чистякову особенно нравится уронить во мнении своих учениц растительный и животный организм. Для этого он даже прибегает к последним исследованиям натуралистов и доказывает, что разделение предметов на одушевленные и неодушевленные не имеет прочного основания. Есть червяки, говорит г. Чистяков, которых, как ни разрывай вдоль и поперек, они все будут живы и каждая; отрезанная частичка будет жить как отдельный червячок. Разрубите иву или ракиту на несколько кусков, говорит г. Чистяков, воткните их в землю, и каждый кусок станет расти так же, как росло целое растение. Допуская этот закон внизу, г. Чистяков ни за что не хочет дать ему место вверху. Признавая высших позвоночных животных чем-то совсем непохожим на растение, он в то же время говорит, что основные условия их развития одни и те же, и у них нет ничего, кроме инстинкта. А что такое инстинкт, г. Чистяков? Вы сами говорите, что у животных при одинаковом устройстве тела бывают различные инстинкты. Так, например, хотя у всех пауков одинаковые органы для производства паутины, но отчего же одни пауки плетут сети лучеобразно и стройно, от центра к окружности, другие раскидывают паутину неправильно, третьи сетей совсем не раскидывают, а оплетают ими стенки и трещины корней или деревьев; отчего птицы, имея одинаковые орудия для постройки гнезда, т. е. клюв и когти, строят гнезда неодинаковые, из различных материалов, в различных местах и различных положениях, отчего некоторые птицы совсем не строят гнезд и кладут свои яйца или в чужие гнезда, или просто на землю? Отчего некоторые тяжелые птицы совершают далекие перелеты из одной части света в другую, а птицы, легкие на лету, перелетов не совершают? Зайцы, кролики устроены почти одинаково, но кролик копает себе нору, а заяц нет. В то же время у животных различной организации бывают одинаковые инстинкты. Отчего? На этот вопрос у г. Чистякова один, всем давно известный ответ, что у животных есть свои особенные, незамеченные натуралистами потребности, и для удовлетворения их инстинкт заставляет их поступать именно так, а не иначе. Но разве это ответ? Разве этот ответ объясняет, почему собака, которой доктор вылечил изломанную ногу, привела через две недели к нему другую собаку с подобным же переломом? Разве это объясняет, почему можно приучить собак ходить на рынок и в булочную за покупками, приводить извозчика? Разве это объясняет поведение обезьяны, которая превосходно сообразила, как отворять задвижки дверей, или поступок кошки, которая заткнула лапой отверстие воздушного насоса? Г. Чистяков говорит, что признаком животного есть его безошибочность относительно того, что ему нужно, полезно или вредно. Г. Чистяков ссылается при этом на утят и цыплят, которые как только вылупятся из яйца, поступают тотчас же одни — по-утиному, а другие по-куриному. Что же вас тут удивляет? Неужели вы хотите, чтобы куры поступали по-утиному, а утки по-куриному? Было бы гораздо удивительнее, если бы едва родившаяся собака замяукала кошкой или цыпленок бросился к воде. Устанавливая закон типа, г. Чистяков удивляется, что животные поступают соответственно законам этого типа. Говоря о том, что животные могут замечать и чувствовать, что им доступно чувство удовольствия и неудовольствия, он в то же время возводит инстинкт в такую единственную, руководящую силу, которая служит для животных их анге-лом-хранителем, спасающим их на всех путях их жизни. Но если быживотные умели безошибочно отличать вредное от полезного, то, конечно, мыши не стали бы есть мышьяк, волки не попадали бы в капканы, а рыбы не отравлялись бы кукельваном. Г. Чистяков, хотя и допускает в животных предусмотрительность, предвидение, симпатические, бескорыстные чувства, но все это для него не больше, как известные моменты инстинкта. Г. Чистякова не смущают никакие противоречия. На одной странице он скажет одно, на другой — диаметрально противоположное, на третьей — опровергнет и то и другое и затем выглядывает из своего «Курса» на свет божий, точно он в самом деле совершил подвиг чадолюбия и спас погибающие в неведении детские души. Рассказывая, например, об одном благородном волчонке, который так привязался к своему хозяину, что без него не ел, не пил, совсем исчах и едва не умер от тоски, г. Чистяков упорно стоит на своем любимом слове, точно оно разрешает вопрос и само по себе имеет какой-нибудь смысл. Придерживаясь авторитетов, г. Чистяков, чтобы окончательно поразить животное и растительное царство, провозглашает с торжеством, что у животных нет прошедшего, нет истории, нет будущего, что они «к земле прикованы, им на земле и умирать». Если бы г. Чистяков был повнимательнее к своим собственным словам, он из истории приручения животных увидел бы, что поведение диких животных совершенно не сходится с поведением домашних, что кроткое влияние человека изменило характер дикой кошки, необузданную дикую собаку сделало ласковой, культивировало нравы лошадей, коров и т. д. Конечно, это не история, как ее! понимает г. Чистяков, но зачем же так упорно отрицать будущее, -когда оно было до сих пор, зачем уверять, что только животные привязаны к земле? Г. Чистяков пишет, конечно, не тенденциозный курс, а что-нибудь более серьезное, а в таком случае нужно говорить с достоинством, понимать факты и не подтасовывать их известным образом.
Г. Чистякову хотелось доказать, что человек при его физиологическом сходстве с животными одарен самосо-знательной, разумной душой, которая составляет его исключительную особенность и делает его человеком.
И почему бы не сказать этого прямо, решительно, не прибегая к доказательствам из естествознания и не делая либерального маскарада? В учебниках и курсах лавировать нельзя. Поэтому-то и нельзя понять, для чего г. Чистякову потребовались круговорот материи, законы неуничтожаемости, зачем вообще мираж естествознания, который в сущности только противоречит и мешает последовательному развитию мышления. От этой путаницы г. Чистяков постоянно только опровергает самого себя и впадает в противоречия. Устанавливая несокрушимую границу между человеком и нечеловеком, г. Чистяков вслед затем говорит: «в несчастном безумном зверь узнает брата; бог его не судит. Его не судят и люди, — он действует бессознательно. То же надобно сказать и об идиотах, таких же несчастных, как помешанные: они только по виду люди». Очевидно, г. Чистяков нисколько не подозревает, что подобным низведением человека до животного он сам уничтожает ту границу, о сохранении которой так ревниво хлопочет. На стр. 17 г. Чистяков обнаруживает еще более радикальный образ мыслей. Начитавшись Молешотта и Бюхнера, г. Чистяков говорит, что при умственном развитии вес мозга увеличивается, в нем образуется больше фосфора и что вообще умственная работа изменяет состав мозга. Автор прибавляет затем, что вопрос этот не решен вполне физиологией. И г. Чистяков был бы вполне прав, если бы, упоминая о фосфоре, он делал из ученой догадки какие-нибудь последующие выводы. Но он ничего подобного не делает, фосфор ему ни для чего подобного не нужен, и заметка о нем является поэтому каким-то либеральным заигрыванием, ненужным и бесцельным. На стр. 25 г. Чистяков, говоря об инстинкте самосохранения у человека, приводит такие факты. Он говорит о дитяти, которое еще не было знакомо с материнским молоком, и несмотря на то, когда ему давали подслащенную воду и другие вещества, оно ни за что не хотело принимать их и как бы давало этим знать, что нуждается в другой, естественной пище. Бывали случаи, что дети отказывались от материнского молока, и химическое исследование обнаруживало, что молоко это было действительно вредно. Но, быть может, вы думаете, что инстинкт бывает у человека только в детском возрасте? Нет. Очень часто, говорит г. Чистяков, человек в здоровом или болезненном состоянии чувствует отвращение к той или другой пище, к тому или другому питью, которые действительно оказываются ему вредными. И такого рода инстинкты г. Чистяков усматривает преимущественно у людей, ведущих простую, не искусственную жизнь. Затем г. Чистяков делает такой упрек жителям городов: «Так как в настоящее время, особенно жители больших городов, слишком далеко отошли от первобытного естественного состояния, то спасительные инстинкты, охраняющие нашу природу, глохнут и тупеют все более и более, и нам необходимо прибегать к пособиям науки для поправления того или другого расстройства в нашем организме». Наконец, говоря о пище полезной и вредной, г. Чистяков с особой решительностью настаивает на детском инстинкте и ставит его выше рас-суждений родителей, незнакомых с физиологией. Он, со слов Льюиса, придает даже капризу органическое значение. О, адвокат человечества, как вы, однако, плохо защищаете человека!
Может быть, г. Чистяков сам в себе и примиряет противоречия, но мы чувствуем себя в неисходном лесу и глубоко сочувствуем институткам и гимназисткам, из которых г. Чистяков думает создать разумных педагогов. А впрочем, может быть и то, что г. Чистяков и сам не умеет найти границ тех разумных областей, в которые он уводит своих учениц и грешит непоследовательностью больше по невинности. Курс г. Чистякова выиграл бы несравненно более, если бы автор его, не вдаваясь в законы естествознания и не нащипывая то из Дарвина, то из Молешотта, то из естествоведов противоположного направления, оставив в покое круговорот вещества, животных и растения, прямо и бесхитростно приступил бы к изложению практических приемов педагогики. Попытки философствования и естествоведение совершенно погубили г. Чистякова. Желая опереться на законы природы, г. Чистяков зашел в такие непроходимые трущобы, что даже растерял свои собственные силы.
II
Впрочем, и в области практического воспитания г. Чистяков едва ли был бы счастливее: ему и тут помешала бы философия. Он, например, говорит, что задача воспитания заключается в том, чтобы содействовать развитию
общечеловеческих, племенных и личных свойств человека. Для этого нужно стремиться к установлению гармонического соотношения сил физических с физическими, духовных с духовными, физических с духовными. Что же касается направления, особенно такого, которое человек сохранил бы в продолжение целой жизни, то это не больше, как несбыточная мечта. И в доказательство г. Чистяков приводит Шиллера, которого готовили к докторской профессии, Гёте, которого готовили в юристы, и Линнея, Песталоцци, Фребеля. Странный способ доказательства! Разве быть поэтом или не поэтом значит получить разное направление? Разве у Шиллера явилось бы другое направление, если бы он был доктором? Разве Фребель-лесничий должен отличаться по-своему мировоззрению от Фребеля-педагога? Ах, г. Чистяков, маститый педагог! Неужели направление, по-вашему, то же, что хлебное, ремесленное воспитание? Судя по определению, которое г. Чистяков делает воспитанию, нужно думать, что он желает совершенно изолировать человека, выделить его из людей и воспитывать для самого себя, точно каждому суждено быть Робинзоном Крузо. Вообразив, что каждый маленький ребенок есть Робинзон или Пятница, г. Чистяков помещает его на необитаемый остров и развивает в нем племенные и личные свойства, точно хочет из маленького Пятницы вырастить пулярку. Но разве воспитание только в развитии личных свойств, в гармоническом соотношении сил, а не в развитии тех душевных основ, не в создании того нравственного и умственного миросозерцания, которое дает направление этим силам? Даже чисто физические силы невозможно развивать изолированно, потому что человек от человека не спасется ни на дне морском, ни в лесу, ни в степи. Вы же воображаете его одиноким в городе! С первых шагов воспитания жизнь покажет, насколько мы зависим друг от друга и от условий, в которых мы живем. Сам г. Чистяков на стр. 57 рассказывает об одной англичанке, которая, возвратившись поздно ночью домой, пошла в детскую спальню, «может быть, для того, чтобы освежить и поднять душу после дневных забот, тревог и огорчений теми кроткими и святыми ощущениями и мыслями, которые рождаются в тишине ночи, в раздумьи над колыбелью спящего младенца». И что же она находит? Дитя ползает по полу и кричит, кормилица лежит в бесчувственном и 296,
безобразном виде и подле нее бутылка джину! Возмущенный таким безобразием, г. Чистяков замечает, что этот случай был с одной значительной английской леди, у кого было кому присмотреть за детьми, и — что еще ужасней — в Англии, где «нет той до ребячества бессмысленной слабости характера, той распущенности, того нравственного и физического неряшества, которыми отличается наш простой народ». Приводя подобный факт, г. Чистяков, тем не менее, весьма отважно заявляет свои требования безусловно здорового физического воспитания. Он требует здоровой пищи, чистого воздуха, вентиляции, протестует против цветов и курения в комнатах, рекомендует солнечный свет, требует разнообразной, питательной, удобоваримой пищи, даже указывает, сколько раз в день и в какие часы следует есть, и вообще напоминает того гей-иевского доктора, который двум беднякам, жившим на мансарде и умиравшим от голода и холода —
Зимою, сказал он, надо всегда
В морозы как можно теплей одеваться —
И тут же совет рассудительный дал
Здоровою пищей питаться.
Совершенно так поступает и г. Чистяков. Мы говорим это не в осуждение его теории физического воспитания, не в осуждение того, что он советует чистый воздух, здоровую пищу и здоровое помещение, — мы хотим сказать, что, во-первых, г. Чистяков своим определением воспитания выхватывает человека из среды и помещает его на необитаемый остров, а во-вторых, он развивает воспитательный идеализм. Воспитание не в том, чтобы развить силы вообще, а в том, чтобы развить их в приложении, указать человеку его место в природе, его отношения к людям, к обстоятельствам, в которых он находится, ко времени, в котором он живет. Изолированным физическим воспитанием можно создавать только пулярок, а не людей, а изолированным нравственным воспитанием не создашь ничего. Вам не нравится направление, и вы его как будто вычеркиваете из курса воспитания. И вы думаете, что пулярки и цыплята, которых вы таким образом воспитываете, так и успокоятся на одном племенном, личном развитии и что они вечно будут сидеть на одном месте? Нет, г. Чистяков! никаким племенным воспитанием вы не привяжете их к одному месту, они встанут и
побегут по какой-нибудь дорожке, а в указании этой дорожки и заключается задача воспитания; дорожка эта и есть собственно направление.
Верный теории противоречий и двойственности, г. Чистяков на стр. 104 и 165 говорит уже совершенно не то, что говорил ранее, на стр. 19. На стр. 104 он указывает на естественное безотчетное влечение, замечаемое в детях очень рано, на которое воспитатели должны обращать весьма серьезное внимание. Чимабуэ, учась в монастыре грамматике, целые дни чертил на книгах и тетрадях фигуры людей, лошадей, деревьев и всего, что ему приходило на ум. Джиото, пася стада, рисовал на камнях овец. Линнея в люльке успокаивали цветами, когда он плакал, и получив цветок или ветку, он начинал улыбаться. Подобное естественное безотчетное влечение и есть естественный материал, требующий дальнейшей обработки, говорит Чистяков. Против подобной мысли мы, конечно, возражать не станем. Но предположите, что Линней вырастает, наконец, гениальным ботаником, что гениальный ботаник бегает с неутомимостью по полям, собирает растения, сушит их и еще превосходнее их классифицирует. Предположите, что пастух Джиото рисует, наконец, лучше Рафаэля. Что же дальше? Как держат они себя как люди, как отцы семейства, как члены общества и государства? Разве Торквемадо не мог быть первоклассным ботаником и первоклассным живописцем; разве не потому он вышел страшным Торквемадой, что воспитался в одностороннем направлении? Г. Чистяков молчит. Но он молчит только для тех, кто не обладает умственным зрением и логикой последовательности. Читатель же с двойным зрением в кажущемся молчании г. Чистякова читает даже больше, о чем хочет автор, по-видимому, помолчать. — Говоря о религиозном воспитании и вдаваясь в подробности, несколько излишние в курсе педагогики, г. Чистяков упоминает о политеизме, пантеизме, монотеизме, фетишизме и, останавливаясь на христианстве, определяет его как источник всего доброго и прекрасного в семействе, в обществе и в государственном устройстве. «Только проникшись духом христианского учения, — говорит г. Чистяков, — человек может возвышаться до чистых бескорыстных помыслов и чувств, чуждых всякого материального побуждения и увлекающих его с наслаждением жертвовать всем, даже жизнью для счастья другого. Для христианина вся земля — родина, все человечество — семья; радость и печаль другого — его радость и печаль». Сознавая святость и величие христианского учения, г. Чистяков поучает, что человек не должен хладнокровно смотреть на упадок и искажение понятий; в то же время он не должен преследовать за суеверие и ложное учение и еще меньше впадать в индифе-рентизм и в фанатизм. Как же поступать? Действовать силой убеждения, согреваемого состраданием к тем, которые лишены света божественного учения или закрывают от него глаза, отвечает г. Чистяков. Итак, г. Чистяков, вы не оставляете своих пулярок на распутьи жизни, вы им указываете стезю христианских добродетелей, любви, всепрощаемости; рекомендуя действовать силой убеждения, вы как бы ставите их на путь миссионерства; вы даже чуть не выскочили в космополитизм, что вся земля есть родина и все человечество — одна семья. Да будет вам отпущена эта новая непоследовательность, мы же, продолжая свою мысль, скажем, что, отрицая, повидимому, направление, вы в действительности не только его не отрицаете, но и на водворении его в юных детских душах настаиваете с особенной энергией. Вся разница лишь в том, что под направлением вы понимаете не то, что понимают под ним другие.
Г. Чистяков принадлежит к моралистам и, протестуя против направления, если оно имеет рассудочное движение, он, хотя и в мягкой форме, но с энергией завидной неустрашимости громит недостатки современного женского человечества и принимает весьма серьезные меры для искоренения нравственной женской порчи. Недостатком теперешней женщины он считает ее излишнюю чувствительность и советует наблюдать, чтобы женское чувство не принимало одностороннего направления. Г. Чистяков справедливо замечает, что кажущаяся любовь не всегда бывает любовью действительно и иногда прекрасные чувства могут быть не больше, как самым глубоким эгоизмом. Есть дети, которые обнаруживают большую любовь, ласковость, услужливость, бескорыстие в отношении к своим родителям, даже к домашней прислуге, но по отношению к посторонним держат себя с холодной недоступностью. Указывая на подобную односторонность чувства, т. Чистяков замечает, что оно может превратиться впоследствии в дух касты и в племенной или национальный фанатизм — «направление, совершенно противное здравым воззрениям ума и духу христианского учения». Мы совершенно согласны с г. Чистяковым, но если бы нам пришлось коснуться этого вопроса, мы говорили бы о нем иначе. В женщинах слишком преобладает самообожание и самый глубокий индивидуализм, по которому в них сохраняется деятельным лишь одно только чувство — чувство любви к себе и к тому, что принадлежит им и исходит от них. Нельзя не преклониться с благоговейным уважением перед чувством матери, любящей бескорыстно, с самопожертвованием, не знающим пределов. Г. Чистяков ставит необыкновенно высоко это бескорыстное, преобладающее чувство женщины. И мы ничего не можем сказать против подобного бескорыстия, если бы оно было действительным бескорыстием; но если все чувства матери и женщины деятельны только в одном направлении, если ее любовь знает только одну дорожку, а все остальные пути для нее закрыты, если русские матери всей русской земли любят каждая только свою сторону, — неужели г. Чистяков захотел бы дирижировать подобным кошачьим концертом и научить всех русских цыплят подобной музыке? Ведь и тигры, и львы, и куры, и воробьи любят такою же любовью, а обезьяна любит своих детенышей до того, что задушает их в своих объятиях. Может быть, эта односторонность женской любви и ее христианская бездеятельность одна из главных причин всеобщего индивидуализма и сердечной односторонности, заставившей Жан Поля Рихтера сказать: «дайте нам лучших матерей, — и мы будем лучшими людьми». Я вовсе не желаю выступать защитником мужчин, но в отношении многосторонности чувств их нельзя не поставить выше женщин. Причина эта заключается вовсе не в том, чтобы мужчины были впечатлительнее и способнее к сердечным движениям; причина в том, что они думают в более разнообразных направлениях. Чувства мужчин выше не сами по себе, они выше по тем доброжелательным и разнообразным мыслям, которые ими управляют, и вот почему мужчины великодушнее, склоннее к уступке, менее страстны. У мужчин между собой и с женщинами гораздо более точек соприкосновения: у женщин же этих точек соприкосновения гораздо менее. Поэтому женщины чувствуют себя гораздо легче в обществе мужчин и почти всегда затрудняются и чувствуют себя неловко в ?00
обществе женщин. Мужчины подсмеиваются над женщй- нами, когда они говорят только о нарядах или о своих детях. Но ведь о чем же им и говорить, когда они никогда и не думали в других направлениях и когда они воспитывались или в желании нравиться или в исключительном чувстве любви к самим себе? Женщина нового поколения сделала было попытку подумать несколько шире и полюбить других людей, кроме себя, но попытка осталась попыткой и новая мать ни на волос не стала гуманнее и общечеловечнее, чем какой была мать прежняя. Односторонность женская под влиянием новых идей, может быть, еще больше стала эгоистичной, и в том индивидуализме и в хищничестве, в котором обвиняют наше время, виноваты не столько общие причины, на которые мы привыкли ссылаться, сколько так называемая материнская любовь и однопредметная ограниченность женского мышления. Г. Чистяков проглядел эту односторонность женского чувства, не регулируемого доброжелательными мыслями, и потому, не делает тех выводов, которые сделать бы следовало. Какой логикой руководствовался г. Чистяков, помещая чувство однопредметной любви под рубрикой «чувствительности», мы не понимаем. Но если ошибка сделана в самой постановке вопроса, разве можно ожидать верных выводов? Поэтому-то г. Чистяков против ошибочной и неверной чувствительности указывает такие же неверные средства. Он не развивает вопроса, он не анализирует любви в ее первоначальной эгоистической форме, и потому, что он не делает анализа и не выслеживает любовного эгоизма в его дальнейшем развитии, он упускает из рук и средство противодействия. Весь рецепт г! Чистякова против «чувствительности», а не эгоизма любви, как бы следовало обозвать однопредметно-деятельную женскую любовь, заключается в следующем: «вдруг изменить, или, как говорится, переменить чувство дитяти нет возможности, говорит г. Чистяков; если мы станем употреблять для этого крутые меры, то скорее всего может случиться, что дитя станет скрывать свои чувства и притворяться, — следовательно, мы будем учить его ,лжи; или оно будет делать себе большое насилие, что будет для него сопровождаться более или менее душевным страданием, а потому требования наши могут показаться ему ненавистными. Значит, то, что укоренялось постепенно, надо постепенно и искоренять». О, бедные институтки, бедные гимназистки, бедные слушательницы педагогических курсов, бедные девушки и бедные матери, которые бы хотели научиться чему-нибудь у Чистякова 1 Это «значит» точно так же вам ничего не объясняет, как и мне. Да разве вопрос в том, чтобы поселять чувство всеобъемлющей человеческой любви крутыми мерами, нравственным давлением, постепенным искоренением дурного? Вы преподаете воспитательницам теорию корчевания, тогда как, может быть, прежде всего нужно выкорчевать в их собственном сердце их собственный эгоизм. Вместо того, чтобы говорить о деятельных и недеятельных чувствах, о чувствах живых и чувствах подспудных, вместо того, чтобы сказать своим слушательницам живое сердечное слово, раскрыть им новый мир ощущений, открыть им мир доброжелательных понятий, вы не только не объясняете ошибок однопредметного чувства, но вы указываете против них одни холодные, анатомические средства, и предоставляете разумению людей непонимающих разрешить то, что вы сами не в состоянии им объяснить. Нет, г. Чистяков, вы не педагог и не воспитатель. Без любви нельзя говорить о любви, и педагогическое сбивчивое резонерство вовсе не курс педагогики.
Другой недостаток женщин, которому г. Чистяков старается противодействовать, есть склонность к мечтательности. И об этом недостатке г. Чистяков говорит с такой безразличной краткостью, точно он делает это по обязанностям службы, за очень маленькое жалованье. Краткость хороша, когда она сильна и когда она поэтому врезывается крепче в мысль и чувство; но если сам педагог не страдает за болезнь тех, кого он хочет лечить, он никогда не сделает больного здоровым, потому что не понимает его болезни. И так легко говорит г. Чистяков о мечтательности, понимая под ней простую детскую игру с куклами и неодушевленными предметами, которых дети олицетворяют, ведут с ними разговоры, радуются и страдают за воображаемые ими лица. О, господи, господи1 да неужели это мечтательность, неужели об этой мечтательности стоит говорить профессору со взрослыми ученицами и видеть в этом корень зла индивидуального и общественного? Я знал одну девицу, которая целовала шкаф, воображая его любимым мужчиной, она разговаривала со шкафом, гладила и ласкала его, точно живого 302
человека. По признакам, устанавливаемым г. Чистяковым, это, конечно, склонность к мечтательности, мы же видим тут самый неподкрашенный реализм и самый естественный физиологический процесс. Мечтательность не в том, что дети беседуют со своими куклами, а мечтательность в том, что человек живет чисто головными интересами и походит на Илью Обломова. Мечтательность — не больше, как рефлексия чувства, заставляющего создавать романтический и фантастический мир и эгоистично отдаваться личным, изолированным интересам, выделяя себя из действительного дела и действительной жизни. Это своего рода рудинство и гамлетизм, но не в сфере мысли, а в сфере фантазии и чувства. Головной мужчина, переросший мыслью свое настоящее на тысячу лет вперед, уйдет в рефлективную бездеятельность; сердечная же женщина, особенно если она смолоду не окружена участием, лаской и вниманием, уйдет в мечтательность любви и погрузится на самое дно самой скверной формы эгоизма. Вот чем вредна мечтательность, вот в чем ее дурная, антиобщественная сторона. Вы же вместо того, чтобы сделать понятной именно эту, так сказать, общественно-психологическую сторону мечтательности, говорите о ней, как о склонности человеческого ума к фантасмагориям! Период этой мечтательности давно кончился. Из нынешней молодежи никто уже не ездит на крылатых драконах, а девушки не воображают себя жертвами чародеев. Теперь и мечтательность стала реальной, и чтобы лечить против нее, нужно педагогу употреблять, конечно, не те средства пустого суесловия, в которых спасается г. Чистяков.
Дальше г. Чистяков сражается с симпатией и антипатией, склонностью к мистицизму, с унылостью, нелюдимостью, застенчивостью, скрытностью, подобострастностью, жеманством, кокетством и обидчивостью. Почему именно в этих недостатках г. Чистяков видит главную порчу женской души, он нигде не объясняет. Последовательно ли это? Не только не последовательно, но даже неосновательно и вовсе не педагогично. Г. Чистяков, как видно, рассчитывает на одно свое мужество, а все остальное предоставляет делу случая. Но одного мужества мало, и г. Чистякова могли бы убедить в этом строители вавилонской башни. У них тоже было очень много мужества, но когда они заговорили сразу на тысяче языков, из их постройки не вышло ничего. Руссо был очень неглупый человек, и, что важнее, человек восторженного сердца, человек искреннего и смелого ума. Когда этот сильный и последовательный человек вдумался в задачи воспитания, перед несокрушимостью истории и человеческого роста дрогнуло даже его железное сердце. Воспитание, конечно, все. Но как же перевоспитать все человечество, смешать всех людей в кучу, точно пшеничные зерна, и затем установить их в совершенно новые, взаимно-выгодные и счастливые отношения? И вот Руссо, испугавшись невозможности подобной перестройки всего мира, нашел удобнее поселиться с своим Эмилем на необитаемый остров и вместо практического воспитания живого человека написать теоретическую книгу. Разве это педагогика? Ведь это химические и алгебраические демонстрации над произвольно взятыми элементами и величинами. И подобный грех Европа давно простила Руссо, потому что его теоретичность открыла зрение слепым, указала на недостатки прошлого и спасла от ошибок в будущем. После Руссо едва ли нужно было появляться на том же поприще г. Чистякову. Если он увлекся примером Эскироса, хотя в действительности таким примером увлечься он не мог, — то ведь и Эскирос писал своего Эмиля XIX в. не для школ и педагогов, а против Наполеона III. Современная педагогика — вовсе не умозрительное отношение к чему-то вообще, отдельно стоящему и изолированному, это не наука необитаемого острова, а, напротив, наука густо населенной земли. Чтобы учить такой науке, нужно знать прежде всего и землю, и людей, знать силы и законы человеческой души. В чем же проявляет подобное знание г. Чистяков? Ни в чем, ни в чем и ни в чем! Он только отличается неустрашимостью и мужеством, через сто лет после фиаско Руссо, не обладая и десятой долей его ума, задумал повторить подобный же опыт. Г. Чистяков сшил какого-то кожаного человека, вставил в него пружины своего собственного изделия, и когда эти пружины были заведены, в кожаной душе, к собственному изумлению г. Чистякова, обнаружилась унылость, нелюдимость, обидчивость и множество других недостатков, которых, по первоначальному проекту г. Чистякова, в кожаном человеке быть не могло. Конечно, это непоследовательность, но тут еще больше незнания. Вот почему неудержимая смелость г. Чистякова должна повергать каждого благомыслящего человека в полнейшее недоумение. Все нравственные недостатки, которые г. Чистяков хочет устранить из женской души, недостатки только потому, что образцовый кожаный человек г. Чистякова живет не один. А что же вы знаете из его отношений к другим людям и ясно ли стоит перед вами картина той житейской путаницы, которую вы пытаетесь как будто бы распутать? Мы бы спросили вас, считаете ли вы возможным выстроить здание, когда у вас нет ни почвы годной для фундамента, ни лестниц для того, чтобы вести стены, ни материала для крыши. Педагогика — это наука еще слишком отдаленного будущего. Теперь же она не больше как критическое отрицательное знание, и все попытки к положительному построению будут приводить только к вавилонской башне. Г. Чистяков в самой непоследовательности своего курса и в двойственности собственного мышления мог бы увидеть, насколько это дело не нашего времени. Для кого нынче педагогика и воспитание — вопрос первой важности? Не обольщайтесь множеством книг для народных школ и громадной детской литературой. Все это рыночная спекуляция. Каждый последовательный человек, если он вдумывался в воспитание и в условия не только нашей, но и европейской жизни, не мог, наконец, не махнуть рукой, не сознаться в своем личном бессилии, и, подобно Людерсу, обозвать педагогику массой лжи и пустяков. Воспитания у нас нет и оно невозможно; педагогики нет и она еще более невозможна. И потому все попытки, вроде «Курса» г. Чистякова, годятся только для того, чтобы убедить окончательно, что педагогика, руководимая подобными мыслителями, как г. Чистяков, не заслуживает другой оценки, кроме той, которую Людерс сделал для статистики.
III
Г. Чистяков начинает свой отдел нравственного воспитания так же, как и первый отдел, — с полемизиро-ванья с животными. Здесь он объявляет войну форели, черепахе и мелким птицам. Он хвалит материнские чувства форели и чадолюбие, с которым она кладет икру в углубления песчаного дна реки, но в то же время он не одобряет поведения форели и черепахи, которые, полоЖив свои яйца в песок, не заботятся о дальнейшей их судьбе. Орел поступает уже много чадолюбивее, — он учит своих детей летать и отыскивать себе добычу, но все-таки не обнаруживает того самопожертвования, которое возвышает так материнскую любовь маленьких птичек, защищающих своих птенцов от хищников. Несмотря на эти семейные добродетели, птичий эгоизм не идет дальше привязанности к семейству, стаду или породе, говорит г. Чистяков. Признаков общего сочувствия животных с каким-нибудь другим животным нет, они живут исключительно, так сказать, эгоистической жизнью и притом всем в природе пользуются только для удовлетворения физических потребностей.
Это новое унижение животных потребовалось г. Чистякову для того, чтобы поднять в глазах своих учениц их собственные чувства и поведение вообще человека. К сожалению, защита не удалась и в этом случае г. Чистякову, как раньше. Ни в истории, ни в географии, ни в статистике он не отыскал фактов рыцарского благородства человечества и той космополитической любви, которая бы выделяла его из эгоизма семьи и природы. Чтобы убедить еще больше читателя в своей нелогичности, г. Чистяков, вслед за изобличением форели, черепахи и орла, говорит о человеческом сознании, как о том непосредственном чувстве, по которому человек ощущает свое отдельное существование от всех других людей, что он существо самостоятельное, способное мыслить и действовать по своему внутреннему побуждению, независимо о\ внешних влияний. После такого определения сознания личности г. Чистяков переходит прямо к впечатлению, ощущению, вниманию, воображению и посвящает воображению наибольшее число страниц, пускаясь в рассуждение и о поэтическом творчестве, и о вдохновении, и об искусстве, и об эстетическом воспитании. Эстетическому воспитанию г. Чистяков уделяет так много страниц, точно его педагогика назначается не для простых, обыкновенных людей, а для жителей будущего Эдема. Он рекомендует для развития классического и художественного воображения показывать детям картины лучших мастеров. При этом, подобно тому доктору, который Совет рассудительный дал Здоровою пищей питаться, — г. Чистяков говорит, что картины, которые будут показываться детям, не должны быть по своему содержанию выше их умственного развития, что детям хотя в немногих словах нужно объяснять значение картин, что надобно начинать или с отдельных фигур, или, по крайней мере, с не очень многосложных картин; наконец, чтобы тот, кто объясняет детям картину, был не только более или менее знающим по технической части рисования или живописи, но и понимал поэтическое значение произведения. Сцены кровопролитий, убийств, пыток и всякого рода истязаний, равно как изображение оргий, должны быть устранены от внимания детей. Но так как в России только в Петербурге и в Москве есть картинные галереи, то, в виде суррогата, г. Чистяков предлагает пользоваться снимками с лучших картин. Ну чем же это не совет предусмотрительного доктора?
Эстетическое воспитание, конечно, играет важную роль, потому что отстраняет человека от всего грубого, цинического, площадного, пошлого, сообщает, так сказать, резонансу всей души высший строй, но зачем же в курсе педагогики посвящать этому отделу чуть не половину? Зачем уверять, что «при эстетическом созерцании произведений природы и изящных искусств мы испытываем чистое, чуждое всего чувственного наслаждение, забываем о всех заботах и даже о самых тяжких утратах сердца, а душа наша наполняется чувством «кротким и любовным», которое иногда переходит в восторженное молитвенное умиление»? Ах, г. Чистяков, рассуждая о природе, вы делаете совершенно такую же ошибку, какую сделал г. Гончаров в «Обрыве». Ваша природа не только что-то безотносительное, но и что-то необыкновенно эгоистичное, совершенно соответствующее вашему определению сознания, принимаемого тоже как основа эгоизма. Нет, г. Чистяков! Если эстетическое созерцание природы и изящных произведений искусства ведет к тому, что человек забывает о всех своих болях и страданиях, отдается какому-то аскетическому созерцанию и поселяется один на необитаемом острове, нам не нужно такой природы, такого искусства, такого эстетического воспитания. Природа и искусство служат не для того, чтобы учить человека забывать; они служат для того, чтобы напоминать. Уроки природы заключаются не в том, что человек уходит в себя, а в том, что он чувствует свое отношение к какойто мировой, охватывающей его силе, свою принадлежность к чему-то другому, вне его стоящему, свою зависимость от этой громады, и, забывая свой личный эгоизм, ощущает в душе какие-то новые силы для энергической свободной жизни, вне тех мелких, условных людских глупостей, которых природа не знает и не допускает в своих законах. Ваше художественное созерцание, г. Чистяков, есть не больше, как эстетическое путешествие по картинным галереям, посещение концертов, театров, оперы, балета, посещения, постепенно уводящие в театр Берга и в увеселительные заведения Егарева. Но мы такой природы не хотим, мы хотим не природы, льстящей чувственности и служащей развлечением праздности; мы хотели бы природы, охватывающей человека своей свежей непосредственностью, расширяющей его стремления и дающей высоту его мыслям и чувствам. С такой природой вы нас не знакомите, на такую природу вы нам не указываете, и, отдаваясь псевдоклассицизму, вы даже и в греческом искусстве не видите той непосредственной облагораживающей силы, которая одна именно и создала из греков великий народ. Не чувствуя этой природы, г. Чистяков дает природу декорационную, оранжерейную, комнатную, природу великосветской изящной болтовни и салонных чувств, служивших в былые времена украшением благовоспитанных барышень, так изящно эгоистичных и так эстетически ограниченных. В то же время г. Чистяков совершенно искренне думает, что он поведет вперед. О sancta simpli-citasl Святая простота (ред.).
Отдавшись эстетическому воспитанию, г. Чистяков прошел не только мимо ума, но обнаружил даже некоторое презрение к разуму. Г. Чистяков говорит, что русская поговорка «ум заходит за разум» есть ничего не значащая, пустая игра слов. Будто бы? Неужели по вашей психологии ум, разум и рассудок одна и та же познавательная сила? Неужели вам не случалось встречать людей умных, но не рассудительных, умных, но не разумных? Вы сами говорите на 144 стр., что в мыслях наших может быть последовательность, логика, и, несмотря на то, отношение наше к предметам будет все-таки ложно. «Все камни растут, гранит есть камень, следовательно, гранит растет». Этот силлогизм правилен, а по выводу он все-таки абсурд. Логика сделала свое дело безошибочно, а в результате получилась глупость. Значит, с умом можно думать глупо, и ум вовсе не гарантия разумности. На 143 стр. г. Чистяков и сам опровергает себя. Он говорит, что бывают случаи, когда самые глубокомысленные и великие умы не замечают несообразности, непоследовательности, ни даже противоречий в своих рассуждениях. Что же такое ум? Г. Чистяков говорит, что ум не есть итог знания, как это условилась принимать современная психология, и что человек может точно так же учиться логически связывать мысли, как он учится писать, ходить, шить сапоги. Нет, г. Чистяков, то, о чем вы говорите, есть не больше, как одна из душевных основ ума, а вовсе не ум. И вы же сами указываете на эту основу, вовсе не подозревая своего противоречия. На стр. 142, указывая на потребность души последовательно связывать и развивать мысли, г. Чистяков приводит в пример дитя, которое обожглось раз свечкой, боится уже в другой раз и прикоснуться к ней. Дитя думает при этом: «меня обожгла одна свечка, следовательно, может обжечь и другая, значит, обожжет и эта», а формальным образом ход мысли ребенка выразился бы следующим силлогизмом: «всякая свечка жжется, а это — свечка, следовательно, жжется». Приводя пример подобного бессознательного мышления, г. Чистяков, повидимому, вовсе не подозревает, на какую опасную почву он становится. Г. Чистяков сводит мышление к простой отражательной способности и дает заметить, что рефлексы головного мозга г. Сеченова ему небезызвестны. Хуже. Г. Чистяков пользуется приведенным им , примером для того, чтобы сказать, что взрослые и дети, образованные и необразованные, связывают свои мысли безотчетно, не потому, что так хотят, не потому, что находят правильным, но потому, что этого требует ум, потому, что иначе мысли развиваться и не могут. Ах, г. Чистяков, что вы это говорите?
Мы расходимся с г. Чистяковым существенно в том, что он считает ум способностью, которую можно развивать головной гимнастикой и эквилибристикой; мы же думаем, что подобными экспериментами можно стереть и последние следы ума. Ум приобретается не упражнением, а знанием, и потому человек, знающий одно, создает себе односторонний ум и приходит к неразумным выводам. Вот тогда-то и говорят, что у человека зашел ум за разум. Если же человек обладает многосторонними сведениями, у него в голове и многосторонние средства для широких обобщений и для наивозможно безошибочных выводов. Такой ум становится разумом. Поэтому разум тот же ум, но только взрослый; он есть совершеннолетие ума.
Вместо того, чтобы объяснить маленьким женским головкам просто и понятно сущность познавательного процесса и средств для исправления ошибок неправильного мышления, — что г. Чистяков мог бы без труда найти в «Логике» Милля, — автор «Курса» пускается в схоластику и наводит мертвящую скуку своими объяснениями понятий, суждений, умозаключений, категорий, энтимем, дедукций, индукций. И маленькие головки, утомленные такой ученостью, устремляют на г. Чистякова свой испуганный, молящий взор и просят пощады. Что маленькие головки поступают именно так, и не могут поступать иначе, я вам докажу выпиской из логики г. Чистякова его определения категорий. «Таким путем или таким действием отвлечения или обобщения ум наш доходит, наконец, до таких высших, общих понятий, далее которых идти не может, под которые подходят все понятия о всех возможных предметах и сторонах их, каким бы родом познаний мы ни занимались. Эти высшие, общие отвлеченные понятия называются категориями: 1-я категория, или понятие бытия, 2-я категория — качества, 3-я — количества, 4-я — отношения, 5-я — пространства, 6-я — времени». Поняли? И после этого у г. Чистякова достает мужества на 269 стр. обвинять детей в том, что они нередко думают и говорят только словами и фразами, воображая, что усвоили идею!
Г. Чистякову как педагогу, которому открыто все нутро человеческой души, надо бы знать вот что: мы не создадим воспитательниц, если не объясним им законов души, но ведь и о душе нужно говорить так, чтобы вас понимали, чтобы перед ученицами возникал ее точный, определенный и ясный образ. Поступайте так, как поступает часовой мастер со своим учеником. Мастер вынимает из футляра механизм, кладет его на стол и объясняет этот механизм на его полном ходу. Если вам понятна душа так же, как ясен часовой механизм мастеру или паровая машина механику, учите детей психологии и 310
они поймут вас; если же душа для вас — потемки, за что вы напрасно запираете учениц в свой темный чулан? Психология — наука не только не легкая, но очень, очень и очень трудная, и трудность ее заключается не в том, чтобы заучить термины и определения, а в том, чтобы читать душевный аппарат живого человека и понимать все психические процессы настолько, чтобы не портить детей воспитанием. Вот почему психолог-учитель не должен быть схоластиком, вот отчего он должен быть живым человеком и прежде всего говорить просто, понятно и ясно. Ясно же говорит тот, кто думает ясно. А вы, г. Чистяков, думаете ясно?
IV
Если г. Чистяков не особенно силен в новейшей психологии и логике и берет в них больше мужеством, зато он силен, когда ему приходится относиться критически к другим педагогам, особенно немцам, и преподавать женщинам идеалы добродетельной жизни. Г. Чистяков относится еще благосклонно к Аристотелю, Платону, Бэкону, Жан-Жаку Руссо, Песталоцци и даже к Фребелю, но зато он тем сильнее порицает последователей Фребеля и новейших немецких педагогов за мертвящее анатомирование ими живых явлений природы и за сухой педантизм и формальность их механического учения. Не знаем, принадлежит ли это порицание лично г. Чистякову или он только повторяет других, но тем не менее, он совершенно кстати приводит слова Визе, который говорит, что нет нужды очень много школить возраст детства и юности, что лучше предоставлять детей больше самим себе и их природным склонностям и что усидчивость, к которой принуждают немца в молодости, притупляет ему голову и препятствует ему возвышаться на степень свободного развития. Эта педантическая несвободность составляет главное зло немецкого воспитания и сильно вкоренилась в нашу народную русскую школу. Поучаясь у немцев, мы ввели у себя до того мертвящий механизм, что наши педагоги, одной школы с г. Чистяковым, готовы совершенно отучить детей от самостоятельного мышления. Мы не хотим полемизировать ни с г. Бунаковым, ни с г. Па-ульсоном, ни поднимать вновь вопроса, задетого гр. Л. Н. Толстым, — мы заметим только, что г. Чистяков, вооружающийся против мертвящего механизма немецкой школы и ее анатомирования живой природы, своими категориями не дает более жизненного примера воспитания. Г. Чистяков совершенно справедливо смеется над фребелевским преподаванием ходьбы, сопровождаемым следующим пением: «Пойдем нога в ногу, ровным шагом; ни направо, ни налево; не сгибай коленей; голову вверх, грудь вперед, держись прямо, выворачивай ноги, руки свободно вниз, не теснись, не расходись, смотри на соседа. Друг за другом, по два в ряд, так хорошо, чтобы это было в удовольствие всем». И в то время, как г. Чистяков смеется над этими казарменными упражнениями, которые в немецкой школе считаются благотворными для физического, умственного и нравственного развития дитяти, он сам свою логику и психологию и обязательные моральные сентенции превращает в такое же механическое марширование.
Что же касается моральных идеалов, то вот те заповеди, которые г. Чистяков, подобно новому Моисею, преподает гимназисткам и институткам с своей маленькой горы.
Назначение женщины такое же, как и мужчины. Она должна быть самосознательным, разумным и самодеятельным членом общества, отечества и семейства. Женщина должна заслужить право сказать: я человек и ничто человеческое мне не чуждо. Как ни кроток и ни гуманен г. Чистяков вообще, но, выставляя требование, что женщина должна заслужить право, он обнаруживает не только суровость, но даже жестокосердие. Как выставить человеку требование: «заслужи себе право считать себя человеком»? Да разве мы себе это право выслуживаем или заслуживаем, разве мы люди не только потому, что мы родились людьми? И кто те судьи, которые будут сортировать людей на человеков и не человеков, каким аршином тут нужно руководствоваться и что делать с людьми, которые не будут человеками? Изгонять их, жечь? Да вы просто Торквемада!
Г. Чистяков настолько великодушен, что указывает русской женщине, как можно заслужить себе право человека. Для этого нужно купить и прочесть «Курс» г. Чистякова и затем выйти замуж; сделавшись женой, женщина должна быть неразлучной и деятельной помощницей своего мужа. Она должна поддерживать его в минуты тяжких огорчений; строгой экономией и поряд-312
ком в хозяйстве сберегать все приобретенное им, но при этом, сколько возможно, пополнять его доходы собственным трудом. Жена не должна чуждаться круга и хода занятий своего мужа, пожалуй, даже переписывать за него бумаги или писать ему под диктовку, потому что иначе женщина при внезапном несчастий может совершенно потеряться и погибнуть или физически, или нравственно. В чем может заключаться подобная погибель, — г. Чистяков не объясняет. Женщина должна быть кормилицей, няней и воспитательницей своих детей. «Только тогда, когда любящее сердце ее проявляется в этих трех очаровательных формах, семейство будет раем для детей, для мужа и для нее самой». Но, иополняя с любовью и даже с самоотвержением свои семейные обязанности, женщина, однакож, не должна чуждаться общества, где она может найти честных, благородных друзей. Г. Чистяков позволяет женщине и развлечение, но не иначе, как изредка. Имея средства и время, она может потанцевать на дружеских вечерах, петь, декламировать замечательные места из лучших писателей, но для этого она должна выбирать общество, в котором ничто не оскорбляет самого тонкого нравственного чувства и изящного вкуса. Женщина должна помнить, что удовольствия, как цветы, одни освежают и дают бодрость, другие отравляют. Особенно рекомендует г. Чистяков женам благотворительность. Если у жены нет своих собственных денег, то «она может склонять людей сильных и богатых к тому, чтобы не был брошен в жертву беспощадной бедности замечательный ум или талант, который при благоприятных обстоятельствах составит, если не эпоху, то весьма важное явление в науке, литературе или художестве». Г. Чистяков думает, что если в каждом государстве будет много таких женщин, то они, как духовные сестры милосердия, будут предохранять общество от растления и исцелять уже существующие вековые язвы народа. Сколько мне помнится, Манилов думал устроить благосостояние народа гораздо проще: стоило только провести мост и по сторонам его построить лавки. Г. же Чистяков мечтает создавать гениев и исторические эпохи путем женской благотворительности. Мудрено и непрактично, а главное — уж очень долго. Г. Чистяков не позволяет кончать девушкам воспитание 16 или 17 лет; напротив, именно с этого-то возраста он и хотел бы начать их учение. Вообразите, что девушка кончила школьный курс 17-ти лет; что же дальше? Чтобы она сама стала продолжать свои учебные занятия, на это нечего и рассчитывать; а «поедоставить это ей самой и думать нечего», говорит г. Чистяков. Кто же будет ее руководителем? У отца и матери нет для этого времени, а давать девушке» книги более глубокого содержания нельзя, не удостоверившись, что она их понимает и в состоянии оценить верно мысли автора. Г. Чистяков боится в особенности, чтобы не попали в руки девиц книги глубокого содержания по оелигиозным, нравственным и политическим воппосам. «Для молодого ума, в котором еще не окрепли убеждения, привлекателен всякий парадокс, всякая новая система, идеи которой высказываются резким, решительным тоном, особенно если автор пользуется известностью и отличается изяществом и оригинальностью изложения». Совершенно справедливо, г. Чистяков! Но мне кажется, что вы видите парадоксы только в новом... А в старом они есть? Скажите?
Но наибольший вред г. Чистяков видит в том, что девушка с незрелым умом и зыбкими понятиями начинает появляться в свет, особенно если она хороша собой. Это обстоятельство действует зловредно на неопытную женскую душу, потому что женщина теряет охоту к науке. «На балу, даже в семейных собоаниях, в обществе самых образованных и ученых людей, никто не научился ни математике, ни физике, ни истории, ни даже грамматике, — говорит г. Чистяков. Чтобы принимать участие в разговоре ученых людей, который, впрочем, в обществе почти никогда не бывает серьезным, надо уже иметь большой запас основательных знаний». Мы не совсем понимаем требования г. Чистякова, чтобы женщину учили книги, а не жизнь. Конечно, учат книги, но только тогда, когда в них заставляет заглядывать жизнь и то направление, и те вопросы, которые занимают общество в данный момент. Г. Чистяков, ставящий в обязательство женщинам создавать благотворительным путем гениев и эпохи, выставляет тут подобное же требование, желая, чтобы 17 и 18-летние девушки, едва справившиеся с гимназическим или институтским курсом, занялись наукой и внесли в общество серьезность и деловитость. Мы же думаем, что 17 и 18-летние девочки, которым г. Чистяков советует читать умные книжки и заниматься математикой, физикой и историей — неоспоримо полезными предметами, — из одного желания понравиться г. Чистякову заниматься ими не станут. Откройте человеческим способностям дорогу, — и способности сами пойдут, куда нужно. Басни известны со времен Эзопа, но лебедь, рак и щука до сих пор тянут в разные стороны. Г. Чистяков и не имеет права порицать русскую женщину за ее невежество. Увлечение трудом уже настолько возбудило теперешнюю женщину, что многие совершенно без нужды, не зная, куда пристроить свои силы, учили и учат совершенно бесплодно английский язык, а мы знаем и таких серьезных девушек, которые из того же теоретического стремления к деловитости изучают без всякой цели химию, математику и даже юриспруденцию. Деловитое направление настолько овладело современной женщиной, что было бы последовательнее его уменьшать, чем возбуждать. У нас женщин, готовых для дела, гораздо больше, чем представляется возможности для приложения им сил. Кликните только клич, и посмотрите, сколько явится к вам женщин-математиков, историков, учительниц и даже адвокатов. Уж если чего приходится бояться, то скорее того, что обманутое ожидание заставит женщину отказаться от книжной серьезности, потому что ей эту серьезность приурочить некуда. Нет, г. Чистяков, вы последовательны и тянете очень старую нотку.
И что это за манера воспитывать людей назиданиями? Подобную манеру еще, пожалуй, можно извинить немецким формалистам, но не русскому педагогу, который смеется над немецким затупляющим и морализирующим воспитанием. Неужели вы думаете, что моральные сентенции и банальные нравоучительные разглагольствования заставят хоть одну женщину сделать то, за что вы ее похвалите, а не то, что заставит ее сделать жизнь? «В наш век сознали, наконец, — поучает г. Чистяков, — что необразованная и ленивая женщина есть несчастье для детей, ярмо для мужа, язва для общества, что даже религиозная и нравственная в чувстве, она не иначе, как при помощи науки, может осуществить свои чистые и честные побуждения в неусыпных трудах на том поприще, которое укажет ей провидение и к которому она приготовилась, чтобы обеспечивать не только саму себя, но и других, и быть в состоянии мужественно и с достоинством переносить бедность, даже нищету и неисцелимые личные и общественные страдания». И что за пана-
цея та наука, о которой говорит г. Чистяков? Читая его между строками, мы очень хорошо понимаем, какие скучные и затупляющие знания г. Чистяков понимает под именем науки. Что мы в этом не ошибаемся, мы можем доказать. Если бы г. Чистяков знал, что не наука создает идеи, а напротив, она сама создается под давлением существующих понятий и стремлений, он бы не стал видеть женского спасения в математике и грамматике. Все знаменитые открытия, все замечательные исследования, все философские системы появлялись всегда под давлением известного движения общественной мысли, как бы отвечая духу времени. Эту науку г. Чистяков игнорирует. Если бы он ее не игнорировал, он бы написал иную психологию, иной курс педагогики, и знал бы человеческую душу по писателям новой психологической школы, а не по давно отжившим.
Более странного курса, как составленный г. Чистяковым, нам не случалось и встречать. Странность его именно в том. что вы почти на каждой странице как будто видите двух разно говорящих людей. Один из них забегает вперед, но делает это с какой-то стыдливостью и в полумаске; другой, хотя и не так стыдлив, но тоже не решается смотреть прямо в глаза и как будто бежит назад. И эти мелькающие фигуры, то забегающие, то убегающие, до того, наконец, сбивают и утомляют ваше внимание, что в голове возникает сумбур, вы приходите в невольное недоумение и устаете до нервной зевоты. Каково же г. Чистякову было писать, когда так устаешь читать? Впрочем, причина, заставившая г. Чистякова избрать эту странную игру в жмурки, для нас понятна. Г. Чистяков писал, очевидно, не по своему плану, а нет ничего труднее, как думать по готовой программе. Что г. Чистякову подобное думанье было трудно, и он чувствовал себя не по себе, это-то и доказывается его противоречием. Очевидно, что г. Чистякову иногда очень хотелось писать по-своему, иногда, может быть, по Бенеке, иногда даже и примирительная теория Ушинского как бы руководила его мыслью, в большинстве же случаев он, очевидно, отвечал на вопросы программы и желал удовлетворить ее требованиям. Вот почему в каждой строке г. Чистякова чувствуется какое-то стеснение мысли, ро-
бость, что-то гимназическое, точно вы читаете сочинение не самостоятельно мыслящего человека, а ученика, пишущего на данную тему и на точно установленные для него подробности. Мы вполне убеждены, что «Курс педагогики» г. Чистякова пройдет очень незаметно и не проникнет в частные руки, не явится руководством для тех матерей, для которых г. Чистяков писал.
Мы могли бы указать в «Курсе» г. Чистякова еще много не только противоречий, но положительных неверностей и даже ошибок в объяснении душевных процессов. Мы бы могли указать и на чрезвычайно важные пропуски — так, например, г. Чистяков не говорит ни слова о чувстве страха, об этом наиболее могущественном чувстве, играющем почти главную роль в жизни человека, но мы думаем, что уже и так много говорили по поводу вопроса, хотя и важного самого по себе, но о котором можно пока говорить только ради теоретического удовольствия. Ах, как это скучно, читатель!
ИТОГИ 14-ЛЕТНЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Д. А. ТОЛСТОГО В МИНИСТЕРСТВЕ НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
Надежды, возбужденные гр. Толстым при вступлении в министерство. Исторический очерк наших систем народного образования. Оценка деятельности гр. Толстого и результатов его системы, сделанная «Молвой», «Новым временем», «Голосом», «Берегом», «Страной», «Современными известиями», «Русскими ведомостями». — Насколько выполнил гр. Толстой свою программу? — Была ли его система в действительности «классической» или только «филологической»? — Есть ли у нас для этой системы историческая почва и отвечает ли она нашим наклонностям и нуждам?
Когда граф Толстой вступил в управление Министерством народного просвещения, в официальном органе этого министерства по поводу новых предположений по учебной части говорилось, что дело общественного образования в России пошло бы несравненно успешнее, «если бы наше просвещение было ведено последовательно одним и тем же по возможности ровным путем, без потрясений, без уклонений в различные и противоположные стороны, в духе полного уважения к насаждениям и созиданиям предшествовавших поколений. Неуклонное движение вперед по одному и тому же разумно избранному шути и охранение того, что уже однажды было создано и успело развиться, охранение посредством своевременных, постоянных, но постепенных улучшений, — вот правило, которым, казалось бы, должно наиболее руководствоваться Министерство народного просвещения. К сожалению, это правило не всегда было его девизом».
По поводу соединения в одном лице должности министра народного просвещения и обер-прокурора святейшего синода в том же официальном органе говорилось, что забота об учителях для начальных народных училищ должна быть главнейшим образом предоставлена ведомству нашего православного духовенства. «В наших духовных семинариях, — говорил официальный орган, — ежегодно оканчивает курс множество молодых людей, которые во многих епархиях за недостатком священно-и церковно-служительских вакансий, остаются без всякого определенного дела и без всякого обеспечения. Неужели же все эти молодые и хорошо подготовленные силы должны даром пропадать для начального народного образования и Министерство народного просвещения или земство должны растрачивать свои далеко не богатые средства на каких-то еще других учителей и даже учительниц для народа?»
Наконец, при объезде России гр. Толстой на торжественном обеде в Керчи выражался так: «Мы здесь стоим на почве древней классической образованности: на каждом шагу открываются блистательные о ней воспоминания, каждый взмах топора и заступа вырывает из земли памятники греческого просвещения то в камнях, то в изваяниях. На такой ли почве не водвориться классическому образованию! Классицизм, мм. гг., не есть только изучение древних языков; классицизм есть вместе с тем и изучение древних доблестей. Вот чего я желал бы вашим детям, вот чего я ожидаю от нового, только что начинающего жить поколения... Но да явится этот классицизм не в камнях только и изваяниях, а в развитии ума, в силе духа и воли и в тех нравственных качествах, которыми отличались просвещеннейшие народы древности».
Сколько светлых надежд сулили все эти гуманные, примиряющие и кроткие обещания! Слишком привыкшее к случайным мерам и к личным произвольным взглядам лиц, стоявших во главе того или другого правительственного учреждения, русское общество ожидало от нового министра народного просвещения системы, согласовавшейся с интересами общества, и системы прочной, потому что, начиная с Петра Великого, система народного образования постоянно колебалась то в сторону свободы, то в сторону более или менее строгой регламентирующей централизации.
При Петре Великом и при Екатерине II образование имело преимущественно реальный характер и отличалось большой свободой. Например, для чтения воспитанникам петербургского народного училища, основанного при Екатерине, выписывались гамбургские и геттингенские газеты и ведомости петербургские и московские. То же училище издавало периодически, под редакцией одного из учителей, литературные труды воспитанников по программе довольно широкой. Вообще, как видно, в то время не боялись давать ученикам читать газеты и книги. При императоре Павле этот порядок вещей изменился и явилась обратная система. Как видно из речи проф. Московского университета Гейма, произнесенной в 1799 г., «О состоянии наук в России под покровительством Павла I», государв этот «свою мудрую прозорливость доказал в споспешествовании истинному преуспеянию наук чрез учреждение строгой и бдящей цензуры книжной». По словам Гейма, «познание и так называемое просвещение часто употреблено во зло чрез обольстительные нынешних сирен напевы вольности и чрез обманчивые призраки мнимого счастья. Европейские правительства, спокойно взиравшие на сей разврат, возымели, наконец, правильную причину сожалеть о своем равнодушии. Сколько счастливою почитать себя должна Россия потому, что ученость в ней благоразумными ограничениями охраняется от губительной язвы возникающего всюду лжеучения». Благоразумные же ограничения заключались в следующем распоряжении: «Так как чрез вывозимые из-за границы разные книги наносится разврат веры, гражданского закона и благонравия, то отныне повелеваем запретить впуск из-за границы всякого рода книг, на каком бы языке оные ни были, без изъятия, в государство наше, равномерно и музыку». В то же время были закрыты все частные типографии и строго запрещены поездки за границу.
Император Александр I, вступив на престол, сейчас же отменил эти постановления. Он разрешил вывоз из-за границы всякого рода книг и музыки, приказал распечатать частные типографии и разрешил печатание книг, журналов и прочих сочинений внутри государства. Затем было учреждено Министерство народного просвещения, империя разделена на округи, округи поручены ведению особых попечителей, и учебные заведения, находившиеся в ведении министерства, разделены на гимназии и уездные и приходские училища. Образование получило вполне реальный характер и обращено внимание на естествоведение. Например, в приходских училищах, назначенных для воспитания детей простолюдинов, следовало «доставлять детям земледельческого и других состояний приличные сведения, чтобы сделать их лучшими в физическом и нравственном отношениях, дать им точное понятие о явлениях природы и истребить в них суеверие и предрассудки, столь вредные их здоровью, благополучию и состоянию». В гимназиях господствовало подобное же реальное направление, и чтобы соединить теоретические познания воспитанников с практическими, учителям поставлено в обязанность показывать ученикам во время вакаций мастерские и фабрики, объяснять им употребительнейшие гидравлические машины, мельницы и прочее, посещать с ними кабинет естественной истории, делать иногда ботанические прогулки, а учителям математики поручено наставлять учеников в нужнейших частях практической геометрии. Контролю общества и мнению родителей придавалось тогда весьма серьезное значение, и в Положении о пансионе при харьковской гимназии говорится, что «в пансион имеют вход все желающие, а особенно родители учеников, и если они найдут какие-нибудь упущения, то дают знать о них университету». Вместе с тем, предписано директорам, учителям, гувернерам обращаться с детьми кротко и не употреблять телесных наказаний. «Желательно было бы, — писал министр народного просвещения, — чтобы жестокие наставники, учителя, начальники училища и содержатели пансионов немедленно были узнаны, и, по усмотрению, или переменены, или предостережены как для- их собственной пользы, так более для юношества, им вверенного».
Начало царствования императора Александра I составляет эпоху в умственной жизни России и вносит новую жизнь в университетское образование. Тогда на университет смотрели не как на воспитательное заведение, а как на ученую корпорацию для преподавания наук. Понятно, что с таким свободным взглядом было несовместно подчинение студентов школьной дисциплине закрытых заведений. Геттингенский профессор Мейнерс, принимавший большое участие в образовании русских университетов, ‘предлагал «разумную свободу, потому что она действует гораздо благотворнее, чем принудительная мера и постороннее вмешательство. Чувство независимости, развивая прямоту и честность в образе действий молодых людей, ставит их несравненно выше того жалкого положения, на которое осуждена молодежь в тех заведениях, где право на внимание и отличие приобретается не нравственными достоинствами и научными трудами, а рабскою и льстивою покорностью перед начальством и благодетелями». По новому плану, каждому профессору была предоставлена полная свобода преподавания и всякое вмешательство строго запрещалось. «Свобода мысли способствует вообще знаниям, — говорилось в правилах, — но при такой науке, в коей ежедневно являются новые разрешения, нужна она особенно». Даже деканы не имели права посещать лекции профессоров, и попечитель Петербургского округа находил такое посещение для профессоров унизительным. Поступление в университет было открыто для всех, без различия звания и лет. Этот свободный взгляд на университетское образование имел свою традицию. При составлении нового плана университета были взяты в соображение труды комиссии времен Ломоносова, а в трудах этой комиссии, между прочим, говорилось, что «несвободные люди также должны иметь право быть в университете. Когда несвободные люди будут в университете также учиться, как и прочие студенты, то сим науки и ученые люди ни мало не будут унижаемы, так как цари и князи не унижаются тем, когда несвободные бывают с ними в храмах и слушают вместе слово божие. Науки называются свободными для того, что всякому оставлена свобода их приобретать, а не для того, чтобы сие право предоставлялось только людям свободным». Если читатель обратит внимание на то, что устав, о котором идет речь, составлялся во времена полнейшего господства крепостного права, то он, конечно, согласится, что принцип свободного образования едва ли мог быть проведен последовательнее и дальше. Перед чисто реальными началами и свободой преподавания, положенными в основу всей воспитательной системы, должны были замолкнуть все крайние приверженцы древней филологии, которых и тогда было немало. Насколько александровская система действовала благотворно на молодежь, можно судить из следующих воспоминаний С. Т. Аксакова о своих студенческих годах. «В студентах царствовало полное презрение ко всему низкому и подлому и глубокое уважение ко всему честному и высокому, хотя бы и безрассудному. Память таких годов неразлучно живет с человеком и неприметно для него освещает и направляет его в продолжение целой жизни, и куда бы его ни затащили обстоятельства, как бы ни втоптали в грязь и тину, она выводит его на честную и прямую дорогу». — Свежо предание, а верится с трудом!
Наступили времена Магницкого. «Я трепещу, — писал он, — перед неверием философии особенно потому, что в истории XVII и XVIII столетий ясно и кровавыми литерами читаю, что сначала поколебалась и исчезла вера. Потом взволновались мнения и изменился образ мыслей только переменой значения и подменой слов и от сего неприметного и как бы литературного подкопа алтарь Христов и тысячелетний трон древних государей взорваны, кровавая шапка свободы оскверняет главу помазанника божия и вскоре повергает ее на плаху. Вот ход (того, что называли тогда только философией и литературой и что называется уже ныне либерализмом». Крутая реакция, во главе которой стал Магницкий, человек ограниченный и тупой, сломила все, что было сделано в первую половину царствования Александра I. Особенно резко восставала реакция против таких знаний, где есть примесь «надменных умствований», и чтобы закрыть им окончательный доступ в воспитание, Магницкий проектировал совершенно новые и небывалые науки. По его инструкции, основанием философии должны были служить послания апостола Павла к колосянам и к Тимофею; основы политических наук следовало извлекать из Моисея, Давида, Соломона, отчасти из Платона и Аристотеля и т. п. Строгой полицейской опеке, установленной Магницким, были подчинены и наука, и «профессора. Доносы сыпались на всякое проявление самостоятельной мысли; было достаточно малейшего подозрения, чтобы профессор не только лишился кафедры, но и попал под суд. Директору университета было поставлено в обязанность иметь достовернейшие сведения об образе мыслей университетских преподавателей, присутствовать при их лекциях, просматривать записки студентов и вообще наблюдать, чтобы дух вольнодумства не прокрался как-нибудь в головы учащейся молодежи. Была установлена даже система кругового тайного надзора. Адъютанты следили за профессорами, а студентам поручено было наблюдать не только друг за другом, но даже и за своим начальством. Реальное направление было совершенно изгнано из школ и заменено классическим. Из курсов уездных училищ были исключены начальные правила естественной истории и начальные правила технологии; из гимназического курса — всеобщая и русская статистика, основания политической экономии, технологии и наук, относящихся до торговли. Свободный доступ (Студентов в университеты был тоже ограничен. «В студенты на казенное содержание, — говорится в одном из циркуляров Министерства просвещения, — не должны быть принимаемы из купеческого, мещанского и других состояний, в окладе положенных». То же правило было распространено и на гимназии. Министр находил, что не совсем прилично принимать в гимназию господских людей, тем более, что для них, кажется, достаточно учения, преподаваемого в уездных училищах.
Хотя император Николай и уволил Магницкого от службы, но, тем не менее, в системе образования не явилось нового направления. Главная цель, которая преследовалась теперь, заключалась не столько в установлении какой-нибудь определенной педагогической системы, сколько в том, чтобы все учебные заведения ведомства Министерства народного просвещения устроить по одному образцу. Дисциплине было отведено первое место, ибо, как говорилось в одном из циркуляров министерства, она составляет главное ручательство за благосостояние университета. Начальство должно было обращать внимание не только на нравственность студентов и следить за их связями и знакомствами, но даже следить за хорошими манерами, так чтобы не замечалось неприличия в приемах, походке и в телодвижениях. Чтобы научить студентов хорошим манерам, предполагалось учить их танцам, и посещение танцевального класса было обязательным не только для всех казенных студентов, но и для тех из своекоштных, для которых инспектор сочтет танцевание необходимым. Что касается древних языков, то изучение их не преследовалось особенно строго и, просматривая смету расходов министерства на 1852 г., сам император возбудил вопрос — необходим ли греческий язык во всех гимназиях? Министр доложил, что действительно этот язык не так нужен, и потому преподавание его оставлено только в гимназиях университетских городов, а в других заменено естественными науками. Со второй половины царствования императора Николая принимаются меры для возможного сокращения числа учащихся. Для этого было предположено не допускать в университет детей лиц низших сословий, возвышена плата за слушание лекций, наконец, в некоторых заведениях ограничено число слушателей.
В таком виде досталось учебное дело нашему времени. Учебные преобразования начались с уничтожения тех стеснительных мер, которые были вызваны лишь временными обстоятельствами. Так, прежде всего уничтожен комплект своекоштных студентов в университетах, в столичных университетах и в гимназиях прекращено преподавание военных наук и экзерциций, разрешено открывать неограниченное число частных школ, дозволено поступать в университеты всем желающим без ограничения сословий. Меры эти были, в сущности, только возвращением, да и то не вполне, к той независимости образования нашего юношества, которая была принята ведомством Министерства народного просвещения при императоре Александре I.
Что касается учебных систем, то на первых порах было обращено внимание на разрешение вопроса, какое образование достигает лучше цели, — закрытое или открытое? Затем в 1862 г. был возбужден вопрос о лучшей организации всего народного образования, начиная с университетов и до народных школ, которым, как думали, с освобождением крестьян будет предстоять большая работа. Вопрос об образовании и тогда, как нынче и как всегда, привлекал к себе особенное внимание общества, и Министерство народного просвещения хотело, как видно, серьезно заняться его коренным разрешением. Чувствуя всю важность задачи и ее последствий, оно дало литературе полный простор для обсуждения и оценки своих планов и проектов. В обществе, для которого интересы образования и судьба его детей так существенны и близки сердцу и матерей, явилось было живейшее желание ознакомиться с тем, что в этом отношении могла предложить современная наука, а также
и с тем, что следовало устранить и преобразовать. Что наши университеты не давали такого образования, какое было бы желательно, это для всех было ясно. Точно также было ясно, что гимназии не подготовляют достаточно молодых людей для университетов. И вот, в 1864 г. является устав гимназий и прогимназий, обративший на себя общее внимание. По новому уставу гимназии разделялись на классические и реальные. В курс классических гимназий входили языки — греческий и латинский, в курс реальных — естественная история, химия, физика и космография. Но уже и в этом уставе было проведено довольно резкое различие между классическими и реальными гимназиями, и гимназии классические поставлены в положение привилегированное. Так, в одной статье устава говорилось следующее: «Ученики, окончившие курс учения в классических гимназиях, или имеющие свидетельство о знании полного курса сих гимназий, могут поступать в студенты университета. Свидетельства же об окончании полного курса реальных гимназий или о знании сего курса принимаются в соображение при поступлении в высшие специальные училища на основании уставов сих училищ». Первое время все симпатии общества склонялись к реальным гимназиям, но когда сделалось ясным, что ученикам реальных гимназий почти закрыта дорога в университет, то явилось обратное движение и явился ряд ходатайств о дозволении преобразовать реальные гимназии в классические. Факт этот совершенно ясно указывал, в чем нуждается общество, какого оно желает образования и почему оно просило о преобразовании реальных гимназий в классические. Классические гимназии были желательны исключительно потому, что они давали право на университет. Вот в этот-то момент и вступил в управление народным просвещением гр. Толстой.
В свою первую поездку по России он, как мы уже говорили, высказал свой взгляд на образование. Он задумал воспитать русское юношество в доблестях Аристидов, Фемистоклов и Горациев Коклексов; он хотел развить в молодом поколении сильный ум, сильный дух, сильную волю. Что же! Какой отец, какая мать не хотели бы этого для своих детей? Но, кроме этого, родители хотят еще, чтобы детям их даны были знания, которые бы подготовили их к дальнейшей жизни. Идеалы родителей большей частью даже слишком материальны, но уж таковы родители в большинстве. Играть в политику у нас слишком опасно, и в эту игру родители с детьми играть меньше всего способны. Поручая своих детей учебному ведомству, родители ожидают, что оно их научит, просветит и даже даст им кусок насущного хлеба. В подобном взгляде на казенное воспитание наше общество воспитывалось в течение полутораста лег. Во все предыдущие царствования воспитание было у нас казенным, закрытым, оно давало не только образование, но и обеспечивало последующее положение в жизни. В те времена, о которых мы говорим, воспитание готовило людей для военной и гражданской службы. Частных дел, для которых требовалось техническое или другое образование, почти не существовало. Немногие фабрики и заводы управлялись иностранцами; банковых контор, железных дорог, акционерных предприятий почти не было, следовательно, для них не нужен был и персонал.
С освобождением крестьян совершилась резкая перемена в экономических требованиях русской жизни, и приготовление чиновников и офицеров, составлявшее прежде главную задачу казенного воспитания, должно было уступить свое место приготовлению лиц для других, преимущественно промышленных и технических занятий. Таким образом, спрос на реальное образование явился просто результатом новых условий жизни, намеченных освобождением крестьян и рядом последующих реформ, создавших небывалое еще у нас промышленное и торговое развитие. Например, какая масса людей потребовалась для службы на железных дорогах, на пароходах, в телеграфах, в банковых конторах, в частных промышленных предприятиях, в акционерных компаниях! В людях для этих новых дел Россия прежде не нуждалась, а теперь они ей понадобились как насущный хлеб. Следовательно, желая дать детям реальное образование, общество предполагало под ним такое образование, которое способно создать человеку будущее материальное обеспечение и подготовить его к практической деятельности, конечно, не исключающей ни доблестей древних, ни силы ума, ни силы духа, ни силы воли. Казалось бы, что на этом пункте гармоническое слияние интересов и желаний общества с интересами и желаниями нашего ведомства просвещения не могло представить затруднения.
Граф Толстой управлял Министерством народного просвещения 14 лет и во все это время пресса принуждена была молчать об общественном образовании, как будто оно нисколько не касалось самого общества, как будто дети, отдаваемые в учебные заведения Министерства просвещения, порывали всякую связь с своими семьями и с целым обществом. Теперь, когда недобровольное молчание прессы кончилось, мнения, высказанные газетами, дают богатый материал для оценки результатов, достигнутых Министерством просвещения в управление гр. Толстого. Мы приведем главные отзывы печати, потому что в них выразилось мнение наиболее заинтересованного большинства, если только не всего общества, а все, как кажется, ошибаться не могут.
«Трудно припомнить, когда петербургское общество праздновало Христово воскресенье с более радостными и светлыми надеждами, какв этот раз», — писала «Молва» по случаю увольнения гр. Толстого. Свои светлые надежды «Молва» основывала на том, что педагогические вопросы не будут ставиться у нас в будущем на политическую почву. «Насколько мы можем судить, — говорит «Молва», — надежды, радующие теперь «общество», вовсе не группируются около каких-либо изменений в учебной системе. Напротив, каждый сознает, что резкие колебания в этом отношении всегда приносят более вреда, чем пользы. Все жаждут только более света и большей веры в добрую сторону людей, меньшей боязни мысли и знания, меньшей смелости в решении чужой участи и особенно участи молодого поколения. Каждый день мы видим, что чересчур уверенные в себе педагоги губят хороших детей и, наоборот, что великие люди выходят из материала, который признается «незрелым» или «неблагонадежным» в школе».
«Новое время» замечает, между прочим, что гр. Толстому в начале его управления предстояло широкое поле для плодотворных преобразований. «Правительство, церковь, земство, печать, общество, объединяемые сильным реформаторским государственным умом, могли бы составить грандиозную и могучую силу для широкого развития народного просвещения на началах религии, 328
свободы, науки, общественной и частной инициативы. Но этим надеждам не суждено было сбыться. Через 14 лет оказалось, что все эти силы пошли врозь и источником этого раздора явилась та самая школа, которая, казалось бы, должна объединить всех. Как это случилось и какую роль играл в этом прискорбном явлении гр. Толстой? Вступил ли он на неверный путь, или не сумел стать на высоту своей задачи, или «подчинился он какому-нибудь вредному постороннему влиянию? Кажется, что тут было и то, и другое, и третье. Но над всем лежала какая-то роковая неизбежность, которая и привела, наконец, к последней развязке. С первого момента вступления в министерство гр. Толстой шел как бы по наклонной плоскости. — Всем памятна та страстная, ожесточенная полемика, которая предшествовала вступлению его на должность министра. Это было дурное начало, тем более, что в этой полемике гр. Толстой принимал самое близкое участие. Такое начало не могло остаться бесследным. «Выступив противником реального образования, он естественно явился представителем классической системы. Борьба увлекла его в крайность; а в то же время закулисные пособники его (имена их всем известны: гг. Катков, Леонтьев, Георгиевский), снабжавшие его оружием для борьбы, стали руководителями всего дела, когда одержана была победа. И они-то, эти пособники, создали ему ту репутацию, которую гр. Толстой ныне уносит с собой в отставку».
«Страна» по поводу отставки гр. Толстого предлагает читателю быть терпеливым. Придавая важное значение увольнению гр. Толстого, «Страна» с несколько обидной для читателя иронией замечает, что не только простые, заурядные русские люди, но и многие «из рьяных защитников классицизма сами никогда не учились древним языкам и с сущностью вопроса совершенно не знакомы. Этим добровольцам классицизма — но только им одним — и позволительно думать, что классицизм как учебная система есть нечто цельное, неприкосновенно переходившее из одного столетия в другое, нечто такое, стало быть, в чем нельзя передвинуть ни одного кольца, не разорвав всей цепи. В действительности «концентрация» в школе, признававшаяся нужною для преобладания классицизма, была чрезвычайно разнообразна в разные времена и в разных странах. Было время, когда «преподавание до такой степени было «концентрировано» да древних языках и схоластике, что в средней школе не учили ничему иному. «Концентрация» преподавания не есть нечто неизменное. В XVI в. она была одна, в XVII уже иная, в XVIII и XIX — еще иная, и в каждую эпоху в разных странах была весьма различна. С постепенным развитием наук естественных, она из простой номенклатуры превратилась в богатое точным анализом положительное знание и завоевывала сёбе все большее и большее место в кругу преподавания. А школа, проходя чрез все эти изменения, все-таки именовалась и именуется доселе классическою, хотя уже вовсе не похожа на свой первообраз в средние века. «Стало быть, вполне несостоятельно было бы такое возражение, что из принятого для наших гимназий учебного плана нельзя исключить ни одного часа, посвященного одному из древних языков».
Почти те же мысли, но несколько в иной форме, высказывает и «Голос». Он замечает, что до гр. Толстого существовала в нашем образовании двойственность; рядом с классическими гимназиями стояли гимназии реальные и что гр. Толстой выступил с решительным намерением уничтожить эту двойственность. А между тем, двойственность не только не исчезла, но была сохранена и, к сожалению, в самой неудобной форме. Преобразовать все школы по одному классическому типу, как его понимал гр. Толстой, было невозможно «в виду настойчивого запроса на образование, основанное на ином круге знаний». И вот сочувствие министерства к классицизму выразилось в том, что реальные училища были поставлены рангом ниже классических и лишены права выпускать своих воспитанников в университет. Вопрос, таким образом, перестал быть воспитательным и сделался как бы юридическим. Добровольность и свобода выбора исчезли и заменились принудительностью. Согласно этой системе принудительности были, по словам «Голоса», организованы и наши гимназии. Реальная школа, говорит «Голос», имела бы у нас еще какой-нибудь смысл, если бы она была органически связана с системой высших технических училищ, где заканчивалось бы образование молодых людей, приготовляющих себя к той или другой специальности. Но таких училищ в ведомстве Министерства народного просвещения нет. Реалист, кончающий курс в училище министерства, должен затем скитаться и, подвергая себя рискам неудач, отыскивать возможность окончить образование в каком-нибудь высшем техническом заведении. И если бы поступление детей в реальные училища можно было объяснить злою волей родителей, то, конечно, лишение некоторых прав, постигающее всякого «реалиста», нашло бы себе объяснение. Но именно этого-то и не было. Вопрос заключался не в злой воле родителей, а просто в том, что родители были вынуждены помещать своих детей в реальные училища. Во-первых, классических гимназий у нас меньше, чем их нужно по числу желающих, а во-вторых, как справедливо замечает «Голос», учреждение той или другой гимназии определяется часто случайными обстоятельствами. Классические гимназии у нас не во всех городах. Куда же отдать ребенка родителям, живущим в городе, где имеется только реальное училище? И вот, удалось родителям отдать своего сына в классическую гимназию, — хорошо, не удалось, — его отдают, в реальную, и будущая судьба ребенка определяется, таким образом, чистой случайностью. «Голос» полагает, что единственное средство устранить это ненормальное положение заключается в уничтожении двойственности, а двойственность уничтожится тогда, когда вместо реальных и классических гимназий устроятся просто гимназии, «как общеобразовательные средние учебные заведения с общею программой, приспособленной к нуждам нашей страны. Так было при графе Уварове, так должно быть и теперь. Нам кажется, что цель министерства будет достигнута, если в каждом уездном городе будет прогимназия, в каждом большом уездном и губернском городе — одна или больше гимназий, устроенных по одинаковому учебному плану. Тогда воспитание детей перестанет быть делом случая, и каждый родитель, отдавая своего сына в прогимназию или гимназию, будет знать, что он делает и какая судьба ожидает его сына».
Тот же «Голос» говорит, что причина ненормальностей нашего учебного дела заключается вовсе не в системе классицизма и что явления школьной жизни, возбуждавшие известное недовольство и даже опасение за будущность наших подрастающих поколений, нисколько не вытекали из существа системы, и не система была источником недовольства. «То, что заставляло с боязнью
думать о судьбе подрастающего поколения, говорит «Голос», — зависело от иных явлений, скажем прямо: от какой-то тяготы и ноты жесткости, чувствовавшейся в школьном деле, вследствие чего сама школа обращалась в некоторый кошмар для отцов и матерей. Во всем школьном деле чувствовалась не только система, — система желательна как в школьном, так и во всяком деле, — но страсть, переступавшая за пределы всякой системы». Говоря в одном из следующих номеров об успехах, достигнутых системой, «Голос» делает процентный расчет учеников, получивших аттестат зрелости, к неокончившей курс массе. Процент оказывается равным 3, число же выбывших из гимназий на основании официальных отчетов министерства оказывается равным 51 000, и вся эта пятьдесят одна тысяча неокончивших курса учеников была уволена за последние шесть лет! По словам «С.-Петербургских ведомостей», оказывается, что в одном 1877 г. выбыло из гимназий до окончания курса 8 861 ученик. Не все они оставили совсем гимназии, а половина перешла или в другие гимназии, или из классических гимназий в реальные училища, или в училища посторонних ведомств. Конечно, этот переход совершился вследствие тяготы и составляет явление бродяжества, вовсе нежелательного в учебном деле. «Голос», между прочим, приводит рассказ об одном педагоге, поставленном во главе учебного заведения, который рассуждал о своих воспитанниках так: «они мне счетом даны и я их должен сдать счетом же». Кажется, этот счет вовсе не входил в воспитательную систему наших гимназий.
Газета «Берег», известив своих читателей об отставке гр. Толстого, хотя и заметила, что «мы, очевидцы и современники, едва ли компетентны вполне оценить эту деятельность и решить, куда — в актив или пассив нашего духовного развития — должны быть занесены ее результаты», но в следующих затем номерах делает самую жестокую оценку результатов, достигнутых гр. Толстым. Не возражая против сущности реформы гимназий, произведенной в 1871 г., «Берег» находит ошибку учебного ведомства в том только, что оно порешило произвести реформы сразу, не имея в своем распоряжении наличных преподавательских сил, и потому реформа совершилась больше на бумаге, чем в действительности. «Иначе и быть не могло, — замечает «Берег»: предстабим себе, что, в интересах развития эстетического образования, оказалось бы нужным завести повсеместно школы живописи, скульптуры и ваяния. Устав школы выработан, соответственные статьи расхода внесены в государственный бюджет, школы везде открыты, но только нет учителей или места их заняты суздальскими богомазами и штукатурами. Что же, много ли вышло бы проку от ежегодно возрастающего количества таких школ? «Легко составлять учебные планы, — говорит дальше та же газета, — сочинять программы, подробные инструкции и высокопарные объяснительные записки, вырабатывать формы отчетов и ведомостей, рубрики статистических сведений о количестве пропущенных уроков в связи с состоянием барометра (я не шучу), — связи, обозначенной кривыми и ломаными линиями, — рассылать гласные и негласные циркуляры, — все это крайне легко: канцелярская фантазия чуть ли не самая плодовитая из всех видов творчества! Но для того, чтобы перевести все это с бумаги в действительность, нужны люди, т. е. для реформы 1871 г. нужны были учителя-классики, а таковых не было в достаточном количестве в 1871 г., нет их достаточно и по сей день. Иначе, зачем бы выписывать из Богемии учителей-чехов, устраивать для них какой-то питомник при министерстве, а в Лейпциге — особую школу, известную «семинарию», сколько известно, заманчивую для чехов, а не для русских».
Недостаточность наличных средств преподавания обнаружилась в первый же год. Оказалось, что выпускать некого. Например, в одесских гимназиях, казенных и частных, в 1873 г. выпуска совсем не было. В других гимназиях Одесского округа было то же или почти то же самое. Учиться было кому, но некому было выучить. «Берег» замечает при этом довольно ехидно, что «при оценке исполнения нынешней учебной системы нельзя вполне полагаться на те данные, какие заключаются в разных опубликованных отчетах, ведомостях, циркулярах, возражениях, опровержениях и т. п.». И затем выписывает данные из одного документа, «неназначен-ного для огласки, более откровенного и потому более достоверного». Документ этот есть выписка из 1-й статьи протокола совета попечителя Одесского учебного округа от 15 января 1879 г. Успешность преподавания древних языков в гимназиях Одесского округа оказы-
вается в выписке следующей: на 144 работы по всем 11 гимназиям округа только 8 работ имеют отметку «5», 30 работ с отметкой «4», остальные 106 оценены в «3». В семи гимназиях отметка «5» совсем не встречается. Есть одна гимназия, где даже отметка «4» не случилась ни разу. Подобные же успехи оказываются и в греческом языке. Из числа 144, выдержавших в 1878 г. экзамен зрелости, только 120 — ученики гимназии, остальные 24 — лица посторонние. «Значит, — говорит «Берег», — взявши общее количество всех учащихся в 11 гимназиях в 1878 г. в скромную цифру 3 000, получим 4%. оканчивающих из общего числа всех учившихся. Если, далее, предположить, что 8 лет назад (в 1870 г.), когда эти 120 человек должны были поступать в гимназии, число всех поступивших тогда в 11 гимназий было бы даже 720 (что очень скромно), то оказывается, что лишь 162/з% в состоянии были дойти до окончания гимназии, остальные 8372%, т. е. 600 из 720 человек, отпали, — где же они? В результате без всякой натяжки выходит вот что: гимназии назначены для того, чтобы выучивать, а на самом деле они преуспевают в другом: не доучивают молодежь и изготовляют громадную массу умственных недорослей». Любопытен еще следующий факт, сообщаемый «Берегом». На филологическом факультете Новороссийского университета за 1878/79 уч. г. было всех студентов 119, из них 11 воспитанники гимназий, остальные 108 — воспитанники духовных семинарий. В 1879 г. не было на филологическом факультете ни одного студента из гимназистов. Значит, что через 8 лет действия нового гимназического устава все же не гимназии поставляют контингент студентов на филологический факультет, говорит «Берег». Поэтому понятно, что когда последовало воспрещение принимать семинаристов в университет без аттестата зрелости, то можно было предсказать заранее, какое постигнет запустение филологические факультеты. Так оно и вышло. В 1879/80 уч. г. на филологический факультет Новороссийского университета поступило всего лишь несколько человек (кажется, 3), да и вообще общее количество поступающих на все факультеты убавилось более, чем ца половину. Семинаристы вообще служили, как кажется, главным материалом, на котором основывался расчет воспитательного ведомства. Сначала им был открыт 334
свободный доступ и в гимназии, и в университеты, и когда затем оказалось, что прилив семинаристов в гражданские учебные заведения был отливом из духовного ведомства, что, за уходом семинаристов в университеты, сельские приходы остались без священников, то была принята мера обратная, вызвавшая и обратное следствие. Все это происходит от того, справедливо замечает «Берег», что «семинаристы оказались главным материалом для творческой деятельности по двум ведомствам; но материала не хватает для усовершений по ведомству св. синода и по ведомству народного просвещения. Эта манипуляция с семинаристами — своего рода перемещение мебели из одного дома в другой, причем мебель ломается и портится. А между тем, раньше или позже, но возникает (на юге России уже и возник) вопрос о том, из кого комплектовать состав сельского духовенства? Семинаристов отбили от наследственной профессии, их выманили в университеты, заставили знакомиться с другими видами и надеждами, более розовыми, чем положение сельского священника. Вернутся ли они опять к занятию своих отцов и дедов? Кто знает, — во всяком случае еще долго семинаристы будут составлять немалую группу лиц, недовольных на правительство за воспрещение вступать в высшие учебные заведения. Рассчитывать же на то, что в семинарию пойдут лица не духовного происхождения с намерением, по окончании семинарии, идти в священники, никак не приходится.
Оканчивая свой обзор классической системы, которому он посвятил две большие статьи, «Берег» делает вывод, на который разве только он один и мог отважиться. Этот характерный вывод мы выписываем целиком. Успех, достигнутый последней реформой гимназий, «Берег» называет «деморализацией». «Деморализован состав учащихся, — они не верят в смысл и серьезность своего дела, случайно попали на свои места, заняты соображениями не педагогического, а совсем другого свойства. Деморализуются ученики: они ни во что не верят и прежде всего не верят в то же, во что не верят их учителя. Деморализовано общество: оно относится к гимназии с ожесточением или с презрением и насмешкой. В свое оправдание общество может сослаться: на результаты, какие видны на учениках, сидящих в тюрьмах и на скамье подсудимых за распространение пропаганды; на рассказы и жалобы учеников, на ту своеобразную chronique scandaleuse, от которой свободна далеко не всякая гимназия.
«После этого значение гимназии как общественно-воспитательного учреждения определяется само собой: гимназия не служит хранилищем «здорового развития подрастающих поколений», как в этом ни разуверяли. Напротив, это скорее гнездо, где накопляется недовольство, является то «случайное возбуждение», которое, по свидетельству прошлогоднего майского циркуляра, доводит даже до самоубийства, где в корне подрывается уважение ко всякому авторитету и с раннего возраста наживается расположение отрицательно относиться к общественному и государственному порядку: для ученика-мальчика этот порядок почти совпадает с порядками его школы».
Для оценки последней реформы гимназий достаточно бы и одних этих отзывов, но для полноты нашего очерка мы приведем еще отзывы и московских газет. «Современные известия» говорят, что самая слабая сторона нашей учебной системы заключалась в том, что она «навязывала школе несвойственную ей задачу служить не просвещению исключительно, а охране главным образом». По словам той же газеты, «задачи школы чуть не приравнивались к задачам полицейским, и на учащуюся молодежь смотрели, как на неприятельский лагерь, причем обсуждение школьных вопросов уподоблялось передаче во вражеский лагерь сведений о диспозиции наших войск». По словам «Русских ведомостей», министерство гр. Толстого постоянно придавало вопросам воспитания и обучения вовсе несвойственный им политический оттенок. Страдая чрезмерной исключительностью и односторонностью режима, министерство само ослабляло хорошие результаты, которых можно было ждать от преобразования наших средних учебных заведений.
Давно уже русская журналистика не высказывалась с таким единодушием, и если в ее тоне звучит нота раздражения, то это объясняется отчасти более чем десятилетним ее подневольным молчанием об одном из важнейших общественных вопросов, а отчасти и обманутыми надеждами, которые некогда возлагались на гр. Толстого.
Когда он вступил в управление Министерства просвеЩения, частью он сам лично, а частью его официальный орган высказали своп взгляд на задачи образования, которые, конечно, должны были служить программой для деятельности нового министра. Обществу говорилось «о неуклонном движении вперед по одному и тому же разумно избранному пути, в духе полного уважения к насаждениям и созиданиям предшествовавших поколений». Но был ли путь разумен и сохранилось ли уважение к насаждениям предшествовавших поколений? И разве система первой половины царствования императора Александра I не была разумно избранным путем?
Говорилось еще о молодых людях из духовного звания, непристроенные силы которых пропадают даром. Пристроились ли эти силы или, напротив, рассыпались?
Говорилось еще, что классицизм создаст нашим подрастающим поколениям развитый ум, силу духа и воли и нравственные качества, которыми отличались просвещенные народы древности. Создалось ли это, и доблести молодежи, воспитанной в гимназиях последнего времени, напоминают ли доблести древних греков и римлян?
Ни о чем подобном не говорит ни слова наша печать. Напротив, мы в ней читаем, что вопросы чисто педагогические были поставлены у нас на чуждую им политическую почву, учебная система служила не целям просвещения, а охране, задачи ее чуть не приравнивались к задачам полицейским, во всем режиме чувствовалась чрезмерная исключительность и односторонность, дух нетерпимости, стеснения и заподозревания; между обществом и учебным ведомством водворился разлад, в способе проведения системы чувртвовалась озлобленность и тенденциозность, тягота и нота жесткости, вследствие чего школа обращалась в некоторый кошмар для отцов и матерей, заставлявший их трепетать за участь своих детей. В протоколах Министерства просвещения значилось, что «преподавание латинского языка поставлено в гимназиях несомненно хорошо, а преподавание греческого, заявившее себя в столь короткое время таким существенным успехом, даст еще более благоприятный результат в непродолжительном будущем», а между тем цифры, приводимые в тех же протоколах, указывают лишь на неуспешность, и «Берег» по поводу «образцового» Одесского округа говорит, что наши гимназии «вместо того, чтобы выучивать, недоучивают и изготовляют громадную массу умственных недорослей». Наконец, по официальным отчетам оказывается, что в течение 6 лет, когда последовало преобразование гимназий, было уво-дено за неупехи 51 000 учеников. Нужно ли прибавлять, что все эти факты и выводы, кажется, не дают возможности заключить, что гуманная цель, которой поманил гр. Толстой при своем вступлении, была им достигнута и им сдержано обещание избрать разумный путь? Выход гр.Тол-стого в отставку «Новое время» называет неизбежной развязкой, ибо с первого момента вступления в министерство гр. Толстой шел как бы по наклонной плоскости. В то же время печать боится, чтобы не последовала новая ломка и чтобы наше учащееся поколение не подверглось опасности каких-либо новых экспериментов и резких изменений принятой системы образования. Боясь крутых поворотов, печать как будто бы стоит за сохранение классической системы и желает лишь, чтобы исчезла теперешняя тягота. В этом случае классические языки должны утратить свое преобладающее значение. Об этом говорит и «Страна», которая находит, что классическая система не перестанет быть классической, если из принятого учебного плана будет исключено несколько часов, посвященных одному из древних языков. Наконец, даже такой защитник классицизма, как г. Модестов, и тот является одним из главных противников тяготы и обременения учащихся в ущерб их здоровью и умственному развитию. Одним словом, сущность общего желания сводится не к отмене классической системы, а к уменьшению тяготы, к уничтожению жесткости и беспощадности требований, и к большей гуманности отношений воспитательного ведомства к учащейся молодежи. Кажется, эти требования невелики, и чтобы удовлетворить им, не будет стоить для нового министра просвещения особого труда. Если справедливо, что сущность всяких плодотворных реформ заключается в уничтожении существовавших ранее стеснений, то та система, которая может успокоить наболевшее общество и родителей, исстрадавшихся за своих детей, определяется сама собою. Нужды же общества достаточно подробно заявились печатью. Общество желает, чтобы между классическим и реальным образованием не было пропасти, которая их теперь разделяет, чтобы образование не было ни сословным, ни аристократическим, чтобы образование было свободным и чтобы оно отвечало потребности общества в тех людях с практическими, реальными знаниями, недостаток которых обнаруживается у нас на каждом шагу...
Но совсем иной была школьная система гр. Толстого. Ее даже несправедливо зовут «классической», потому что она была в действительности «филологической». В этом и главная причина, что она не удалась. Та система, которую гр. Толстой обещал на торжественном обеде в Керчи, при своем вступлении в министерство, — система, по которой предполагалось «развить ум, силу духа и воли и нравственные качества, которыми отличались просвещенные народы древности», — никогда не была применяема. Подобный классицизм был бы понятен и родителям, и детям и, конечно, легко бы привился к русской школе. Но система «филологическая», которую почему-то назвали «классической», привиться не могла, потому что для нее не было у нас ни исторической почвы, ни наклонности, ни даже почвы практической. Г. Модестов, классицизм которого стоит выше всяких подозрений и не имеет ничего общего с классицизмом гг. Каткова и Леонтьева, считает неотразимыми доказательства противников филологической системы: А они говорят, «что для филологической основы образования по западному образцу у нас нет никакой почвы, что гений нашего народа имеет решительно реальное направление и что наиболее видные плоды нашей умственной деятельности со времени нашего сближения с Европой обнаружились не в филологических науках, а в математике и в естествознании». И действительно, в то время, как математика и естественные науки не имеют у нас недостатка в представителях и находятся даже в процветании, филология, особенно древняя, пребывает в полнейшем упадке и может считаться почти несуществующей, говорит г. Модестов. В Петербурге, средоточии умственной жизни России, где есть Академия наук, университет, филологический институт, духовная академия, даже две, — едва ли можно насчитать пять — шесть филологов имеющих какое-нибудь значение в науке; но из этого числа более половины — иностранцы или люди не русского происхождения. «Если же мы из Петербурга обратимся в провинцию, — говорит г. Модестов, — то увидим, что в трех университетах кафедра латинского языка остается незамещенной. Скоро будет два года, как я выехал из Киева, и принадлежавшая мне прежде кафедра до сих пор пребывает вакантною. То же самое в Одессе, то же самое в Казани, где уже 10 лет университет напрасно ищет на латинскую кафедру штатного профессора». Но этого мало. Значение латинского и греческого языков в общей филологии подверглось в последнее время сильному сомнению. «Они только два языка из целого множества языков, которые должны быть сравнены более или менее подробно», говорит Бэн. Примеры, взятые из других языков, например, из санскритского, имеют такое же значение; но ведь невозможно же изучить гимназисту или студенту все языки. Другой, не менее компетентный, англичанин Сейс, говорит, что для филологических целей латинский и греческий языки и менее ценны, и менее интересны, чем иное наречие дикого народа и, «конечно, менее интересны, чем новейшие европейские языки, жизнь и развитие которых могут быть наблюдаемы, подобно живому организму, на месте». Курьезно, что в то время, когда в Европе совершается решительный поворот общественного мнения в сторону гармонического слияния гуманитарных и реальных знаний, когда невежеством считается как пренебрежение словесными науками со стороны реалистов, так и пренебрежение изучением законов природы со стороны словесников, мы выступаем в мир просвещения с филологической системой и, забросив свой родной язык и живые языки, тщательно долбим на память греческий и латинский лексиконы, которых тоже не выучили.
Разбирая газетный материал для настоящего очерка, я нашел в «Волжском вестнике» довольно резкую полемическую заметку против фельетона г. Эртеля, напечатанную в «Русских ведомостях». И фельетон г. Эртеля, и возражение ему «Волжского вестника» относятся к нашему самому больному месту (а, впрочем, к самому ли больному? У нас так болит везде, что, пожалуй, трудно сказать, где болит больше).
Г. Эртель, под названием «Житницы», описывает земледельческие порядки Самарской губернии. Да, край удивительный! Точно это и не Россия, а вновь открытая русскими купцами часть света, в которую они собрались, чтобы растащить все, что в течение веков скопилось в ее недрах. Не нынче, правда, началось это расхищение. Еще при калмыках самарский край обнаружил наклонность к LatifundiH, когда десятки тысяч десятин снимались русскими купцами по гривеннику за десятину по двадцатичетырехлетним контрактам. Когда калмыки были угнаны в степь, земли их отобраны- в казну и сроки калмыцких контрактов кончились, оказалось, что десятикопеечная десятина выросла в цене до семи рублей. Как такому золотому дну было не привлечь к себе предприимчивых пионеров купеческой цивилизации? И пионеры пошли и завладели всем этим, некогда диким и пустынным калмыцким краем. Даже не выговоришь без трепета цифру десятин, принадлежащих доброму десятку теперешних самарских купцов, говорит г. Эртель. Одному купеческому семейству принадлежит 250 000 дес., другому 180 000, третьему более 100 000 и т. д. Владелец 4 — 5 тыс. дес. считается вовсе не крупным владельцем.
И все эти многотысячные хозяйства, повинуясь тяготеющему над ними закону спроса и предложения, живут всеми инстинктами хлебного базара. Это даже и не земледельческие хозяйства, а скорее земледельческие фабрики, работающие на всех парах для какого-то неведомого им рынка. Как можно больше вспахать, как можно больше засеять, как можно скорее обмолотить и свезти на пристань или на станцию железной дороги, — вот закон самарского земледелия. Все, что изобретает Европа по части скорейшего обрабатывания, все, что не требует больших технических знаний, но зато обещает быстрый результат, как, например, паровая молотилка, найдет в самарском хозяйстве и покупателя, и потребителя. Агроном там не требуется, да ему и делать нечего. «Заводите какое хотите интенсивное хозяйство в Самарском уезде, дешевая уфимская белотурка непременно сделает вас банкротом», — говорит г. Эртель. Убивающая своей дешевизной уфимская белотурка, с одной стороны, и Самара и Балаково — с другой, превратили самарского земледельца в хлебного биржевого игрока. Он не производитель (по существу), а сбытчик и продавец; его главная задача не в том, чтобы создать зерно или вести хозяйство, а в том, чтобы играть в торговую политику и знать ее досконально. Вместо агрономии, хозяин должен знать, кому сдать землю, да как и на сколько поднять арендную плату; он должен уметь нанять по дешевой цене рабочих, заключить с ними запутывающий их контракт, уметь ходить по судам. Даже самарский мужик усвоил себе эту политику и редко нанимается на посторонние заработки. И он развил в себе купеческие инстинкты, и он обрабатывает свою землю рабочими или, как выражается г. Эртель, «рабдми». А рабов этих гонит в самарский край нужда в огромном количестве. Целыми сотнями, а иногда и тысячами, скопляются они в базарных селах в ожидании спроса, худые, с изможденными лицами, опаленными солнцем и ветром, босые и полуодетые. И былой бурлак стал тоже рядом. Коренное детище Волги, без роду и племени, оборванный, спившийся, с лицом, одув-шимся от пьянства, отчаянный, речистый, грубый, бурлак тянет теперь земледельческую лямку, как он тянул прежде лямку судовую.
Что же спасет этот расхищаемый край, «что принесет сюда свет и посодействует подъему сознания, когда силы крестьянина еще не оскудели, когда грозное малоземелье еще не подрезало ему крылья? — спрашивает г. Эртель. — Грамотность? Но она не прочь стать орудием самого бесшабашного кулачества. Земство? Но оно бьется здесь в руках невежественных и продажных и опять-таки всецело зависит от кулаков. Образцовые фермы по рецепту г. Шарапова? Они могут играть здесь роль дорогой, но бесполезной игрушки, смешной для крестьян и разорительной для землевладельцев, буде землевладельцы захотят подражать ей. Интеллигентный челозек в качестве заправителя, администратора и советчика? Он либо бесполезен, либо принесет вред, ибо практическими его познаниями воспользуются опять-таки «практические» люди из крестьян, люди с необходимо кулаческим настроением.
«То принесет сюда свет, — заключает фельетон г. Эртель, — то поднимет сознание массы, что принесет с собой этические идеалы в соединении с практическими, что потрясет господствующее мировоззрение в самых его основах, что вместе с «фосфоритами» принесет проповедь религиозного апофеоза труда проповедь автора удивительной рукописи «О трудолюбии и тунеядстве крестьянина Бондарева», — одним словом, то, что мы, интеллигентные люди, назовем новым интеллигентным «сектантством», когда оно появится, наконец, и что полицействую-щая литература не замедлит окрестить «движением в народ, подобным движению пропагандистов в семидесятых годах», а мы согласимся и скажем: да, подобным по силе движением, но совершенно иного склада и с иными целями».
Этот вполне невинный фельетон вызвал, как я уже сказал, резкую полемическую заметку, напечатанную в «Волжском вестнике» и подписанную буквой И. Автор заметки видит в г. Эртеле ученика гр. Толстого, заменившего рассуждения вещаниями и дошедшего до геркулесовых столбов противоречий и самому себе, и здравому смыслу. По словам автора, г. Эртель только повторяет гр. Толстого. У учителя — отрицание науки, у ученика шаг еще дальше — отрицание грамотности; у обоих проповедь «этических идеалов», с одной стороны, и в то же время отрицание тех условий, без которых успех этой проповеди невозможен, т. е. грамоты и интеллигенции. «Ни школой, ни советом, ни руководством интеллигентный человек, — заключает автор заметку, — не поможет народу, по словам г. Эртеля; и вот нужно образовать секту, которая будет проповедовать «этические идеалы в соединении с практическими» и давать крестьянам зрелище «апофеоза труда». Бедный интеллигентный человек!.. Ему, значит, остается сделаться чем-то вроде раскольничьего попа».
То-то так ли? И это ли предлагает г. Эртель? Что его подивили земледельческие порядки самарского края, где всякий тащит и расхищает, где люди живут лишь алчными инстинктами, где, с одной стороны, зверообразный бурлак, спившийся и оборвавшийся или обнищавший татарин, а с другой, — жом и молоток, выжимающий и выколачивающий из всех и всего, что только можно выжать и выколотить, — все это совсем просто и понятно. Всякого свежего человека подобные людские порядки, где каждый или молот, или наковальня, не может не заставить призадуматься. Так жить, очевидно, нельзя, а как же сделать, чтобы люди жили по-человечески? И не только свежие люди, впервые посещающие эту новооткрытую и устроенную купцами страну, но и ее старые постоянные обитатели негодуют и протестуют против ее «виргинских» порядков. Прочитайте, что пишет г. Порту-галов в № 39 «Недели». Тут уже не захват, не расхищение производительных мертвых сил природы, а что-то такое ужасное, чему и названия нет, и что свершается совсем спокойно, во имя права собственности. И действуют тут не один, не два каких-нибудь случайно забравшихся в культурную страну дикаря, — нет, тут вы имеете дело с понятиями целой, среды, с ее представлениями о праве и законности и ее убеждением, что это право будет защищено и охранено.
Неподалеку от Мелекеса (посад Ставропольского уезда, Самарской губернии) есть три деревни, в которых живут 93 домохозяина. По уставной грамоте им отведена земля за 15 верст, на которую им и следовало выселиться. Владелица, княгиня Трубецкая, вероятно, и выселила бы крестьян, но на это требовалось 20 тысяч. «Так на этом дело и застряло, — рассказывает г. Португа-лов. — Мужики остались жить на своих местах и жили бы, пока их не снесло бы каким-нибудь ураганом или подземным ударом. И ураган нашелся... Помещики, нуждавшиеся постоянно в деньгах, продавали и перепродавали эти деревни из рук в руки, пока, наконец, они не очутились в прошлом 1885 г. в руках владыки Маркова.
Этот властелин, винокуренный заводчик и богач, первым делом распорядился и приказал снести деревни, почему-то ему мешавшие. Несмотря на вековую давность владения, несмотря на просьбы и мольбы, в мае 1885 г. явились сын Маркова, Федор, судебный пристав Корнилов и становой Благодарев с партией урядников и 39 человек плотников — вятчан, коих предварительно напоили. И вот, когда этот воинственный отряд, под командой полицейских, явился на место действия, все население Му-ловки было очевидцем приведения в исполнение судебного решения. Это был буквальный разгром. Все ломалось вдребезги, все разбивалось и выкидывалось. Прежде всего, была выброшена пища из печей. Жена крестьянина Еболдова, упавшая в обморок, была вытащена за ногу на улицу, и пристав был настолько цивилизован и джентльмен, что облил ее водой. С тех пор она хилеет. Разгромивши на первый раз до основания пять усадеб, тут же приступили к описи имущества крестьян на удовлетворение Маркова за какие-то убытки. Все оценивалось в ничто и было продано за бесценок... Несколько времени спустя, Марков прислал землекопов и велел рыть глубокую канаву вокруг домов и дворов, оставшихся еще не разгромленными, чтоб оттеснить крестьян от сообщения с их гумнами и лишить их возможности не только выгонять скот на выгон, но даже выехать из дворов. Крестьяне Христом-богом молили не окапывать их рвами и решительно заявили, что не дадут себя в засаду. Тогда явился сам Федор Марков и велел своим землекопам бить крестьян скребками и кирками. Словом, чуть не произошло кровопролитие; но землекопы ие решились вступить в открытый бой с крестьянами. Тогда-то пошли волокита, аресты, уголовные преступления, сопротивление властям и так далее. Все было пущено в ход, чтобы навязать крестьянам уголовщину, разорить их до последнего и если не мытьем, так катаньем заставить бросить свои кровные земли и уйти куда угодно... Теперь это дело в разных инстанциях».
И это не в одной калмыцкой Самаре; совершенно так же наш купец исполняет свою гражданскую миссию па Кавказе, в Сибири и везде, где он является в качестве представителя русских начал. Что же мудреного, что нас считают дикарями и боятся, как огня, русской цивилизации? Да, тут дрогнешь и спросишь, что же делать, какой плотиной остановить разлив этой дикой силы? Есть у нас и школы, и грамотность, и интеллигенция, все есть, повидимому, что есть и у других христианских народов, — и все эти просветительные и умягчающие средства, кажется, в полном ходу, а «кадык» прет себе, как какой-нибудь таран, и все расступается перед ним, все уступает его силе, все служит ей.
Но в этом ли разливе купеческой цивилизации вся наша беда? Нет, читатель, это только полбеды. Главная наша беда в том, что мы сваливаем своих богов, которым еще вчера молились, и не умеем сохранять умственного наследства. В этом случае г. Эртель только один из многих, из тех многих, у которых есть уже и свой орган в печати, и «Волжский вестник» обвиняет его в том. Сказать, что грамотность, какою ее получает народ, не несет исцеления, еще не значит отрицать грамотность вообще; сказать, что интеллигенция, т. е. известная часть ее, в качестве заправителей, администраторов и советников, либо бесполезна, либо принесет вред, тоже не значит отрицать интеллигенцию вообще. В сущности, с кем же борется прогрессивная печать, хотя бы тот же самый «Волжский вестник», как не с интеллигенцией, — с той интеллигенцией, которая, вместо света, вносит мрак, вместо образования, сеет невежество, вместо правды и порядка, вносит неправду и беспорядок? Недавно судился, по определению сената, в саратовской судебной палате николаевско-новоузенский предводитель дворянства Акимов. Это один из богатейших землевладельцев Николаевского уезда, человек еще средних лет, значит, новой формации и получивший университетское образование. Интеллигент несомненный. А посмотрите, что творил этот несомненный интеллигент. Является несомненный интеллигент с мировым судьей Росляковым, оба пьяные, на заседание для составления списка лиц, имеющих право баллотироваться в мировые судьи, и начинают дебоширить, как в трактире. Росляков коснеющим языком лепечет: «Алеша, ты у нас сила... ты — власть, только прикажи, кого хочешь уберем!» Но к этому же Алеше (мировому судье Мироедову) Акимов отнесся совсем не как к силе: «я тебя вытащил из грязи, — сказал он ему, — а ты идешь против моих требований!». А секретарю съезда, Спирину, когда тот спросил, почему он не внесен в список, Акимов ответил: «ты пасквильный корреспондент, социалист, принадлежишь к тайным обществам, и я тебя вышлю с жандармами» и, выбежав из совещательной комнаты, стал кричать, чтоб ему прислали немедленно жандармов. Мироедов и Спирин обратились к свидетелям этих сцен, мировым судьям, с просьбой составить протокол, но никто из них не решился на акт подобной смелости: до того они трепетали перед владыкой двух уездов. Протокол, по просьбе Спирина, был составлен товарищем прокурора, который и дал протоколу ход. На суде выяснилось, что самодурство Акимова не имело границ, что он ворочал всеми делами уезда и делал самые дикие постановления. Оказалось, что он обнаруживал всегда необузданный характер, и в Петербурге судился за нечаянный будто бы выстрел. Хорошо объяснение — необузданный характер! Медведь еще необузданнее, да и того сажают на цепь. Все эти необузданные до тех пор и делают всякие глупости, пока им позволяют. Гр. Толстой своей теорией о непротивлении злу не сказал ничего нового. Он только формулировал нашу обыденную практику общественных отношений, когда каждый считает себя очень маленьким и беззащитным и при первом более резком шуме убегает, как мышонок в свою норку. Кто же не знает, что у нас только единицами являются истинно свободные и независимые люди с выработанным общественным характером, а что же мы делаем, чтоб они вырабатывались и какие для этого существуют возможности? Вопрос старый, тридцать лет тому назад разрешенный еще нашей печатью, а теперь до того забытый, точно его никогда и не было. Вместо того, чтобы в общественных мерах видеть средства гражданского устроения, мы снова обращаемся к эстетике и художественности, к поэзии жизни и к моральным проповедям. Много веков нужно, чтобы не только в распившемся бурлаке, потерявшем человеческий образ, но и в таких интеллигентах, как Федор Марков, сносящий деревни, или Акимов, стреляющий нечаянно в людей, воспиталось то умягчающее художественное и поэтическое чувство, которым теперь некоторые собираются врачевать Россию! Не под другим ли только соусом преподносят тут читающей публике толстовскую теорию о непротивлении злу? Пока проповедники художественности будут насаждать чувство поэзии- жизни в г. Акимове или в Федоре Маркове, первый успеет проглотить поодиночке всех николаевцев и новоузенцев, а
второй снесет все деревни Ставропольского уезда. А какие чувства следует воспитывать по этой теории в робких мышатах.? Они и теперь при первом шорохе разбегаются по «оркам, с поэтическим же чувством и художественностью, гнушающимися всяким противлением, они дадут такого стрекача, что их уже ничем не выманишь из норки.
Мне думается, что оппонент г. Эртеля перенес центр тяжести своих обвинений совсем не туда. Г. Эртель раньше общего вывода совершенно ясно говорит, что нужно довести «трудовую обстановку до поэзии», что нужно, чтобы «пахарь вкладывал свою душу в работу», чтоб он «обходился с нивой любовно», чтобы земледельческий быт расцвел «той поэзией труда, которую так превосходно изображал Кольцов в своих песнях». В своих требованиях г. Эртель настолько радикален, что считает необходимым «потрясти господствующее мировоззрение (какое?) в самых его основах», и это должны свершить, конечно, эстетики-художники, которые пойдут в народ и вложат в него «любовное отношение к хозяйству и поэтические связи с природой», так чтобы Самарская губерния превратилась в «идиллию аксаковской «Семейной хроники» (хороша идиллия!). Все это далеко не толстовская программа, которая при всей ее непоследовательности, все-таки трогает, так или иначе, чувство и может давать направление поведению. В эстетической же теории нет никакой программы: она не больше, как смутная фантазия, не действующая даже на воображение. Я говорю все это не о т. Эртеле и пользуюсь его фельетоном лишь как поводом, чтоб указать на одно из течений нашей публицистики. В Германии, при подобных же внешних обстоятельствах, наблюдалось подобное же направление и тех, кто ему следовал, Берне называл «лавендуловыми душами». И у нас завелись свои «лавендуловые души», но только у них едва ли окажется много сторонников. Русский человек вообще не любит ничего слащавого, и слабостью мысли и характера его не увлечешь.
Но относительно малой пользы от грамотности и ее бессилия остановить разлад царящего у нас самодурства и кулачества лавендуловые души все-таки правы, но только из этого факта совсем не следует делать того вывода, который делает оппонент г. Эртеля. Ведь и Стюарт Милль говорит, что благими последствиями изобретения машин пока еще не воспользовались рабочие, но из этого уже никак не выходит, что Стюарт Милль желает уничтожения машин. Есть масса благодетельных изобретений, которыми до сих пор пользуются только сильные и богатые, и лишь для них одних открыт пока свободный доступ к благам цивилизации. Ведь вся задача современного общественного мышления, все усилия лучших и более справедливых людей направлены на то, чтоб эти блага распределялись как можно равномернее и не составляли бы привилегии некоторых. То же повторяется и с грамотностью, которая и не у нас одних далеко не приносит своей пользы. Да и давно ли мы стали грамотеями, давно ли завелись у нас школы? Я говорю, конечно, о школе народной, о той многострадальной народной школе, которой так же не везет у нас, как и многому другому, что предпринималось в интересах справедливости и народа. Пожалуй, и нам, образованным, грамотность не приносит всей пользы; и, может быть, от этого мы и сами приносим мало пользы. Не стану говорить о наших многих внутренних делах, о которых нигде И ничего не прочитаешь, но возьму хоть школу: что и где может узнать о ней наша читающая публика? Я, например, пользуюсь в этом отношении большими средствами, чем обыкновенный читатель, потому что имею в своем распоряжении столичные и провинциальные газеты; но выбрать и выискать из них то, что меня интересует по какому-нибудь данному вопросу, — настоящая Сизифова работа. То здесь, то там, в десятках газет выищешь в виде маленьких и точно случайных заплаточек коротенькие известия или корреспонденции по интересующему вопросу, но когда их начнешь связывать, чтобы получить цельную картину, то получается только дырявое лоскутное одеяло, или нечто вроде тех детских складных картинок, в которых половина фигур растеряна. Но в этом нельзя винить и газеты: не святым же духом узнавать их сотрудникам, что делается в России, когда и она молчит, и молчат те, кто ею ведают. И вот и пишущие, и читающие довольствуются всякими обрывками сведений, какие находят в газетах, и только по их общему тону могут судить об общем ходе жизни. Словом, вместо ясной, точной картины, открывается лишь серый фон каких-то течений,, точно с высокой горы смотришь на океан, покрытый туманом. Видишь, что и здесь что-то неладно и там что-то неладно, а в чем и почему это неладно, не поймешь и не узнаешь. Подобные печатные пряТки (впрочем, ненамеренные со стороны печати) едва ли приносят кому бы то ни было пользу, а тем более российскому неустройству.
Когда я дописывал эти слова, мне принесли письмо одного из многих далеко живущих друзей. Пишет он мне по поводу одного из моих очерков: «Пожалел я, между прочим, что, говоря о земстве и противупожарных мерах, вы не упомянули ни словечка о вятском земстве. Там это дело действительно хорошо устроено: в одном Глазовском уезде, например, больше тысячи пожарных машин и при них специально особый механик, который только и делает, что ездит по уезду и осматривает их, чинит, поправляет, учит крестьян обращаться с ними. Все это делает, главным образом, губернское земство, а не уездные. То же самое, говорят, и в других уездах. Разумеется, на самом деле не бог весть что, но, все-таки, видно хоть некоторое старание и забота о мужике. А как прекрасно устроена там медицинская часть, хотя докторов и фельдшерских пунктов, все-таки„ мало. Из пяти докторов (один уездный), четыре там люди молодые, очень деятельные и буквально ни с кого не берущие ни гроша; аптека также земская и все отпускает бесплатно, взыскивая только 5 коп. с каждого рецепта, т. е. с каждого отпуска лекарств, хотя бы некоторые из них стоили несколько рублей. Как посравнишь все это с такими чиновничьими па-лестинами, как, например, здешний округ (письмо из Сибири), так и увидишь всю огромную разницу между чиновничьей и земской деятельностью, как бы последняя ни была плоха и узка. Тут положительно нельзя хворать, — так дороги доктора и аптека, — а в деревне и подавно, потому что там и доктора никогда не увидишь. Из двух докторов один только и делает, что по мертвым телам ездит, вскрытие производит, а другой постоянно в городе живет...». Упрек мне совершенно справедливый, но что же делать мне и вообще всякому другому русскому публицисту при наших условиях гласности? Кроме вятского, есть еще много и других земств, у которых и пожарная, и медицинская, и школьная части устроены очень хорошо, но разве о них можно где-нибудь найти хоть одно печатное слово? Разве собирание сведений о России у нас организовано, разве есть у нас такой орган, в котором бы давались точные и подробные отчеты о внутренних и земских делах? Земства, правда, издают свои постановления, но как их добыть обыкновенному смертному? Да если бы обыкновенный смертный их и достал, он, все-таки, едва ли бы их одолел и пришел бы к каким-нибудь точным и определенным итогам. Каждоё земство пишет у нас отчеты и доклады по-своему, а есть и такие управы, которые никаких отчетов земскому собранию не представляют. А при разнообразных регистрациях ни о каких общих итогах не может быть и разговора. Например, о земских школах одни управы дают в отчетах очень подробные сведения, так что вы узнаете даже, где каждый учитель или учительница окончили свое образование; другие же дают только огульную цифру школ и расходов на них и считают это вполне достаточным. Центрального земского органа у нас нет, откуда же явиться земскому единству и на чем и как столковаться земцам? Попытки к организации единообразия в усилиях, задачах и способах земской деятельности не имели до сих пор никакого результата, да, по всей вероятности, скоро его и не достигнут. И вот и земская, и неземская Россия живет отгороженными кутками, и каждый куток варится в своем собственном соку, не ведая, как варится его сосед. Какими же знаниями при таких средствах отечествове-дения может владеть наше общество, на которое известная часть печати возлагает ответственность за все неустройства, если отечество от общества спрятано и если оно не имеет ни малейшего понятия о том, как это отечество живет? Что же мудреного, что наша тенденциозная печать не только играет общественным неведением, как фокусник шарами, но еще и старается совсем завязать обществу глаза и заткнуть уши, чтобы затем лепить из него, как из воска, какие нужно фигурки? Именно такой игрой и занимается теперь эта часть печати в вопросе о народном образовании, в пользе которою усомнился г. Эртель.
В одном из недавних номеров «Киевлянин» сообщал з виде коротенького известия, что Министерство народного просвещения собирает сведения о том, какие необходимы изменения в программе учительских семинарий, чтобы сельские школы могли иметь вполне подготовленных учителей для преподавания ремесел и общеполезных сельскохозяйственных знаний. Вместе с этим сельские школы предполагается приспособить к местным условиям, так что в одной шкоде может преподаваться как специальный предмет огородничество или садоводство, а в другой — столярное или сапожное ремесло и проч., смотря по местным требованиям. Что же, мысль прекрасная и ее остается только одобрить. Но «Киевлянину» было нужно другое и в одном из последующих номеров он разразился в передовой статье целой филиппикой против земских школ. Чтобы сохранить цвет и аромат этой филиппики, я приведу главную ее часть целиком.
«Останавливаясь на этом новом течении в сфере народного образования и определяя его значение, — говорит «Киевлянин», — нам кажется, что осуществление вышеуказанной программы составит целую эпоху в жизни нашей народной школы, даст ей то твердое положение, какого она до сих пор была совершенно лишена. В силу неисповедимых судеб наша народная школа еще недавно была поставлена в столь ложное положение, что можно только удивляться, как до сих пор это антинародное искусственное насаждение просвещения не заглохло еще окончательно и не отбило у массы народа всякой охоты к образованию. Преследуя ложно (курсив «Киевлянина») реалистические цели, наша школа направила все силы к тому, чтобы порвать естественную связь ее с церковью, а равно и с жизнью, и наши педагоги вели обучение народа так, что все «знания» (кавычки «Киевлянина»), которые давала школа, являлись ни к чему (курсив опять «Киевлянина») непригодными и должны были забываться совершенно; все, что получили воспитанники таких школ, — это льготу по отбытию воинской повинности, да и то лишь в таком случае, если не упускалось время и ученик не успел превратиться в совершенно безграмотного. С изданием закона о церковно-приходских школах в системе народного образования был пополнен крупный пробел и религиозно-нравственному просвещению народа дано надлежащее место. Но это лишь одна сторона дела. Народную школу необходимо поставить так, чтоб она, в то же время, служила экономическим (курсив «Киевлянина») пользам и нуждам массы населения, была реально связана с потребностями жизни и удовлетворяла их (курсив «Киевлянина»). Эта вторая задача и будет достигнута с введением преподавания в народных школах общеполезных сельскохозяйственных знаний и ремесел».
Итак, оказывается, что изменение в программе учительских семинарий составит целую эпоху в жизни нашей народной школы;
что закон о церковно-приходских школах пополнил крупный пробел и религиозно-нравственному просвещению народа дано надлежащее место;
что теперешняя (читай: земская) школа была поставлена в ложное положение #и удивительно, как она еще окончательно не отбила у народа охоты к ученью;
что земская школа стремилась порвать естественную связь народа с религией и жизнью;
что знания, которые она давала, являлись ни к чему не пригодными и должны были забываться совершенно.
Уже одного обвинительного пункта, что школа разрывала «естественную связь народа с религией и жизнью», было бы совершенно достаточно, чтобы закрыть все земские школы. Отчего же они оказываются не только не закрытыми, но и растут ежегодно? На этот вопрос дает вполне удовлетворительный ответ сам «Киевлянин», добросовестно оговоривший, до перечисления обвинительных пунктов: «нам кажется». Именно почтенному «Киевлянину» все это только показалось. Но если это так, если «Киевлянин» сознавал, что ему это только кажется, зачем же он пользуется неведением читателя и говорит так утвердительно о вещах, ему точно не известных? Во всяком случае в этом «кажется» заключается самое безобидное объяснение тех обвинений земской школы, которые приходится встречать в газетах и выслушивать в земских собраниях от людей, хотя и считающих себя земцами, но не знающих ни земских дел, нЦ не умеющих думать по-зем-скому. А эти господа, благодаря слабому протесту протиз них со стороны земства, уже не первый год высказывают совершенно безнаказанно такие вещи, которых они при иных условиях высказывать бы устыдились. «Зачем нам народное образование, на которое уходят десятки тысяч ежегодно земских денег, а пользы и на грош нет? — говорил на аткарском земском собрании нынче, в октябре, гласный Гардер. — Образование народа приносит один лишь вред! Деревенские ребята в школах научаются безнравственности и неверию в бога. Учеников в школах учат не закону божию, а тому, что у коровы спереди есть голова, а сзади... хвост. Грустно!.. Пора это зло пресечь!
Закрыть надо школы, уничтожить! Пусть попы да дьячки учат народ грамоте! Они научат народ чему-нибудь хорошему!». С меньшим числом знаков восклицания, но так же убедительно, говорил на курском собрании на ту же тему гласный Анненков: «Пора земству отказаться от обыкновения строить здания для школ стоимостью в 2 — 3 тысячи рублей; не нужны в школах глобусы, ландкарты: расходы на все это не только не полезны, но даже вредны. Образование же только приносит населению вред, развращает крестьян. На что, например, употребляют свои знания ;волостные и сельские писари, как не на вред населению? Продуктом образованности в деревне являются, кроме писарей, кабатчики, кулаки, аблакаты и прочие пройдохи. Просвещение портит крестьянское юношество, которое не почитает теперь родителей, забыло посещать церкви, пьянствует». «Одесский вестник» говорит, что этот же самый г. Анненков два года тому назад доказывал в земском собрании, что для бедняков должны быть организованы особые школы, в которых фабриковались бы расторопные лакеи и ловкие горничные.
«Любопытно бы знать, — замечает «О. В.», — какал школа фабриковала самого г. Анненкова?».
И в этом замечании газеты меньше всего иронии. Оно напоминает другое замечание, сделанное по поводу «наших самоучек» («Рус. М.», кн. VII). С известным Слепуш-к-иным был такой случай. Встречается с ним какой-то незнакомец и для поправления его денежных обстоятельств дает ему 700 р. И когда Слепушкин полюбопытствовал узнать имя великодушного человека, тот ему ответил: «На что тебе меня знать, — ведь, я тебя знаю», ссудил, да более и не показывался. На какой почве возник этот великодушный человек? — спрашивает автор. Откуда и в самом Слепушкине то, что, обзаведясь кирпичным заводом, он стал для рабочих вторым отцом, кормильцем, советником, судьей, заботливым попечителем о больных? Откуда это, что он всегда совестился притеснять своих должников и, встретив кого-нибудь из них, обыкновенно показывал, что не замечает, потому что по опыту знал, как тяжело встречаться с заимодавцем. Отчего, в самом деле, — спрашивает автор статьи, — один и тот же наш народный мир порождает в одно и то же время и самоотверженного мирянина, и мироеда? В самом деле, какая школа создает подобные крайности не только в де
рёвйё, но и в земстве и где ходите, на какой почве возникают такие дикие понятия, что образование приносит вред, а просвещение портит, что школы нужно за крыть, как этого требуют гг. Гардер и Анненков? На какой почве возникла вражда против земства? Да все на почве того же самого невежества, которое питается неудовлетворительной организацией образования, слабыми средствами просвещения, а больше всего, слабыми возможностями для борьбы в самой жизни, в повседневной ее практике с этим невежеством, так гордо и самоуверенно поднявшим теперь свою голову и не только бесстыдно рисующимся своим цинизмом, но и являющимся силой, имеющей власть вязать и разрешать. Г. Гардер, например, вызвал на аткарском собрании «чрезвычайно шумные прения», потребовалось его опровергать, потребовалось представлять доказательства, что он говорит вздор. В защиту народного образования выступили четыре гласных: А. Сафонов, Котов, Садовников и Гарцуев, которые доказали, что народное образование в уезде находится в очень хорошем состоянии, что народ относится к школам с большой симпатией и не жалеет на них последних грошей. На предложенный председателем вопрос: «Желает ли собрание, по примеру прежних лет, ассигновать на народное образование 18 000 рублей?» — собрание ответило утвердительно.
Зачем же г. Гардер и его сторонник поднимали весь этот шум? Зачем приходилось спорить и доказывать вновь то, что было еще доказано при Ломоносове? Зачем люди, не имеющие умственною ценза, допускаются к разрешению общественных вопросов? А что люди без умственного ценза стали выдвигаться теперь в качестве Демосфенов, в этом много повинна так называемая консервативная печать. Посмотрите, каким разветвленным потоком разливается по России... ну хотя бы известный родник, бьющий в Москве. «Московские ведомости» читаются, конечно, высшей консервативной интеллигенцией, но за ними выступает целый ряд провинциальных газет, официозных, по-луофициозных, даже и совсем неофициозных, как «Киевлянин», «Варшавский дневник», «Виленский вестник», «Волынь», «Кавказ», «Новороссийский телеграф», которые текут по провинции ручейками того же цвета и утоляют жажду любознательного читателя все той же водой.
За этими претендующими на большую серьезность и основательность органами выступают частью приспешники «Московских ведомостей», как «Южный край» и «Луч», а частью мелкие органы «вольной печати», рассчитывающие на провинциальных дешевых подписчиков — «Нива», «Свет», «Иллюстрированный мир», «Всеобщая газета», «Волга», «Радуга», «Вокруг света», набирающие своих читателей между сельским и городским духовенством, мелкими купцами и приказчиками, небогатыми землевладельцами, управляющими, кабатчиками, волостными писарями и т. п. малоразвитой и нетребовательной публикой. Что же мудреного, что избиратель, начитавшийся г. Окрейца («Луч») или «Южного края», выбирает в гласные людей того высокого умственного ценза, как гг. Гардер или Анненков; а эти, в свою очередь, превращают земские собрания в приготовительный класс общественности или в арену общественных недоразумений? Но нужно быть, однако, справедливым и к гг. Гардеру и Анненкову. Как же им не высказывать своих мыслей, когда даже такие солидные представители провинциальной печати, как «Киевлянин», думают о земских школах совершенно так же? Вот мы и опять подошли к школе и теперь от нее уже не отойдем.
Итак, земскую народную школу обвиняют и прогрессисты известного оттенка, и консерваторы. Прогрессистов школа не удовлетворяет потому, что не дает этических идеалов и одна грамотность бессильна бороться против бесшабашного кулачества; газетные консерваторы находят, что школа стремится порвать естественную связь народа с религией и жизнью, а консерваторы-практики, черпающие руководящие идеи к исполнению из консервативных газет, уже совсем и не думая, оглашают воздух кличем: «Долой школы! Пускай попы да дьячки учат народ грамоте». Посмотрим же, что говорят факты и дают ли они основание только к этим выводам или к каким-нибудь другим.
История нашей народной школы коротка. До Петра Великого у нас была школа церковная (как и все тогдашнее образование), т. е. там и здесь, — и уж, разумеется, не в деревнях, — учила детей церковной грамоте, потому что другой и не было, да молитвам. Петр вводит гражданскую азбуку и создает школу профессиональную, потому что ему были нужны знающие люди. Но «посад-356
ские люди» о ужасом смотрели на все эти цифирные, военные, навигацкие и разноязычные школы и просили царя их от школ освободить, что Петр и сделал. Затем вплоть до царствования императора Николая о народной, т. е. деревенской, мужицкой школе ничего не слышно; правительство заботилось лишь о среднем и высшем образовании и до деревни не доходило. При императоре Николае, и в особенности с учреждением Министерства государственных имуществ, начинают в казенных и удельных имениях заводиться школы, в которых деревенских мальчишек учили, обыкновенно -силком, грамоте. Эти школы и тогда назывались «бумажными», т. е. об них писалось в отчетах одно, а в действительности было другое: народ этих школ не любил и смотрел на них, как на своего рода рекрутчину. Надо было измениться всем условиям народной жизни, чтобы школы стали действительно потребностью, и это изменение явилось с освобождением крестьян и с возникновением земства. Вот когда, наконец, не только наступила пора народной школы, но явилась и действительная школа.
Дореформенные школы, доставшиеся в наследство земству, едва ли даже и можно было считать школами. Помещались они бог знает где и бог знает как, и учили в них грамоте по «Домострою» всякие учителя — и отставные солдаты, и дьячки, и дворовые, и пьяные, и трезвые. Достались в наследство земству и церковно-приходские школы, помещавшиеся тоже кое-где и кое-как, то в сторожке при церкви, то у дьячка; учебных средств почти никаких не было, ни- азбуки, ни книг для чтения, и вся грамота сводилась к механическому чтению по букварям да церковным книгам.
И вот, точно чудом каким-то, свершается нечто невиданное и небывалое. Вопрос о народном образовании становится общим вопросом, над ним задумывается не земство только, а лучшие люди России; прежняя Россия, никогда и не слыхавшая об ученых педагогах, о методах и педагогии, тут внезапно, неизвестно откуда, точно из земли, создала ряд даровитых, знающих и фанатически преданных делу народного образования писателей, воспитателей, учителей, создавших никогда еще неслыханную в России педагогию и установивших народную школу на научных основах. В истории народной школы имена ее первоучителей и организаторов, как Ушинский, Водовозов, Максимович, Столпянский, Золотов, барон Косин-ский, барон Корф, Студитский, Кочетов, Блинов, Тихомиров — сохранятся навечно. Я перечислил далеко не всех из посвятивших себя народному образованию, и масса их служит лучшим показателем силы того движения, которое овладело образованными людьми в пользу народного образования.
Движение это было вполне сознательное, и люди отлично (понимали, в чем заключаются их цели и задачи и какие трудности лежат им на пути. Нужно было создавать все вновь, потому что предыдущая школа (если только школой можно назвать то, что было) давала лишь отрицательные указания. Работа была большая и трудная, и не только для обыкновенной публики, но, пожалуй, и для земцев не всегда понятная. Только те, кто стоял у самого дела, могут оценить вполне тот, повиди-мому, мелочной, но, в сущности, гигантский труд, который вынесли на своих плечах творцы нашей народной школы. Они должны были и делать и переделывать, учить и сами учиться. Для этого было мало одной энергии, — требовалась страстная любовь к делу, известная настойчивость, и даже упрямство, в достижении цели. Двигал людьми не казенный формализм, не служебная исполнительность, а та благородная, одушевляющая сила, которая зовется искрой божьей. И, может быть, ни на каком другом поприще жизнь не выдвинула столько беззаветных энтузиастов, которые, несмотря ни на какие лишения, толчки или неприятности, всецело охваченные любовью к ближнему, отдавали все свои силы, чтобы внести свет в темный мир заброшенной русской деревни. Это не фразы! Я не пишу историю народной школы (а ее должен бы кто-нибудь написать, и именно теперь, когда еще свежо впечатление первого труда и когда еще живы тс, кому первым пришлось пробивать пути, класть первые камни этого будущего здания да отвоевывать под нею каждый вершок земли, борясь с окружающим невежеством и непониманием), — я хочу только показать читателю, сколько неправды, и именно теперь, говорится и пишется об одном из лучших наших дел. Чтобы читатель сам убедился в этом, я в виде схемы народного обучения в земских школах представлю ему те результаты, которые были выяснены на первом съезде учительниц-семи-нарок земской учительской школы П. П. Максимовича в Твери, в августе 1883 г. Эти итоги будут и живой картиной самой земской школы, какой она является теперь.
Первоначальное обучение грамоте ведется, во всех без исключения школах, по звуковому методу. Это кропотливое дело требует большого внимания и терпения. Самое большое затруднение испытывают дети при первых опытах слияния звуков по разрезным буквам; дети не могут догадаться, как связать звуки «вместе, как прочитать две буквы сразу, и всегда произносят каждый из двух звуков отдельно (м — а). Для устранения этого затруднения, учительница или учитель заставляют тянуть первый звук, а потом сразу прибавить к первому звуку второй. Но и этот прием очень часто не уменьшает затруднения, и учительнице нередко приходится самой подсказывать произношение слога. Затруднения эти продолжаются, приблизительно, во время изучения первого десятка букв. Не мало затрудняет детей и слияние согласных звуков с мягкими гласными. Дети произносят мягкий гласный звук или твердо (лш, вместо мя), или вместо я произносят ья (мья). После того, как дети познакомятся с первыми 10 — 15 буквами, им выдаются книжки (не везде, правда). Дети этому ужасно рады, да довольны и родители, которых обыкновенно особенно интересуют первые успехи обучения ребенка.
Дети при поступлении в школу говорят так, как они «научились говорить в семье, а потому их язык отличается всеми теми неправильностями, какие существуют в местном говоре. Школа должна исправить этот недостаток, т. е. то, что действительно неправильно в местном языке, и научить учеников понимать общелитературный язык, каким пишутся книги. Это дело и трудное, и деликатное, и, к сожалению, не дающее прочных результатов, ибо ребенок слышит общепринятый литературный язык только в школе, а затем и до школы, и после школы, и во всю жизнь его окружает местный говор. Учителя думают, что заметное влияние школы и книги на местный язык ска- жется только через несколько поколений, прошедших последовательно через школу. Исправление говора детей должно делаться умело и осторожно, чтобы в ребенке не явилось чувства пренебрежения к крестьянскому языку и к тем, кто им говорит, чтобы ребенок не заважничал, чтобы в нем «не явилось желание щеголять словами и оборотами, которые он, пожалуй, даже и не совсем понимает. Это дело требует тем большей осторожности, что народный язык питает язык литературный и служит его главным источником. Да, кроме того, есть много слов, не заключающих в себе никакого дурного смысла, но которые не употребляются в литературном языке только потому, что не принято так говорить. Граф Л. Толстой употребляет в своих народных рассказах слова: кобыла, портки и т. п., не принятые в литературной речи. И, конечно, удерживание детей от подобных слов принесет только вред, потому что дети станут доискиваться причины и могут приписать этим словам такой смысл, какого в них вовсе нет. Народная школа переводит теперь ученика постепенно от народного языка к языку общелитературному и при этом исходной точкой отправления в обучении языку, первой ступенью в последовательном умственном развитии учащихся служит народный язык, следующей ступенью служат: язык народной сказки, песни и пословицы, а высшей является язык литературный.
Когда дети выучатся читать слова и предложения, им дают читать коротенькие повествования и рассказы, представляющие -развитие какой-либо одной основной мысли. Статьи описательного характера в этот период обучения мало доступны детям и читаются ими с большим трудом. Сказки, забавные анекдоты, шутки и прибаутки, скороговорки, песенки и т. п. хотя и охотно читаются детьми, но встречают полнейшее неодобрение и даже порицание со стороны родителей, и потому их в школе не читают.
Обыкновенный способ разработки статей заключается в следующем: статья читается вся сразу и два или три раза — механически и при этом исправляют ошибки учеников в выговоре и произношении слов в интонации чтения предложений и проч. После механического прочтения делается разбор статьи по частям, причем объясняются детям незнакомые слова и выражения, переспрашивают прочитанное, а потом дети передают своими словами содержание прочитанного отрывка. Так читается статья до конца. В конце статьи выводится главная мысль, и дети пересказывают содержание всей статьи.
С чтением басен дело идет труднее: в них сбивает детей вымышленная форма. Поэтому детям нужно сначала прочесть басню и растолковать им прямой ее смысл, а потом уже смысл переносный. Применение действий и поступков животных к действиям и поступкам человека — очень трудная работа для детей; басенные образы в воображении детей берут всегда перевес над объяснениями этих образов учителем.
Дети очень охотно заучивают наизусть стихотворения, но родители деревенских детей в большинстве случаев относятся к занятию неодобрительно. Так же не одобряет народ сказки и песенки; он считает чтение сказок бездельем, и, дорожа временем, требует, чтобы школа учила ребенка только «делу». Поэтому, несмотря на то, что сказка может служить прекрасным воспитательным материалом и вообще нравиться детям, потому что соответствует вполне той ступени развития, на которой стоят дети, приходится иногда делать уступку родителям и пользоваться сказкой только для внеклассного чтения.
Чтение есть основа школы, ее главный развивающий элемент в области умственной и нравственной, сообразно этому и статьи, избираемые для чтения, делятся: на статьи, заключающие в себе естественно-исторические, географические и исторические сведения (описания и рассказы) и образцово-литературные произведения и статьи религиозного и нравственного содержания, развивающие и облагораживающие преимущественно чувства (басни, стихотворения, повести, рассказы и проч.). Совершенно справедливо замечает одна из учительниц (г-жа Боркова), что разумно направленным чтением может быть исчерпана почти вся задача современной народной школы.
Как пример влияния задушевных рассказов на чувство детей, г-жа Боркова указывает на сказку, напечатанную в «Игрушечке», — «Откуда взялся ландыш». «Одна старушка возвращалась от обедни с своим внучком Яшей; их окружила толпа нищих; Яша, пораженный картиной бедности, спросил у бабушки: «Почему так много несчастных на свете?» Старушка ему ответила, что жил на свете злой старый колдун, он Спрятал людское счастье в сундук и унес далеко в лес. С тех пор стало много горя в людях. Охваченный чувством сострадания и любви, Яша все думал, как отыскать счастье людям. Поздней ночью он уходит в лес на поиски. Идет день, другой, заводит далее, а счастья все нет. Усталый, он падает под сосенкой и плачет. Слезы его капают на зеленую травку, на землю, и оттуда поднимаются ландыши, такие же белые и чистые, как чисты были его слезы, желания и любовь». Сказка эта произвела глубокое впечатление на детей; они заставляли ее перечитывать, задумывались и даже делали свои замечания по поводу Яшиной жалости к людям. Этот факт дает повод г-же Борковой сделать такой вывод. Крестьянский ребенок очень рано начинает вести почти самостоятельную жизнь вне нравственного влияния матери. Вся ушедшая в заботу дня, крестьянская мать мало имеет времени думать о" детях, а если и ласкает их, рассказывает что-нибудь, то урывками и между делом. А, между тем, сплошь и рядом, дети бывают окружены фактами грубого насилия и несправедливости, перевеса физической силы над нравственной и в этой обстановке быстро грубеют и делаются бесчувственными. Поэтому школа, по мнению г-жи Борковой, должна, насколько возможно, заменить крестьянскому ребенку недостающее ему умягчающее влияние матери, ввести его в светлый мир добрых чувств, человечности, правды и любви. Но отвечает ли этим требованиям учебный материал, который имеет в своем распоряжении современная народная школа? При классном чтении обыкновенно употребляются книги для чтения Паульсона, Водовозова, Ушинского, Толстого и «Родина» Радонежского. В массе начальных училищ нет библиотек для внеклассного чтения, а если они и попадаются иногда, то составлены случайно, без системы, и потому не имеют никакого значения для нравственного и умственного развития детей. Перечисленные же выше авторы тоже не удовлетворяют вполне. Паульсон погрешает нравоучениями и натяжками добродетельных чувств и потому не производит на детей настоящего впечатления. Водовозов иногда нс интересен и сух. Толстой нравится детям больше Паульсона и Водовозова, но зато ни Радонежский, ни Толстой не дают детям знаний и заботятся только о развитии чувства и воображения. По отношению к передаче полезных знаний преимущество опять на стороне Водовозова и Ушинского. Эти особенности каждого из авторов заставляют учителей строго относиться к каждому из них и делать из статей для чтения выбор, наиболее соответствующий задачам воспитания. Но этого мало. Сухое изложение статей, дающих знание, принуждает учителей прибегать к устным беседам, которые, как замечено, действуют гораздо сильнее на ум и воображение детей, чем чтение. И это понятно: книга сама по себе все-таки мертвая бу-362
ква и требует значительно усиленной работы воображения и способности умозаключения со стороны чтеца, а все это нужно ребенку еще приобрести. И, тем не менее, учителя пользуются беседами как вспомогательным средством, и книге дается преобладающее значение, как единственному источнику для самообразования детей в будущем.
Кроме классных занятий в школах, где представляется для того возможность, ведутся с учениками внеклассные чтения. Но это возможно лишь в. тех немногих школах, где все ученики живут вблизи школы или где дети остаются для ночлега. Чтение в таких случаях имеет классный повторительный характер. Читает или учительница, или же сами дети по очереди. К сожалению, большая часть школ крайне бедна книгами для самостоятельного внеклассного чтения учеников. В некоторых уездах ни в одной школе нет никаких книг, кроме учебных, и лишь в немногих школах есть по несколько названий богослужебных книг (псалтырь, часослов), житий святых, дешевых исторических, естественно-исторических и географических брошюр.
Обучение церковно-славянскому чтению начинается во всех школах с первого же года и продолжается в течение всего школьного курса. Детей знакомят с церковно-славянской азбукой уже тогда, когда они приучатся разбирать без труда слова и фразы гражданской печати. Им показывают только те буквы, которых нет в гражданской азбуке, объясняют значение надстрочных и строчных знаков и тотчас же заставляют читать церковную печать. Дети разбирают церковно-славянский текст без всякого труда.
Главная задача обучения церковно-славянскому чтению заключается в том, чтобы довести детей до умения читать бегло церковно-славянские книги и понимать читаемое.
Вследствие недостатка времени, упражнение в славянском чтении ограничивается книгами новозаветными, преимущественно евангелием, церковными песнопениями и теми псалмами, которые чаще других читаются во время богослужения. Чтение начинается с евангелия не только потому, что оно понимается детьми легче псалмов, но еще и потому, что некоторые из учеников оставляют школу по окончании двухлетнего курса, и начать обучение с псалтыря или часослова значит лишать их возможности по-внакомиться с евангелием, основой и источником всего христианского учения.
При церковно-славянском чтении учитель не входит в толкования догматические. Это — дело законоучителя...
Совместно с чтением ведется во всех школах и обучение письму. Оно не ограничивается одним механическим писанием, а имеет в виду научить детей правильно писать и излагать толково мысли. Наконец, дети обучаются и арифметике. Говоря коротко, земская начальная школа стремится создать для деревни таких грамотных людей, которые бы могли ясно понимать, что они читают, сознательно считать, правильно писать и толково излагать свои мысли. Конечно, для большинства школ это только идеал, которого не всегда можно достигнуть по недостатку самых необходимых средств для преподавания, т. е. по бедности школы и недостаточному вниманию к ней тех, от кого зависят порядок и устройство школы. Поэтому-то на съезде и была избрана комиссия, которой было поручено составить программу требований от оканчивающих курс народной школы, выполнимую при самых ограниченных средствах школы.
Какое же отношение народа к школе и какое влияние школы на детей? «С глубоко радостным чувством мы можем занести в наш отчет, — говорит председатель съезда, — засвидетельствованный сотней из разных губерний собравшихся учительниц факт единства воззрений на основные задачи семьи и школы, школьного учения и воспитания; если в чем и встречаются между школой и семьей несогласия, так в выборе способов первоначального учения, в выборе материала для первоначальных классных упражнений, но и эти несогласия постепенно сглаживаются и в главном, в существенном школа с первого же дня своего рождения идет рука об руку с семьей. Не менее отрадно, — говорит отчет, — и то воспитательное влияние, которое является результатом школьного учения: сотни фактов свидетельствуют, что современная школа будит и развивает духовные силы, развивает и укрепляет духовные потребности к дальнейшему умственному и нравственному развитию и, следовательно, выполняет свою задачу».
Лишь несколько десятков лет назад крестьянин не требовал ничего больше, как того, чтобы его ребенок на-
учился читать часослов и псалтырь, и отдавали детей в ученье только более зажиточные. И теперь крестьянин требует, чтобы школа научила детей читать божественное, по он требует еще, чтобы дети умели бойко и внятно прочитать и книгу гражданскую, прочитать и «протолковать бумагу», четко и складно написать письмо и сделать выкладки на счетах. Между крестьянами все больше и больше развивается спрос на грамотность и знание, спрос этот создается развитием жизни, и так как земская школа отвечает полнее всего этому вопросу, то и понятно, что крестьяне предпочитают ее школам старинного образца. В «домашние школы» с учителем-дьячком, отставным солдатом и проч. крестьяне отдают детей только по необходимости, когда вблизи нет земской школы. Очень часто от таких учителей переводят детей на год и на два в земские школы доучиваться. Даже раскольники поступают так. И дети полюбили школу и учатся охотно без малейшего принуждения.
Новой школе бывает трудно в местах глухих, где учителями были до этого отставные солдаты, грамотные мужики, где была в ходу палкаи линейка; в таких местах требуют старых приемов воспитания и обучения. «С грустью нужно сознаться, — говорит отчет, — что защитниками старых приемов являются зачастую и священники». Вообще о законоучителях мы находим в отчете такую заметку: «Всем известно, что преподавание закона божия, этого главного предмета, лежит на обязанности священника. Для всякого понятно, сколько пользы может принести священник школе своим нравственным влиянием и на детей, и на родителей. Но, к великому горю, не всегда так бывает...». Во всяком случае учитель должен жить В мире со священником потому, что последний всегда может навредить учителю. До сих пор на учителя смотрят, как на вещь, которую можно всегда передвинуть и распорядиться ею, как хочется. И почти в одних детях учитель находит нравственную опору; он на них отдыхает душою, на них видит свое влияние, они одни в деревенской и почти одинокой жизни учителя являются его друзьями. И это тоже не фразы!
Там, где потребность в грамотности настолько уже велика, что волостная и земская школа удовлетворить ей -не может, или же школа земская лежит слишком далеко, крестьяне устраивают домашние школы, т. е. для обучения детей нанимаётся крестьянами какой-нибудь грамб-тей — солдат, дьячок, грамотный мужик, черничка. Обыкновенная плата за выучку — от 3 р. до 5 р. Главное занятие в школах этого типа (старые школы) заключается в чтении преимущественно церковных книг, часослова и псалтыря, -редко в письме (списывание с прописей) и в счете (нумерация). Дисциплина в школах строгая и поддерживается побоями. Дети, поступающие из этих школ в школы земские, отличаются послушной исполнительностью, робостью и скрытностью. Читают они механически прекрасно, но не могут рассказать ничего из того, что прочитали, и пишут они красиво, но только с прописей. Школы эти, по мере учреждения земских школ, вымирают или отодвигаются дальше, или же заменяются школами грамотности нового типа — отводками земской школы, в которых учат кончившие курс в земской школе. Несколько учеников из этих школ явились на экзамен для получения права на льготу четвертого разряда, и вот какой отзыв о них дал на съезде экзаминатор: по своей подготовке ученики эти значительно уступают окончившим курс в земской школе: под диктовку пишут они хотя и довольно красиво, но малограмотно, читают и рассказывают прочитанное хорошо, устно считают порядочно, но с арифметическими действиями знакомы не основательно.
Вот картина нашей земской школы; мне к ней прибавлять нечего, — читатель сам увидит, насколько правдиво уверение «Киевлянина», что земская школа преследует ложно реалистические цели и направила все свои силы к тому, чтобы порвать естественную связь народа с церковью и жизнью, что знания, которые она дает, ни к чему. Тут же читатель найдет ответ гг. Гардеру и Анненкову (которые, в сущности, повторяют обвинение «Киевлянина», но только выражаются резче), что учеников в школах учат не закону божию (не забудьте, что в каждой школе есть законоучитель), а тому, что у коровы спереди голова, а сзади хвост, и что образование приносит населению вред и развращает крестьян.
По поводу предполагаемого изменения в программе учительских семинарий, чтобы сельские школы могли иметь вполне подготовленных учителей для преподавания ремесел и общеполезных сельскохозяйственных знаний, вызвавшего в «Киевлянине» недостойный его солидности
шумный восторг (усмотрена была в этом даже целая эпоха), d приведу опять факты. На том же самом съезде, о котором была речь, рассуждали и об учении в школах ремеслам и было высказано вот что: ремеслам в школах не обучают, и при настоящем коротком сроке курса обучение ремеслам было бы не желательно: занятия эти подорвали бы общеобразовательное значение школы. Кроме того, дети поступают в школу в таком возрасте, когда еще не созрели для физического труда. На весьегонском же съезде учителей в 1882 г. (вот еще когда обсуждался этот вопрос земскими учителями!) была признана и польза подобного обучения в интересах народа и в интересах школы, но было высказано решительное мнение против поручения обучения ремеслам самим учителям (что именно и нравится «Киевлянину»), Несомненно, что обучение ремеслам в народной школе принесет больше пользы, и мальчику, и его отцу, чем обучение в какой-нибудь мастерской. Но может ли научить ремеслу школа, по крайней мере, теперешняя, когда у нее нет для этого ни помещений, ни средств, и когда на ремесла она может уделить только два часа в неделю? И кто будет учить ремеслам? Учитель? Но, прозанимавшись с детьми 6 — 7 часов, он нуждается в отдыхе, а вечером обязан прочитать десятка два-три, а иногда и более, тетрадей самостоятельных работ и приготовиться к работам следующего дня. Не нужно забывать еще, что сделаться учителю мастером совсем не так легко, и что люди, способные к умственному труду, редко имеют «золотые руки», какие нужны для мастера. Погнавшись за двумя зайцами, можно не поймать ни одного. Да и вообще вопрос о низших сельскохозяйственных школах и школах ремесленных — вопрос для земства не новый и он, конечно, может разрешиться лишь учреждением отдельных подобных школ, а не поручением учителю, обучающему чтению и письму, учить еще столярничанью и слесарничаныо. Я, впрочем, не вдаюсь особенно в этот вопрос, — мне хотелось только проверить «Киевлянина» по поводу его шумного умиления перед наступающей, по его мнению, «целой эпохой».
Гораздо труднее разрешить вопросы и сомнения г. Эр-теля. Наша земская школа делала несомненно много, несомненно много сделали и те, кто создал народную школу. Довольно сказать, что при прежней (до-земской)
школе грамотности читать народу было нечего, кроме часослова и псалтыря, теперь же к услугам школы и народа более двух тьгсяч названий. Все это создалось в эти двадцать лет. Школ всех около 30 тыс. и в них учащихся до 2 миллионов. Много? нет, читатель, — так -все это мало, что составляет лишь одну десятую часть детей школьного возраста, а вместо 30 тысяч школ, нам нужно иметь 300 тысяч. Когда же это будет и когда все дети школьного возраста пройдут через школу? Дальше. Учителя наших народных школ, как видел читатель, употребляют самые энергические и благородные усилия, чтобы дать нравственно-умяЛающее и умственно-просве-щающее воспитание крестьянским мальчуганам и достигают, насколько позволяют обстоятельства, своей цели. Но, ведь, мальчуган вступает в школу всего 8 — 9 лет, а 12 — 13 лет он ее оставляет и вступает в действительную жизнь. Какова же эта жизнь, по крайней мере, иногда, вы знаете из «Житницы» г. Эртеля. Ну, что мальчуган 12 — 13 лет, этот мышонок (каким бы его ни сделала добродетельным школа), может поделать лицом к лицу перед теми, откормленными сырым мясом, котами, которых перед ними выставит жизнь в образе «деятелей», изображенных гг. Эртелем и Португаловым? Добродетельным мышатам не повернуть этой армии котов, и, прежде чем один из них об этом подумает, он будет съеден. Ясно, что рядом со школой нужно и еще кое-что, чего у нас, очевидно, не достает и что одно и поддержит благородные усилия школы создать людей лучших понятий. Это «нечто» создадут не проповедники эстетических красот (котов никакой эстетикой не прошибешь), а лишь иные возможности для более справедливых отношений, которых мы до сих нор не имеем и, несмотря на прожитую тысячу лет, еще не выработали.
Что же касается школы, или, точнее, земской народной школы, то, ведь, все нападки на нее вроде тех, которые я привел, совершенно пустые слова. Теперешняя народная школа, как теоретическая и практическая система, есть целое здание, над которым мыслящая Россия трудилась двадцать лет. Этого знания и опыта не вычеркнешь ни почерком пера, ни газетными статьями, и кто бы ни стал открывать школу, он обратится к этому нашему единственному умственному фонду, в котором только й можно найти руководящие указания по народно-школь-368
ному делу. Это, впрочем, знает и сам «Киевлянин», которому поэтому я и посоветовал бы припомнить напечатанную у него в 10 номере заметку «О заседании совета законоучителей киевских городских училищ». Все, что говорилось отцами, например, об общих отношениях к учащимся и вообще о постановке школы, составляет давно известную каждому сельскому учителю азбуку школьно-народной педагогики. Ведь, не станут же отцы доходить своим умом до того, до чего уже давно дойдено!
«ЧТО ЧИТАТЬ НАРОДУ» — ИЗДАНИЕ ХАРЬКОВСКИХ УЧИТЕЛЬНИЦ
Узнав, о чем трактуют издания харьковских учительниц — «Что читать народу», — представленные на парижскую выставку, французский рабочий изумился и на вопрос, что должно быть содержанием таких изданий, он ответил: «Как что?! — все!». И во Франции не только каждый блузник и каждый интеллигент, но и каждый ребенок знает, что народу можно читать «все» и что тут не скрывается ровно никакого вопроса, который бы следовало разрешать. Конечно, это «все» не значит, что народу следует читать без выбора; «все» — это только право народа самому знать, что ему читать нужно, это право каждого знать все, что создает печать.
Но как бы был изумлен тот же рабочий, когда бы он узнал, что «Что читать народу» — совсем не политический вопрос, а описание путешествия группы интеллигентных русских людей в неведомую и таинственную для них область интеллекта русского народа, попытка приподнять завесу, скрывающую народную душу — ум и чувство — и установить управляющий ими закон. Что воскликнул бы француз-рабочий, узнав об этом путешествии, я не знаю, но несомненно, что он развел бы руками от удивления и сказал бы «не понимаю». Не понял бы этого ни англичанин, ни немец, ни итальянец, ни испанец; не понял бы ни один европейский человек, ни рабочий, ни интеллигент, а мы так что-то в этом понимаем, и не только понимаем, но и создаем для себя очень важный вопрос. И вопрос тут, действительно, есть, вопрос очень важный, только не в том, в чем мы его видим.
Когда в 1884 г. вышел первый том «Что читать народу» (увесистая книга в 50 листов), то в умах наших интеллигентных людей как бы почувствовалось маленькое
землетрясение. Вся печать и даже некоторые из наших почтенных и уважаемых ученых отнеслись к изданию харьковских учительниц чуть ли не с восторгом. Для всех было очевидно, что из увесистого тома распространяются какие-то новые, до сих пор неведомые лучи и освещают новый, неведомый мир, о существовании которого интеллигенция ничего не знала. Когда в 1889 г. вышел такой же увесистый второй том, землетрясения в умах уже не замечалось. Второй том был продолжением первого, новых лучей от него не шло и нового неведомого мира не освещалось. Но и первый, и второй томы были, несомненно, работой весьма почтенной, в которую было положено много искренности, доброжелательства, любви к народу и труда, а, самое главное, настойчивого желания раскрыть и исследовать то, что казалось никому неизвестным и что в действительности было очень многим неизвестно. Все это давало харьковским учительницам несомненное право послать свои издания на парижскую выставку и такое же право предполагать, что это исследование будет единственным в своем роде и настолько же новым для Европы, сколько и для нас. Харьковские издательницы в этом, конечно, и не ошиблись.
Два такие почтенные тома должны были произвести на французов внушительное впечатление. Не зная еще их содержания, они по одному их объему должны были заключить, что труд, имеющий такие большие размеры, не может не быть серьезным, не может не касаться одного из важных вопросов страны, не может не отвечать ее нуждам и быть настолько же полезным. Ведь, если бы составительницы не были сами убеждены в этом, они не решились бы свое исследование представить на международное обсуждение. Так должны были рассуждать французы до знакомства с содержанием «Что читать народу». Ознакомившись же с ним, они едва ли поняли, о чем собственно идет дело. Между «Что читать народу» и сибирским механиком-самоучкой, сидевшим на той же выставке напоказ в особой клетке, они, несомненно, нашли нечто общее. И повеяло на них стариной, чем-то давно отжившим, о чем никаких живых воспоминаний не сохранилось, — не то рассказами Вобана, не то царствованием Людовика XIV, когда и во Франции между народом и интеллигенцией лежала непроходимая пропасть, когда земледельцы считались особой породой людей, когда, как говорит Вобан, у них даже и образа человеческого не было и когда французам нужно было растолковывать, что-и земледельцы — люди, что и у них человеческая душа, что и они думают по-человечески и чувствуют по-человечески, и имеют человеческие радости и печали, надежды и желания.
Не взяв жи5вым, деятельным чувством ни содержания «Что читать народу», ни мировоззрения харьковских учительниц, французы, все-таки, наградили их труд золотой медалью за его несомненную почтенность, хотя этой почтенности они постигнуть и не могли. И все это тоже понятно, и все это в порядке вещей. В таком же порядке вещей, как и то, что на международные состязания в уме, знаниях и развитии мы являемся не во всеоружии 8релых сил, какими являются французы, американцы, англичане, немцы, а выступаем всегда с начинаниями, с зародышами чего-то, не имеющими законченною настоящею.
Зная это хорошо и сами, мы на международных состязаниях держим себя скромно, с видом учеников приготовительного класса. Мы понимаем, что нам далеко еще до выпуска, и потому не корчим из себя выпускных. Но, в то же время, мы знаем, что бог и нас создал из той же глины, как французов, англичан и немцев, и если мы в таком же, как они, всеоружии не можем еще явиться на международный пир, зато мы сознаем и понимаем, что и перед нами лежит открытый путь развития, по которому идут уже давно европейцы. Так как мы все это понимаем, а идти в хвосте нам, все-таки, обидно, то чувство своего-международного достоинства мы уравновешиваем тем, что при всяком подходящем случае стараемся напомнить европейцам, что мы хотя и молодой, но зато способный и даровитый народ, в подтверждение чего представляем всегда и доказательства. На последней парижской выставке такое доказательство и изображал собою Алмазов, сибирский механик-самоучка, и частью «Что читать народу», выставленное харьковскими учительницами. Доказательства эти были хотя и не совсем удачны, потому что они, прежде всего, доказывали не то, что мы хотели доказать, но несомненно, что они доказывали немножко и то,, что мы доказать хотели.
Читатель, однако, может спросить, почему я говорю «Что читать народу», когда первый том ею вышел а 1884 г., второй в 1889, в этом же году была и париж-ская выставка, а нынче 1890 год? В русской жизни есть одна особенность, читатель, которая очень помогает каждому публицисту быть современным и свежим. Особенность эта в том, что у нас нет текущих вопросов или, пожалуй, вернее, все наши вопросы текут постоянно как реки и ручьи и постоянно журчат, напоминая о себе. Некоторые из них могут журчать столетие, два столетия, даже больше (ведь, петровские вопросы мы и до сих пор еще не все разрешили), другие — полстолетия, и нет у нас ни одного такого вопроса, который, народившись с известным поколением, был бы этим поколением и разрешен. Поэтому-то у нас больше, чем где-либо, работа поколений должна быть преемственной и поколения должны идти одно за другим, шаг в шаг. Так как этого нет и преемственность общественного мышления очень слаба, то каждое поколение живет обыкновенно своими собственными чувствами, желаниями, стремлениями, подчас ничтожными и не отвечающими главным интересам и нуждам отечества, а вопросы, народившиеся ранее, скопляются в плюшкинскую кучу, в ней ветшают и, в то же время, постоянно напоминают о своей очереди. Поэтому-то наши вопросы всегда стары и всегда новы, а плюшкинская куча служит неистощимым материалом для публицистики и никогда не нарушает ее современности.
В подтверждение этого я расскажу читателю кое-что из своего личного писательского опыта. Сделаю я это не потому, что это был мой личный опыт, а потому, что в этом личном есть общее и общего больше, чем личного. Когда «Русская мысль» предложила мне писать «Очерки русской жизни», работа эта представилась мне до того новой и незнакомой, что я почувствовал себя в непроходимом лесу. Конечно, вообще, я был для нее немного подготовлен, но, ведь, требовалось писать не вообще, а в частности, требовалось писать о текущем, современном, фактическом, о жизни в ее движении и главных ее течениях. Где же найти эту жизнь и ее течения, как отличить главные течения от неглавных, первое от второго, как определить, что интересует читателя и что его не интересует, что может составлять интерес большинства, к которому и нужно обращаться, и интерес меньшинства, который можно и обойти? Очевидно, что мое неведение не могло быть разрешено никакими априорностями и вопрос о русской жизни мог быть выяснен лишь наблюдениями над ©той самой жизнью и только индуктивным методом. К нему-то я и прибегнул. Имея больше двадцати столич ных и провинциальных газет, я усердно принялся за их чтение. Каждый новый факт, каждый новый вопрос, каждое новое сообщение я отмечал под особой рубрикой, перечитал этим способом газеты за три месяца и получил целый калейдоскоп самых разнообразных фактов. Тут были и уголовные преступления, и тюрьмы, и Сибирь, и суд, и общественные и личные нравы, и воспитание, и школы, и переселения, и голодухи, урожаи и неурожаи, хлебные цены, торговля, даже театр и музыка. Затем я сосчитал в каждой рубрике число фактов и установил очередь рубрик. Первое место заняли уголовные преступления. Но, очевидно, что не уголовные преступления составляют основной фон русской жизни и первое место должно принадлежать не им.
Во всех этих тщательно собранных фактах чувствовался какой-то важный пропуск, чувствовалось, что есть еще какие-то факты, не отмеченные газетами, но в которых именно и заключается русская жизнь. Конечно, и голодухи, и переселения, и школы тоже факты из русской жизни, но писать о них — значило уйти в неподлежащую мне область «внутренних обозрений». И если бы я ушел в эту неподлежащую область, для бытописания которой имелся в «Русской мысли» особенный отдел и специальный летописец, то могли бы оказаться излишними или «Внутренние обозрения», или мои «Очерки».
Поле наблюдений, очевидно, нужно было расширить и за внешними фактами поискать еще и факты внутренние, найти какой-то большой всеобщий факт, который над всеми этими сборными фактами носится как «дух над бездной», как творческая сила, их создающая, как их причина.
Какой же это такой всеобщий факт и где его искать? Прямо на него газеты не указывали, но всем, что читалось между строк, они говорили об его существовании. И, в самом деле, отчего у нас часты голодухи, отчего наши школы и наше образование находятся в таком, а не в другом виде, отчего мужик наш и до сих пор кочует, мы же это кочеванье зовем совсем неподходящим словом «переселение» и ничего для правильной организации народного стремления к удовлетворяющему его укладу
жизни не делаем, отчего у нас так много личных и общественных безобразий и взаимного насилия, отчего «черная сотня» берет перевес над интеллигенцией в общественных делах, отчего у нас в загоне всякое свободное стремление к личной самостоятельности, отчего в загоне женский труд, да, пожалуй, и сама женщина?.. Эти «отчего» тянутся нескончаехмой вереницей и каждый факт, который дают газеты, возбуждает непрехменно свое «отчего». Отчего? — очевидно, оттого, что над бездной носится не дух той творческой силы, который должен бы над ней носиться. Ведь, не факты и статистические цифры управляют жизнью, а управляют ею идеи, понятия, сознание, руководящие всеми делами людей и всеми их поступками. Эти-то идеи и понятия и связывают все отдельные факты в одно целое, всем им дают один всеобщий цвет и окраску и, конечно, только в них одних заключается истинное и всеобщее существо русской, да и всякой жизни.
Поднявшись в область этих высших и более сложных фактов, пришлось опять раскладываться. Об этом раскладывании я пока говорить подробно не буду, замечу только вот что. Теперь не время творческих идей, а время подчисток и подметанья, т. е. такой работы, которую успешно (конечно, лишь, повидимому) могут производить и люди вторых и третьих величин. Оттого-то они так и выдвинулись. Особенность этой работы заключается в том, что она нагромождает такую массу практических мелочей, что из-за щепок не видно леса и утрачивается умственная перспектива. Уж не с сегодня одним стало и совсем не видно леса, а другим он видится лишь в недосягаемой синей дали. Творческая идея, отодвинутая в такую туманную даль, разумеется, не могла казаться особенно нужной, а внимание, поглощенное щепками, помутило настолько сознание, что создало весьма своеобразный оптимизм, который гораздо хуже всякого оппортунизма. Я приведу только один факт из области этого оптимизма, настолько уже распространившегося или, по крайней мере, пытающегося распространиться, что куриная слепота, которой он заражен, может сделаться, пожалуй, и общественной болезнью.
Сущность теперешнего нашего умственного момента заключается в тОхМ, что жизнь сверху вниз призастыла, не закончив начатого было ею движения, и покрылась ледяной корой, как покрываются ею реки от мороза. Течение продолжается более свободно только внизу, да и там оно зимнее, холодное, сочащееся. Казалось бы, этот факт вполне установлен и всем очевиден и ясен. А; между тем, наши оптимисты, идеал которых не идет дальше мещанского счастья и которых восьмидесятые годы удовлетворяют вполне и умственно, и нравственно, и экономически, усмотрели в этом сочащемся движении (да усмотрели еще и не просто, а с благодушным самодовольством, что бог только их наградил исторической проницательностью, а другим ее не дал)... ну, угадайте, что они усмотрели? Нет, не угадать вам, читатель, потому что для такой исторической проницательности нужно не видеть ничего впереди и сидеть в щепках, заслоняющих всю синюю даль. Это, ведь, тоже не всем дается! Право, и говорить-то серьезно не хочется, но и смеяться тут не над чем, потому что этот мещанский оптимизм есть, в сущности, упадок общественной мысли до очень низкого уровня, когда она, уже совсем бескрылая, начинает перелетать, как курица, с кучи на кучу и находит себе в этом не только полное удовлетворение, но и всякую другую мысль, пытающуюся подняться выше и охватить больший кругозор, хочет низвести до собственного уровня. Чему же тут радоваться, над чем тут смеяться? Из той исторической проницательности, которую обнаружил наш мещанский оптимизм, читатель и сам убедится, насколько все это верно. В сочащемся движении низов, движении вполне общественно-бессознательном и не заключающем в себе ничего политического, мещанский оптимизм усмотрел начинающееся нарождение четвертого сословия. Это у нас-то четвертое сословие! И какие же признаки его нарождения? Народ, видите ли, или точнее, городские мещане начали заводить школки грамотности... Нет, четвертое сословие создается не школками грамотности, в которых учат чернички, да отставные пономари и солдаты, а кое-чем другим. И вот, если бы это самое другое подметил мещанский оптимизм в начинающемся стремлении народа к грамотности, он был бы вполне прав. Ведь, и при Людовике XIV, когда Кольбер дал экономический толчок Франции, обездоленный и голодный французский мещанин и крестьянин тоже стали учиться грамоте, но какому бы французскому публицисту взбрело на мысль пророчески усматривать в этом возникновение четвертого сословия? И у нас при Киселёве народ начинал учиться грамоте, школки грамотности у нас существовали с незапамятных времен и придуманы они были не Министерством просвещения, а самим народом (школы для народа завелись у нас еще при Владимире святом). И все это было началом возникновения в России четвертого сословия?! Нет, уж если приходится искать в этом всем возникновение чего-то, то скорее всего возникновение в народившейся в восьмидесятых годах публицистике общественной бессознательности и кругозора короче воробьиного носа.
Привел я этот факт не только потому, что он наиболее свежий (нашел я его в сентябрьском номере нынешнего года одной провинциальной газеты), а еще и потому, что в нем весьма последовательно отражается одно из движений мысли, начавшееся в восьмидесятых годах, когда явилась реакция против предыдущего времени, а еще более потому, что он очень резко выдвинулся вперед при раскладывании в фактах высшею порядка, о котором я сказал.
Раскладывание показало, что, кроме настоящей чистокровной реакции разных цветов, оттенков и направлений, совершенно открытой и искренней, ничего не стыдящейся и ни от чего не краснеющей, как реакция «Гражданина», есть еще реакция тайная, бессознательная, — реакция, считающая себя даже новой прогрессивной силой, открывающей новые прогрессивные пути, это — тот оптимизм, о котором я сейчас говорил.
Оба эти реакционные движения настолько занимают в нашей печати передовое место и по числу органов, и по энергии, с какой они действуют, что туман, который они вносят в понятия, совершенно сбивает с толку общественное сознание и получается невообразимая путаница. Читатель уподобляется «человеку между добродетелью и пороком» и стоит, растопырив руки и ноги, не зная, куда ему идти и кого слушать. Получается то, о чем мне писал толстовец. Недоумелый читатель, особенно из молодых, теряясь в царящей разноголосице, не знает, как ему отличить белое от черного, истину от лжи, правду от неправды. Тут уже приходится толковать не об идейных принципах и творческих задачах, которые держат мысль на верхах, а приходится толковать и спорить, например, & таких вздорах, четвертое или не четвертое сословие об-
разуют наши мещане, заводящие школки грамотности; идеи ли управляют жизнью, или неосмысленные факты и мелкая мещанская практичность; тогда ли выше общественная жизнь, когда во главе ее стоят даровитые люди, когда эта жизнь бьет ключом, выражается в художественном творчестве, в богатой и блестящей литературе, в оживляющей мысль печати или когда она сидит, как сандрильонка, за печкой; в хороших ли политических учреждениях и порядках заключается основная возможность общественного развития или в моральном воспитании совершенного человека, который затем своим добродетельным житием сделает ненужными политические учреждения и все пойдет само собою, как по маслу?
Вот о какой азбуке общественности, забытой публицистами восьмидесятых годов, приходится теперь толковать и спорить, чтобы спасать общественное сознание от гипнотического состояния, в которое его приводит одна часть печати. А толстовец упрекает меня в полемике, которой я будто бы слишком занимаюсь. Да разве это полемика? Надо трубить в трубы и бить в барабаны, надо бревном толкать под бок засыпающих людей, чтобы они очнулись и были похожи на живых. На крики и вопли надо отвечать такими же криками и воплями, а не жужжать весенними кроткими мухами, которые и жалить-то не умеют. Это уж слишком добродетельно. А, ведь, другая часть нашей печати именно и играет в подобную добродетель. Ей как будто не хочется пачкать рук, не хочется надрываться криком в споре с людьми, на которых она смотрит сверху вниз; она боится уронить свое достоинство и путается с брезгливым чувством непорядочности, до которой ее может принизить полемика. Но если ваш умственный аристократизм не позволяет вам принизиться до полемики, — ну, и оставьте ее, а, все-таки, трубите в трубы и бейте в барабаны, чтобы ваш голос был слышен, чтобы вас читали, чтобы общество думало с вами и знало бы, с кем ему думать не следует. Если жизнь опустилась настолько, что снова приходится толковать об азбуке, — ну, и нечего делать, надо толковать об азбуке. Конечно, обидно и досадно обращаться десятки раз все к тем же б-а — ба, больно за печать, что ей приходится быть школкой грамотности; но если ей больше ничего не остается делать, как спасать общественное сознание и поднимать общественную мысль, то и приходится заниматься только этим делом, помня о том муравье, который девяносто девять раз лез на стену и всякий раз обрывался, полез в сотый — и влез.
Когда, раскладываясь между газетными фактами всех сортов и величин, пришлось придти к этим мыслям и составить соответственную им программу требований современной публицистики, то, вместе с тем, выяснилась и еще одна особенность нашего общественного мышления: закон повторности. А закон этот заключается в том, что то, что мы еще вчера знали хорошо, мы забываем сегодня, но завтра опять возвращаемся к тому же, как к чему-то новому и нами самими придуманному, потом опять-забываем, опять припоминаем и так бесконечно, ставя и не разрешая вопросов и накопляя их в кучу, передаваемую из года в год, от поколения поколению.
Недавно, совсем по особенному случаю, мне пришлось просматривать статьи, которые я писал лет 20 — 30 назад. Оказалось, что почти все они могут быть напечатаны и нынче, даже без освежения, и будут иметь текущий интерес. Да, ведь, это же бедствие! Ну, как тут публицисту не повторяться и не дописаться до банальности? Одно-только и может спасти публициста от подобной беды — отсутствие памяти. И каждый публицист должен молить об этом бога, если он хочет сохраниться. Только забывая все, что публицист переживал и писал раньше, он каждый повторяющийся факт, каждое повторяющееся явление общественной жизни снова примет живым чувством и свежей мыслью, как бы нечто совсем иное, и напишет о них свежо. В этой способности переживать старое, как новое, и заключается весь секрет живучести писателя.
Но та же повторность, грозящая публицисту бедой,, очень помогает ему в его механической работе. Раскладывая газетные факты по кучкам за несколько месяцев,, я на каждом шагу встречал старых знакомых. Найдешь новый, повидимому, факт в какой-нибудь провинциальной газете, глядишь — тот же факт повторяется или в-столичной, или в другой провинциальной газете. И это совсем не в течение нескольких месяцев, — нет, а в течение недели, двух недель или уж много месяца. Очевидно, что в египетской работе выслеживания фактов за большое время, распределения их по рубрикам и т. д., работе скучной и утомительной, не было никакой нужды. Всегда там или здесь оказывался торчащий из плюшкинСкой кучи какой-нибудь хвостик и стоило только его потянуть, чтобы потащилось и все его продолжение, иногда до самого корня.
Так это случилось и теперь. В «Одесском вестнике» я нашел статью, озаглавленную: «Что читать народу». В ней сообщалось о- грамотности в селе Алешин. Сведения весьма любопытные, и статья хорошая, но она, все-таки, только одинокий хвостик, который оказывалось нужным потянуть, чтобы добраться до корешков. Ближайшими корешками и оказалось «Что читать народу» харьковских учительниц. Это уже не газетная статья, а целых сто печатных листов. Материал богатый, сулящий много. Что же дает этот богатый материал?
В наших отношениях к народу много еще неверного (точнее, фальшивого). Неверность (фальшь) заключается в том, что эти отношения тоже хвостик, за который нужно потянуть, чтобы обнаружились его корешки. А корешки — это все те же продолжающиеся, хотя и в значительно слабейшей степени, крепостные чувства и крепостные привычки мысли. Наши образованные и правящие классы и до сих пор чувствуют себя белой костью. И они, действительно, белая кость. Точно оазисы в пустыне они образуют более или менее цветущие особняки и каждый такой цветущий особняк знает свои сословные выгоды, права, границы. Несмотря на сословную обособленность, оазисы связаны взаимными нитями и образуют известную цельность. Она заключается в исключительности их общественного положения, в том, что они общественные органы, с определенной общественной властью. Зта-то властность и постоянные взаимные соотношения как органов общественности сливают дворянство, духовенство, военное и гражданское служивое сословие в одну группу, стоящую на авансцене. Купец и разночинец хотя и не составляют сословий, но тяготеют тоже к авансцене и стоят во второй линии. Затем лежит промежуток и вдали его стоит народ. Народ для тех, кто на авансцене, не есть сословие, он — просто народ, масса, мускульная сила, которой нужно управлять и руководить, сохраняя всегда по отношению к ней главенство и верховенство. Этот порядок отношений установился сам собою существующим строем общественности и не может быть другим без нарушения этого строя.
Неверность или фальшь отношений кроется не здесь, не в области общественной официальности, а там, где мы выступаем в качестве идейной силы и свободного, независимого общества, имеющего тоже свой определенный круг деятельности, свои права и власть. Наши права и наша власть, как общества, не юридические, а умственные и нравственные, и только в нашей умственности и в нашем развитии и заключается вся наша сила. Областью нашего поведения служит исключительно общественная нравственность и общественные принципы, и чем они выше, чище, человечнее, тем чище, выше, человечнее и святее наше общественное поведение.
Для этого нужно быть не только умственно-развитым человеком, но иметь еще и сердце, глубоко охваченное и потрясенное чувством любви и уважения к человеческому достоинству. А этим чувством нужно запастись в молодости, когда живется всеми ощущениями жизни, когда душа раскрывается для любви к человеку и человечеству и когда сердце поддается легко пульсу жизни.
Когда мы говорим об общественной нравственности, мы говорим только о тех лучших людях общества, которые рядом с официальной Россией, делающей официальное дело, тоже делают свое общественное неофициальное дело. Преобладающую особенность этих лучших людей составляет их доброжелательство. В нем только их сила, и оно только является двигателем всего их общественнодоброжелательного поведения. Но эта сила, в большинстве случаев, бывает единственным ресурсом, с которым люди выступают на свое общественное дело. Приступая к нему, они подчас ничем иным, кроме доброжелательства, и не располагают. Принявшись за свое хорошее дело, они только на нем ему учатся и силы их уходят не прямо на это дело, а на подготовление себя к нему. Таким образом, практика современного доброжелательства есть, в большинстве случаев, только школа, в которой лучшая часть интеллигенции готовится для будущего, настоящего дела.
И, принявшись разрешать вопрос «Что читать народу», мы центром тяжести сделали не народ, которому хотим помочь, а самих себя. Не в народ мы и ушли, чтобы слиться с ним и составить однородное общечеловеческое целое. Народ стоит вне нас, вдали, и мы только на него смотрим и изучаем его, как что-то, если нам и не чужое, то чуждое, неведомое и незнакомое. Неверность
(фальшь) здесь в том, что, думая, что мы находимся к народу в субъективных отношениях, мы занимаем положение объективное, наблюдательное, верховое, что народ для нас все тот же отрезанный ломоть, что мы чувствуем себя выше его и не с ним переживаем его ощущения, чувства и думы, а только их выглядываем и записываем, точно перед нами не такие же люди, созданные с нами по одному нравственному и умственному типу, а что-то совсем иное и живущее по иному, чем мы, закону. Во всем этом нет ни малейшего следа той христианской идеи, которая гласит: люби ближнего, как самого себя. Вот этой-то идеи и создающих ее чувств в нас и нет, потому что никогда и ни в чем мы их в себе не воспитывали. Условия нашей общественности воспитывать их в лас не могли, а в том самовоспитании и саморазвитии, которое мы сами себе создавали, мы именно и не находили истинной христианской (общечеловеческой) нравственности, которую хотя мы и искали, но найти не могли, потому что никогда не подходили к ее источнику. Не ощутив в себе ни разу его животворной влаги, мы и в себе не могли создать ключа живой воды, — того ключа, который один только служит родником всех человеческих чувств и всех наших отношений к ближнему и всей нашей общественной нравственности.
Для большей наглядности и пользуясь как поводом проповеднической деятельностью гр. Л. Н. Толстого, я скажу об этой деятельности несколько слов. Гр. Толстой несомненно крупный человек, и это всем известно; гр. Толстой несомненно крупный талант — и это тоже всем известно; наконец, гр. Толстой есть крупный моральный вероучитель нашего времени, — и это не только известно, но есть и такие алчущие и жаждущие правды, которые прибегают к Толстому, как к ее источнику. И, странное дело, что этот источник находит очень небольшое число истинных последователей, а все остальное или совершенно равнодушно к тому, что гр. Толстой говорит, или вражит ему. Еще, повидимому, страннее, что и равнодушные, и враждующие, все-таки читают все, что напишет гр. Толстой, и описки его сочинений расходятся повсюду в тысячах экземпляров и проникают даже в самые глухие деревенские углы. Причина этого не только в том, что гр. Толстой самый крупный из современных писателей и всякий интересуется тем, что он пишет, но и просто в любопытстве.
Но почему же такой популярный писатель, которого читают, может быть, сотни тысяч людей, увлекает только единицы, почему, став вероучителем и проповедником, он не сделался вождем, и сотни тысяч его читателей только издали смотрят на проповедническое шествие вероучителя, за которым, сравнительно с его проповеднической энергией, тянется только очень небольшой хвост? Да только потому, что во всем, что пишет гр Толстой, недостает именно того, что могло бы сделать его всеобщим вождем.
Многое, например, что гр. Толстой находит нехорошего в браке, находят и другие тоже нехорошим. Но это учреждение первоначально было очень хорошим. Целые тысячелетия думало человечество, пока оно придумало эту форму жизни. И брак, как результат этих тысячелетних дум, явился великим учреждением, не только глубоконравственным, но и страховым, доставившим людям успокоение и личное счастье и спасшим женщину от насилия, ибо в муже он ей создал покровителя и защитника. Так это и тянулось тысячелетия. Если с большим развитием понятий о правах человека и женщина стала искать в муже не одного покровителя и защитника и в прежние понятия о брачных отношениях стали вводиться поправки, если женщина потребовала и себе ту же долю самостоятельности, которой пользуется муж, то ведь это значит только одно, что идея равноправности (или, точнее, равного достоинства) сделала такие успехи, что проникла уже и в семейную сферу и вызывает в ней поправки, которые, конечно, и явятся.
Но не в том дело, а дело в том, почему за гр. Толстым идут только единицы, хотя его читают все? Ведь не всех же в этом следует винить! И виноваты действительно не все, потому что не для всех гр. Толстой говорит. Ни в одном из вопросов, которые гр. Толстой так энергично поднимает, и ни в одном из зол, которые он так же энергично старается побить, он никогда не доходит до корней, не проникает в их глубь. Гр. Толстой всегда стоит на поверхности, вы видите его сильную фигуру, слышите его убежденное и сильное слово, но это слово всегда обращается к внешнему факту. Мало этого, слушатель всегда недоумевает, почему гр. Толстой обрушивается именно на тот или на другой факт. Почему, например, гр. Толстой обрушился нынче на брак и на половое чувство, а в прошлом году выступил с обвинительным словом по поводу Татьянина дня, против пьянства? Почему он проповедовал против противления злу или против жизни не своим трудом? Ведь все это вопросы, о которых нисколько не хуже говорилось в нашей печати лет двадцать пять назад, и гр. Толстой тогда молчал. И печать говорила тогда об этих вопросах не только как о внешних фактах, но и углублялась внутрь их.
В мире царит еще столько зла, лжи, насилия, неустройства, столько разных форм общественной безнравственности, что совсем непонятно, почему гр. Толстой выберет вдруг какую-нибудь одну частность, — ну, хотя бы Татьянин день, — и наляжет на нее со всей силой своей страстной энергии. Да ведь и проституция, и пьянство, с его последствиями, и оскорбление женщины животным на нее воззрением, и эксплуатация чужих сил и чужого труда, — все это лишь частные следствия одной общей, создающей их причины. Это лишь известные формы и насилия, и лжи, и всякого другого зла, господствующего еще в отношениях людей и имеющего один общий и глубокий корень. И до этого-то корня, до обобщения частных зол и частных форм всяческого насилия, до указания одного общего начала и основной нравственной идеи, из которой уже и исходит вся нравственность, граф Толстой никогда не доходил. Действуя как моралист, без увлекающей силы общей основной идеи, восходящей к одному неотразимому и всепобеждающему принципу, который, например, покорял сердца и умы в первых проповедях христианства, гр. Толстой всегда оставался более понятным только растерянным единицам.
Общий же, простой, но основной принцип, тот основной принцип личной и общественной нравственности, который именно и отсутствует в нашей жизни, в виде об-щесознанной идеи, есть принцип, создавший и христианство. Он зовется принципом «равного достоинства». Вероятно, всегда будут люди и умные и глупые, и сильные и слабые, и добрые и злые, но человеческое достоинство их как было, так и будет всегда одинаковым. И вы, пророк и проповедник нравственности, перед которым стоят толпы покоренных вами слушателей, и вы, учитель и просветитель народа, внимающего жадно каждому вашему слову, также равны каждому последнему из этой 384
толпы, как человеческое достоинство семидесятилетнего старца равно такому же человеческому достоинству семилетнего ребенка. Только это чувство достоинства и создает уважение к человеку, только оно одно и вмещает в себе любовь, — ту самую любовь, которая в самом корне убивает всякое верховенство над ближним и, следовательно, всякую форму насилия — физического, нравственного и умственного.
Чувство равного достоинства составляет у нас принадлежность лишь высокоразвитых отдельных единиц и истинно гуманных людей. И действительно, только вполне гуманный и развитой человек может ценить и уважать такую же нравственную свободу в другом, не ставя ни себя в зависимость от него, не требуя и от него зависимости. Это же чувство вырабатывается только «полным нравственным обновлением, полным освобождением себя от уз тех понятий, повадок и привычек, которые создаются условиями жизни, построенной на зависимости. Ведь всею тридцать лет, как мы расстались с крепостным правом, которое одинаково развращало и тех, кто стоял выше, и тех, кто стоял ниже. Перемена свершилась покуда внешняя, формальная. Ни в семью, ни в школу, ни в воспитание наших собственных детей, ни в воспитание народа покуда не проник еще этот высший и единственно справедливый воспитательный принцип, нигде, ни от кого и никогда вы не слышали ни слова о человеческом достоинстве вашего ближнего. Припомните свое воопитание, слышали ли вы хоть одно слово об уважении к человеку, или же весь строй воспитательной системы учил вас только неуважению и приподыманию себя над другими? И затем мы же удивляемся, а моралисты, не сказавшие нам ни разу ни одного слова об истинной человеческой нравственности, даже и негодуют, что вся наша жизнь спуталась в какой-то громадный ком взаимных неуважений и глубочайшего всеобщего нравственного невежества!
Это замечание было бы слишком жестко, если бы применить его вполне к «Что читать народу», но насколько, в целях настоящего очерка, мне казалось нужным уяснить, почему пользующийся несомненным всеобщим уважением и составляющий нашу гордость гр. Толстой, несмотря на всю авторитетность своего имени, обнаруживает очень слабое нравственное влияние на общество, так в тех же целях мне хотелось воспользоваться и несомненно почтенным трудом харьковских учительниц, чтобы выяснить его истинную моральнообщественную сущность.
«Что читать народу» есть собственно сказание харьковских учительниц о том неведении, с каким они вступили в незнакомый им мир, называемый народом. Это неведение не замечается, пока учительницы разбирают книги духовно-нравственного содержания, по естество-З1нанию, истории, биографии, путешествиям (этого рода книг в 1-м томе разобрано 694 и во втором 905, всего 1 599); тут интеллигенция чувствует себя в своей области и делает свое дело. Мир неведения начинается для вос-.питательной интеллигенции с той минуты, когда она вступает в область психологии и начинает взвешивать народную душу и мерить ее вдоль и поперек произвольным аршином так называемой народной литературы, большею частью тенденциозной и назидательной, пытаю-шейся выправлять народную душу по тому или другому шаблону. Литературных произведений, на которых, как на пробирном камне, производилось определение доброкачественности народной души, было разобрано и прочитано харьковскими учительницами 885. И нужно отдать справедливость народной рассудительности, выдержавшей не только блистательную пробу, -но еще и открывшей нашей воспитательной интеллигенции свет неведомого для нее откровения. В сущности, получился урок не для народа, а для нас, народных учителей и учительниц, для нас, народных писателей, для нас, интеллигенции вообще.
Еще Декарт установил, что нет способности, распределенной более равномерно между людьми, как рассудок. Интеллигенция отличается от народа не тем, что ее рассудок (ум) больше или сильнее, а только тем, что он имеет возможность работать над большим числом фактов, представляемых ему более развитой и разнообразной жизнью, и создавать поэтому большее число понятий. Но в том же многообразии материала кроется и опасность для верности выводов рассудка. Ему все равно, над каким материалом ни работать. Как честный счетчик, он только подводит свой итог, а будет ли итог такой или другой, зависит уже от материала, над которым честный счетчик работает. Поэтому-то для интелдигентного рассудка гораздо больше опасности сделать неверный вывод, чем для рассудка человека неинтеллигентного. Народ живет почти исключительно реальными, практическими фактами, работать над которыми приходится рассудку не особенно много, потому что эти факты и не многочисленны, и не особенно разнообразны и сложны. Интеллигентному рассудку работы больше. Кроме практических, реальных фактов, ему приходится иметь еще дело и с умственными фактами. Но умственные факты заключают в себе подчас такие кривые и косые понятия или априорности, столько бывает в них намешано и правды и лжи, и истины и заблуждений, что, честно проработав над всем этим мешанным материалом, интеллигентный рассудок создает лишь вывод, полный лжи и пустяков. Только потому, что у интеллигенции слишком много всяких и всяческих умственных фактов, — фактов не только самых разнообразных цветов, но самых разнообразных времен, столетий и происхождений, — и оказывается такое разнообразие выво-. дов рассудка, что люди, живущие не только в одном городе, но в одном доме, на одной лестнице, даже в одной квартире, могут совсем не понимать друг друга. В народе вы этого не найдете. У него фактов гораздо меньше, но все они точнее, определеннее и более обусловлены житейской необходимостью. Априорных фактов вы у него не встретите. Понятий у него меньше, оттого и слов у него меньше. Но именно от этого архангельский мужик гораздо лучше понимает мужика не только орловского, но и минского, и полтавского, чем живущие на одной улице сотрудники двух разных петербургских газет.
Таким образом, не народную рассудительность требовалось проверять, — требовалось проверить отношение народной рассудительности к представлениям о ней интеллигентной среды. Учительницам пришлось занять положение статистика, производящего опросы для того, чтобы самому научиться.
Три девочки, лет 10, 11 и 12, подают учительнице «Чем люди живы» Толстого.
«Вот вы отгадайте мне каждая по одной загадке, и я отпущу вас», — говорит учительница, а затем предлагает вопросы, какое первое, какое второе, какое третье слово, узнал ангел. Ответы все были неумелые, а третья девочка сказала что-то и совсем несообразное. Учительница наивно вносит в свой дневник: «Для меня было ясно, кто понял и кто не понял «Чем люди живы».
К той же учительнице подходят еще три ученицы, приблизительно, такого же возраста.
«Рассказывайте по очереди», — говорит учительница. Девочки рассказывают и дело идет хорошо, пока не подходят вопросы.
«Что прежде всего узнал ангел?» — спрашивает учительница.
— «Он узнал, что если бы жена сапожника не подала ужинать, так померла бы», — отвечает первая.
— «Ну, а чем люди живы?» — спрашивает учительница третью.
— «Своей работой», — отвечает она, и только средняя замечает: «душой!».
И учительница с той же наивностью заносит в свой дневник: «Очевидно, что, усвоив внешнюю сторону рассказа, дети остались глухи и немы к его руководящей идее».
Или стоит перед учительницей маленькая девочка с тупым и сонливым выражением.
«Чем люди живы?» — спрашивает учительница.
— «Сапожной работой», — отвечает флегматически девочка. Остальные дети смеются.
Еще маленькая девочка очень хорошо рассказала «Чем люди живы». Но когда учительница спросила: «чем же люди живы?» — девочка замолчала. Молчала она и на все три остальные вопроса, недоумевая, повидимому, чего еще от нее добиваются, и, наконец, сказала тоном убеждения: «Я все, как есть, рассказала».
Подходит к учительнице маленькая, очень плаксивая девочка с книжечкой в руках.
— «О чем ты, Соня?»
— «Не могу ответить, — отвечает Соня, всхлипывая. — И старшие девочки учили, не пойму!».
Одна учительница заносит в свою записную тетрадь: «Меня занимает вот какое обстоятельство: десятки детей пересказывают мне «Чем люди живы» и отвечают на одни и те же вопросы, предложенные мною, и каждая в свой пересказ вносит свою собственную индивидуальность, варьируя на свой лад ответы, которые, казалось, должны были бы являться одними и теми же».
Или же еще учительница (а, может быть, и та же)
записывает в дневнике: «Чем люди живы» приобретает все более и более популярности в школе... Приходится расспрашивать по 6, по 7 учениц разом. Записывать нет никакой возможности. Так и сегодня в моей записной тетради стоят только отрывочные фразы, записанные наскоро карандашом... Ничего невозможно разобрать, с такой поспешностью делались заметки. Кому принадлежат эти ответы, положительно не могу припомнить, мелькают передо мною детские лица, детские глаза, и только. Одно общее впечатление или, лучше сказать, вывод остался от этого переспроса. Он состоит в том, что детям не свойственна отвлеченность. При вопросе в воображении их, повидимому, возникает целая сцена, и они дадут вывод, но не иначе, как воспроизведя эту сцену, сёязавши реальное происшествие с его основной идеей».
Подобные заметки по поводу «Чем люди живы» занимают в 1-м томе почти 13 двойных страниц, а редакция или харьковские издательницы делают такой общий вывод: «Подводя итоги всему сказанному, очевидно, что художественный и, вместе с тем, воспитывающий рассказ «Чем люди живы» можно давать различным возрастам и на разных ступенях развития, требуя от одних фактической передачи рассказа, а от других более глубокого понимания и толкования его».
Да простят меня харьковские издательницы и учительницы: очень искренно, любовно и доброжелательно отнеслись они к своему делу, это чувствуется в каждом их слове, но в самой постановке ими дела заключается некоторая неопытность.
Одна учительница говорит что хотя Гоголь, как и Пушкин, писал чистым литературным, а не простонародным языком, Он, т. е. Гоголь, понимается и читается простолюдином с большим наслаждением. Почему же учительница думает, что для наслаждения простолюдина нужен простонародный язык? С народом нужно говорить не простонародным или литературным языком, а обыкновенным человеческим, просто, толково, ясно, не употребляя слов и выражений, в лексиконе народа не существующих. В простоте, толковости и ясности весь секрет и хорошего литературного языка. Пушкин не тем замечателен, что писал «чистым» (и что значит «чистый»?) литературным языком, а тем, что ввел в литературный язык простоту, ясность, бесхитростность речи и покончил с прежней напыщенностью и с делением слога на возвышенный и благородный, низкий или неблагородный. Язык всегда должен быть одинаково благородный и одинаково для всех простой и ясный. Другого секрета у хорошего литературного языка и нет. Пишите, как вы говорите, и это будет самый лучший язык.
Харьковские учительницы, при всем их литературном образовании, пишут не так, как говорят, а говорят, вероятно, не так, как они пишут. Учительница, о которой речь, предлагает ученицам, например, такие вопросы: «какая отличительная черта характера малоросса?» Эта «отличительная черта» была бы неудобопонятна даже в гимназии, а в народной школе она уже и совсем выходит из школьного порядка. Ну, и весь вопрос тоже очень мудрен, так что, пожалуй, не только каждая из деревенских учениц, но и не всякая из сельских учительниц ответила бы на него сразу.
Вообще вопросы, предлагавшиеся учительницами (и, вероятно, предлагаемые и теперь), отличались мудреностью: «Много ли привязанностей было у Герасима?», «Победил ли он в себе желание отомстить врагу?», «Что вынудило мужика ехать в лес и рубить дерево?». Все эти «вынудило», «приобрел» да «победил», в особенности «победил», — совсем уж не на своем месте, да не верны они и в психологическом смысле.
Система вопросов очень стара. Начала она практиковаться у нас более пятидесяти лет. Когда я учился, у нас этим делом занимался, в свободное от классных занятий время, инспектор. «Что такое окно?» — опрашивает инспектор. — «Окно есть дыра», — отвечаем мы. — «Окно есть отверстие», — поправляет инспектор. — «Окно есть отверстие», — повторяем мы. — «Что такое чернильница?» — спрашивает инспектор. — «Чернильница есть склянка», — отвечаем мы. — «Чернильница есть сосуд», — поправляет инспектор. — «Чернильница есть сосуд», — повторяем мы хором... Вопросами и ответами хотели нас приучить к точным понятиям и определениям. В шестидесятых годах немцы-педагоги уже спрашивали: «у лошади четыре ноги, а у собаки?», «у козла маленький хвост, а у человека?», «птица покрыта перьями, а баран?»... Это были уже вопросы, развивающие наблюдательность и способность находить сходства и различия. Теперь задача стала гораздо шире, игра в вопросы и от-390
веТы ведется для общего развития ума и приняла форму инквизиционного допроса, трудного для учителей и очень томительного для учеников, приводящего их нередко в ошалелое состояние. Пора бы, кажется, покончить с этой инквизицией и заменить ее собеседованиями и простыми бесхитростными разговорами, не доводящими учеников до гипнотического отупения.
Испытание, которое мы задумали сделать народу, чтобы узнать, умеет ли он думать, чувствовать и судить по-человечески, превратилось как-то само собою в испытание нас, учителей и учительниц, в пробу наших педагогических сил. Испытание это показало, что то, что мы еще недавно знали, мы уже успели забыть. Читая трогательный рассказ, вызывающий у крестьянских детей слезы, мы записываем это в наши тетрадки, точно удивляемся, что крестьянские дети могут плакать, как и наши. Встречаясь С народным суеверием или верой в сны, даы и это записываем в тетрадки.
Нет, не это требовалось Нам делать. За правдой мы пошли в школу, — за той правдой, которая должна была проверить нас, а не народ, — за правдой, ради которой мы завели народные школы и ради которой стали народными учителями. Харьковские учительницы Не простые учительницы грамоты и письма, они воспитательницы и наставницы, - и потому с них приходится требовать больше, чем с обыкновенных сельских учителей из учительских семинарий. Взявшись за воспитание народа (а не одно обучение) и ради него задумаНши овершить тог громадный труд, который они свершили, учительницы должНы были встать на соответственную ему идейную высоту и, прежде всего, выяснить себе точно свои психологические и общественные задачи. Но этого-то именно и не было сделано. Неясность мысли отразилась даже и на заглавии. Вопрос учительниц, в действительности, как они его объяснили, заключался не в том, «что читать», а как «писать» для народа, как с ним «говорить», как создать живую и нравственную связь с ним, как установить непосредственные отношения.
В народе пока еще много Непосредственного, библейского, чего у нас, интеллигентных людей, уже не замечается. Отношения народа между собой проще и прямее, жизнь менее сложна, и многих форм, выработанных у нас культурой, у народа еще не явилось. Народу, на-
пример, неизвестна наша вежливость, да едва ли ему известна и наша гуманность. Она заменяется у него непосредственной жалостливостью, которой, опять, недостает у нас. А оттого, что у народа недостает еще культурности (или, по крайней мере, очень ее мало), что вся жизнь его проще, его и суждения о жизни проще, и ему дается легче правда, чем нам, интеллигентам, спутанным подчас массой условных требований, искусственных понятий и неясных или даже просто ложных представлений. От этого же народ легче видит и понимает художественную правду, чем мы, воспитанные в идеях искусства. Одной формой, которая как бы ни была художественна, народу не отведешь глаза.
Интересный опыт этого рода сделали харьковские учительницы. «Посредник» устроил склад, чтобы удовлетворить спросу на хорошие и дешевые книги. Но что значит хорошие»? «Хорошим мы считаем содержание, возможно ближе выражающе учение Христа и, в крайнем случае, ни в чем не противоречащее этому учению, и, притом, изложенное в форме, доступной массе и удовлетворяющей его потребностям», — говорит «Посредник» в объявлении об открытии склада. Что же может быть лучше подобной задачи, и что может быть выше христианского учения о братстве и любви? Но странное дело, что издания «Посредника» уже с самого начала встретили недоверие. И оно явилось, конечно, не от того, что «Посредник» желал проповедовать христианскую нравственность, а от других, посторонних ей примесей. Вот эти-то примеси и заставляли бояться «возбуждения в народе суеверия, привития идеалов рабства и искажения учения Христа». Харьковские издательницы не разделяли, однако, этих сомнений. «Нам казалось, — говорят они, — что народ наш совсем не так легковерен, чтобы поверить в реальное существование какого-либо «первого винокура», не так прост, чтобы к нему можно было привить идеал рабства, не так неустойчив, чтобы променять истинное учеНие Христа на первую попавшуюся книжку». И эта вера в народный здравый смысл оправдалась. Не обошлось, конечно, без того, чтобы тенденциознее книжки не обнаружили влияния на существующее и в народе, как и в наших детях, влечение к сверхъестественному, чудесному и неразгаданному. Так, на второй год чтения изданий «Посредника» оказалось, что как бы ни было жизненно и реально содержание, слушатели ждали покаяния и чуда. «Они ждали его даже там, где оно явилось бы почти невероятным, как, например, во «Власти тьмы» покаяние злодейки Матрены, в рассказе Пейверинта «Попутчики» — раскаяния сытого эгоиста пробста Они допускали возможность воскресения повесившегося «Поликушки» и усматривали присутствие сверхъестественного в том, что объяснялось весьма просто». Но и в этом видна здравая логика народа, в которой тенденциозные проповедники могли бы усмотреть злую на свой счет иронию. «Еще в прошлом году, — замечают учительницы, — на вопрос одного из крестьян, чем все это кончится, другой отвечал: «Покается, — здесь все каются». Еще тогда крестьяне, не посещавшие чтений, подсмеивались над организовавшеюся аудиторией и говорили с иронией: «Им там такие книжки читают, такие книжки, что они вот-вот живыми к богу дойдут». Чтение же в отдельности изданий «Посредника» и все толки, разговоры, споры и мнения слушателей дают возможность заключить, что народный смысл, выросший на реальном суждении, совсем не так легко затуманить. Чорт не принимается на веру, как что-то существующее в действительности, слащавость и сентиментализм, к которым прибегают некоторые из народных писателей, чтобы размягчить воображаемое ими бесчувственное и каменное сердце народа, ровно ничего не размягчают, а встречают и возражение, если они не кстати и не оправдываются реальным мышлением народа. Например, на вопрос, почему люди не поступают по заповедям Христа и не раздают своего имения нищим, одна из учениц отвечала: «потому что люди — простые, это святой только может все раздать». Или по поводу птиц небесных одна из учениц объяснила: «это вот как надо понимать: птицы летают, никакого вреда не делают, и господь питает их, а людям так нельзя, — люди должны работать». Относительно чтения жития святых оказывалось, что «народ слушает чтение с должным благоговением, как и следует слушать житие святого, но ни вопросов, ни разговоров, ни споров, которые бывают при чтении книг общего содержания, не бывает». И это опять потому, что реальный смысл подсказывал слушателям, что
Пробст — старший пастор (ред.)
тут не о чем ни спорить, ни толковать, а нужно брать факт, как он есть. «Ильяс» Толстого тоже не убедил никого, что работником быть лучше, чем хозяином. Молодые слушатели это и высказали прямо, старики сказали: «ну, как же: то хозяин, то батрак!» и только две древние старухи, присутствовавшие при чтении, «начали вздыхать о крепостном праве, о добрых покойных господах и о том беззаботном времени, которое было тогда». Прочли сказку «Зерно с куриное яйцо». Содержание сказки в том, что ребята нашли зерно с куриное яйцо, и позвал царь старика-мужика, не видал ли он на своем веку такого чудовищного зерна. Старик сказал, что не видал, советовал спросить его отца. Пришел отец. Он смотрел моложе сына, но отвечал тоже, что не видал. Позвали деда. Он вошел легко, глаза светлые, говорит внятно. И сказал дед царю, что хлеб такой на его веку родился везде, что другого и хлеба не было, и что хлеба тогда не покупали и не продавали, — у всех своего вволю было, — и про деньги тогда не знали. «Скажи же мне, — говорит царь, — еще два дела. Одно дело, отчего прежде такое зерно родилось, а нынче не родился? А другое дело — отчего твой внук шел на двух костылях, сын на одном, а ты вот пришел и вовсе легко?». — «Оттого эти два дела сталися, — ответил дед, — что перестали люди своими трудами жить, начали на чужие зариться. В старину жили по-божьи — своим владели, чужим не корыстовались» (сказка Толстого). После прочтения сказки слушатели призадумались, точно они думали крепкую думу; наконец, один из них произнес отчетливо и уверенно: «Было когда-то, да уж не вернется!..».
. Нашу общественную беду составляет относительная слабость культурных традиций. Русский образованный человек часто выступает на проповедь с тем, что лично ему кажется новой истиной. Эти личные истины нередко бывают односторонни, и хотя они иной раз и выдаются, например, за христианскую нравственность, но уж в самом способе их личного возникновения и в тенденциозной их односторонности нет ничего истинно христианского. Народ, конечно, чувствует всю эту фальшь непосредственно, а если его вынуждают сказать о ней, что он думает, то здравый, реальный смысл подсказывает ему ответы вроде: «было когда-то, да уж не вернется».
В массе мнений и отрывочных замечаний, в самих спорах и толках слушателей по поводу прочитанного, мы имеем в труде харьковских учительниц богатое указание, как следует разработать материал, ими собранный.
Прежде чем закончить эту мысль, я приведу мнение гр. Толстого высказанное им много лет назад, о народных книжках: «Мы убеждены, — писал гр. Толстой, — что все потребности народа законны, что добро присуще человеческой природе и что народ точно так же нельзя поучать, как и нельзя испортить книжками... Мужик платит гривенник за книжку и потому требует, чтобы ему дали то, что ему хочется, а не то, что хочется воспитателю народа... Почему же для этого сфинкса-народа не должно предложением отвечать на требование? Почему мы для себя считаем хорошим писателем того, который нам нравится, а для народа считаем хорошим писателем того, который нам, а не народу нравится?». Теперь гр. Толстой думает уже иначе, только народ остался при своем прежнем здравом смысле. Его действительно нельзя испортить книжками.
, Да, материал, собранный в «Что читать народу», просит разработки. Теперь в нем растеряется не только сельский учитель, Но, пожалуй, и опытный писатель. Конечно, не в том, «что читать народу», должен заключаться вопрос, а в том, «как писать для него», удовлетворяя его нравственной правде и относясь к нему с тем уважением-какого требуем для себя мы, интеллигенты и народные проповедники. Нужно думать, что между харьковскими издательницами нашлись бы для этого и пригодные силы. Можно между ними указать на X. А. Заметки и рецензии, подписанные этими буквами, отличаются всегда дельностью, серьезностью и верностью взгляда.
ПРИМЕЧАНИЯ
1. «Письма о воспитании». Эта большая, в узком смысле слова, педагогическая работа Н. В. Шелгунова печаталась за подписью Н. В., и без всякой подписи в разделе «Заметки провинциального философа» (газета «Неделя» за 1873 — 1874 г.). «Письма о воспитании» были затем перепечатаны автором в тех изданиях его сочинений, которые выходили в конце 80-х и начале 90-х годов. Они были одним из наиболее замечательных, ярких, талантливо выполненных педагогических произведений 70-х годов, вовсе не похожих на трафаретные произведения казенно-правительственной педагогики. Письма Шелгунова — это совершенно оригинальное по замыслу и выполнению произведение революционно-демократической педагогики, в котором автор выдвинул на первый план те основы социально-политического, революционного воспитания подрастающих поколений, которые впервые в истории педагогики были поставлены революционной демократией 60-х годов. Неудивительно, что «Письма» в эти годы реакции не получили того широкого распространения, какого они заслуживали.
«Письма о воспитании» Н. В. Шелгунова должны обратить на себя внимание читателя оригинальностью и некоторыми своими особенностями как со стороны формы, так и со стороны содержания.
Как мыслитель, популяризатор и публицист Н. В. Шелгунов оригинален в своем изложении. Характерна афористичность изложения, эмоциальная приподнятость, заостренность формулировок, а в отдельных случаях некоторая туманность и неясность излагаемых мыслей. Несмотря на это, читатели конца XIX и начала XX века умели хорошо его понимать.
Другую особенность «Писем» Шелгунова составляет масса упоминаемых в них имен, преимущественно из древнегреческой и римской истории, органически не связанных с самой сутью его изложения. Повидимому, это дань традиции, установившейся в среде писателей первой половины XIX в., воспитывавшихся на изучении античной истории.
Со стороны содержания «Письма о воспитании» характерны тем, что автор их опирается на выводы современной ему опытной психологии, основанной на данных самонаблюдения. В годы деятельности Шелгунова разработка физиологического учения о высшей нервной деятельности была только начата И. М. Сеченовым, с работами которого Шелгунов был знаком. Шелгунов, как и
Ушинский, положения которого широко использованы им в «Письмах о воспитании», исходил из принципа единства психики и организма.
Поскольку физиологическое учение о высшей нервной деятельности в то время не нашло непосредственного приложения в области психологии, Шелгунов мог опираться лишь на наблюдения опытной психологии. Совершенно понятно, что наблюдения и те выводы, которые на их основе даны в работе Шелгунова, получат новую интерпретацию в свете павловской физиологии, точно так же, как данные первичных астрономических наблюдений неузнаваемо изменяются в свете научной астрономии. Это и должен принять во внимание читатель «Писем о воспитании».
2. Педагогическая путаница (Курс педагогики, составлен М. Чистяковым, СПб., 1875). Статья была напечатана в журнале «Дело» (№ 4 1875 г.) без подписи, но принадлежит несомненно Шелгунову, что нетрудно установить на основании ее сопоставления с «Письмами о воспитании». По существу, рецензия Шелгунова является теоретическим дополнением к «Письмам». Автор рецензируемого курса Михаил Борисович Чистяков (1809 — 1885) был типичным педагогом-идеалистом, преподавателем теории изящной литературы и педагогики в Николаевском женском институте в Петербурге. Помимо курса педагогики он известен как составитель книг: «Повести и сказки для детей», «Исторические повести и рассказы», «Очерк теории изящной словесности» и др. Обобщая свой опыт преподавания, Чистяков написал курс педагогики как руководство для воспитанниц. Шелгунов, только что напечатавший «Письма о воспитании», кстати сказать, не отмеченные печатью, конечно, не мог не обратить внимания на вышедшее произведение реакционного педагога-идеалиста с его попытками угодить духу времени.
«Педагогическая путаница» — характерная оценка всей позиции автора рецензируемой книги. Со свойственной Шелгунову прямотой и резкостью он разоблачает педагогический идеализм автора. Последний выхватывает ребенка, объект воспитания, из его среды и помещает на необитаемом острове. Вспоминая по этому поводу о Руссо, который при всей своей талантливости также испугался сложной социальной среды и нашел необходимым поместить своего Эмиля на необитаемом острове, Шелгунов восклицает: «Разве это педагогика? Ведь это химические и алгебраические демонстрации над произвольно взятыми элементами и величинами. И подобный грех Европа давно простила Руссо, потому что его теоретичность открыла зрение слепым... После Руссо едва ли нужно было появляться на том же поприще г. Чистякову... Современная педагогика вовсе не умозрительное отношение к чему-то вообще, отдельно стоящему и изолированному, это не наука необитаемого острова, а наука густо населенной земли. Чтобы учить такой науке, нужно знать прежде всего и землю, и людей, знать силы и законы человеческой души». Ни в чем этого знания не проявляет Чистяков.
Едва ли во второй половине XIX в. было дано кем-либо более резкое и жесткое осуждение отвлеченной педагогики, оторванной от законов природы и общества. Повторяя основные положения своих «Писем о воспитании», Шелгунов утверждает, что основная задача воспитания — дать ребенку направление: не в том дело, чтобы сделать его специалистом той или иной области человеческих
знаний и практики, а в том, чтобы сделать его членом общества Воспитание, предлагаемое в курсе Чистякова, — это изолированное физическое и умственное воспитание, не связанное с интересами общества.
Критикуя реакционные позиции Чистякова, Шелгунов замечает, что последний, как бы отрицая направление в педагогике, на самом деле стремится воспитать детей в особенном направлении, которого Шелгунов ближе не раскрывает, но дает понять, что это — реакционное направление, царившее в русской педагогике того времени.
3. Итоги 14-летней деятельности Д. А. Толстого в Министерстве просвещения. Статья напечатана за подписью Н. Ш. в журнале «Дело» (№ 5, 1880) в разделе «Внутреннее обозрение». Задача статьи понятна. В 1879 г., после 14-летнего управления Министерством просвещения, Толстой в виду всеобщего недовольства и отрицательного общественного мнения вынужден был оставить свой пост. В своей статье Шелгунов дает широкий общий очерк развития воспитания и образования в России с начала XVIII в., показывая, как система образования менялась в зависимости от конкретных условий жизни общества. Переходя к рассмотрению деятельности Толстого и к его детищу — классическим гимназиям, Шелгунов прежде всего отмечает, что за 14 лет его управления министерством педагогическая пресса вынуждена была молчать об общественном образовании, как если бы оно не касалось общества. Между тем, с освобождением крестьян наметилась резкая перемена в экономических требованиях русской жизни. Результатом новых условий жизни явился спрос на реальное образование, на приготовление лиц преимущественно для промышленных и технических занятий. Именно эту потребность общества игнорировала классическая система Толстого. Автором собраны первые отзывы печати, вызванные увольнением Толстого и показывающие резко отрицательную оценку деятельности Толстого со стороны общественного мнения. Эти отзывы и сейчас могут быть прочитаны с интересом, «Давно уже, — пишет Шелгунов, — русская журналистика не высказывалась с таким единодушием..., это объясняется отчасти более чем десятилетним ее подневольным молчанием об одном из важнейших общественных процессов». Точка зрения самого Шелгунова на учебный план средней школы та же, которая разделялась революционной демократией, — точка зрений «гармонического слияния гуманитарных и реальных знаний, когда невежеством считается как пренебрежение словесными науками со стороны реалистов, так и пренебрежение изучением законов природы со стороны словесников».
4. По поводу земской школы. Статья напечатана Н. В. Шелгуновым в журнале «Русская мысль» и после его смерти перепечатана в сборнике его статей под заглавием «Очерки русской жизни» (СПб., 1895). Очерк о земских школах был написан Шелгуновым в связи с теми нападками, которым как в прогрессивной, так и реакционной публицистике подвергались земские школы. Прогрессивные круги были смущены скромной деятельностью земских школ по насаждению элементарной грамотности. Гораздо энергичнее были те нападки, которые делались против земской школы со стороны реакционной печати. Земским школам ставилось? в вину пренебрежение религиозным образованием, насыщение программ преподавания светским, естественно-научным материалом, введение новых методов обучения и пр. С 1884 г. земской школе была противопоставлена школа церковно-приходская, получавшая большие ассигнования от правительства. Предполагалось, что эти школы постепенно вытеснят земские, если не окажется удобным упразднить их сразу. В этот критический и тяжелый для земских школ момент, когда против них восстали наиболее реакционные элементы в стране, Шелгунов выступил со своей статьей, в которой проследил ту работу, которую вела земская школа на протяжении 20 лет, и те заслуги, которые она оказывала русскому просвещению со 2-й половины 60-х и до середины 80-х годов. Статья Шелгунова, несомненно, принесла большую пользу земской школе, остановив на некоторое время поток нападок на нее, сделала ясной для русской общественности ту культурную роль, какую земская школа выполняла в течение первых 20 лет своей работы.
5. «Что читать народу (Издание харьковских учительниц). Очерк напечатан в журнале «Русская мысль» 1890 г. и перепечатан в книге Шелгунова «Очерки русской жизни» (СПб., 1895).. Поводом к его написанию послужил выход в свет под редакцией известного деятеля по народному образованию Христины Даниловны Алчевской книги под указанным выше названием в двух томах. Книга представляла большой и самоотверженный труд ряда педагогов, пожелавших проверить, как массы народа воспринимают и понимают те многочисленные книги, которые издаются для них интеллигенцией. Первый том книги вышел в 1884 г., второй — в 1889 г. Книга произвела большое впечатление в педагогических кругах России и была с одобрением замечена на Парижской выставке 1889 г. В своем очерке Шелгунов поставил задачу сделать опыт харьковских учительниц предметом анализа и оценки по существу. Как и в других очерках, Шелгунов ведет свой анализ в связи с общим взглядом на русскую жизнь 80-х годов. Жизнь эта, по характеристике Шелгунова, «призастыла» сверху и если есть еще в ней какие-либо течения, то только внизу. Над бездной русской жизни не носится творческий дух.
Книга харьковских учительниц дает повод автору поставить вопрос, в каких отношениях к народу стоит русская интеллигенция. Автор констатирует, что здесь еще много фальшивого. В русской жизни царят крепостнические чувства, крепостнические привычки, мысли: на авансцене жизни выступают классы привилегированные, вдали народ, интеллигенция же издали присматривается к нему и изучает эту неизвестную для нее область. Книга, написанная харьковскими учительницами, это не книга о том, что читать народу, а книга о том, понимает ли народ то, что для него написано интеллигенцией. Шелгунов приходит к выводу, что огромное количество книг, написанное интеллигенцией и проверенное ею в народном обращении, свидетельствует о том, что подхода к народной душе интеллигенция еще не нашла, что народ и интеллигенция говорят на разных языках.
6. К стр. 86. В тексте дореволюционного издания сочинений Н. В. Шелгунова оказалась фраза, в которой дважды повторяется одно и то же выражение вместо какого-то другого, утерянного, по-видимому, в типографии, а именно: «Если все они (силы души. — " В, С.) будут направлены в одну сторону усвоения-остальных фактов, то, наконец, их недостанет для усвоения остальных фактов». За невозможностью справиться по подлиннику эта фраза в соответствии с общим смыслом контекста изменена так: «Если все они будут направлены в одну сторону накопления фактов, то, наконец, их не достанет для усвоения этих фактов».
БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Сочинения Н. В. Шелгунова, начиная с 60-х годов, печатались первоначально в журналах и газетах, постоянным сотрудником которых он состоял, а затем периодически издавались и переиздавались в виде собраний сочинений. Однако выходившие при жизни Шелгунова собрания его сочинений далеко не включали в себя всего ,им написанного. Из педагогических сочинений Шелгунова перепечатывались только «Письма о воспитании». В последних изданиях Шелгунов выпускал то, что считал уже устаревшим и ненужным для читателей. Ввиду изложенного, установление полного списка работ Н. В. Шелгунова возможно, главным образом, не по изданным собраниям сочинений, а путем пересмотра содержания тех органов печати, в которых впервые появлялись его статьи. Эта задача до настоящего времени оставалась невыполненной. Таким образом, в настоящем издании мы имеем возможность дать лишь краткую библиографическую справку об изданиях сочинений Шелгунова, об органах печати, в которых он сотрудничал, и о работах, ему посвященных.
Издания сочинений Н. В. Шелгунова
Изд. 1-е, СПб., т. I — III («Русская книжная торговля»);
Изд. 3-е, т. I — II, СПб., 1889 (О. Н. Поповой);
Изд. 4-е, т. I — II, СПб., 1891 (Ф. Павленкова).
«Очерки русской жизни», СПб., 1895 (Посмертное издание — сборник статей, печатавшихся в журнале «Русская мысль»).
«Воспоминания» Н. В. Шелгунова. Ред. и вступит, статья А. А. Шилова, М. — JL, 1923.
Л. Я. Шелгунова, Из далекого прошлого, СПб., 1901 (переписка Н. В. Шелгунова с женой).
Памяти В. А. Гольцева, М., 1910 (Переписка Шелгунова с В. А. Гольцевым).
Органы печати, в которых сотрудничал Н. В. Шелгунов с начала 6 0-х годов
«Современник» (с 1861 г.), «Русское слово» (1864 — 1866),
«Дело» (1867 — 1884), «Неделя» (1873 — 1883), «Русская мысль» (1885 — 1889).
Подписи Н. В. Шелгунова под журнальными статьями
Обычно Шелгунов подписывал свои статьи полным своим именем или инициалами, т. е. Я. В. Шелгунов; Я. Ш.; Я. В.; Ш. Значительная часть статей печаталась без подписи или под псевдонимами.
В «Современнике» и в «Русском слове» статьи Шелгунова нередко появлялись под инициалами Т. 3. В «Деле» Шелгунов иногда подписывался псевдонимом — И. Языков.
Некоторые работы о Шелгунове
Я. К. Михайловский, Н. В. Шелгунов (Вступительная статья к изд. 3-му сочинений Н. В. Шелгунова);
А. А. Шилов, Шелгунов и его воспоминания (Вступительная статья к изданию книги «Воспоминания» Н. В. Шелгунова), М. — Л., 1923;
М. Я. Пеуновв), Общественно-политические взгляды Шелгунова («Вопросы философии», 1951, № 5);
М. Я. ПеУнова, Общественно-политические и философские взгляды Н. В. Шелгунова, изд-во АН СССР, М., 1954 (В работе М. Н. Пе-уновой впервые дан перечень журнальных статей и других работ Н. В. Шелгунова);
Ф. Морозов, Экономические взгляды Н. В. Шелгунова (Вопросы экономики», 1951, № 11);
Ф. Ф. Сватиков, Н. Шелгунов и его воспитательные идеалы («Советская педагогика», 1939, № 6);
Г. Я. Филиппов, Педагогические взгляды Н. В. Шелгунова (Рукопись кандидатской диссертации, 1947).
Я. А. Френкель, Революционный демократ Н. В. Шелгунов о воспитании и образовании ребенка («Советская педагогика», 1953, N° 3).
Приложение к журналу «Советская педагогика»
Н. В. Шелгунов. Избранные педагогические сочинения
Редактор Н. И. Романовская Технич. редактор Т. Н. Мухана
Сдано в производ. 13/V 1954 г. Подп. к печ. 12/VIII 1954 г. Бумага 84ХЮ87з2=6,32 бум. л. 20,7 печ. л. 19,6 уч.-изд. л. А05674 Тираж 33 400. Зак. 1173.
Типография, Москва, ул. Фр. Энгельса, 46. Цена 9 руб.|||||||||||||||||||||||||||||||||
Распознавание текста книги с изображений (OCR) —
творческая студия БК-МТГК.
|