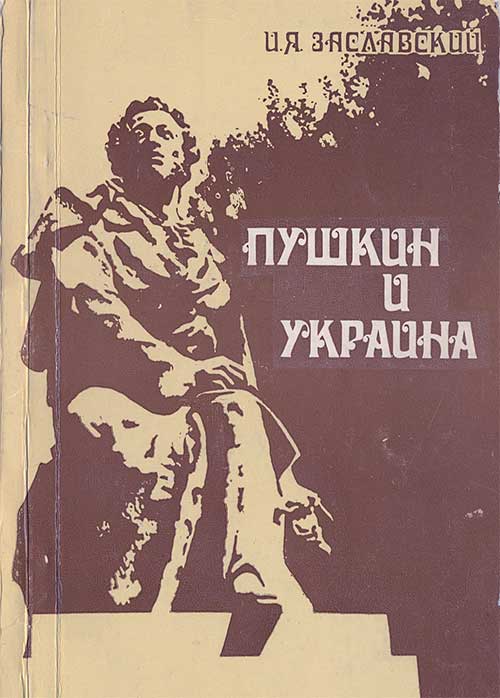Сохранить как TXT:
pushkin-ukraina-1982.txt
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ КНИГИ
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 3
Глава I. Украинское окружение Пушкина 20-х годов 10
Глава II. Дальнейшие контакты 39
Глава III. «И пробуждается поэзия во мне...» 79
Глава IV. Великий побратим 110
Заключение 130
Примечания 139
ВВЕДЕНИЕ
В одном из киевских парков на гранитной скамье сидит, пристально и вдумчиво вглядываясь вдаль, Пушкин.
«Стремителен поток времени... Двадцатый век принес с собой больше перемен, чем любое предшествовавшее ему столетие»1. В этом потоке времени и перемен духовные ценности прошлого не только не блекнут, но приобретают новый смысл и новое значение. Замечательные создания художников слова в полной мере раскрывают свои глубинные гуманистические начала, свою красоту и способность воздействовать на умы и сердца людей. Благодаря историческим завоеваниям социализма наследие классики стало достоянием миллионов трудящихся. Поэт, чье имя с такой сердечностью произносят в любом уголке нашей страны, бесконечно близок и дорог украинскому читателю.
Открывая Шестую Всесоюзную Пушкинскую конференцию, М. П. Алексеев отмечал многообразие связей Пушкина с Украиной и подчеркивал актуальность их исследования. Обращение Пушкина к различным документам, печатным и рукописным источникам, знакомство с украинской народной поэзией, наконец, личные впечатления дали возможность ему создать замечательные картины народной жизни Украины и ее природы, сделать верные исторические наблюдения 2.
Пушкинская тема составляет одну из самых ярких и содержательных страниц в истории русско-украинского литературного единения.
Жизнь и творческая деятельность великого русского поэта многими нитями связана с Украиной. Еще до непосредственного знакомства с природой и населением Украины Пушкин в период пребывания в лицее и в пору, предшествовавшую ссылке, проявляет интерес к украинской народной поэзии, к минувшему украинского народа. Это было вполне закономерно и естественно для гениального юноши с восприимчивой душой и поразительной чуткостью ко всем явлениям бытия: после Отечественной войны 1812 года активизировалось внимание передовой русской общественности к Украине (собирание произведений украинского фольклора, публикации, посвященные быту, этнографии, истории Украины, в русской журналистике, украинские сюжеты в художественной литературе, театре и т. д.). Этому способствовали и некоторые обстоятельства биографии поэта: в его окружении было немало выходцев с Украины и людей, которые хорошо знали Украину, с острой заинтересованностью относились к ее прошлому, любили ее мелодичную речь, ее песни, легенды и сказания. Поездки и пребывание Пушкина на Украине в 1820 — 1824 и 1829 годах обогатили поэта живыми впечатлениями. Все эти украинские наблюдения получают плодотворный отклик в социально-историческом мышлении и образно-эмоциональном мире художника.
Тема «Пушкин и Украина» в ее важнейших аспектах была поставлена в фундаментальной статье А. И. Белецкого. Различные грани этой темы находят освещение в работах П. Н. Попова, - Д. М. Косарика, Е. П. Кирилюка, Н. Е. Крутиковой, Ф. Я. Приймы, Ф. М; Неборячка, Д. В. Чалого и других ученых.
Ныне представляется возможным пополнить наши сведения о лицах, общение с которыми должно было постоянно питать интерес Пушкина к Украине, углубляя знания поэта о прошлом и настоящем Украины, о ее бытовом укладе и народно-поэтическом творчестве.
В предлагаемом очерке сделана попытка максимально выявить украинские связи поэта. В первой главе представлены данные, относящиеся, главным образом, к 1810- — 1820-м годам, во второй главе — связанные в основном с 30-ми годами. Обе главы построены преимущественно на эпистолярном и мемуарном материале, извлеченном в значительной степени из периодики прошлого века, а также из архивных источников; здесь использованы библиографические сведения, приведенные в книге Л. А. Черейского «Пушкин и его окружение» (Л., 1976).
В третьей главе настоящего очерка рассматриваются разнообразные свидетельства творческого интереса Пушкина к Украине — наброски, заметки, статьи поэта, касающиеся ее прошлого; основное внимание сосредоточивается на интерпретации украинской темы в художественных произведениях Пушкина.
О восприятии пушкинского творчества в украинской литературе XIX — начала XX века сжато сказано в четвертой главе книги.
Наконец, в заключении речь идет о месте Пушкина в духовной жизни Советской Украины.
Напомним некоторые факты пушкинской биографии.
6 мая 1820 года курьерская почтовая тройка увезла Пушкина из императорской столицы. Правительство Александра I выслало молодого автора «возмутительных стихов», рассчитывая, что на далеком юге страны, изолированный от своих друзей, оторванный от редакций петербургских журналов, он «образумится» и станет кротким, смиренным и политически «благонадежным».
На почтовых станциях меняли лошадей. Белорусская речь сменилась украинской. Короткие остановки. Поэт проезжает через десятки сел и местечек, через города Чернигов, Нежин, Прилуки, Пирятин, Лубны, Кременчуг... После двадцатидневного пути — место назначения: Екатеринослав. Как известно, Пушкин провел здесь почти две недели, простудился и по разрешению своего начальника И. Н. Инзова отправился с семьей генерала Н. Н. Раевского в Крым и на Кавказ. В сентябре Пушкин прибывает в Кишинев, куда переместилась, канцелярия генерала Инзова. Теперь путь поэта пролегал через Перекоп, Чаплинку, Каховку, Херсон. До перевода по службе в Одессу в июле 1823 года он бывает в Каменке, проводит здесь почти пять месяцев с ноября 1820 по март 1821 года, отсюда наезжает в Киев, посещает Каменку вновь осенью 1822 года, по пути останавливается в Тульчине. Год пребывания в Одессе на положении чиновника десятого класса — и вновь через всю Украину, теперь в северном направлении — по «высочайшему» повелению в псковскую глушь, в село Михайловское.
По подсчетам Д. Косарика, Пушкин в 1820 — 1824 годах проехал по Украине 5700 верст, побывал более чем в 120 населенных пунктах Черниговской, Полтавской, Екатеринославской, Таврической, Херсонской, Подольской, Киевской и Волынской губерний. Многие города, местечки и села он посетил по несколько раз 3.
Непосредственное знакомство с природой Украины, с бытом ее городов и сел, с живой украинской речью и народной песней обогащает поэта новыми впечатлениями. Особый отклик в его сознании должны были вызвать многочисленные проявления народного недовольства. Закрепощенное крестьянство задыхалось от экономических притеснений и политического бесправия. Украина бурлила. Крестьянские волнения прокатывались по ней из края в край. Народные бедствия и народный протест находили выражение в разных формах. Об этом свидетельствуют, в частности, многочисленные архивные документы, введенные в орбиту изучения историками. Достаточно красноречив уже один перечень таких дел. Приведем лишь небольшую часть этого перечня: Полтавская губерния, март 1821 — убийство крестьянами управляющего имением помещика Ласкевича за жестокое обращение с ними; Херсонская губерния, август 1821 — прошение крестьян с. Тишина Херсонского уезда Александру I и великому князю Константину Павловичу об освобождении их из владения помещика Кирьяко-ва и переселении на прежние места жительства; Киевская губерния, июнь 1822 — прошение крестьян местечка Ставищи Таращанского повета Александру I об освобождении из тюрьмы их поверенных и о защите от притеснений со стороны помещицы Браницкой; Киевская губерния, июнь 1823 — отказ от барщины крестьян Ф. Потоцкой в с. Подвысоком Уманского повета; Слободско-Украинская губерния, август 1823 — убийство крестьянами хутора Алексеева помещика А. Курочкина за жестокое обращение. И так далее, и так далее.
На Подолии помещичьи усадьбы трепетали от одного имени Кармелюка, на Левобережии еще действовали отряды Гаркуши.
Полыхала восстаниями Екатеринославщина. Издевательства Глуховых, Островновых, Клевцовых, Нечаевых, Брискорнов, Верменковых и многих других крепостников будили ненависть и вызывали яростное сопротивление крестьян. С апреля по декабрь 1820 года длилось «дело о возмущении крестьян коллежского советника Варвация и других владельцев Екатеринославской губ. и Войска Донского». Крестьянские выступления 1820 года охватили более двухсот пятидесяти сел Екатеринославщины.
Официальные документы, рапорты и донесения, при всей казенно-бюрократической громоздкости их стиля, дают представление об остроте классового противостояния и накале событий. «...Крестьяне, нарушив тишину и спокойствие, отложась от всякого установленной законной власти послушания, открылись совершенными бунтовщиками...» — докладывал 9 июня 1820 года бахмутский земский исправник Екатеринославской губернии генерал-адъютанту Чернышеву, пребывавшему с особыми полномочиями на Дону. «К пресечению», заверяет исправник, «приняты зависящие от полиции меры и, сверх того, чрез посланный эстафет испрашивается от губернского начальства пособие в прикомандировании сюда воинской команды». Но, сетует далее бахмутский исправник, «усмирение бунтовщиков за всеми употребленными над ними средствами затрудняется и дух возмущения увеличивается потому более, что соседствующие с ними господина генерал-майора Иловайского слободы Григорьевки так же неповинующиеся крестьяне, переходя чрез р. Кальмиус в вооруженном виде, ободряют их держаться безбоязненно своего предприятия, обнадеживая вспомоществовать им до последней капли крови от себя и от других прилегающих донских деревень...»4
14 июня датировано донесение екатеринославского вице-губернатора «господину управляющему Министерством внутренних дел»: вице-губернатор рапортует, что он «поспешил лично к командиру 3-й гусарской дивизии г. генерал-майору князю Вадбольскому с требованием воинской помощи для усиления средств к ограждению распространяющегося ежеминутно по Бахмутскому и Ростовскому уездах чрезвычайного возмущения крестьян против их помещиков». Затем вице-губернатор вынужден дополнительно сообщить, что «не только возмутились г. подполковника Протопопова крестьяне, но отложились уже от повиновения помещикам: две деревни — помещику Шидловскому, а одна — г. Фурсову принадлежащие, и что сверх сих готовятся еще и прочие селения к таковому ж возмущению, имея беспрерывную связь с крестьянами, живущими на землях Донских, где возмущение достигло самой высшей степени...»5
Однако и в этой ситуации вице-губернатор, как следует из его обстоятельного доклада, проявил примерную распорядительность: «обложил» «возмутившиеся селения» с целью «не выпускать оттудова, равно и не впускать туда ни одного человека, пока не прибудет какой-нибудь воинский отряд»6.
А события продолжали стремительно развиваться: «крестьяне деревни Александровки, желая проломаться сквозь цепь окружающих караульных, атаковали один пикет, вооружась пиками»; «назначив сборища место в с. Ряжаном, собралось из возмутившихся помещичьих крестьян более 1000 человек» и т. д. Генерал-губернатор отваживается «ныне же... ехать к ним и употребить все средства к наклонению их к первобытному состоянию и повиновению», хотя и предвидит, что «упорство их... будет непоколебимо». Ханжество екатеринославского вице-помпадура сочетается с жестокостью: «Положа себе правилом со всею кротостию и человеколюбием вразумлять заблудших и обманутых людей, я долгом поставляю приступить к сему делу со всею осторожностию, указывая им только военные силы в виде угрожения, если бы упорствовали в своих намерениях; что ж лежит до зачинщиков, яко более виновных, — считаю совершенною моею обязанностию предать их суду и наказанию, дабы примером таковым не только отвратить дальнейшие покушения и распространение возмущения, но чтоб и в грядущие времена сделалось памятным соседственным местам»7.
В следующем донесении «господину управляющему Министерством внутренних дел» (от 28 июня 1820 года) тот же вице-губернатор Шемиот сообщает о крестьянских выступлениях в «отдаленном уголке Славяно-сербского уезда в помещичьих селениях Булацеля Николаевке, Голуба-Сухо-доле и Павловке и Шахова-Макаровом Яру». Рапортуя о действиях «гвардии капитана и кавалера Бутягина» против деревень Устиновки, Голубовки и «еще трех, к ним прилегающих», вице-губернатор браво заключает: «Таким образом, усмирив по нынешний день возмутившихся 46 деревень, населенных до 7 тыс. душ крестьян ревизских, я поспешаю отправиться в Ростовский уезд для равномерного успокоения и там волнующихся...» 8
Мы довольно пространно цитировали казенную переписку, потому что такого рода источники с высокой достоверностью воскрешают грозовую атмосферу, в которой оказался Пушкин. По-видимому, наиболее значительные в 1820 году соприкосновения поэта с украинской народной жизнью, с борьбой украинского крестьянства против крепостников имели место именно на Екатеринославщине.
Одним из отголосков этих впечатлений в пушкинском творчестве был замысел «Братьев разбойников». «Вот тебе и Разбойники, — писал Пушкин П. А. Вяземскому. — Истинное происшествие подало мне повод написать этот отрывок. В 1820 году, в бытность мою в Екатеринославле, два . разбойника, закованные вместе, переплыли через Днепр и спаслись» 9.
Поездки по Украине давали автору «Деревни» и первого послания к Чаадаеву новые и новые импульсы для социально значимых размышлений и жгучих ассоциаций. По пути из Крыма в Кишинев он побывал в Чаплинке, где жили высланные с Полтавщины участники восстания в Турба-ях. По пути в Каменку проезжал через до предела наэлектризованные аракчеевские военные поселения. Декабристы учитывали моральное состояние военнопоселенцев. В. Л. Давыдову, руководителю Каменской управы Южного общества, «было поручено действовать на военные поселения». Бедственное положение украинских крестьян являлось одним из важнейших факторов, побуждавших декабристов Юга к решительным действиям. Хорошо известно об оживленном общении Пушкина с участниками каменских встреч декабристов, известны его отзывы о Пестеле.
В мировоззрении, в творческом развитии Пушкина годы южной ссылки имели первостепенное значение. «Память Каменки любя» (т. 2, кн. 1, с. 178), обращал, вернувшись в Кишинев в 1821 году, поэт к В. Л. Давыдову строки, исполненные политического мужества. О «Каменке тенистой» и Тульчине упоминает Пушкин Болдинской осенью 1830 года в зашифрованных отрывках сожженной десятой главы «Онегина».
Все это говорит о том, что в энциклопедически многогранном духовном мире поэта Украине принадлежало существенное место. Его связи с Украиной были многосложными. Обратимся к пушкинскому окружению.
ГЛАВА І
УКРАИНСКОЕ ОКРУЖЕНИЕ ПУШКИНА 20-х ГОДОВ
В кругу знакомых и друзей поэта было немало выходцев с Украины, литераторов, хорошо знавших ее историю и фольклор, быт и нравы, активно разрабатывавших украинскую тему в своем творчестве. Неравноценны масштабы их писательской и человеческой значимости. Неодномерна их роль в системе пушкинских взаимосвязей с современниками. Здесь и писатели огромного дарования (Гоголь), и поэты, не оставившие заметного следа в истории литературы (подобные, например, Василию Щастному или Лукьяну Якубовичу). Здесь лица, соприкосновения с которыми были у Пушкина эпизодичными или кратковременными (например, Евстафий Рудыковский, Иван Росковшенко или Дмитрий Ознобишин), и люди, которых он знал на протяжении многих лет и чья научная или литературная деятельность была связана с биографией Пушкина неизмеримо глубже (например, М. А. Максимович).
Важно, что контакты такого рода, берущие начало с лицейских лет, не прекращались у поэта в течение всей его последующей жизни, а их значение для понимания той творческой атмосферы, в которой складывалась и протекала деятельность Пушкина-художника, весьма существенно.
Давно уже биографы Пушкина называют имена лицеистов — украинцев по происхождению, от которых в годы учения он мог слушать рассказы об Украине, украинские песни, пословицы, анекдоты и т. п.
В этом плане прежде всего упоминается Илличевский. Демьян Васильевич Илличевский — отец лицеиста — был воспитанником Полтавской духовной семинарии. Алексей Илличевский («Олосенька» в лицейском кругу) считался едва ли не самым одаренным и, как сейчас сказали бы, перспективным. В рукописных сборниках и журналах («Для удовольствия и пользы», «Лицейский мудрец») часто появлялись его анакреонтические стихи, басни, эпиграммы, карикатуры. Литературные интересы культивировались и поощрялись в лицее. Сам плодовитый автор, Илличевкий был хорошо осведомлен о версификаторских занятиях товарищей. В феврале 1816 года он пишет своему корреспонденту: «Теперь, может быть, в эту минуту ты посылаешь ко мне Дмитрия Донского, а я к тебе желаемую тобой Балладу, подивись проницательности дружбы — вопреки тебе самому я узнал, чего ты хочешь; это не Козак (у нас есть и баллада Козак, сочинение А. Пушкина), а Поляк, баллада нашего барона Дельвига»
Реже упоминают имя Аркадия Мартынова. Между тем его отец Иван Иванович Мартынов воспитывался в той же Полтавской семинарии, где и отец Алексея Илличевского. Вместе с ними учился и будущий автор украинской «Енеїди» И. П. Котляревский. В свое время в печати был отражен любопытный факт. «Мартынов, будучи выбран первым кандидатом для отправки в Петербург как знаток греческого языка и уже преподававший этот язык в Полтавской семинарии, должен был по желанию архиепископа Полтавского указать ему еще некоторых достойных товарищей своих, и он указал архиепископу на своих товарищей Стефановского, Котляревского и Илличевского»2.
В черновике известного пушкинского стихотворения «19 октября» (1825) после строк о приезде Пущина в Михайловское следовало двустишье:
Что ж я тебя не встретил тут же с ним, Ты, наш казак и пылкий и незлобный... (т. 2, кн. 2, с. 972).
Это сердечное обращение адресовано Ивану Малиновскому — казаку в лицейском обиходе. Пушкин любил его. Его имя (вновь рядом с именем ближайшего друга своего) Пушкин назвал, прощаясь с жизнью: «Как жаль, что нет здесь ни Пущина, ни Малиновского. Мне бы легче было умирать» 3. После лицея Иван Малиновский был на военной службе — прапорщиком, позднее капитаном лейб-гвардии Финляндского полка, с марта 1825 года в отставке. Большая часть его жизни прошла на Харьковщине. Помещик села Каменка Изюмского уезда, он прослыл здесь личностью человечной и деятельной. Б. С. Мейлах извлек из архивных недр колоритный документ — письмо, адресованное на склоне лет Иваном Малиновским А. М. Горчакову. В день пятидесятилетия со дня основания лицея провинциальный помещик, уездный предводитель дворянства обратился к давнишнему лицейскому однокашнику, сделавшему блистательную официальную карьеру, князю А. М. Горчакову с призывом дать отчет о его верности клятвам лицейского братства. О себе Малиновский говорит: «Всем видевшим меня на Украйне в состязании 33 года могу смотреть прямо в глаза»4.
В послелицейские годы круг лиц, в соприкосновении с которыми Пушкин мог получать новые сведения об Украине, о быте украинского народа и его поэтическом творчестве, все более и более расширяется.
Федор Глинка — один из активных деятелей декабристского движения на раннем этапе. С его именем связана интенсивная разработка украинской темы в русской литературе 10 — 20-х годов XIX столетия. К украинской тематике он обращался в произведениях разных жанров. Глинка нарушает традицию эстетизированного восприятия Украины, сложившуюся и закрепленную в серии сентиментальных «путешествий» и «писем» начала века. Его творческое внимание сосредоточивается в первую очередь на социально значимых явлениях прошлого Украины. Тема Украины приобретает политическую окраску.
Роман «Зиновий Богдан Хмельницкий, или Освобожденная Малороссия» остался незавершенным, но при жизни писателя печатался трижды: в 1817 году как приложение к очерковому циклу «Письма к другу», в 1819 году в «Соревнователе просвещения» и отдельным изданием. Писатель изучал различные материалы, побывал в местах, связанных с деятельностью Богдана Хмельницкого, накапливал и осмысливал разнообразные данные о нем. «Я старался получить о нем всевозможные сведения во время пребывания в Киеве, Чернигове и на Украйне, — говорит Ф. Н. Глинка во вступлении. — Я собирал всякого рода предания, входил во все подробности и вслушивался даже в песни народа, которые нередко объясняют разные места истории его»5. Правда, сюжет произведения основан преимущественно на вымышленном материале. Образ Богдана Хмельницкого выдержан в романтической манере. Автор осовременивал историю. Центральный герой знает (пользуясь более поздней поэтической формулой) «одной лишь думы власть, одну, но пламенную страсть». Это была дума о бедах отчизны под игом польской шляхты, всепоглощающая страсть к свободе родины. Идейный и эмоциональный «заряд» образа всецело отвечал декабристским представлениям о целях литературного произведения на историческую тему — как скажет через несколько лет Рылеев: паря «мыслию в веках, седую вызывая древность», воспалять «в младых сердцах к общественному благу ревность».
Рисуя душевный облик героя, передавая его внутренние побуждения, строя его речевую партию, романист не стеснял себя требованиями исторической достоверности, считая приемы модернизации минувшего вполне приемлемыми и целиком оправданными агитационно-воспитательной «сверхзадачей». Вместе с тем, как установлено в новейшем исследовании о Ф. Н. Глинке, автор произведения придавал большое значение историческим справкам и примечаниям, а также предисловию, которые, в отличие от самого романа, основываются «исключительно на подлинных исторических документах»: летописях Григория Грабянки и Самоила Величко; «Истории русов» и т. д.6
В одном из стихотворений, написанных позднее, Ф. Глинка обращается к образу Богдана Хмельницкого, говорит о народной памяти и любви к героям освободительной войны украинского народа. Русский гость на вечерницах просит украинских девушек:
Запойте, девы, песню-чайку И похвалите в песне мне Хмельницкого и Наливайку...7
Отчетливый общественно-политический акцент ощутим и в стихотворных (например, «Переговоры в Белой Церкви», 1828), и публицистических произведениях Ф. Глинки. В своей публицистике писатель основное внимание уделяет современной ему Украине (циклы «В Галиции», «Письма из Киева», очерки «Крестьяне в Галиции», «Право крестьян в Галиции» и др.). По наблюдению специалиста, «своеобразной закономерностью его (Ф. Глинки. — И. 3.) интерпретации украинской темы является романтическое освещение исторического прошлого Украины и реалистические тенденции при изображении современности»8.
Имеются эпистолярные свидетельства, удостоверяющие неиссякавшее заинтересованное и высоко эмоциональное отношение Ф. Н. Глинки к Украине. «О Малороссии имею ясные, увлекательные воспоминания! Теперь на севере замираю. Вы — сын Малороссии! Полюбите любителя Вашей Родины!» 9 — писал Глинка Максимовичу, по убедительному предположению Н. М. Жаркевич, обнаружившей и опубликовавшей письмо, в 1829 году.
Ф. Н. Глинка переписывался с И. П. Котляревским. В связи с избранием почетным членом «Вольного общества любителей российской словесности», автор украинской «Енеїди» сообщал Ф. Н. Глинке: «Вместе с почтеннейшим письмом Вашим получил я и лестнейший для меня отзыв от Общества. Ежели отрывки из продолжения Энеиды моей годятся для Соревнователя, то их можно иметь в продолжение целого года и более» 10. Котляревский советовался с Ф. Глинкой относительно своих издательских дел. Информируя Глинку о том, что В. И. Туманский передал ему «диплом на звание почетного члена, устав и список членов Общества», он сообщает о своем даре «в пользу оного» (40 экземпляров «Енеїди»)11.
Произведения Ф. Глинки были известны в пушкинском лицее. Декабрем 1815 года датирован третий «нумер» «Лицейского мудреца». Здесь в юмористическом свете представлен один из инцидентов лицейского быта; по форме рассказ пародирует «Письма русского офицера» 12. Личное знакомство Пушкина с Ф. Глинкой состоялось осенью 1817 года.
Как известно, Ф. Н. Глинка принял горячее участие в судьбе Пушкина, когда поэту грозила ссылка в Сибирь или на Соловецкие острова.
В октябре 1820 года Ф. Глинка посылает приветствие высланному на юг поэту, печатая в «Сыне отечества» послание «К Пушкину». Летом 1821 года Пушкин в письме к брату Льву и сестре Ольге просит передать привет Ф. Н. Глинке. Пушкин откликается на послание Глинки своим стихотворением «Когда средь оргий жизни шумной», в обращении к адресату пользуясь многозначительной формулой «великодушный гражданин». В январе 1823 года поэт просит брата передать эти стихи Глинке и сказать, что он «почтеннейший человек здешнего мира» (т. 13, с. 55).
1825 годом датирована дружеская шутка Пушкина «Наш друг Фита». В начале 1830 года Пушкин помещает в «Литературной газете» отзыв о поэме Глинки «Карелия, или Заточение Марфы Иоановны Романовой», проникнутый симпатией и сочувствием к автору — ссыльному декабристу.
До ссылки Пушкин часто встречался и с Н. И. Гнеди-чем — на заседаниях «Зеленой лампы», литературных вечерах и т. п. В ноябре 1818 года оба участвуют в поездке в Царское село и прощальном обеде в связи с отъездом Батюшкова в Италию 3. В апреле 1820 года Гнедич обращался к влиятельным лицам с просьбой заступиться перед властями за Пушкина. В годы пушкинской ссылки между ними устанавливается оживленная переписка, связанная с издательскими делами Пушкина, которые вел Гнедич, и обращенная часто к значительной идейно-эстетической проблематике: например, о древнерусской теме в литературе (совет Гнедича воспеть «тень Святослава, скитающуюся по берегам Днепра»), о гражданском призвании художника («История народа принадлежит поэту», — Писал Гнедичу Пушкин (т. 13, с. 145). Пушкина интересует отзыв Гнедича о «Евгении Онегине»: он считался с литературно-критическими суждениями Гнедича. Для него много значило мнение последнего о «Полтаве» (на авторитет Гнедича ссылается Пушкин в рукописи своего ответа критикам (т. 13, с. 158). Высоко оценивал Пушкин заслуги Гнедича перед русской культурой как переводчика «Илиады».
Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи;
Старца великого тень чую смущенной душой (т. З, кн. 1, с. 256), — писал он в связи с выходом в свет перевода. Спустя два года (в 1832 году) в послании к Гнедичу Пушкин вновь с горячим чувством говорит о воссозданной переводчиком «Илиаде»:
С Гомером долго ты беседовал один (т. З, кн. 1, с. 286), а также уважительно упоминает о других сторонах литературно-театральной деятельности писателя. Правда, не всегда Пушкин апологетически отзывался о творчестве Гнедича, но на протяжении полутора десятилетий они поддерживали тесные отношения (личные встречи, переписка). В 1823 году Пушкин нарисовал профильный портрет Гнедича. Этот рисунок переслал из Одессы в Петербург В. Туманений, писавший А. А. Бестужеву: «Спасибо тебе, добрый Сашенька, что ты вспомнил обо мне в письмеце к Иисусу Христу нашей поэзии!.. Скажу тебе, любезный Бестужев,^ что мы уже лишились поэта Пушкина, но что в замену есть у нас Пушкин-живописец»14. Одесский портрет не сохранился, но известно другое пушкинское изображение Гнедича, относящееся к Болдинской осени 1830 года.
Пушкин участвовал в похоронах Гнедича.
Украина занимала заметное место в кругу идейных, интеллектуальных, художественных интересов- Гнедича. Он пытался разобраться в сложных перипетиях прошлого украинского народа. Сохранился черновой набросок Гнедича, посвященный истории Украины. По обилию авторских помарок, исправлений, вставок 15 можно судить, о, том, какими напряженными раздумьями сопровождалась эта работа. Подобно декабристам, Гнедич отвергает консервативномонархическую концепцию Карамзина, сосредоточивает внимание на ярких проявлениях активности народных масс, отстаивавших свою свободу в борьбе с Турцией, Литвой, польскими панами. И. Н. Медведева, впервые опубликовавшая этот набросок, представляющий, по ее предположению, вступительную часть предисловия к истории Украины или «какое-то историческое рассуждение», подкрепленное «примерами своеобразно сложившейся исторической судьбы украинского народа»16, датирует его 1818 — 1819 годами.
В этом наброске обращают на себя внимание соображения Гнедича о народном эпосе как достоверном памятнике истории и выразителе сокровенных дум народных: «Собственно история народа есть история мысли, возбуждающей все деяния, чаяния, надежды и стремления к одной, хорошо или худо понимаемой, но к одной постоянной цели. Мысль сия для наблюдателя мысленного и в самых сухих летописцах народа может быть видима во всех деяниях, предприятиях, волнениях и переворотах, подвигах народа, в самых его нравах, обычаях, быте и образе жизни, а особенно песнях и повестях» 17.
В 1825 году вышла в свет книга Фориеля «Простонародные песни нынешних греков» в переводе Гнедича. В своем предисловии к книге Гнедич упоминает об украинском фольклоре. Он соотносит некоторые жанры обрядовой поэзии у греков и славян, сравнивает греческие мирологи с русскими и украинскими плачами, отмечает, что «для празднества весны и мы имеем песню; что она хотя не под названием «Песня ласточки» известна, но существует в Малороссии и называется веснянка, и что в начале весны молодые сельские женщины нарочно собираются на улицах, чтобы петь веснянку». Здесь же он пишет и о кобзарях: «...Наша поэзия простонародная давно имеет своих рапсодов, может быть, не многим россиянам известных, как еще многое в отечестве нашем, но тем не менее подобных рапсодам нынешней Греции». Весьма интересно для нас примечание Гнедича: «Оставив Малороссию в детстве, я, однако, имел случай слышать пение таких слепцов» 18.
Гнедич восхищался украинскими народными песнями. Биограф Максимовича рассказывает о том, как в 1831 году, еще лично не знакомый с составителем «Малороссийских песен», Гнедич отыскал его в Симоновской слободке, чтобы приветствовать издателя сборника19. Гнедичу очень нравилась украинская речь. «В собственно литературном кругу» переводчик «Илиады», по свидетельству Максимовича, «назвучал во слух многих своей громко-певучею декламациею украинского языка, звуки которого он любил сравнивать с звуками итальянскими»20.
Примечательно, что Гнедич не только выказывал интерес к истории Украины, с восхищением воспринимал народные украинские песни, ценил выразительность и мелодичность украинского слова, но, как установил Ф. Я. Прийма, и в собственном художественном творчестве порой обращался к украинской речи. Весьма любопытен сохранившийся рукописный отрывок драматического произведения Гнедича, написанный по-украински. Здесь есть диалоги, выдержанные в бурлескной манере, есть и патетически звучащая «казацкая вирша», прославляющая воинские подвиги М. И. Кутузова21.
Свою библиотеку Гнедич завещал учащейся молодежи родного города. Совет гимназии, «приняв с чувством искреннейшей благодарности значительное пожертвование, сделанное в пользу Полтавской гимназии покойным статским советником Николаем Ивановичем Гнедичем, именно библиотеку его, из 1250 экземпляров состоящую», — говорится в официальном документе, — решил «почтить память его особенным заседанием, как в назидание учащимся, так и в ознаменование признательности к благотворителю, родившемуся в Полтаве и последнюю благую волю свою обратившему на юношество, в родине его образовывающееся»22.
Так заключительный аккорд в биографии писателя дополнительно засвидетельствовал его прочные связи с Украиной, его заботу о развитии культуры в одном из древних ее центров.
В первом письме к брату, отправленном в сентябре 1820 года из Кишинева, подробно рассказывая о своем путешествии с Раевскими «к Кавказским водам», Пушкин с улыбкой замечает: «Лекарь, который с ним (сыном генерала Н. Н. Раевского Николаем. — И. 3.) ехал, обещал меня в дороге не уморить» (т. 13, с. 17). Лекарь этот — Евстафий Петрович Рудыковский в составе Томского пехотного полка принимал непосредственное участие в боевых действиях 1812 года: под Смоленском, на Бородинском поле, близ Мало-Ярославца, в 1813 — 1815 годах со своим полком участвовал в походах в Силезию, Саксонию, Баварию, Францию, Пруссию. «В это время завязались у него близкие отношения с некоторыми видными деятелями той эпохи — ген. Н. Н. Раевским, М. Ф. Орловым и др.»23, — рассказывает его брат Андрей. Позднее он был прикомандирован к штабу четвертого корпуса, которым командовал генерал Н. Н. Раевский. «У Раевского и по службе Е. П. встречался со многими декабристами (кн. Трубецкой, Лорер, Поджио и др.), лечил их и был с ними в дружеских отношениях, хотя, принадлежа к старшему поколению, — по словам того же мемуариста, — не был посвящен в их планы»24.
Рудыковский оказал помощь Пушкину, когда в Екатеринославе поэта мучила жестокая лихорадка. Правда, Пушкин не слишком пунктуально выполнял медицинские предписания, но отношения между ними в период путешествия установились непринужденные. В своей заметке «Встречи с Пушкиным» Рудыковский вспоминал о забавном эпизоде в Горячеводске, когда поэт обозначил лекаря из свиты генерала Раевского в книге коменданта «лейб-медиком Рудыковским», а о себе записал: «недоросль Пушкин»25. Стихи, остроты сопровождали участников поездки. Лекарю, питавшему слабость к версификаторству, Пушкин адресовал строки, отмеченные мягкой иронией:
Аптеку позабудь ты для венков лавровых
И не мори больных, но усыпляй здоровых (т. 2, кн. 1, с. 142).
Сохранилось и шуточное четверостишие Рудыковского:
О Нарзан, Нарзан чудесный!.. С Пушкиным тебя я пил, До небес превозносил — Он стихами, а я прозой26.
Своих стихотворений Рудыковский никогда не печатал.
«Милостивый государь Афанасий Иванович! — писал он однажды начальнику четвертой дивизии А. Ф. Красовскому, с которым поддерживал во второй половине 20-х годов в Киеве дружеские отношения. — Услышавши ваше припоминание о старых моих и доселе еще у вас имеющихся произведениях, я из любопытства отыскал у себя некоторые из них уцелевшими и, погладивши их немножко от жесткостей, препровождаю к вам для замены прежних. Если же и новые вирши мои найдете не лучше прежних, то те и другие бросьте в камин»27.
Детство Рудыковского прошло в украинском селе, позднее он учился в Киеве — в бурсе и духовной академии, был направлен в Петербургскую медицинскую академию «с тем, чтобы по окончании наук возвращен, был обратно для преподавания, старшим ученикам медицинских лекций»28, большая часть его жизни прошла в Киеве. Не удивительно, что он, по словам автора посвященного ему очерка, «был прекрасно знаком с жизнью малорусского крестьянина и с народным языком».
Знание народной жизни и народной речи отразилось в стихах Рудыковского. Охотнее всего он писал по-украински. Его украинские стихи, по утверждению В. П. Щербины, относятся к середине 20-х годов и дают право «отнести Рудыковского к числу самых ранних представителей новой украинской литературы»30. Больше всего среди сохранившихся его литературных произведений басен, имеются сказки и песни, стихотворные бытовые зарисовки, послания к друзьям, а также пародия на «Наталку Полтавку».
Рудыковский обладал скромным поэтическим даром. Обычно он не касался значительных тем, хотя отдельные его произведения приобретают подчас социальную окраску. В этом плане любопытна басня, повествующая о том, как «в якомусь там селі, як водиться, прийшлось брать хлопців в москалі» и как вместо «злодія» — сына соцкого «у некрути» отправили единственного сына бедной вдовы Горлины31. Рудыковский проявляет интерес к народному слову и порой находит колоритные краски для передачи тех или иных наблюдений или житейских сентенций, как, например, в стихотворении «Жнива на гроші, або Заворожений клад»:
То тільки кропива та дурні (Як кажуть люди всі розумні) Несіяні ростуть32.
В стихах Рудыковского упоминаются села, расположенные близ Киева (Жуляни, Трипілля, Глеваха и т. д.). Иногда он ставит эпиграфы фольклорного толка, впрочем, не несущие особой смысловой нагрузки, как, например:
Хто скоро скаже нам казку,
Той од нас матиме бубликів вязку.
А як хто казку ту перебє,
Дурень вік буде на імє.
А хто не буде той казочки слухать,
Тому достанеться кия понюхать33.
Не чужд Рудыковский элементов бурлескной инструментовки повествования. Это легко проиллюстрировать, обратившись к записям и наброскам Рудыковского, хранящимся в Центральной научной библиотеке УССР. Здесь есть тексты, обозначенные началом 40-х годов, есть черновики на бумаге с водяным знаком «Гончаров», есть заметки, датированные 1837 годом. На одном из недатированных листов имеются стихи о том, как «любов Грицька з ума звела»:
Грицько позбувсь корів, волів
Для чорних Настенькиних брів,
Яка ж йому за теє дяка?
Зостався голий як собака34.
Стихотворение изобилует сравнениями типа «Туман стоїть у голові. Все як в порожньому хліві», оборотами речи вроде «смикнем горілки», «лиснем... запіканки» и т. п.
Мы не знаем, какие из стихов Рудыковского слышал Пушкин. Но и по стихам, написанным Рудыковским после 1820 года, можно получить известное представление об авторе, каким он был в дни совместного путешествия, — с его несомненным знанием украинского быта, украинского языка, осведомленностью в области тогдашней литературной жизни на Украине. Даже кратковременное общение с ним должно было оставить след в сознании поэта, полного творческих сил, жадно впитывавшего «все проявленья бытия». Какие-то черты Рудыковского всплыли в сознании Пушкина, когда в 1831 году его занимал замысел «Романа на кавказских водах». Исследователь планов и наметок, относящихся к этому неосуществленному замыслу, сближает фигуру врача, именуемого тут то Флобенко, то Хлопенко, то Хохленке, с личностью давнего знакомца Пушкина по южной поездке35.
На заседаниях «Зеленой лампы», в литературных кругах Петербурга Пушкин встречался с Аркадием Родзянко.
Аркадий Гаврилович Родзянко родился на Полтавщине в семье хорольского маршала дворянства. По соседству располагались имения В. В. Капниста и Д. П. Трощинского, с этими семьями у Родзянко установились дружеские отношения на многие годы. В 1818 — 1819 годах Родзянко служил прапорщиком в лейб-гвардии Егерском, затем подпоручиком в Орловском пехотном полку. В ту пору он испытал известное влияние «л ибер ал истов», чьи идеи получили значительное распространение в гвардии, общался с членами «Союза благоденствия». Родзянко рассказывал, как Пушкин демонстрировал в театре находившимся подле него лицам портрет Пьера Лувеля, убившего 13 февраля 1820 года в Париже герцога Карла Беррийского, возможного наследника французского престола, причем под портретом была сделана подпись: «Урок царям»36. В марте 1821 года Родзянко выходит в отставку и оседает в своем хорольском имении, продолжая время от времени печатать стихи в журналах и альманахах. Одновременно он пишет стихи, не предназначенные для печати, чаще фривольноэротические, но порой не чуждые и общественным темам. В списках получила распространение его сатира, в которой он задел Пушкина:
И все его права: иль два, иль три Ноэля, Гимн Занду на устах, в руках — портрет Лувеля.
Выходка Родзянко вызвала острую реакцию Пушкина. «Донос на человека сосланного есть последняя степень бешенства и подлости» (т. 13, с. 65), — возмущался он. Вскоре, однако, приятельские отношения между ними восстанавливаются. «Будет Родзянка-предатель — жду его с нетерпением» (т. 13, с. 67), — сообщает поэт из Одессы брату летом 1823 года. Через год, по пути с юга в Михайловское, Пушкин посетил Родзянко — от почтовой станции Семеновка (в 66 верстах от Кременчуга) «верхом, без седла, на почтовой лошади в хомуте» добрался до его имения я пробыл у него несколько часов37. Жившая по соседству в усадьбе своих родителей А. П. Керн рассказывает: «В течение шести лет я не видела Пушкина, но от многих слышала про него как про славного поэта и с жадностью читала «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», «Разбойники» и 1-ю главу «Онегина», которые доставлял мне сосед наш Аркадий Гаврилович Родзянко... Он был в дружеских отношениях с Пушкиным и имел счастье принимать его у себя»38.
«Поговоріїм о поэзии, т. е. о твоей, — полушутливо обращается к Родзянко Пушкин. — Что твоя романтическая поэма Чуп? Злодей! не мешай мне в моем ремесле — пиши сатиры хоть на меня, не перебивай мне мою романтическую лавочку. Кстати: Баратынский написал поэму (не прогневайся — про Чухонку), и эта чухонка говорят чудо как мила. — А я про Цыганку; каков? подавай же нам скорее свою Чуггку — ай да Парнас! ай да героини! ай да честная компания!..» (т. 13, с. 128 — 129).
Пушкин адресует Родзянко улыбчивые стихотворные строки:
Прости, украинский мудрец, —
именуя его здесь «наместником Феба и Приапа». В мае 1825 года Родзянко присылает Пушкину письмо, в котором, судя по началу, предполагал говорить о литературе, но далее свел все к рассказу о перипетиях своих отношений с А. П. Керн. «Прощай, люблю тебя и удивляюсь твоему гению» (т. 13, с. 171), — заканчивал свое письмо Родзянко. Пушкин отвечал стихами, выдержанными в приятельски-шутливом ключе:
Ты обещал о романтизме,
О сем парнасском афеизме,
Потолковать еще со мной,
Полтавских муз поведать тайны.
А пишешь мне об ней одной... (т. 2, кн. 1, с. 404).
Родзянко назван в пушкинском послании «Пироном Украйны». Пирон — французский поэт, драматург 18 века, автор сатирических произведений, в юности писавший фривольные стихи. Много лет спустя Т. Г. Шевченко назовет Родзянко «сальным стихоплетом» и внесет в дневник резкий отзыв о его «глупой эстетике и малороссийских грязнейших и глупейших стихах»39.
При упоминаниях об Аркадии Родзянко чаще всего подчеркивались эротические мотивы в его сочинениях. «Среди его стихотворений было много таких, — говорится в «Русском биографическом словаре», — которые не могли быть напечатаны, так как отличались фривольностью тем»40.
Аналогичная оценка отражена и в популярной дилогии И. А. Новикова: «Стихи вообще он писал весьма неприличные, что, впрочем, Пушкин легко извинял, — хуже гораздо, что стихи были плохие. Но в сущности этот толстяк был добряком и лежебокой, и был собутыльником веселой поры»41.
Подобный взгляд можно назвать односторонним.
Еще А. И. Белецкий отметил элементы общественно-политической оппозиционности, присущие Родзянко и отразившиеся, в частности, в стихотворении «На уничтожение имени малороссиян»42. Углубленное изучение материалов, в том числе ранее не известных архивных источников, позволило полнее осветить эту любопытную фигуру: «Перед нами литературный деятель эпохи декабризма, с постоянным и прочным тяготением к гражданской поэзии»43, — утверждает В. Э. Вацуро. Этот ученый, впервые опубликовавший полный текст сатиры Родзянко, из которой были известны лишь два стиха, связанные с Пушкиным, рассматривает ее как «интереснейший эпизод эволюции общественных идей, захватившей поэта декабристской периферии»44.
Разумеется, за несколько десятилетий Аркадий Родзянко мог и основательно поглупеть, и опошлиться, но в пору общения с Пушкиным он, по всей вероятности, был личностью неординарной.
Нас он интересует здесь как один из источников «информации» об Украине для Пушкина.
В русских стихах Родзянко, относящихся к 20-м годам, встречаются упоминания об Ильинской ромейской ярмарке, о литературных персонажах И. П. Котляревского и т. д. В обращении 1825 года к Михайловскому-Данилевскому Родзянко пишет:
Хорола житель — не Гораций;
Украина — не древний Рим!
Но и в приют моих акаций
Проложен путь мечтам благим!45
Наибольший интерес, пожалуй, в свете нашей темы может представить стихотворение Аркадия Родзянко, озаглавленное «После обеда в Трубайцах 20-го июля 1820 г.» и посвященное Илье Петровичу Капнисту. Упоминается здесь «хлопец», который «расскажет сказку, расскажет Палея поход». Но особенно примечателен портрет украинского кобзаря, зарисованный Родзянко:
Предстань теперь,
Поэт природной,
Слепец, козацких стран Омир,
На релях песнию народной
Порадуй холостой наш пир!
Как твой напев душе понятен!
Он слуху жадному приятен,
Как старины волшебный глас,
Свободы звук малороссийской!..
Быть может, звук сей, сердцу близкой,
Мы слышали в последний раз!
Пой, старец! — иль наливки чаркой
Ослабши силы подкрепи!
Представь нам в славе дико-яркой
Отважных витязей степи!
Напомни мирны их забавы,
Их добры души, добры нравы,
О вечерницах не забудь;
Пленясь родным воспоминаньем,
Нам сладко под твоим бряцаньем,
О бард украинский, заснуть!46
Весьма любопытно и примечание, которым автор снабдил в рукописном альбоме цитируемое стихотворение: «Число этих слепых певцов в 1820-м году было чрезвычайно мало в Малороссии, может быть, три или четыре, а теперь (в 1838-м) чуть ли не совсем они вымерли, и поселяне вместо казацких уже поют часто русские песни, по крайней мере, я и знакомые мои с 1820 года не слышали ни одного слепца, напевающего о Богдане, Дорошенке и прочих, о битвах с татарами, поляками и грозных разъездах по Черному морю»47.
Уместно отметить тут, что украинскую речь и украинскую песню Пушкин мог слышать и в ближайшем окружении А. П. Керн.
М. И. Глинка, как известно, был великолепным знатоком не только русской, но и украинской песни. В научной литературе отмечалось, что интерес к украинскому фольклору особенно ярко проявился у него в конце 1820-х годов, и в частности в пушкинском окружении. Так, на музыкальных вечерах у А. П. Керн Глинка в присутствии Пушкина иногда импровизировал на темы украинских народных песен 48.
Из дневника А. В. Никитенко известно, как летом 1827 года он познакомился у А. П. Керн с Пушкиным. Двадцатидвухлетний студент был увлечен молодой женщиной, которая в свое удовольствие кокетничала с ним, но предпочла ему поэта. В дневниковой записи, сделанной спустя месяц после встречи с Пушкиным в доме А. П. Керн, Никитенко рассказывает о прогулке в «сад герцога Виртембергского»: «Народу было множество. В двух местах гремела музыка. Но мне гораздо приятней было слушать малороссийские песни, которые пела сестра г-жи Керн по нашем приходе с гулянья. У нее прелестный голос, и в каждом звуке его чувство и душа. Слушая ее, я совсем перенесся на родину, к горлу подступали слезы...»49 Знакомство и встречи Пушкина с Елизаветой Петровной Полторацкой во второй половине 20-х годов в Петербурге удостоверяют воспоминания А. П. Керн, дневник А. Е. Вульфа. К началу 1829 года относится пушкинское четверостишие, обращенное к ней. Керн рассказывала: «Он раз пришел ко мне и, застав меня за письмом к меньшей сестре моей в Малороссию, приписал в нем:
Когда помилует нас бог, Когда не буду я повешен, То буду я у ваших ног, В тени украинских черешен» 50.
Неизмеримо более значительное явление в судьбах пушкинской «украиники» знаменовали страницы, связанные с Рылеевым.
И. Я. Франко в статье «Южнорусская литература» отмечал, что некоторые великорусские писатели используют украинские сюжеты для выражения свободолюбивых и гуманных идей. В качестве примера Франко указывает на поэмы Рылеева, «Полтаву» Пушкина. Но украинские сюжеты для воплощения свободолюбивых и гуманных идей Рылеев начинает разрабатывать еще до своего обращения к эпическим полотнам.
На одном из заседаний Вольного общества любителей российской словесности в конце 1821 года Рылеев читал думу «Богдан Хмельницкий». Участники заседания «избрали» думу к публикации в журнале «Соревнователь просвещения и благотворения». Дума «Богдан Хмельницкий», написанная еще не окрепшей рукой поэта, была первым произведением Рылеева, созданным на украинском материале. Молодой автор не избежал тут некоторых художественных издержек, но принципиальный интерес представляет выбор темы и поэтическое осмысление фактов из истории Украины.
В образе «вождя-героя» автор стихотворения выделяет патриотические, гражданские черты. Выдержанные в приподнято-романтическом плане, строки начального монолога Хмельницкого наполнены значительным социально-этическим содержанием — мыслями о судьбе родины, о свободе. От горькой думы, что «страна родная» еще долго «пребудет жертвою врагов», мрачнее становится чело «грозного и угрюмого» узника; он мечтает «бурей грянуть» на «притеснителей-врагов», исполнен решимости расквитаться с «тираном родной страны» и за личные оскорбления, и за «кровь пролитую, за слезы и жен и старцев и сирот».
В бой под Желтыми Водами он ведет всех, «кто рабству смерть предпочитает, кому всего дороже честь»51.
Пушкину, как известно, рылеевские думы не нравились: в большей части их он отмечал схематизм, композиционное однообразие, различные отклонения от исторической правды.
«Рылеева Войнаровский — несравненно лучше всех его Дум, слог его возмужал и становится истинно повествовательным, чего у нас почти еще нет» (т. 13, с. 84 — 85), — пишет Пушкин А. А. Бестужеву в январе 1824 года. «С Рылеевым мирюсь, — подтверждает он спустя некоторое время в письме к брату, — Войнаровский полон жизни» (т. 13, с. 87).
«Жду Полярной звезды с нетерпением, знаешь для чего? для Войнаровского, — сообщает он Рылееву в начале 1825 года. — Эта поэма нужна для нашей словесности» (т. 13, с. 134). «Очень знаю, что я его учитель в стихотворном языке, но он идет своею дорогою, он в душе поэт, — говорит Пушкин о Рылееве в мартовском письме 1825 года к А. А. Бестужеву. — Жду с нетерпением Войнаровского и перешлю ему все свои замечания. Ради Христа! чтоб он писал — да более, более!» (т. 13, с. 155). «Войнаровский мне очень нравится. Мне даже скучно, что его здесь нет у меня» (т. 13, с. 174), — признается Пушкин брату через несколько недель в письме из Михайловского. Пушкин одобрительно отзывается относительно «замашки или размашки» в слоге Рылеева и замечает: «У него есть какой-то там палач с засученными рукавами, за которого я бы дорого дал» (т. 13, с. 184). Палач, отсекающий голову Кочубею и Искре, мерещится в поэме Рылеева Мазепе пред смертью: совесть гетмана-предателя запятнана, свою жизнь он заканчивает то «трепеща и цепенея» от ужаса и страха, то впадая в беспросветную тоску. Эпизод тонко мотивирован психологическим состоянием персонажа.
Не все импонировало Пушкину в поэме Рылеева. Автор «Войнаровского», как и в большинстве дум, еще не стремится проникнуть в истинный смысл изображаемых исторических событий и наделяет действующих лиц собственными мыслями, чувствами, убеждениями.
«Думаю, ты уже получил замечания мои на Войнаровского, — писал Пушкин Рылееву в мае 1825 года. — Прибавлю одно: везде, где я ничего не сказал, должно подразумевать похвалу, знаки восклицания и проч. Полагая, что хорошее писано тобою с умыслу, не счел я за нужное отмечать его для тебя» (т. 13, с. 175). К сожалению, эти замечания не сохранились, но многое в поэме «Войнаровский», как об этом можно судить по ряду высказываний Пушкина, нравилось ему, отвечая насущным задачам и наиболее плодотворным тенденциям литературного развития. «Войнаров-ский» должен был активизировать внимание Пушкина к Украине, ее истории и народной поэзии.
В этом плане представляют большой интерес «Примечания» к «Войнаровскому». Автограф «Примечаний», как известно, не найден. Даже если Рылеев и не был их автором, то составлялись они, несомненно, с его ведома; поэт, нужно думать, сам определил, что именно требует пояснения, и внес свои коррективы. Достоверно, наконец, и то, что подготовленные «Примечания» поэт санкционировал и принял — авторизовал.
В «Примечаниях» обстоятельно разъясняется ряд слов и понятий, связанных с украинской историей и украинским бытом: курень, курганы, гайдамак и т. д. При толковании слова ватага автор «Примечаний» дает ссылку на И. П. Котляревского. В пояснении к слову толокно рассказывается, что украинцы в «дальних своих походах, как ныне в чумакованьи, то есть в поездках за рыбою и солью», запасшись крупами, останавливаются обозом в поле, «разводят огонь и всем кошем, то есть артелью», варят кулиш. Кто едет осенней ночью по степям южной Украины, «тому часто случается видеть несколько таких огней, мелькающих как звездочки в разных расстояниях на гладкой необозримой равнине» (с. 224). Строки эти отмечены поэтической интонацией и согреты теплой симпатией.
Итак, «Примечания» к поэме «Войнаровский» — дополнительное свидетельство внимания, доброжелательства и сочувствия Рылеева к Украине.
Отнюдь не в идиллически-безмятежном ключе интерпретируется украинская тема и в поэме «Наливайко». Как известно, Рылеев не успел завершить работу над этим произведением. Три отрывка были напечатаны автором в «Полярной звезде» на 1825 год, в бумагах поэта сохранился ряд эпизодов, некоторые из которых (как, например, «Сон Жолковского») отличаются большой социально-психологической емкостью и художественной энергией. О том, как широко и многопланово была задумана поэма, какой значительной намечалась ее общественно-политическая и художественная проблематика, можно судить по сжатому проспекту содержания, набросанному автором. Программа эта поистине знаменательна: «Сельская картина. Нравы Малороссии. Киев. Чувства Наливайки. Картина Украины. Униаты. Евреи. Поляки. Притеснения и жестокости поляков. Смерть Косинского. Смерть старосты. Восстание народа. Наливайко-гетман. Новые жестокости поляков. Поход. Сражение. Тризна. Мир. Лобода и Наливайко в Варшаве. Казнь их. Эпилог» (с. 439). Как видим, любимый рылеевский герой — патриот и тираноборец — должен был действовать в просторной исторической перспективе. Он возглавляет народное восстание. В поэме предполагалось многогранное и живописное изображение народной жизни в наиболее существенных ее проявлениях, в острых социальных конфликтах.
Жизнь Рылеева была насильственно прервана. Остались неосуществленными многие художественные идеи. Большая часть нереализованных и незавершенных творческих замыслов Рылеева связана с историей Украины. Один из отрывков — «Палей», — опирающийся на поэтику украинских народных дум и исполненный стремительного движения, произвел благотворное впечатление на Пушкина. «По журналам вижу необыкновенное брожение мыслей; это предвещает перемену министерства на Парнасе, — говорит он с улыбкой в письме к брату в начале 1825 года. — Я министр иностранных дел, и, кажется, дело до меня не касается. Если Палей пойдет, как начал, Рылеев будет министром» (т. 13, с. 143).
Не исключена вероятность, что после гибели Рылеева Пушкину стало известно и о трагедии «Богдан Хмельницкий», начатой поэтом-декабристом незадолго до восстания.
Уместно напомнить также о некоторых дополнительных свидетельствах интереса и симпатии Рылеева к Украине. Это и статья его об Острогожске, в которой подчеркнуто вольнолюбие украинского населения. Автор ее отмечает, что на острогожских землях долго не было крепостных, что украинских крестьян Екатерина II «прикрепила» к помещикам лишь в конце XVIII столетия. «Но прикрепленные к земле малороссияне по сие время называют себя только подданными, как бы в отличие от крепостных, коих они зовут и дразнят крепаками» (Рылеев К. Ф. Поли. собр. соч. М.; Л., 1934, с. 298 — 299). Это и письмо к Н. А. Маркевичу, написанное за два месяца до восстания и содержащее взволнованное признание Рылеева: «Я русский, но три года жил на Украйне: мало для себя, но довольно для того, чтобы полюбить эту страну и добрых ее жителей» (Лит. наследство, 1954, т. 59, с. 153). Это и внимание к Г. В. Сковороде и П. П. Гулаку-Артемовскому, подтверждаемое рылеевским планом «Исторического словаря русских писателей» (Лит. наследство, 1954, т. 59, с. 302, 309).
Встречи и переписка с Рылеевым, его трагическая и героическая судьба получили ощутимый отклик в сознании Пушкина. В 1826 — 1829 годах он создает сюиту портретов Рылеева. В пушкинских рукописях обнаружено девять зарисовок, воспроизводящих внешний облик Рылеева (помимо пяти рисунков виселицы с повешенными руководителями восстания). Мысль Пушкина неотступно возвращалась к событиям 14 декабря, фигура Рылеева вновь и вновь возникает в его сознании: только этим объясняется многократное варьирование рисунка. Из зарисовок Пушкина Рылеев предстает, по словам ученого, специально изучавшего пушкинскую иконографию, внешне неказистым человеком с волевым лицом, «со страстным, острым взглядом». Обобщая свои наблюдения над портретами Рылеева в пушкинских бумагах, Т. Г. Цявловская восклицает: «Как близко должен был знать Пушкин этого молодого литератора до своей ссылки!»52.
Можно не сомневаться в том, что, несмотря на несовпадение некоторых идейно-эстетических представлений и оценок у обоих поэтов, обращения Рылеева к украинской теме не прошли бесследно для Пушкина. Речь должна идти и об общей атмосфере симпатии к краю, природе, народу с его языком, песнями и «преданиями», и о сосредоточенном интересе к бурным и героическим страницам истории украинского народа, и — главным образом — об опыте постановки на украинском материале важной социальной, этической, художественной проблематики.
Личность Н. А. Маркевича в связи с Пушкиным привлекла в свое время внимание В. И. Маслова, обратившегося к изучению архивных материалов. В одном периферийном издании он поместил в 1929 году биографический очерк о Маркевиче53. Спустя четверть века на Шестой Всесоюзной Пушкинской конференции (Ленинград, 1954) В. И. Маслов выступил с докладом «Пушкин в записках Н, А. Маркевича». К сожалению, полный текст доклада в печати не появился. Из отчета о конференции можно получить лишь самое общее представление о его содержании.
Рассматривая «Записки», датированные на заглавном листе 1845 годом и охватывающие годы учения Маркевича в Петербургском университетском пансионе (1817 — 1820), докладчик отмечал, что «имя Пушкина часто встречается на страницах этих «Записок», что «Пушкин изображен в «Записках» до ссылки на юг», что «Маркевич говорит об известности Пушкина, о популярности его стихотворений и особенно вольнолюбивой лирики», о его «пылком, довольно необузданном, но благородном, любящем нраве», о «его находчивости, остроумии, безбоязненности». При этом ученый предостерегал: «Приводимые Маркевичем факты, впрочем, не всегда подтверждаются документальными данными и мемуарами других современников»54.
В том же 1954 году в томе «Литературного наследства», посвященном декабристам-литераторам, печатаются воспоминания Н. А. Маркевича о встречах с Кюхельбекером в 1817 — 1820 годах. Некоторые отрывки из «Записок» весьма интересны в свете нашей темы. Это прежде всего относится к следующей записи Маркевича: «На одной из станций, едучи в Малороссию, опрокинувшись, я часть бумаг потерял; там погибли списки его сочинений, не могущих быть напечатанными. Две пьесы из красной книги, подарок Пушкина, уцелели. Они вклеены мною в альбом»55. Речь идет о стихотворениях «К Каверину» («Забудь, любезный мой Каверин...») и «Ответ на вызов написать стихи в честь государыни имп. Елизаветы Алексеевны» («На лире скромной, благородной...»). В комментариях Н. Г. Розенблюма к «публикации отмечается: «Наличие стихотворений в архиве Маркевича подтверждает достоверность его воспоминаний»56.
О тех же пушкинских Текстах идет речь и в извлечениях из заметок Маркевича, приведенных Е. М. Косачевской: «При -прощании с Пушкиным я получил от него в подарок на память несколько пьес в стихах, он вырвал их для меня из своей красной книги» 57.
Вероятно, Маркевич знал (возможно, от самого поэта) о распространившихся в столице слухах относительно предполагаемой ссылки Пушкина в Испанию. В статье Е. М. Косачевской цитируется отрывок из записок Маркевича: «Меня венчанный солдат хочет кинуть в омут революции, где, думает он, я шею себе сверну, — говорил мне Пушкин, — но он крепко ошибается: я сверну шею Фердинанду, научусь по-испански и стану испанцем в душе»58. Абсолютная достоверность этой тирады в передаче Н. А. Маркевича сомнительна. Но нет оснований сомневаться в том, что в те дни (в феврале 1820 года) отношения между поэтом и юным Маркевичем были достаточно теплыми.
Свидетельства Маркевича о встречах с Пушкиным в ту пору цитируются также в книгах о М. И. Глинке (будущий композитор был однокашником Л. С. Пушкина и Н. А. Маркевича по Благородному пансиону при Петербургском университете, где поэт бывал в 1818 — 1820 годах) и в некоторых других работах. Так, В. Э. Вацуро в статье о стихотворении В. И. Туманского «Священный союз народов» среди других извлечений из рукописи Маркевича приводит такие строки: «Я застал уже, что мысль о свободе и конституции была в разгаре. Кюхельбекер ее проповедовал на кафедре русского языка. А. С. Пушкин написал свою оду «Вольность», другую пьесу — «Кинжал», «Деревня». Все это я имел через Кюхельбекера и через Льва Пушкина»59.
Сохранился подробный план воспоминаний Н. А. Маркевича, осуществленный им лишь частично. В плане кратко обозначены разнообразные факты из минувшего и пережитого. Подавляющее большинство помет в этой схеме связано с определенными происшествиями, встречами, ситуациями, для воскрешения которых в памяти мемуариста достаточно было иногда какой-либо одной подробности, географического названия, отрывочной реплики или какого-то имени, экспрессивного восклицания. Каждая такая помета должна была служить в одном случае своеобразной точкой опоры, в другом — ассоциативным толчком для восстановления тех или иных эпизодов из биографии автора и его близких, больших и малых событий общественной жизни, участником или свидетелем которых он был. Сопоставление «пунктов» плана с текстом «Записок» в реализованной части задуманного дает представление о том, как развертывал автор каждую помету своего проспекта. Любопытно, что в качестве многих «опорных пунктов» в схеме-проекте мемуаров Маркевича встречаются украинские записи типа:
А за комору; На тобі, небоже, що мені негоже;
Нащо він мене пхнув;
Сударочка моя вельми гарна;
Грай! Танцюй, Петре! Танцюії до поту;
Не кажи, що я збрехав и т. д.60
Некоторые пометы связаны со знаменательными явлениями социальной действительности и сигнализируют о фактах и событиях большого общественного значения. В тетради, на титуле которой обозначены 1821 — 1823 годы, имеются, например, такие строки: «Карбонарии. Масоны. Брожение умов в России. Казнь стариков в Черкассах. Казнь в поселениях Харьковских. Подписка об обществах. (...) Бунт Семеновцев. Шварц. (...) Доброта Витгенштейна» и т. д.61
Еще больше записей, связанных с бурными общественно-политическими событиями эпохи, содержит тетрадь, датированная 1824 — 1825 годами. Вот одна из них: «Присяга Константину. Присяга Николаю. Я выкладываю на стол все письма. Двусмысленное письмо к Давыдову. Письмо ко мне Рылеева» 62. Вот некоторые пометы, отражающие выступление на Сенатской площади и события, последовавшие за восстанием: «Бунт 14 декабря. Зеленая книга. Заговоры»; «Пестель»; «Сожжение бумаг». «Шитые революционные знамена. Вас[илий] Льв[ович] Давыдов. Рылеев. Письмоего к жене. Дважды повешенные»; «Список заговорщиков под подушкою Александра»; «Кюхельбекер пойман в Варшаве»; «Ижорский. Кюхельбекер исчезает и забыт. Марлинский. Адъютанты Витгенштейна»; «Виселица в Василькове»; «Федор Глинка в Финляндии. Трубецкая хочет ехать с мужем» 63.
Имя Пушкина в схеме-конспекте Маркевича встречается многократно. Тут находят отголосок и версии, закрепленные молвой, и факты, идущие «из первых рук», в той или иной степени соприкасающиеся с биографией самого мемуариста. Приведем несколько примеров: «Его стихи. Лев Пушкин и я»; «Царь и Пушкин на Невск[ом] проспекте»; «Ода Свобода, Кинжал, Деревня. Святочные вирши. Прощанье с Пушкиным. Его подарок мне»; «Холоп венчанного солдата»; «Четыре песни Руслана и Людмилы и начало пятой»64; «Пощечина. Аплодисмент. Пушкин»; «АЬ, рагбоп!» — Пушкин»65; «Споры о Жуковском, Державине и Пушкине. Появление Руслана и Людмилы»66. В плане встречаются подчас обозначения, за которыми, нужно полагать, скрыто весьма значительное содержание, как, например, одна строка проспекта в окружении помет о «бунте 14 декабря»: «Гр. Ст. жжет мою тетрадь Пушкина» 67 — или следующая запись, относящаяся к апрелю 1821 года (Н. А. Маркевич служил тогда в Курляндском драгунском полку): «Поездка из Романькова. Кременчуг, Полтава». «Шабель не вымайте»; «Киев. Пещеры. Раевский»; «Квитка и Арсений»68; «Стеблов. Белая Церковь. Каменка. Давыдовы Алек, и Вас. Львовичи. Раевский генерал. Старушка Нат. Никол. Глухота. Вины и стол. А. Пушкин. Масонство. Испания. Король и кортесы. Смело»69.
Пометы в тетрадях последующих лет показывают, что Маркевич предполагал осветить также ряд фактов личной и творческой биографии Пушкина второй половины 20-х годов. Так, одна из записей на листе, помеченном «1829, Москва», содержит перечень имен: «Пушкин Александр]. Пушкин Вас[илий] Льв[ович]. Мицкевич. Полевой
Ник[олай] Алексеевич]. Ксенофонт. Наталья. (...) Баратынский Ёвг[ений] Абрамович]. (.„)• Нащокин. Максимович Мих[аил] Александрович]»70. Другая заключает в себе несколько сюжетов: «Вечер у Вас[илия] Льв[овича] Пушкина. (...) Дядя и племянник поэты. (…) Любовь Пушкина к Гончаровой. Прогулка с ним по бульвару. Встреча у него с Нащокиным. Отзыв его о моем Дон-Жуане. Эпиграммы на Каченовского. Эпиграммы на Полевого. Поэма Полтава. Наш смех над Башиловым, которой] увивается возле дам. Пушкин его передразнивает. Знакомлю Вас[илия] Васильевича] Кочубея с Пушкиным»71.
В «развернутой» части .плана «Записок» представляют безусловную ценность страницы, воссоздающие биографически достоверные эпизоды, основанные не на «слышанном», а на непосредственно виденном и пережитом мемуаристом. Так, в период совместного с Львом Пушкиным и С. А. Соболевским учения в Благородном пансионе при Петербургском университете Н. А. Маркевич близко сошелся с преподававшим словесность В. К. Кюхельбекером. Интересны его рассказы о посещениях Кюхельбекера («Между днями моего выхода из пансиона и моего выезда из Петербурга», — как пишет Маркевич). «Дельвиг, Баратынский, А. Пушкин съезжались к нему по вечерам, и это были превеселые часы. В прелестных стихах и умных критиках недостатка не было»72. В другом месте автор «Записок» говорит о Дельвиге: «Как теперь вижу барона Антона Антоновича в бельведере у Кюхельбекера вместе с Баратынским и Пушкиным... После мы с ним часто виделись в пансионе, у Пушкина, у Кюхельбекера». В третьем месте находим такую запись: «Часто во время классов пения и танцевания мы, как неучастники, исчезали тайно из стен нашей тюрьмы, ходили и ездили в кондитерские или к Ал. Пушкину и возвращались к девяти часам».
В пушкинской биографической литературе заняло свое место следующее свидетельство Н. А. Маркевича: «Александр Сергеевич Пушкин жил в доме своего отца над Фонтанкою. К нему и прежде выхода моего из пансиона ходил я иногда тайком, ускользнув во время классов пения. В дни моей свободы, т. е. от 1 февраля по 20-е 1820 года, я у него бывал почти ежедневно»73.
Итак, Маркевич встречался с Пушкиным в 1818 — 1820 годах. В период пребывания Пушкина в ссылке Маркевич продолжает внимательно следить за творчеством поэта (так, например, в ноябре 1825 года он писал из своей деревни Туровка, Прилукского уезда, Полтавской губернии в Москву С. А. Соболевскому: «Теперь я б тебя просил отдать списчику переписать для меня Гаврилиаду, соч. А. Щушкина]. Мне очень бы хотелось иметь это сочинение»74), общение их возобновляется в 1829 году.
Маркевич хорошо знал Украину, где прошло его детство. Мы упоминали уже о «пунктах» мемуарного конспекта Маркевича, в которых он использует украинские выражения, присловья, песенные формулы. Украинское слово часто звучит и в тексте реализованной части конспекта. Вот как, например, автор «Записок» рассказывает о Н. М. Халанском, который любил говорить «нараспев»:
Мы люде старый, Мы люде сырыи, Нащо нам учыться? Нам треба женыться, Нам треба люльку курыть75.
С симпатией вспоминает мемуарист о своей няне. «Бабуся» говорит по-украински. В «Записках» колоритно воспроизводятся ее экспрессивные монологи: «Сестра твоя була розумна, а ты... Звиняйте, ваше сиятельство!», «Та була й добра, й розумна, а ты, ваше сиятельство... Пху!»76
В схеме-конспекте и «Записках» перечисляются и многократно повторяются многие украинские города, местечки, села, реки, где бывал Маркевич: Чернигов, Лубны, Чигирин, Кременчуг, Софиевка, Шпола, Ромейская ярмарка, Качановка, Яготин, Золотоноша, Днепр, Рось и т. д. и т. п.
В своих «Записках» Н. -А. Маркевич упоминает о послании Дельвига Пушкину «из Малороссии». Послание это, вспоминает он, ему «весьма нравилось уже тем одним», что написано с Украины. Он цитирует наиболее импонирующие ему строки, сопровождая их замечанием: «Все это было взято с натуры Чорнобривым, как называли наши поселянки Дельвига»77.
О том, как хорошо владел Маркевич украинским языком, может свидетельствовать страница «Записок» о пьесе А. Шаховского «Казак-стихотворец». Комедию эту мемуарист считает «глупой». Особенно возмущает его несуразная имитация украинской речи в водевиле Шаховского. «Не зная языка, писать на нем стихи может только безмозглый шалоброд», • — негодует автор «Записок», приводя далее примеры неправильного употребления украинских оборотов, искажений украинской лексики и противоестественного совмещения русских и украинских речевых элементов: Вы, коники вороненьки, Несить да гуляй; Да ви разви его бачили; Им я без вкуса, Вовсе не пью; Гей, гей, паненько, Быть тут бидам и т. п.78
Любопытно, что такую же реакцию вызвала пользовавшаяся большой популярностью в те годы пьеса Шаховского у Гулака-Артемовского, у Т. Г. Шевченко.
Интерес Маркевича к Украине, к ее истории, языку, преданиям не был дилетантским. Подтверждением тому могут служить и многолетнее собирание и изучение им документов из прошлого Украины, и его работа над украинско-русским словарем. В бумагах Маркевича сохранились систематизированные записи, охватывающие лексический материал на три начальные буквы алфавита. Приводя примеры словоупотребления, Маркевич обильно использует фольклорные источники. Привлекаемые им в качестве иллюстраций поговорки, присловья, народнопесенпые формулы свидетельствуют и о серьезной лингво-фольклористической эрудиции автора, и о присущем ему тонком ощущении живого украинского языка. Он умеет ценить пословичную меткость и емкость народной речи: мнеть як гостець бабу; багатому чорт діти колише, а вбогий і няньки не найде; овечку стрижуть, а баран дрижить; береженого бог береже, а козака шабля стереже; добре було Лизаветі сидіти на банкеті, да не було смачно сидіти по бешкеті79. Он выделяет острое и выразительное слово, запечатлевшее этические представления народа: Ні до плуга, ні до рала, а до шинку боса драла; брехати не ціпом махати и т. п. Обращает внимание на экспрессивные и живописные фразеологизмы типа хай йому абищо80. Встречаются тут словосочетания, популярные и в современном поговорочном репертуаре (не мала баба клопоту, купила порося; баба з воза, кобилі легше), и выражения, связанные с конкретными биографо-географическими обстоятельствами (славный був бандуристий у Туровці81). Часты ссылки на украинскую народную песню:
А в сусіда хата біла;
Ой, там, за байраком;
Дощ іде, роса пала на білу березу;
Ой, де ж твої,
Не-чаїньку, сукні, блаватаси82 и т. д.
В конце 1829 года, года выхода в свет «Полтавы» и яростной журнальной полемики о поэме, «Московский телеграф» (этот журнал активно участвовал в критических баталиях, опровергая булгаринские наветы на Пушкина) поместил два стихотворения Маркевича («Сон-трава», «Удавленник»), Публикация сопровождалась редакционным примечанием, в котором подчеркивалось, что в предлагаемых читателю произведениях отражаются «поэтические суеверия, предрассудки малороссиян, их исторические народные воспоминания и домашний быт». «Будучи отличным музыкантом, автор приноровил размеры каждой из своих баллад к какому-нибудь известному малороссийскому напеву, — добавляет Николай Полевой. — С истинным удовольствием слушали мы опыты г-на Маркевича, совершенно в новом для русской литературы роде стихотворений, и просили его предварительно познакомить посредством Телеграфа публику с украинскими мелодиями. Он намерен издать их особою книжкою, вместе с нотами»83.
«Особая книжка» была издана в 1831 году. «Украинским мелодиям» Маркевич предпослал содержательную статью. Предисловие это обращает на себя внимание. В нем отмечается интерес к Украине со стороны русской общественности. Но этого, как считает автор книги, совершенно недостаточно: Украина, ее легенды и сказания, ее природа, ее история, ее песни заслуживают, по убеждению Маркевича, неизмеримо большего. «Объездив Малороссию из конца в конец не в одном направлении, стоявши с полками не в одном месте, родившись в ней, имея в ней всех родных, собственность и наконец зная здешний язык, — заявляет Маркевич, — я предпринял описание — в нравственном и живописном смысле — Малороссии»84.
Несколько раз в предисловии упоминается имя Пушкина. Автор «Мелодий» относит его к «великим творцам», которые «шли своим путем», «новые стези прокладывали». Именно они, эти «великаны», по выражению Н. А. Маркевича, подали ему «мысль описать предания, обычаи, обряды, исторические происшествия, поверья и красоты видов Малороссии в мелких отрывочных пьесах, приноравливая каждую из них к напеву малороссийских песен»85.
Автор предисловия говорит о прошлом Украины, посвящая несколько страниц Богдану Хмельницкому, о ландшафтах Украины, о поэтических представлениях украинского народа. С подъемом рассказывает он о народных певцах-кобзарях. «Вдохновенным песням его внимает очарованный и от рождения музыкальный слух малороссиянина; для него бандурист есть лицо священное, ибо бандурист поет ему...» Маркевич передает содержание ряда украинских народных песен, подчеркивая их красоту, самобытность и образную энергию. «Вот истинная поэзия, за то ее вполне чувствуют»86, — восклицает он.
Ни в предисловии, ни в самих «Мелодиях» нет речи о социальных антагонизмах, об освободительных устремлениях и освободительной борьбе украинского народа; тем не менее некоторые существенные стороны жизни народа, некоторые черты его духовного облика получили здесь правдивое выражение. «В «Украинских мелодиях» Маркевича, — отмечается в современном коллективном труде о литературе и фольклоре, — фольклоризм выступает в своей простейшей форме — копирования или простого пересказа народного поверья или народной думы, насыщения произведения этнографическими сведениями»87. Но и при этом «Украинские мелодии» способствовали популяризации мотивов и образов украинского фольклора, поэтических представлений украинского народа.
В. А. Жуковский, благодаря Н. А. Маркевича за присланную книгу, советует ему в письме от 24 февраля 1834 года «продолжать идти» избранным путем: «Вы обогатили свои Мелодии весьма любопытными примечаниями, кои доказывают, что с поэтическим талантом имеете вы и трудолюбие собирателя». Жуковскому «даже кажется, что из одной работы» Маркевич мог бы сделать две: во-первых, «поэтическое обрабатывание народного», во-вторых, собирание «этого народного» в его подлинном виде и «издание оного в оригинале с буквальным русским переводом или, по крайней мере, с полным словарем»88. Жуковский, как это следует из его тактичного обращения к автору «Мелодий»,- по-видимому, склонен был отдавать предпочтение второй «работе». Маркевич, по собственному признанию, тогда же начал приводить этот совет в исполнение, расширяя и углубляя свои занятия по сбору разнообразных документальных, этнографических и фольклорных источников. В результате этих занятий на протяжении десятилетия после «Украинских мелодий» он подготовил к изданию пятитомную «Историю Малороссии», ценную, согласно суждениям современных историков, главным образом, документами и справочно-библиографическим аппаратом (тома 3 — 5). Пушкину не довелось познакомиться с «Историей» (она вышла в свет в 1842 — 1843 годах), но предварительный процесс разыскания и систематизации материала происходил при жизни поэта.
К Пушкину Маркевич продолжает относиться с неизменным интересом и уважением. В ряду важнейших источников, на которых основан «Большой исторический, археологический, литературный словарь Российского государства», составленный Н. А. Маркевичем (1834), названа «История Пугачевского бунта» А. Пушкина. В архиве Маркевича сохранился составленный им в 1843 году «Алфавитный регистр всех сочинений Пушкина с указанием страниц прежних и последнего изданий»89. Судя по секретной переписке между киевским военным, подольским и волынским генерал-губернатором и Киевским цензурным комитетом, отставной поручик Николай Маркевич в 1858 году среди других книг привез из-за границы «Собрание стихотворений Пушкина, Рылеева, Лермонтова и других лучших авторов», незадолго перед тем изданное в Лейпциге90.
Какие-то украинистические сведения Пушкин мог получить в общении с В. Туманеним — выходцем из старинного украинского дворянского рода, воспитанником Харьковской гимназии. «Здесь Туманский, — рассказывает Пушкин брату в августовском письме 1823 года из Одессы. — Он добрый малый, да иногда врет, — например, он пишет в Петербург письмо, где говорит между прочим обо мне: Пушкин открыл мне немедленно свое сердце и роrte-feuille — любовь и пр... — фраза, достойная В. Козлова; дело в том, что я прочел ему отрывки из Бахчисарайского фонтана (новой моей поэмы), сказав, что я не желал бы ее напечатать, потому что многие места относятся к одной женщине, в которую я был очень долго и очень глупо влюблен, и что роль Петрарки мне не по нутру. Туманский принял это за сердечную доверенность и посвящает меня в Шаликовы — помогите!» (т. 13, с. 67). В этих строках ощутимы основные акценты пушкинского отношения к Туманеному: сочетание определенной симпатии и явной иронии. Позднее они изредка обмениваются письмами. Судя по сохранившимся двум письмам Пушкина (1825 года из Михайловского и 1827 — из Москвы), в 1823 — 1824 годах в Одессе у них был общий круг знакомых, где они часто встречались. Через Туманского поддерживали связь с Пушкиным издатели «Полярной звезды». Можно привести красноречивые выдержки из их писем. Так, Рылеев осенью 1823 года писал: «Проси Пушкина, чтоб он нас не оставил. Без него Звезда не будет сиять»; «Милый Туманский, вижу, что прелестными пиэсами нашего парнасского чудотворца «Полярная звезда» обязана тебе»91. В январе 1824 года Пушкин сообщал А. А. Бестужеву: «Туманского вчера и сегодня не видел и письма твоего не отдавал» (т. 13, с. 85).
Пушкин просит Туманского прислать ему в Михайловское отрывок из «Путешествия Онегина», в котором, кстати, имеется шутливое упоминание о Туманском и об идиллическом изображении его «очаровательным пером» несуществовавших «садов одесских».
В марте 1827 года Туманский рассказывает Пушкину об одесских новостях, о богатом «негоцианте» Иване Ризниче — муже воспетой Пушкиным Амалии Ризнич, женившемся после ее смерти на младшей сестре Каролины Со-баньской — хорошо известной Пушкину светской красавицы (непосредственно причастной к политическому сыску). «В приданое за нее, — пишет Туманский, — получил Ризнич в будущем 6.000 черв., а в настоящем владимирский крест за услуги, оказанные Одесскому Лицею. Надобно знать, — замечает автор письма, — что он в Лицее никогда ничего не делал. Новая м-м Ризнич, — заключает Туманский, — вероятно, не заслужит ни твоих, ни моих стихов по смерти» (т. 13, с. 321).
В конце 20-х годов Пушкин встречается с А. И. Подолинским. Подолинский принимает участие в таких близких Пушкину изданиях, как «Северные цветы», «Литературная газета». 1827 годом датируется построенная на материале украинского народного быта, написанная стихами и прозой повесть Подолинского «Змей». В печати эта незавершенная повесть с подзаголовком «Киевская быль» появилась много десятилетий спустя. Основана она на забавном происшествии, будто бы действительно случившемся некогда в Киеве: гуляка-ткач пугает мать и жениха любимой девушки, являясь им в виде огненного змея. В повести нашли отражение отдельные черты городского украинского быта. Тут рассказывается, например, о том, как искусно дочь Иванихи Ульяна вышивала очипки — «головной убор малороссийских женщин», по разъяснению автора, и какой популярностью пользовались они у местных щеголих, которые «чаще просили позволения мужей поклониться угодникам печерским, а в сущности для того, чтобы наперехват раскупать нарядные очипки, вышитые Ульяною»92.
Любопытно, что в стихотворных вставках к повести «Змей» встречаются ссылки на роман «Евгений Онегин» такого, например, рода:
Я бы подробней описал
Тоску любви моей Ульяны,
Но тайны страсти рассказал
Певец пленительной Татьяны93.
В повести обильно приводятся отрывки из украинской народной поэзии, выдержки из украинских народных песен предваряют каждую из глав повести. Так, в качестве эпиграфа к первой главе даны строки из «малороссийской песни»:
Да вже ж мені не ходити
В ліски по орішки,
Да вже ж мені минулися
Дівоцькії смішки94.
ГЛАВА II
ДАЛЬНЕЙШИЕ КОНТАКТЫ
Пушкин был дружен с Алексеем Алексеевичем Перовским, выступившим в печати под псевдонимом Антоний Погорельскцй., Знакомство их (.состоялось еще в 1816 — 1820 годах. Перовский принял участие в журнальных спорах, вызванных «Русланом и Людмилой». 4 декабря 1820 года Пушкин в письме Н. И. Гнедичу из Каменки говорит: «Поэму мою, напечатанную под вашим отеческим надзором и [при] поэтическом покровительстве, я не получил». «Некоторые №-ра Сына», однако, доходили до Пушкина, и он прочитал «критики» на свою поэму. Пушкин высоко оценивает («благодарность и самолюбие в сторону!» (т. 13, с. 20 — 21) ответ на догматически придирчивый и мелочный разбор поэмы — автором ответа был А. А Перовский. «Воейков и Алексей Перовский батально ругаются за Пушкина», — сообщал А. И. Тургенев П. А. Вяземскому.
В конце 20-х и в 30-е годы Пушкин бывает у Перовского, они встречаются у Жуковского, ,в литературно-музыкальном салоне Михаила Виельгорского и т. д. В 1830 году их сближает «Литературная газета». Перовский был посвящен в перипетии пушкинской полемики с Булгариным. В Видоке из пушкинского памфлета современники признали Булгарина. Статья Пушкина обеспокоила его друзей. Елизавета Михайловна Хитрово писала П. А. Вяземскому: «Я только что узнала с большим огорчением, что статья о Видоке такого свойства, что она может повредить нашему общему другу. Перовский, который от меня только что вышел, — человек благоразумный, — мне повторил, что по дружбе к Пушкину он весьма бы желал, чтобы статья не появлялась в печати; самое незначительное последствие было бы, если Булгарин отвечал напечатанием новых писем. Я вам замечу, дорогой князь, что я во всем этом не понимаю равнодушия литературных друзей Пушкина... Я совершенно убита тем, что сказал мне Перовский»2.
Пушкину понравилась повесть «Лафертовская маковница». В марте 1825 года он писал брату из Михайловского: «Я перечел два раза и одним духом всю повесть. (...) Погорельский ведь Перовский, не правда ли?» (т. 13, с. 157).
В начале 1833 года Перовский присылает Пушкину две главы второй части романа «Монастырка» (первая часть вышла в свет в 1830 году).
Если упоминание писателя об Украине в книге 1828 года «Двойник, или Мои вечера в Малороссии» сугубо информативно, а «топографическая» справка, открывающая «Вечер первый» («В северной Малороссии — в той части, которую по произволу назвать можно и лесною, и песчаною, потому что названия эти равно ей приличны, — находится село П***»), скупа и лишена красок, то в романе «Монастырка», сочетающем в себе сентиментальную дидактику и традиционно-романтические штампы с реалистическими началами, убедительно запечатлено серьезное знакомство автора с «Малороссией». Это признает уже современная Погорельскому пресса. «Живость картин, верность описаний, счастливо схваченные черты нравов Малороссии и прекрасный слог»3 отмечала в «Монастырке» «Литературная газета», сообщая о предстоящем выходе романа. «Кто знает Малороссию не по слухам, тот отдаст должное наблюдательности и меткости автора»4, — писал критик «Северных цветов». «Молва» назвала «Монастырку» «приятным литературным явлением». Выставив ряд требований, «коим она не удовлетворяет», рецензент «Молвы» признавал: «Впрочем, описание малороссийского быта, составляющее раму повести, очень занимательно»5.
В наиболее обстоятельной из написанных поныне работ об авторе «Монастырки» подчеркивалось: «Для Малороссии Погорельский имеет особое значение как один из первых беллетристов, возбудивших к ней интерес, вскоре блистательно оправданный «Вечерами на хуторе» Гоголя»6. Н. Л. Степанов во вступительной статье к произведениям Антония Погорельского в современном издании напоминает, что «Монастырка» появилась в годы усилившегося интереса к быту и нравам народов, входивших в состав русского государства, и прежде всего интереса к Украине», и что Погорельский «учитывал этот интерес к Украине, к национальному колориту, возникший в период романтизма»7.
Действительно, в романе Погорельского нашли отражение черты украинского быта. Автор романа хорошо знает украинскую речь, порой он включает в текст произведения целые реплики на украинском языке, с тактом вводит в повествование украинизмы жито, шинкарка, чумаки и др. Романист выразительно запечатлел ненависть крестьян к помещикам. Особенно знаменательны страницы, на которых возникает тема («разбойника» Гаркуши. Вот какие очертания приобретает она в устах бесчестного и лживого, душевно ничтожного дворянина-крепостника: «Бывало, вдруг пронесется молва, что к такому-то помещику будет Гаркуша; откуда молва бралась — никто не знал, только никогда она не проходила даром. Что ж? И в голову никому не приходило готовиться к защите — сохрани бог! Что успеет бедный помещик забрать из лучших вещей, то в охапку, да и давай бог ноги. Ни души в доме не останется; а Гаркуша придет, выберет себе на просторе, что ему нужно, да и поминай как звали! Случалось иногда, что иной помещик сдуру даст знать о том земской полиции — и того хуже! Пока полиция собирается, а Гаркуша все-таки придет, ограбит да вдобавок еще зажжет дом со всех четырех углов»8.
В русской литературе 20-х — начала 30-х годов не было, пожалуй, другого писателя, который бы с таким постоянством разрабатывал украинские темы, как Орест Сомов. Об этом можно судить и по количеству опубликованных им произведений, и по их жанровым разновидностям (стихи, рассказы, повести, исторические были, предания, рецензии и т. д.), и по их содержанию. О Сомове писали С. Н. Браиловский, В. В. Данилов, в советские годы — В. Г. Базанов, М. К. Азадовский, В. В. Гиппиус, Н. К. Островская, Н. Н. Петрунина и др.
Наиболее обстоятельный очерк литературно-критического и художественного творчества О. М. Сомова принадлежит перу 3. В. Кирилюк. Не смещая исторических пропорций, автор книги устанавливает место Сомова в русском литературном процессе, высвечивает его деятельность в декабристской печати и в изданиях, близких к Пушкину, показывает своеобразие его позиции в формировании эстетики прогрессивного романтизма, в осмыслении и обосновании принципа народности, наконец, в развитии реалистических тенденций. Книга снабжена весьма ценной систематизированной библиографией произведений Сомова9.
Творческое внимание Сомова привлекает фигура Богдана Хмельницкого. В самом начале 20-х годов он пишет «Песнь о Богдане Хмельницком — освободителе Малороссии. (Подражание польской, сочиненной Леоном Рогаль-ским)». Подобно Ф. Н. Глинке и К. Ф. Рылееву, Сомов считает Хмельницкого «героем, бессмертным в отечественной истории» (определение Рылеева в примечании к журнальной публикации думы «Богдан Хмельницкий»).
Стихотворение Сомова созвучно гражданственной лирике эпохи. Его содержание и форма выдержаны в полном соответствии с эстетическим кодексом декабристов: оно обращено к «высокой» общественно-политической проблематике; яркие страницы прошлого призваны здесь служить провозглашению идей свободы и отчизнолюбия; в эмоционально-стилистическом строе произведения важную роль играет система лексем и фразеологизмов-«сигналов» типа
Други, к оружью!;
В жертву Отчизне за прелесть свободы;
С славою пасть иль сразить! и т. п.10
Украинец по происхождению, прекрасный знаток быта, нравов, поверий украинского народа, Сомов создал на этом материале множество произведений, пользовавшихся популярностью и в какой-то мере предварявших «Вечера» Рудого Панька. Правда, этнографически-описательный и фольклорно-иллюстративный элемент зачастую приобретает едва ли не главенствующее значение в повестях и рассказах Сомова. Это признает и сам автор. В одном из примечаний к «Сказкам о кладах» он говорит о своем стремлении «собрать сколько можно более народных преданий и поверий, распространенных в Малороссии и Украине между простым народом, дабы оные не вовсе были потеряны для будущих археологов и поэтов»11. Тем не менее автор этих повестей и рассказов сделал немало для формирования того творческого образа народной Украины, который утвердился в сердце и сознании русского читателя благодаря Гоголю.
К украинским темам Сомов-беллетрист обращался с неизменным постоянством, выступая часто в тех же изданиях, где печатался Пушкин и внимательным читателем которых Пушкин был многие годы, — например, в «Полярной звезде», «Соревнователе просвещения и благотворения», «Деннице», «Новоселье» и т. д.
Особо следует сказать о «Северных цветах» — одном из лучших альманахов эпохи. В современной научной литературе (монография В. Э. Вацуро «Северные цветы» (М., 1978), «Северные цветы» на 1832 г.», изданные в серии литературных памятников с обстоятельной статьей и комментарием Л. Г. Фризмана) прослежена история альманаха, убедительно показана роль Пушкина в нем, раскрыто его значение в русской литературной жизни. Творчество Пушкина богато представлено в каждой из восьми вышедших в 1825 — 1831 годах книжек. Тут помещены его многочисленные стихотворения (среди них — «Песнь о вещем Олеге», «Подражания Корану», «19 октября», «Я помню чудное мгновенье», «Не пой, красавица, при мне», «Зимний вечер», «Я вас любил», «На холмах Грузии», «Анчар»); поэмы («Граф Нулин», фрагменты «Цыган»), отрывки из «Бориса Годунова», «Евгения Онегина», «Моцарта и Сальери», проза (главы из «Арапа Петра Великого», памфлет, критические заметки).
Тема Украины получила отражение на многих страницах альманаха, и прежде всего в произведениях Сомова. Его участие в «Северных цветах» начинается с 1826 года: в книжке альманаха, изданной на 1827 год, печатается повесть Порфирия Байского (псевдоним Ореста Сомова) «Юродивый». Снабженная подзаголовком «Малороссийская быль», она посвящена быту Украины и овеяна поэзией украинских народных преданий. Сомов становится одним из активнейших деятелей издания, по современным меркам и нынешней терминологии — его ответственным секретарем. Как автор он выступает в последующих книжках альманаха с критическими статьями и обзорами, с художественными произведениями на украинскую тему.
В «Северных цветах» на 1828 год печатается отрывок из «Гайдамака». Над повествованием о Семене Гаркуше-гайдамаке, прославленном в народно-поэтических рассказах, песнях и легендах,- Сомов работал длительное время. То же историческое лицо привлекло В. Т. Нарежного, автора повести «Гаркуша, малороссийский разбойник». Нарежный достоверно воссоздал картины социальной действительности, трагические условия жизни обездоленных крестьян. Гаркуша у Нарежного — бедняк, ставший «разбойником» в силу сложившихся обстоятельств. Сердце его исполнено боли и горечи. За безмерные жестокости, обиды и притеснения он готов мстить дворянам. Но «Гаркуша» В. Т. Нарежного остался неоконченным и смог появиться в печати лишь в советскую эпоху.
Свою «малороссийскую быль» «Гайдамак» — первое звено из широко задуманного произведения — Сомов отдал к. Рылееву и А. Бестужеву в альманах «Звездочка». «Звездочка» не вышла в свет в связи с событиями 14 декабря. Освобожденный из-под ареста как непосредственно не участвовавший в подготовке восстания, Сомов спустя полтора года публикует «быль» в «Невском альманахе» на 1827 год. Сильную сторону «малороссийской были» составляет изображение украинской народной жизни — ярмарка с мельканием лиц, колоритные натуры казаков, песни слепого кобзаря, народные поверья, были и небыли. Отрывки из «малороссийской повести» Сомов печатает на протяжении нескольких лет в разных изданиях.
К нескольким главам повести «Гайдамак» (19-й, 20-й, 21-й), помещенным в журнале «Сын отечества и Северный архив» (1829, № 23; 24), даны эпиграфы из украинских народных песен. В ряде случаев автор разъясняет отдельные слова, понятия, связанные с бытовым укладом, природой, историей Украины. К одной из глав в качестве эпиграфа взята колядка. В сноске русский читатель мог найти справку: «Колядки суть песни, которые поют вечером 25 декабря, обыкновенно под окнами, называя по имени хозяина, его детей и пр. В некоторых местах, однако ж, колядуют и целую неделю (рождественских святок), которая и называется колядами» 12. В другом месте комментируется название напитка: «Любистовка — гарная водка. Заря (растение) называется в Малороссии любиста»13. В третьем случае примечание имеет этнографический смысл: «Ой, так, так •сіють мак. Это малороссийская игра, которою часто забавляются деревенские ребятишки»14.
«Приятное ваше письмо порадовало меня тем, что снова уверило меня в лестном внимании, с каким образованные земляки мои принимают «Гайдамака» и другие малороссийские были и небылицы Байского», — пишет Сомов издателю «Денницы» летом 1829 года. И далее в манере полушутливой мистификации продолжает: «Чудак этот, мой знакомец Порфирий Богданович, здравствует, как я вижу из писем его, дошедших до меня из крохотного городка Слободско-Украинской г[убернии] Волчанска. Там доживает он седьмой свой десяток, дописывает «Гайдамака» (роман, который, по словам его, составляет будто бы 4 или 5 томов) и хочет его пустить в свет в будущем 1830 году... Также приготовляет он помаленьку малороссийские повести, которых тоже наберется на несколько томиков. Теперь у него покамест готовы «Сказки о кладах» (по малороссийским поверьям), «Татарский набег на Украину» и еще кое-что. Ваше доброе мнение и одобрение И. П. Котляревского (от которого на днях получил я письмо) весьма его подкрепляют в сем намерении» 15.
В «Деннице» на 1830 год за подписью Байского появляется «Ночлег гайдамаков» с подзаголовком «Из малороссийской повести «Гайдамак». К отрывку дан эпиграф «из малороссийской песни»:
Як виїхав козаченько в чистеє поле,
Пустив свого кониченька на попасаннє,
А сам припав к сирій землі на спочиваннє,
Та й приснився козаченьку дивнесенький сон.
В примечаниях автор объясняет ряд украинских слов. Некоторые справки весьма любопытны, например о местоимении воно, которое «заменяет многие фразы, названия предметов неизвестных или непонятных и даже употребляется в смысле ироническом, для указания на такое лицо, которого, в силу малороссийского остроумия, не хотят назвать его собственным именем»16.
«Еще Вам несколько строчек, любезнейший земляк, — обращается Сомов к тому же Максимовичу через несколько месяцев. — Вы обещались мне доставить сведения о Гаркуше — не позабудьте и сообщите поскорее: крайне меня одолжите»17.
Повесть «Сватовство» с эпиграфом из И. П. Котлярев-ского («Гей, гей, та нигде правды диты»), напечатанная в «Северных цветах» на 1832 год, проникнута мягким юмором и грустью. Автор повести использует юмористическое сравнение из «Енеїди» И. П. Котляревского «Як в окрдпі муха», сопровождая цитату сердечной ремаркой об украинском поэте — своем земляке, «которому дай бог петь и здравствовать многия лета» 18. Как и многие другие произведения Сомова, повесть эта насыщена выразительными деталями украинского народного быта и овеяна неподдельной любовью к людям Украины — работящим, художественно одаренным, знающим цену шутке и острому слову. Представляя читателю казака Олиенко, Сомов дает такую справку: «Олией в Малороссии называют конопляное и всякое постное масло»; «прозвание» Олиенко «служит как бы словесным гербовником, означающим давность и рода и ремесла его»19. Колоритны многие подробности в повествовании Сомова — о том, как на Украине выбирают «круторогих, статных» волов, как потешаются чумаки над «порядочно одетым» пешеходом, как горазды мелкопоместные украинские паны «старого века» щеголять «странностью выражений» и т. п.
Украинской теме Сомов оставался верен в своей беллетристике до последних дней. «Б[антыша-Каменск]ого Вам посылаю, только с уговором, — пишет он В. Н. Щаст-ному 29 января 1833 года. — Вы не задержите его, он мне нужен для исторических справок и примечаний к Малороссийским Повестям Байского, которые, по болезни моей, двигаются скоро и, может быть, скоро же будут двигаться в типограф [ских] станках»20.
В харьковском альманахе «Утренняя звезда» за 1833 год напечатана его повесть «Недобрый глаз». Публикацию предваряют строки «От издателя»: «Любители словесности, без сомнения, сверх многих других пиэс, с удовольствием прочтут здесь: Недобрый глаз, малороссийское предание П. Б. Байского, и Недосоздание О. М. Сомова, последние произведения сего писателя, присланные им незадолго до его кончины. Покойный О. М. Сомов, если не по пребыванию, то по крайней мере по месту своего рождения и воспитания (в Харьковском университете) принадлежит к числу украинских писателей и занимает между ими почетное место»21.
Деятельное участие принимал Сомов в журналистике 20-х — начала 30-х годов и как критик. Он выступал в печати с рецензиями, полемическими заметками, обзорами. Центральное место среди его работ этого плана принадлежит критико-теоретическому триптиху «О романтической поэзии». Работа была напечатана в 1823 году в «Соревнователе просвещения и благотворения» — органе близкого к декабристам «Вольного общества любителей российской словесности», затем вышла отдельным изданием и вызвала значительный резонанс. Сомов использует мысли западных теоретиков романтизма и вместе с тем опирается на выводы, сделанные им на основании изучения русского и украинского фольклора. Если первые две части сомовского трактата мало оригинальны, то третья, посвященная собственно русской поэзии, для 1823 года была, по утверждению В. Г. Базанова, «новым и смелым словом о романтизме»22. «Словесность народа есть, — по мысли Сомова, — говорящая картина его нравов, обычаев и образа жизни»23.
Сомов отстаивает принцип самобытности русской литературы. В свете его критик оценивает наиболее значительные литературные явления. «Познакомив нас с поэзией соседних германцев и отдаленных бардов Британии», Жуковский, по словам Сомова, «открыл нам новые пути в мир воображения». «Юный Пушкин нашел другой след в сей же самый мир, — продолжает автор статьи, — в вымыслах и мечтах его, в языке и способе выражения больше раскрываются черты народные русские. Прекрасные стихотворения Пушкина то дышат суровым севером и завиваются в седых его туманах, то раскаляются знойным солнцем полуденным и освещаются яркими его лучами. Поэт обнял все пространство родного края и в своенравных играх своей Музы показывает его нам то с той, то с другой стороны: является нам на хладных берегах Балтийских — и вдруг потом раскидывает шатер под палящим небом Кавказа или резвится на цветущих долинах киевских»24.
Заметим кстати, что о произведениях Пушкина Сомов высказывался неоднократно. Он выступал в защиту поэмы «Руслан и Людмила», когда против молодого автора ополчились Каченовский и другие литературные «староверы» («Вестник Европы», 1821, ч. 116, №4). Он писал о «Братьях разбойниках» («Северная пчела», 1827, № 10), о «Евгении Онегине» («Северные цветы» на 1827 год), о «Полтаве», о «Борисе Годунове» и т. д.
В статье «О романтической поэзии» он говорит об инерции привычных норм и «правил», сковывающих литературное развитие. 3. В. Кирилюк справедливо соотносит некоторые суждения Сомова о природе народности и историзме в литературе, о значении фольклора для литературы, о художественной прозе, о критике с соответствующими высказываниями Пушкина, отмечает близость позиций обоих в полемике с Булгариным. На путях к народности и оригинальности литературного творчества Сомов считает плодотворным обращение писателей к жизни народов, населяющих Россию, к их обычаям, поверьям, песням: «Сколько разных обликов, нравов и обычаев представляется испытующему взору в одном объеме России совокупной!» Отмечая удивительное богатство и разнообразие ее природы, национальных традиций, поэтических вымыслов, критик на одном из первых мест называет «цветущие сады плодоносной Украины, живописные берега Днепра, Пела и других рек Малороссии» и выделяет «малороссиян с сладостными их песнями и славными воспоминаниями», «воинственных сынов тихого Дона и отважных переселенцев Сечи Запорожской»25.
Часто в своих критических отзывах и обзорах Сомов останавливается на явлениях, связанных с украинской культурой. Знакомя, например, читателей с новыми книгами, он приветствует первый сборник украинских песен, изданный Максимовичем, квалифицированно оценивает вводную статью составителя: «..Максимович в предисловии своем говорит о духе и форме малороссийских песен, о стихосложении, о произношении малороссийских слов и т. п., и говорит обо всем этом как человек совершенно знакомый с языком и поэзиею Малороссии»26. В заметке Сомова для нас особенно существенны его суждения, основанные на собственном жизненном опыте и собственном знакомстве с миром украинского фольклора. «Зная прекрасные голоса большей части песен, собранных г. Максимовичем, и видя из одного примечания к его книге, что он намерен при втором ее издании приложить музыку многих песен, — заявляет Сомов, — наперед поздравляю любителей и любительниц народной Русской музыки с сим богатым приобретением». Нашло место в заметке и тактично выраженное пожелание составителю сборника: «Надеюсь также, что многие прекрасные по слогу и голосам песни, не вошедшие в состав сего первого издания, будут г. Собирателем помещены во втором»27. В одном из писем 1830 года составителю сборника он спешит проинформировать его о фольклористической новинке: «В последнем № Отечественных записок помещена весьма любопытная историческая малороссийская песня, кажется, времен мазепинских»28.
Известно, какую популярность в русской читательской среде обрела «Енеїда» И. П. Котляревского. Заслуживают внимания соображения Сомова об успехе украинской поэмы в ряду иных произведений подобного жанра. В своем «Обозрении российской словесности за 1828 г.», сопоставляя поэму Котляревского с различными травестийными произведениями, он утверждает: «Из всех прежних Энеид, Язонов и Прозерпин наизнанку уцелела только малороссийская пародия Энеиды Котляревского, потому что сочинитель ее умел приправить свою поэму малороссийскою солью и живо представить в ней троянцев, карфагенян и латинян, земляков своих малороссиян с их домашним бытом, привычками и поговорками»29.
Сомов одним из первых сочувственно откликается на появление в печати ранних произведений Гоголя. Он смог уловить предвестия таланта уже в литературном дебюте Гоголя — стихотворной идиллии «Ганц Кюхельгартен», вызвавшей сплошь отрицательные отзывы критики. Одобрительно отозвался Сомов о повести «Бисаврюк». « С удовольствием отдадим справедливость помещенной в «Отечественных записках» малороссийской повести «Бисаврюк» (сочиненной одним молодым литератором г-м Г. Я.), — пишет он в «Обозрении российской словесности во вторую половину 1829 года и первую 1830 года», — в ней черты народные и поверия малороссиян выведены верно и занимательно»30.
Любопытны лингвистические соображения в другом обзоре Сомова. Они вызваны сомнительными экскурсами одного из критиков второго тома карамзинской «Истории государства российского» в область истории и этнографии. Цитируя обращение воеводы Будыя к польскому королю Болеславу («Да то ти прободем трескою черево твое толстое». — Летопись Нестора под 1018 годом) и доказывая, что слово треска означает палка, Арцыбашев в «Московском вестнике» ссылался при этом на немецкое название рыбы трески: 81оскЦзс!г «палка-рыба». «Как затейливы наши исторические критики, — иронизирует Сомов, — и при том как мало они знают, на чем бы должны были опираться с некоторою достоверностью — именно наречия своих единоземцев! Вместо того, чтоб осмотреться вокруг себя, они отправляются за тридевять земель и там ищут доказательств, часто смешных и несообразных. То же и здесь случилось с рыбою трескою». После этого пассажа следует справка: «В малороссийском наречии, которым и доныне говорят в Киеве и которого древние следы часто встречаются в летописи Нестора, треска или триска значит щепу, острый обломок дерева». Весь сюжет завершает полемически едкий вопрос: «Стоило ли труда за этой трескою залетать в Немеччину?» 31.
В отделе рукописей ЦНБ УССР хранится небольшая тетрадка Ореста Сомова. В ней записаны тексты украинских народных песен 32. В самом факте появления этой со-мовской тетрадки нет ничего неожиданного. О большом интересе Сомова к фольклору и его осведомленности в песенном творчестве украинского народа мы уже говорили. Но тетрадь, о которой идет речь, весьма ценна: она существенно расширяет наши представления о фольклоризме Сомова.
Оказывается, Сомов был хорошо знаком с наиболее богатым в первой четверти XIX века собранием украинской народной поэзии и свободно ориентировался в его колоссальном репертуаре. «Благородный оригинал», «овеянный маревом легенд», по меткому выражению И. Я. Франко, 3. Доленга-Ходаковский обошел многие районы России, Украины и Польши, собирая материалы по этнографии, археологии и фольклору славян. Украинские песни он считал «лучшими из всех славянских народных песен»33. Его коллекция насчитывает более двух тысяч украинских народных песен. Записями Зориана Доленги-Ходаковского пользовался М. А. Максимович, к ним обращался Н. В. Гоголь. Теперь становится ясно, что их по заслугам оценил и Сомов.
Это собрание впервые издано в полном составе лишь спустя полтора столетия после смерти собирателя. «Собрание украинских песен 3. Доленги-Ходаковского — это своеобразная энциклопедия поэзии Украины на рубеже XVIII — XIX столетий, — отмечают в предисловии А. И. Дей и Л. А. Малаш. — В таком жанровом и тематическом богатстве, в таком количестве образцов в то время не была зафиксирована песенность ни одного славянского народа»34.
Уже беглое ознакомление с сомовской тетрадью показывает, что абсолютное большинство ее текстов восходит к собранию Доленги-Ходаковского. Ряд текстов идентичен версиям, представленным в названном издании (например, песни «Ой, цигане, цигане», «Котилася торба» и др.). Некоторые песни в сомовской тетрадке частично совпадают с вариантами, включенными в основной состав издания (например, «Добрий вечір, дівчино, чи ти спиш», «Сідлай, хлопче, два коня вороних» и др.). Порой разночтения превалируют в аналогичных сюжетах (например, «Та вже ж сосід жито сіє»).
Сомовская тетрадка несомненно заслуживает специального изучения, что, разумеется, выходит за рамки данной работы. Здесь важно отметить лишь несколько моментов. В тетради пронумеровано тридцать единиц, но номера девятнадцать — двадцать три отсутствуют. Два с половиной десятка песенных текстов дают возможность судить об идейно-эстетических критериях Сомова и о свойственных ему принципах отбора фольклорного материала. Обращает на себя внимание прежде всего жанровое и тематическое разнообразие песен: социально-бытовые и календарно-обрядовые, новеллистические и плясовые, казацкие и чумацкие, шуточные и колыбельные, анекдотические и лирические.
Среди текстов, отобранных Сомовым, есть произведения с четкой социальной направленностью. Так, в начале тетради записана (№ 2) рекрутская песня «Ой зачула ж моя доля». Парень наивно надеялся избежать «неволі» — «не-круцького набору»: «По улицям не слонявся, До дівчини заховався». Но его «ізловили», связали,
Посадили у візочок,
У візочок, у задочок,
А два сіли в передочок
Та й повезли в городочок.
Новобранцу обрили лоб «та й рушницю начепили». Солдатчине противостоят в его сознании атрибуты (наверное, нелегкого) крестьянского бытия: «Лучше б мені з грабельками, ніж тепера з шабельками».
Типичность ситуации и подробностей отправки назначенных в рекруты подтверждается вариантом, вошедшим в сборник Максимовича 1834 года:
Бистрі ноженьки сковали,
Білі рученьки звязали35.
К тематическому циклу рекрутских и солдатских песен тяготеет и куплет
Гей, ну Юрку, продай курку;
Пристань до нас, до вербунку!
Будеш їсти, будеш пити,
Будеш як панок ходити36,
объединенный под № 13 с танцевальными мотивами «Ой на дубу, на вершечку», «Ой, дівчина кучерява», «Ой, мати, чумак іде».
О гибели казака и драматизме вдовьей судьбы проникновенно и сдержанно повествует песня «Ой виленув та соколенько». «Соколенько», осветив «крилоньками увесь двір», приносит горестную весть. Первая его реплика («Ой устань, удова молода! Подивись за нові ворота, Ой уже пани з похода ідуть, Твого пана тільки коней ведуть») еще не лишает женщину смутной надежды («Ой іще ж я не зовсім удова, Малі діти не сиріточки»). Когда же оказывается, что несут оружие ее казака, она восклицает: «Ой тепер уже я зовсім удова. Малі діточки сиріточки» (№1).
Из ряда текстов встает обобщенный женский образ, привлекающий полной гаммой больших чувств и переживаний. В песне «Ой за ліс, за діброви Завіз милий чорні брови» метафорический строй речи, его звуковая структура способствуют глубине раскрытия душевных движений личности: «Ой посію я тугу По зеленому лугу».
В песенной подборке Сомова запечатлен и иной тип человеческих взаимоотношений. В одном случае в формах традиционной персонификации развертывается элегическая повесть:
Полетіла голубочка
У поле гуляти.
Зоставила голубонька
Дітей годувати.
«Голубонько» не стал «дітей годувати», а устремился «крутими горами» на поиски «голубки».
«Ой ви, вітри буйнесенькі,
Далеко бували,
Чи моєї голубочки
Ви не зострівали?»
Ой на теє буйний вітер
Так одповідає:
«Та вже ж твоя голубонька
З орлами гуляє» (№ 28).
Другая песня («Сідлай, хлопче, два коня вороних») строится как баллада об измене молодой женщины («Ой на Галі червоная плахта, Хто ж їй справив? То польськая шляхта») с драматическим финалом («... з Галі голову зрубали. У жовтому піску заховали», № 3).
В сомовской тетради встречаются варианты произведений, известных в различных записях, например колядки «Ой, рано, рано кури запіли». Текст этой колядки (полностью или частично) воспроизводился в печати («Северный архив», 1826, ч. 20, № 8, с. 390 — 391; «Вестник Европы», 1829, № 7, с. 246), представлен у Доленги-Ходаковского. И у Сомова, и в рукописной копии Доленги-Ходаковского, и в своде, изданном в 1974 году, варьируются типичные жанрово-стилистические приметы источника: постоянные эпитеты, параллельные построения, синонимические формы, повторы, подхваты, внутренние рифмы и т. п.:
Лучком зазвонив, братів побудив,
Вставайте, братця, коні сідлайте,
Коні сідлайте, хортів скликайте,
Хортів скликайте, з двору зїзжайте (№ 17).
Сомов
Ой поїдемо в чистеє поле,
В чистеє поле під Полонею,
Ой там я назнав кунку в дереві (с. 137).
Доленга-Ходаковський
Энергичные танцевальные ритмы, сходные сюжетные мотивы варьируются на разные лады в подборке Сомова. Владельца тетради, по-видимому, особенно привлекала, несмотря на социальные антагонизмы и все горести реального крестьянского бытия, светлая, радостная струя, всегда неодолимо звучавшая в народной песне и убедительнейшим образом свидетельствовавшая о нравственном здоровье творца и хранителя фольклорной поэзии.
Эти песни, озаренные задорной улыбкой, утверждают радость жизни, любви, отметая ханжеские запреты и ограничения; озорные интонации, подчас «нескромные» признания и откровенно высказанные желания поэтичны своей естественностью и правдивостью:
Ой учора звечора
Загонила дівчина селезня... (№ 8).
Кирасиру, ти мій милий,
Отдай мою фартучину;
Ти зо мною ночував,
Всю ніченьку цілував... (№ 14).
Ой, мати, мати! Москаль у хаті,
Жартує, пустує — не дає спати... (№ 26).
В сомовской тетради песня то потешается над проявлениями глупости (№9, «Оженився дурень»), то блещет шуткой, острым словцом, выказывая подчас (№ 11) насмешливое отношение к церковникам: «цап при дорозі» ненароком предстает как «той піп»; не отмечена чрезмерным пиететом к служителям культа и бойкая припевка:
Ти так чини, як я чиню,
Люби жінку аби-чию,
Хоч попову, хоч дякову,
Хоч хорошу мужикову (№ ЗО).
В улыбчивом куплете, фиксирующем распространенную житейскую ситуацию, ощутим социальный акцент:
Ой за гарбуз та за диню
Любив наймит господиню (№ 30).
В тетрадке Сомова прекрасно отразились простодушие и мудрость народной песни, полнота эмоции и переживаний, зоркая наблюдательность и сердечная доброта, чувство юмора и богатство образного мышления украинского крестьянина.
Заслуживают внимания некоторые правки, встречающиеся в тетради. Из песенных текстов последовательно устраняются русизмы. Так, вместо местоимения он на полях вписывается він (№ 1). В строках «Моя Галя роду не такого, Вона мені ж не зділае того» (№ 3) и «Погодуй, подержи, Та опять побіжи» (№ 15) производятся замены на не зробить, ізнов. Заботой о естественном звучании украинской речи вызвано и лексическое изменение в строке «Ой встану я до вихід сонця» (№ 14), в результате которого выделенному слову предпочтена иная форма: схід и т. д.
Итак, даже сжатый обзор записей в фольклорной тетради Сомова дает новые убедительные подтверждения того, насколько обстоятельно знал он украинское народно-песенное творчество, как ценил его тематическое многообразие и художественную прелесть.
С этим-то литератором, для которого Украина была и родной, и любимой, и неиссякаемой темой, Пушкин был знаком с 1818 года. После возвращения Пушкина из ссылки систематичность и, можно сказать, повседневность их взаимоотношений обусловливается редакционными делами и заботами, связанными с активным участием обоих в издании «Северных цветов» и «Литературной газеты». Современник Пушкина, говоря о поэте, отмечает в 1827 году: «У него часто бывает Сомов»37.
В 1829 году за подписью Сомова в «Северных цветах» появляется справка, вызванная произволом или небрежностью издателя альманаха «Памятник отечественных муз»: «В Памятнике муз напечатаны были отрывки из стихотворения Пушкина Фавн и Пастушка, стихотворения, от которого поэт наш сам отказывается и поручил нам засвидетельствовать сие перед публикой»38.
В письме от 15 июня 1831 года Сомов, благодаря М. Н. Загоскина за полученные им пять экземпляров романа «Рославлев», «докладывает»: «Один из них (Гречу) доставил я в тот же день. Князь А. А. Шаховский живет теперь на даче, на 3-й версте по Петергофской дороге. На днях я поеду к нему нарочно и отвезу ваш подарок. На днях же буду у Пушкина, кочующего теперь с молодою своею в садах царскосельских, где остается он на целое лето. Я порадую его милым спутником летних прогулок, живым, лихим, истинно-русским Рославлевым»39.
«Пушкин решил на следующий год продолжать «Северные цветы» с благою целью, — обращается 28 сентября 1831 года Сомов к Максимовичу. — Он поручил мне передать вам его поклон и великое челобитье, а о чем, тому следуют пункты: 1-й и последний. Если у вас есть что-либо в прозе, какой-либо отрывок из вашей вдохновенной ботаники, то пришлите его нам для «Северных цветов»40. В другом письме он выражает признательность Максимовичу от имени Пушкина и от себя за присланную статью.
Письма Сомова этой поры отражают не только высокую степень уважения, но и теплую человеческую симпатию к Пушкину. «Скажу вам приятную новость, — сообщает он своему корреспонденту летом 1831 года. — Пушкин сделан историографом Петра Великого, причислен к Иностранной Коллегии, и велено открыть ему все возможные архивы. Он живет покуда в Царском Селе, в котором не было холеры...»41
Приведенные выдержки из писем Сомова дают нам возможность представить себе, какие чувства питал он к Пушкину, как переплетались в конце 20 — начале 30-х годов редакционные заботы и тревоги.
В библиотеке Пушкина сохранилась книга Сомова «Голос украинца при взятии Варшавы» со стилизованной дарственной надписью: «Ясневельможному пану Гетманичу най-яснийшого Аполлона Александру Сергеевичу Пушкину от найнижшого пидножка Парнасського Порфирия Байсько-го»42.
Об отношении Пушкина к Сомову в специальной литературе высказывались разные мнения. По-видимому, отношения эти были сложными. В упоминаниях Пушкина о Сомове порой слышатся иронические интонации, порой проступает известная настороженность.
Несомненным фактом, однако, следует считать знакомство обоих литераторов на протяжении полутора десятка лет и тесное общение их в ту пору, когда «не порывавший связи с Украиной» Сомов являлся, по определению И. Я. Айзенштока, «своего рода центром украинской колонии в Петербурге»43.
После возвращения из северной ссылки Пушкин в конце 1826 года в Москве знакомится с Максимовичем. Контакты между ними продолжались на протяжении ряда лет и оказались одним из самых знаменательных и плодотворных факторов в развитии украинистических интересов и представлений поэта.
Максимовичу принадлежит первостепенная роль в истории русско-украинских связей. Нельзя сказать, что его фигура не привлекала внимания русских и украинских ученых и литераторов. Его жизни и деятельности посвящен ряд статей, напечатанных в дооктябрьские и советские годы. К монографическому очерку С. Пономарева, вышедшему в 1872 году, добавились труды о мировоззрении Максимовича и Максимовиче-историке44. В серии «Життя славетних» появилась его беллетризированная биография 45. Тем не менее многое в деятельности Максимовича освещено недостаточно. В печати, в том числе в весьма авторитетных изданиях, встречаются сомнительные утверждения и фактические неточности. Так, из заметки о Максимовиче, помещенной в Краткой литературной энциклопедии, следует, будто он был ректором Киевского университета в 1834 — 1844 годах46. Но ректорствовал Максимович лишь год. В книге М. Глухенького «Михайло Максимович», рассчитанной на большую читательскую аудиторию, описана встреча Максимовича с Рылеевым в 1824 году, во время которой собеседник поэта-декабриста называет произведения последнего, к тому времени еще не написанные и не напечатанные.
Как ни странно, в пушкиноведческой библиографии не зафиксировано ни одной работы, посвященной взаимоотношениям Пушкина с Максимовичем (за исключением разве лишь заметки в книге Л. А. Черейского «Пушкин и его окружение»).
Максимович начал печататься в московских изданиях, когда Пушкин отбывал южную ссылку. Это были переводы, научно-популярные и научные работы, учебники, журнальные рецензии по ботанике, зоологии, земледелию, географии. Но вскоре естествоведческие занятия молодого ученого начинают успешно сочетаться с филологическими.
В 1854 году, посылая свою автобиографию С. П. Шевы-реву, Максимович писал ему: «Теперь, когда я доживаю 50-й год на этом вольном свету, для меня ближе мой внутренний, потаенный сердца человек, а Вам для «Словаря» нужен внешний Я — бывший профессор ботаники в Москве и русской словесности в Киеве... Впрочем, мое профессорство было не внешним и не случайным положением и делом в жизни: оно было назначением моим и любимою мечтою с детства, средоточием и подвигом юношеской жизни, моим самолюбием в возмужалые годы, при котором не было уже места во мне ни властолюбию, ни иному подобному любию, как в том я не раз имел случай поверить себе и убедиться вполне»47. Спустя несколько лет, отвечая М. П. Погодину, который в пылу полемики советовал ему оставить историографию и вернуться к естествознанию, Максимович решительно заявил: «Ботаника не мешала мне заниматься русскою историею и русскою словесностью»48.
Примечательно не только само по себе совмещение в одном лице видного естествоиспытателя и крупного филолога. Наиболее знаменательно, пожалуй, иное: как пишет свои ботанические труды ученый. Достаточно привести иллюстрацию из такой, например, работы, как «О жизни растений»,,, чтобы получить определенное .представление об этом. «По красоте цветы близкая родня поэзии, — пишет Максимович. — Поэзия, одушевляясь ими, всегда любила одушевлять их. Следы такого одушевления представляет народная поэзия наша, в песнях, обрядах и поверьях...
Русские и украинские девицы гадают о судьбе своей по цветам загадки и вопрошают ее, как вещую Пифию».
К этому абзацу Максимович дает примечание: «Загадкою или загадками в Малороссии называют растение Erigon асrе, называемое в Новгородской и Тверской губерниях, где также по ним гадают, богатекою»49.
Отчетливо представляя себе подлинные условия народной жизни на Украине, Максимович неодобрительно отзывается о приторной и фальшивой книге И. Кулжинского «Малороссийская деревня». В этом сочинении, по его словам, «нет глубоких изысканий», многое в нем покажется непредубежденному читателю «двусмысленным» и «поддельным». Максимович высмеивает слащавость и примитивную идеализацию действительности в «Малороссийской деревне», иронически цитируя предисловие Кулжинского: «Много есть деревень на свете, но под кротким небом Малороссии всякая деревня есть сокращенный эдем, где иногда недостает только добродетели и чувствительного сердца, чтобы людям быть совершенно блаженными»50.
Отрицательно относился к книге Кулжинского и юный Гоголь. «Он теперь напечатал свое сочинение под названием «Малороссийская деревня», — сообщает Н. В. Гоголь в письме к товарищу. — Этот литературный урод причиною всех его бедствий: когда он только проходит через класс, тотчас ему читают отрывки из «Малороссийской деревни», и почтенный князь бесится, сколько есть духу; когда он бывает в театре, то кто-нибудь из наших объявляет громогласно о представлении новой пьесы; ее заглавие: «Малороссийская деревня, или Закон дуракам не писан, комедия-водевиль» 51.
В упомянутой выше автобиографии Максимович рассказывает, как в январе 1827 года он, будучи уже преподавателем в трех заведениях, сдавал магистерский экзамен («для занятия кафедры ботаники ...надобно мне было, по тогдашнему положению, получить степень магистра»), и после этого экзамена «взял отпуск на 21 день и отгулял масляную в Малороссии в доме отцовском и воротился в Москву с богатою жатвою малороссийских песен». Далее идет речь о написанном и публично защищенном летом того же года «магистерском рассуждении» «О системах растительного царства». И вновь словесно и интонационно подчеркнут тезис о естественном для Максимовича совмещении естествоведческих и филологических интересов: «А между тем уже печатались мои «Малороссийские песни»52.
Предисловие к первому сборнику украинских песен, изданных Максимовичем, имеет принципиальное значение. Составитель сборника теоретически обосновывает литературную и научную важность фольклора, его собирания и изучения. «Наступило, кажется, то время, когда познают истинную цену народности», — отмечает он. Народность, по его убеждению, наиболее полно выражается в произведениях народной поэзии — в песнях, «где звучит душа, движимая чувством», в сказках, «где отсвечивается фантазия народная». «В них часто видим, — развивает он свою мысль, — баснословия, поверья, обычаи, нравы и нередко события действительности, кои в других памятниках не сохранились: сказка — складка, а песня — быль, говорит пословица» (т. 2, с. 439).
Тезис о ценности произведений народного творчества как своеобразных исторических документов отстаивает Максимович и позднее. Вот что говорится, например, об украинских думах в вводной статье ко второму сборнику Максимовича: «Это надгробные памятники и вместе живые свидетели отжитой старины. Другие народы в память важных происшествий своих чеканят медали, по которым история часто разгадывает минувшее: события козацкой жизни отливались в звонкие песни, и потому они должны составить самую важную и вразумительную летопись для нового бытописателя Малороссии» (т. 2 с. 453 — 454). В предисловии к «Сказанию о Колиивщине», датированном 14 сентября 1839 года, среди источников, перечисленных автором, на первом месте значатся украинские народные песни и «местные предания и рассказы старых людей» (т. 1, с. 624). В качестве эпиграфов к отдельным главам «Сказания» щедро привлекаются украинские песни (о полковнике Иване Лободе, о Максиме Железняке, о Богдане Хмельницком и т. д.).
Издавая украинские песни, составитель сборника полагал, что они «будут любопытны и даже во многих отношениях полезны для нашей словесности». По убеждению Максимовича, «они имеют несомненное достоинство и между песнями племен славянских занимают одно из первых мест» (т. 2, с. 440).
К мысли о богатстве и разнообразии украинской народной поэзии автор предисловия возвращается и в последующих своих суждениях. «Едва ли какая страна может назваться столь песенною, как Малороссия, — пишет он, конкретизируя свое утверждение, — там каждое время года, каждое занятие, к сельскому быту и к жизни семейственной относящееся, сопровождаются особенными песнями» (т. 2, с. 449). Заслуживает внимания и критерий, которым руководствовался составитель сборника: «Я желал показать доселе еще не совсем известные сокровища народной поэзии в настоящем виде, посему соблюдал строгий выбор и помещал песни либо замечательные по красотам пиитическим, либо представляющие образ мыслей, быт домашний и пр.» (т. 2, с. 446).
Отдельные положения предисловия, если судить о них с высот современной фольклористики, не лишены известной наивности, а подчас и ошибочности, но в целом статья, предпосланная Максимовичем его первому сборнику украинских народных песен, справедливо рассматривается как одно из основополагающих явлений в истории научного изучения народного творчества.
Весьма интересны и многие примечания Максимовича к опубликованным песням (хорошо говорится здесь о присущей им художественной выразительности и самобытной образной силе). Комментарий этот отличается превосходным знанием быта и чутким проникновением в мир поэтических представлений украинского народа. Так, например, в заметках к обрядовым песням Максимович рассказывает: «Веснянки суть песни, которые поют девушки, собираясь по вечерам до самой троицы, начиная с марта месяца — с того времени, когда птичка овсянка запоет свою веснянку, в звуках которой будто слышны слова:
Покинь санки, возьми воз!
С того времени, когда щука хвостом разбивает лед»53.
Энтузиаст украинской народной поэзии, Максимович был также достойным ценителем русского фольклора. Рассказывая о своем знакомстве с Дельвигом на литературном вечере в Москве зимой 1827 — 1828 года, Максимович вспоминал: «Он подошел ко мне как к издателю «Малороссийских песен», и мы с час пробеседовали о народных русских песнях, которых он, на ту пору, был без сомнения одним из первых знатоков. Этим увеличилось тогда мое прежнее уважение к нему как к поэту»54.
Интерес Максимовича к песенным богатствам украинского народа не иссякал и в последующие годы, получая разнообразное выражение. Его знакомство с Гоголем, перешедшее в многолетнюю дружбу, начиналось на основе общего для них увлечения украинским фольклором. «Я познакомил бы вас хоть заочно, если вы желаете того, с одним очень интересным земляком — пасечником Паньком Рудым, издавшим Вечера на хуторе, т. е. Гоголем-Яновским, которому дуралей и литературный невежда и урод Полевой решился сказать: «Вы, сударь, москаль, да еще и горожанин» и пр. и пр. Не правда ли, что Полевой совершенно оправдал басню Крылова: Осел и Соловей? — писал осенью 1831 года Максимовичу О. М. Сомов. — ... У Гоголя есть много малороссийских песен, побасенок, сказок и пр. и пр., коих я еще ни от кого не слыхивал, и он не откажет поступиться песнями доброму своему земляку, которого заочно уважает. Он человек с отличными дарованиями и знает Малороссию, как пять пальцев; в ней воспитывался, а сюда приехал не более, как три года тому назад»55.
В песенном сборнике, который в это время готовил Максимович, Гоголь, по словам М. П. Драгоманова, «принимал такое участие, как будто это было его издание»56. «Что делает Киреевский Петр с изданием своих песен — скоро ли? Пора! Пора!... — пишет Максимович 10 ноября 1837 года М. П. Погодину. — При свидании с Мильгуновым попроси его, ради бога, возвратить мне Мотивы украинских песен, которые я оставил ему, уезжая из Москвы, и которые мне очень необходимы к статье. Я заподозрил Бодянского, что он прихвастнул относительно восьми тысяч песен украинских, якобы им собранных в течение трех лет в одной Полтавской губернии, не выезжая из Москвы, но он говорит, что ты можешь это засвидетельствовать — точно ли так? Правда ли? Полно, так ли? У меня только три тысячи в десять лет»57. В другом письме к тому же Погодину (за 1840 год) читаем: «...Ты, верно, получил посланное от моего имени и моей души писание к тебе, вероятно, и Гоголь прочел уже каракули своего больного приятеля, который вот уже две недели лежит себе без дела и труда, перебирая только украинские песни и наслаждаясь ими до упоения. Фу, братец, как это хорошо, неописанно хорошо! Сколько души и жизни отозвалось в этих звуках...»58
Значительное внимание уделял Максимович научному изучению украинского языка. В одной из статей («Мнение о малороссийском языке и правописании оного») он говорит о своем увлечении «сим предметом» «как малороссиянин, любящий историю, поэзию и все, относящееся к его родине»59.
Известно также, что во второй половине 20-х годов Максимович работал над украинским словарем60. Словарь этот, по свидетельству Максимовича в письме 1854 года к С. П. Шевыреву, «остался без выхода»61.
Максимович охотно переходит на украинский язык в письмах к своим корреспондентам. Так, в 1831 году он обращается к М. П. Погодину: «Прости мене, пане братику, досі тобі не одсилав твоєї приказки і так довго з нею проваландавсь: скажений розбишака твій так забрався меж бумагами, що насилу-насилу його знайшов я — треба було усі листочки перешукать. Прощавайте»62.
В биографическом очерке, посвященном Максимовичу н вышедшем в свет при его жизни, — очерк был приурочен к пятидесятилетию деятельности ученого, — говорится о том «добром внимании», какое оказал первому сборнику украинских песен Пушкин. «В этом издании песен Пушкин признал подарок литературе, а в издателе их — своего собрата по поэзии, и этот отзыв для Максимовича, — подчеркивает автор очерка С. Пономарев, — имел тем более значения, что он познакомился с Пушкиным только зимой 1826 г.» 63 В те же дни М. П. Погодин в своем поздравительном письме счел нужным отметить, следует полагать, как особенно существенное и дорогое для юбиляра: «Пушкин любил тебя, радовался появлению твоих «Малороссийских песен...» 64
«Михаил Александрович рассказывал нам, — свидетельствует М. П. Драгоманов, — что в один из визитов своих к Пушкину он застал знаменитого поэта за своим сборником. «А я обираю ваши песни», — сказал Пушкин» 65. Этот факт удостоверяет и сам Максимович, воссоздавая вместе с тем и некоторые чрезвычайно интересные подробности. «В 1829 г., когда Пушкин воротился в Москву из своего закавказского странствования, я застал его в одно утро за письменным столом; перед ним развернуты малороссийские песни моего издания 1827 г. «А я это обкрадываю ваши песни!» — сказал он и, взяв со стола прерванное моим приходом письмо, прочел из него выразительно:
Мені з жінкой не возиться;
А тютюн да люлька
Козаку в дорозі
Знадобиться!
Может быть, уцелело еще где-нибудь это памятное для меня письмо... «А я привез вам только что полученную мною из Украины народную песню о Мазепе», — сказал я. Еще в детстве моем я слышал эту песню от слепой старухи на хуторе Самусевке (Хорольского уезда); а тут довелось мне услышать ее из уст творца «Полтавы», который прочел ее дважды по моему списку, а потом повторял уже наизусть следующий куплет:
У Київі на Подолі
Порубані груші,
Погубив же пес Мазепа
Невиннії душі...»66
Воскрешая события 1830 года, Максимович пишет в мемуарном очерке «Перекати-поле»: «С грустью гляжу на два пригласительных билета, уцелевшие у меня от того времени». Это напоминания о похоронах Александра Федоровича Мерзлякова и Василия Львовича Пушкина. В автобиографическом очерке Максимовича приводится текст приглашения: «Александр Сергеевич и Лев Сергеевич Пушкины с душевным прискорбием извещают о кончине дяди своего Василия Львовича Пушкина, последовавшей сего августа 20-го дня в 2 часа пополудни, и покорнейше просят пожаловать на вынос и отпевание тела сего августа 23 дня в приходе св. великомученика Никиты, что в Старой Басманной, в 9 ч. утра, а погребение тела будет в Донском монастыре»67.
В 1829 году Максимович выступил в печати в связи с поэмой «Полтава». «Приятно мне вспомнить, — говорил он позднее, — что о Полтаве Пушкина я первый (1829) в Атенее писал как о поэме народной и исторической. Незабвенно мне, как Мерзляков журил меня за мою статью и как благодарил потом Пушкин, возвратясь из своего Закавказского странствия» (т. 3, с. 491).
Можно сослаться на различные факты, свидетельствующие о достаточно тесном общении Пушкина с Максимовичем в конце 20 — первой половине 30-х годов. Разумеется, нет нужды изображать эти общения как душевную дружбу. «Вкладчик» альманаха Максимовича «Денница», Пушкин порой выступал посредником между издателем и авторами. Так, в январе 1831 года П. А. Вяземский писал Максимовичу: «Извините меня, милостивый государь Михаил Александрович, что не успел отвечать вам вслед за обязательным письмом вашим; по крайней мере, поспешил я отправить к вам через Пушкина мой оброк, что мог собрать и изготовить». «У Пушкина найдете вы, милостивый государь Михаил Александрович, — сообщал он дополнительно через несколько дней, — и прозы моей малую толику»68. Но «Северные цветы» Дельвига Пушкину были ближе, чем «Денница». «Стихи твои прелесть, — пишет он в те же дни Вяземскому, — не хочется мне отдать их в альманах (т. е. в «Денницу». — И. 3.): лучше отошлем их Дельвигу» (т. 14, с. 139). Из следующего письма Пушкина узнаем, что, «скре-пя сердце», он «Максимовичу однако ж отдал» (т. 14, с. 133) стихотворения, которые предпочитал передать Дельвигу. Сердечность его отношений с Дельвигом известна. Быть может, уместно напомнить здесь признание Пушкина в письме к П. А. Плетневу, написанном под впечатлением известия о кончине лицейского друга: «...никто на свете не был мне ближе Дельвига. Изо всех связей детства он один оставался на виду — около него собиралась наша бедная кучка. — Без него мы точно осиротели» (т. 14, с. 147).
Тем не менее имеются все основания видеть в Максимовиче одного из тех литераторов, к кому Пушкин питал симпатию, уважение и доверие, чья позиция в литературной жизни была ему созвучна. Пушкин выступает с одобрительной рецензией на первый выпуск «Денницы» в «Литературной газете», позднее привлекает Максимовича к участию в «Северных цветах» на 1832 год. Максимович преподносит Пушкину свои книги. Три книги с дарственными надписями автора сохранились в личной библиотеке Пушкина. Максимович был в курсе перипетий борьбы Пушкина с Булгариным. Он вспоминал, как Пушкин знакомил его со своими памфлетами в рукописи. Много лет спустя, уточняя некоторые обстоятельства журнальной жизни начала 30-х годов, Максимович сообщал В. П. Гаевскому: «...Пушкин писал в газете (имеется в виду «Литературная газета». — И. 3.) об Истории Полевого с подписью В, также статью о нравственных сочинениях Видока, которую читал мне еще до отсылки в Петербург (в гостинице на Тверской, называемой Германией или Европой, не помню). Феофилакта Косичкина в Телескопе — его же»69.
Уместно остановиться на одном частном эпизоде полемики с Булгариным. В. П. Науменко, разбиравший бумаги М.А. Максимовича, нашел листок с его небольшой заметкой относительно двух эпиграмм, напечатанных в «Деннице» на 1831 год. Представляет интерес следующая справка: «Как издатель «Денницы» я скажу с достоверностью, что Пушкину принадлежит только одна из тех двух эпиграмм («Не то беда, Авдей Флюгарин»). Другая подлежит исключению из Сочинений Пушкина: ее сочинил Баратынский еще до приезда в Москву и написал ее мне собственноручно в таком виде:
Поверьте мне — Фиглярин моралист и т. д.
Последний же стих читался так:
А может быть, и ново для него.
Пушкин, по приезде в Москву, любовался этою эпиграммою; рукою властною он зачеркнул в последнем стихе: может быть и надписал: кажется. С этою переменой и напечатан в «Деннице» последний стих:
А кажется, и ново для него...»70
Максимовичу был хорошо известен живейший интерес Пушкина к истории Украины. «Узнав от Пушкина, что он написал Полтаву, не читавши Конисского, — рассказывает Максимович, — я познакомил его с нашим малороссийским историком и подарил ему случившийся у меня список Истории русое, об которой он написал потом прекрасные страницы» (т. 3, с. 491). Интересны суждения Максимовича об Истории псевдо-Конисского. «Истории русов», — отмечал он, — недостает «точности и верности в изображении очень многих подробностей; хотя, с другой стороны, она так же, как народная историческая дума, полна животворного художественного одушевления и чуткого верного разумения о сущности событий и значении лиц; а во многих случаях она остается и единственным источником сведения исторического» (т. 1, с. 238). Знаменательна при этом ссылка на авторитет «великого нашего художника Пушкина», высоко оценившего «в разборе своем сочинений Конисского» повествовательное мастерство украинского историка (см.: т. 1, с. 238 — 239).
К осени 1831 года относится эпизод, о котором Максимович рассказал в своей автобиографии. Как-то на его лекции побывал С. С. Уваров, тогдашний президент Академии наук и товарищ министра просвещения. Лектор был в отличной форме, сказали бы сейчас. Тексты заранее он никогда не писал: «написанная лекция меня связывала и сбивала»; «я подбирал только содержание лекции, а обдумывал ее изложение, едучи от Сухаревой на Моховую». В присутствии чиновного гостя он, как обычно, свободно излагал предмет. Гость, по словам Максимовича, «не ожидал такой ботаники от московского адъюнкта». «Я удивляюсь вашему дару слова, — сказал Уваров Максимовичу, пригласив его через несколько дней на обед. — У вас совершенно литературное выражение». Присутствовавший при этом Пушкин откликнулся: «Да мы г. Максимовича давно считаем нашим литератором; он подарил нас малороссийскими песнями» 71.
С горячим участием следя за ходом издания второго сборника Максимовича, нетерпеливо знакомясь с его отдельными листами по мере движения типографских работ, Гоголь взволнованно писал составителю: «Понесу к Жуковскому и похвастаюсь Пушкину, и мнения их сообщу тебе поскорее» (т. 10, с. 312).
Максимович восхищался «Словом о полку Игореве». Его суждения о «Слове» во многом совпадали с мнением Пушкина. Оба не сомневались в подлинности памятника, высоко оценивали его художественное и историческое значение, сопоставляли его с народной поэзией. «В истории словесности нашей должно обращать особенное внимание на сию Песнь, — подчеркивал Максимович в лекциях, читанных в 1835 году в Киевском университете, — ибо, кроме общей литературной важности, ею разделяемой наравне с прочими нашими древними произведениями, она важна как единственный до нас дошедший письменный памятник самородной древней русской поэзии, блестящий яркими красотами поэтическими и вместе с тем полный истиною историческою» (т. 3, с. 498).
«За упокой Пушкина собираются совершить большую и торжественную панихиду в Симонове монастыре. Хорошо кабы в мае, тогда бы и вам можно было приехать, сложить словечко на гроб великого соотечественника как представителю украинских муз России... — писал в 1837 году Максимовичу в Киев юрист, профессор Московского университета Ф. Морошкин. — Кошанский все дело испортит, для эстетики упадет в пресмешный обморок. Надо мужественное и доброе слово русское, умное и чувствительное. Пора вам, литераторам, ввести подобные апотеозы — опускать тела великих при громе русского слова и кортеже юных поколений» 72.
Имя Пушкина Максимович всегда называл о любовью и уважением, пушкинское творчество оставалось для него эталоном художественности и народности. В статье «О стихотворениях червонорусских», говоря о насущных задачах украинской литературы в Галиции, ориентируя ее на пути развития в духе народности и осуждая язычие, он напоминает о творчестве Пушкина, в «несравненных стихах» которого получило свое наиболее полное «выражение народное»73.
Время от времени Максимович перебирает в памяти известные ему случаи из жизни Пушкина и охотно передает их в дружеском кругу. В дневнике О. М. Бодянского за 1851 год имеется запись об обеде у Аксаковых, после которого М. А. Максимович рассказывал, «как Кюхельбекер стрелялся с Пушкиным и как в промахнувшегося последний не захотел стрелять, но с словом: «Полно дурачиться, милый, пойдем пить чай» подал ему руку и ушли домой»74.
Мировоззрение Максимовича не лишено противоречий. Идеалистические уступки допускал он и в естествознании, и в эстетике. Субъективными, подчас совершенно ошибочными были некоторые его литературно-исторические суждения и оценки (что сказывалось, например, в отношении к Белинскому). Но в целом это был выдающийся просветитель, вошедший в историю русской и украинской культуры как явление значительное и прогрессивное.
В контактах с Максимовичем Пушкин на протяжении десятилетия получал импульсы к дальнейшему расширению своих украинистических интересов и познаний. Украинская народная песня, неутомимым собирателем и пропагандистом которой был Максимович, становилась одним из дополнительных стимулов в укреплении и углублении реалистического метода в пушкинском творчестве.
В 30-х годах продолжаются также контакты Пушкина с рядом литераторов, в той или иной степени причастных к Украине и украинской теме, иногда не столь интенсивные и многогранные, как, допустим, с Максимовичем, иногда сравнительно кратковременные или даже эпизодические, но тем не менее в своем взаимодействии активно поддерживавшие атмосферу украинистических интересов поэта. В ряду таких «спутников» поэта назовем Д. П. Ознобишина. Поэт «средней руки», он был одним из первых русских собирателей фольклора и переводчиков Хафиза, Низами, Саади и других восточных авторов.
Ознобишин записывал песни народов Поволжья, сравнительно недавно стали известны его украинские записи.
«Здесь есть Погодин университетский и, по-видимому, хороших правил. Он издает альманах в Москве на будущий год и просит у тебя Христа-ради, — писал Пушкину П. А. Вяземский в 1825 году. — Дай ему что-нибудь из Онегина или что-нибудь из мелочей» (т. 13, с. 239). Речь шла об альманахе «Урания». «Ты приказывал, моя радость, прислать тебе стихов для какого-то альманаха (чорт его побери). Вот тебе несколько эпиграмм. У меня их пропасть, избираю невиннейших» (т. 13, с. 245), — отвечал Пушкин. В «Урании» были напечатаны тексты трех украинских народных песен: «Веют ветры, веют буйны», «Хилилися густы лозы», «Туман яром, туман яром». Две последние опубликованы с ссылкой на М. А. Максимовича. «Малороссийская песня» «Веют ветры, веют буйны» помещена с пометой «доставлена к издателю Д. П. Ознобишиным»75.
В следующем, 1827 году Ознобишин совместно с С. Е. Раичем издает альманах «Северная лира» и печатает тут тексты украинских народных песен «За Немень иду» и «Туман поле, туман поле покриває» (в других публикациях эта песня начинается словами «Гомін, гомін по діброві»). Судя по принадлежавшему М. Н. Логвинову экземпляру альманаха, сохранившемуся в библиотеке Пушкинского дома, «малороссийские песни» были «доставлены» Д. П. Ознобишиным76.
В архиве Ознобишина обнаружено более десятка записей украинских народных песен. Записи, как установила Т. Г. Динесман, относятся к 20-м годам, «так как сделаны на бумаге выпуска 1821 г.»77
Имя Ознобишина не значится в справочных изданиях по украинской фольклористике.
Специалистам еще предстоит выяснить обстоятельства, обусловившие его обращение к песенному творчеству украинского народа, источники, которыми он пользовался, сложившиеся у него представления и оценки в этой области.
Несомненно, что украинский фольклор входил в круг литературных и научных интересов Ознобишина и что при этом русский литератор обнаружил и значительную осведомленность в его песенных богатствах, и эстетический вкус. В подборке Ознобишина представлены очень интересные образцы украинского народно-песенного репертуара.
Здесь хорошо известная русской аудитории песня «їхав козак за Дунай», входившая во многие песенники, включенная А. Шаховским в «оперу-водевиль» «Казак-стихотворец» и переведенная в XIX веке на немецкий и французский языки.
Здесь и печальная сага о смерти «козаченька», насыщенная высокопоэтичными образами (параллель: «маленький соловейко» — «молоденький козаченько»; мотив верного коня и боевого оружия: «Ой в Томані, товаришу, чини мою волю, Виводь коня вороного і винеси зброю»; вещее материнское чутье: «Ой зачує стара мати, шиючи у хаті, Та вже ж мого синочка на світі немає», ее горестные восклицания: «Коли б була зозюленька, я б полетіла» и т. д.).
Душевное состояние покинутой девушки передает песня «Ой, ізрада, зрада, чорні брови». В песне звучит и любовь, и обида, и женское достоинство:
Ой не кидай мене молодую,
Бо ж не найдеш другую такую;
Ой хоч знайдеш з кіньми і волами,
Та не знайдеш з чорними бровами;
Ой хоч знайдеш на личко білішу,
Та не знайдеш на словцо вірнішу;
Ой хоч знайдеш в червонім монисті,
Та не знайдеш такої на мислі;
Ой хоть знайдеш з русою косою,
Та не знайдеш з такою душою...78
Тот же сюжет варьируется в записи Ходаковского.
Мотивы любви, красота девичьего чувства, драматизм женских переживаний отражены и в некоторых других произведениях, отобранных Ознобишиным. Примечательно, однако, что его предпочтительное внимание привлекают юмористические песни.
Тут и распространенная в различных вариациях озорная:
Ой під горою, під перевозом,
Стояла дівчина з своїм обозом.
Добрий день, дівчино, як собі маєш,
Позич ти бандуру, що сама граєш...
Тут и бойкая:
Ой їхав, їхав, їхав,
Чом до мене не заїхав?..
Ознобишинский текст этой песни кое в чем отличается и от записей Ходаковского, и от варианта, записанного Бодянскими.
Тут и популярный поныне колоритный песенный диалог «під вишнею, під черешнею» между разновозрастной четой:
...І просилась, і молилась,
Пусти ж мене, старий діду,
на вулицю погулять. —
Ой і сам не піду,
I тебе не пущу,
Хочеш мене, старенького, та покинути.
...Не хочу я хатки
І не сіножатки,
Ні ставка, ні млинка, ні вишневого садка.
Ой ти, старий дідуга,
Ізогнувся, як дуга,
А я, молоденька, гуляти раденька.
Вариант в подборке Ознобишина ближе всего к тексту, опубликованному Вацлавом Залесским.
Редкостно живучей оказалась и песня «Та була в мене жінка, та була в мене любка». Различные ее варианты записаны в середине XIX века в западных районах Украины, в Харькове, а в советское время — в 40-х и 60-х годах — на Винничине (см.: Жартівливі пісні. Родинно-побутові. Київ, 1957, с. 749 — 750).
К тому же циклу народно-песенных произведений, осмеивающих хитрых жен, а равно и смиренных, безвольных мужей, относится также песня «Оженився мужичок та взяв жінку любку», созвучная кое в чем варианту, закрепленному Максимовичем, и перекликающаяся с текстом, представленным в академическом сборнике «Жартівливі пісні» (Київ, 1967): «Оженився Кучерина, а взяв собі любку».
Таким образом, в песенной подборке Ознобишина преломилось оптимистическое мироощущение украинского народа. Песни, заинтересовавшие Ознобишина, переливаются всеми оттенками смеха: легкая ирония незаметно переходит в едкую издевку, добрая шутка соседствует с фривольным намеком, острое словцо колет то глупца, недотепу, гуляку, то ленивую, вздорную, сварливую жену. Эти песни искрятся украинским народным юмором.
Имеются данные о встречах Пушкина с Ознобишиным на музыкальных вечерах у Виельгорского в 30-х годах80.
В 1836 году в «Московском наблюдателе» появилось стихотворение Ознобишина «Чудная бандура», созданное по мотивам украинского и донского фольклора. Стихотворение это иногда квалифицируют как стилизацию под фольклор. Более справедливым представляется мнение Р. В. Иезуитовой, видящей в ознобишинской «Чудной бандуре» пример «органического освоения фольклорного материала»: «Опираясь на народные предания о русалках, Ознобишин оригинально переосмысляет балладную тему «судьбы». Русалок покоряет сила и красота любви, вдохновившей игру казака-бандуриста, и они согласны отдать назад «невесту младую»81.
В 30-е годы происходят встречи Пушкина с В. И. Любичем-Романовичем. Воспитанник Нежинской «гимназии высших наук», соученик Гоголя, Любич-Романович знал украинский быт и украинский фольклор. Как русский поэт и переводчик он сотрудничал в «Литературной газете».
В воспоминаниях Любича-Романовича о Гоголе есть упоминания и о беседах мемуариста с Пушкиным 82.
Любич-Романович, по словам М. Шевлякова, «был хорошо знаком с А. С. Пушкиным, который поощрял его на литературные труды и помогал ему своими советами»83.
Близкий знакомый Любича-Романовича, связанный, как и он, с кругом преподавателей и воспитанников Нежинского лицея, В. Н. Щастный участвовал в «Северных цветах» (на 1829, 1831 и 1832 годы), печатался в «Литературной газете». В конце 20 — начале 30-х годов Щастный встречается с Пушкиным у Дельвига, в литературных кругах.
Среди украинских литераторов в пушкинском окружении необходимо назвать Росковшенко.
И. В. Росковшенко совместно с И. И. Срезневским издал «Украинский альманах» (1831), где были напечатаны «Козак» Л. Боровиковского с подзаголовком «Подражание народной песне», отрывок из пушкинской «Полтавы» в украинском переводе А. Шпигоцкого, «малороссийская баллада» того же А. Шпигоцкого, тексты пяти украинских песен (о трех из них — «Попід гаєм, гаем, гаем зелененьким», «Ой, не стій, явороньку, над водою близько», «За Дунаем, за Дунаем, за рікою, за бистрою» — сказано, что они «получены издателем из Обухова, уездного города Киевской губернии» — с. 92), украинские думы.
Росковшенко принимал участие в подготовке «Запорожской старины», шесть сборников которой издал И. И. Срезневский. В своей переписке с И. И. Срезневским Росковшенко затрагивал многие стороны украинской истории, этнографии, народной поэзии. Так, в декабре 1830 года он писал своему харьковскому корреспонденту: «Если бы явился между малороссиянами гений, подобный Вальтер Скотту, то я утвердительно говорю, что Малороссия есть неисчерпаемый источник для романов исторических. Ни Шотландия и никакая другая страна не может представить таких разительных картин, как Малороссия, особенно с XVI века» 84. Совместно с И. И. Срезневским он подготовил к изданию сборник «Украинская скарбница. Собрание памятников украинской народной словесности. Книга первая». Сборник содержал значительное количество украинских пё-сен (до 150 названий) и документацию текстов85. Поэт, переводчик, автор статей по истории, Росковшенко пробовал свои силы и в области художественной прозы (повесть из прошлого Украины с сыном гетмана Ивана Подковы в центре событий).
В некрологической заметке об И. В. Росковшенко говорилось о его знакомстве и встречах «в некоторых домах с А. С. Пушкиным, Жуковским, Лермонтовым и др.»86 О встречах с Пушкиным Росковшенко и сам рассказывал в своих письмах начала 30-х годов87.
Общался Пушкин и с украинским историком Д. Н. Бантышом-Каменским.
«К крайнему моему сожалению, сегодня мне никак нельзя исполнить давнишнее мое желание: познакомиться с почтенным историком Малороссии» (т. 14, с. 247), — писал Пушкин ему в декабре 1831 года. К его «Истории Малой России со времен присоединения оной к Российскому государству при царе Алексее Михайловиче» (1822) поэт активно обращался тремя годами ранее — в период работы над «Полтавой». Личное знакомство Пушкина с автором «Истории» состоялось в конце декабря того же года.
Спустя несколько лет, судя по сохранившимся письмам, их взаимоотношения значительно оживляются в связи с научно-литературными занятиями обоих. «Не знаю, как Вас благодарить за доставление бумаг, касающихся Пугачева, — писал Пушкин Бантышу-Каменскому летом 1834 года. — Несмотря на то, что я имел уже в руках множество драгоценных материалов, я тут нашел неизвестные, любопытные подробности, которыми непременно воспользуюсь» (т. 15, с. 155).Одно из авторских примечаний к седьмой главе «Истории Пугачева» снабжено справкой: «Извлечено из неизданного Исторического словаря, составленного Д. Н. Бантыш-Каменским» (т. 9, кн. 1, с. 115). Со своей стороны, Пушкин поделился с историком некоторыми сведениями о А. П. Ганнибале. Воспользовавшись ими в своем «Словаре», Бантыш-Каменский писал, перечисляя привлеченные источники: «Из... Примечаний к первой главе Онегина и по словесному преданию, переданному мне родным правнуком А. П. Ганнибала Александром Сергеевичем Пушкиным...»88
После выхода в свет первой части гоголевских «Вечеров на хуторе близ Диканьки» в «Литературных прибавлениях» к «Русскому инвалиду» одной из первых появилась доброжелательная рецензия поэта Лукьяна Якубовича на книгу молодого писателя. В этой рецензии приведено письмо Пушкина издателю «Литературных прибавлений» о повестях Гоголя. В 30-х годах Якубович печатался во многих периодических изданиях («Атеней», «Телескоп» и др.), в том числе близких Пушкину «Литературной газете», «Северных цветах». Якубович проявлял интерес к фольклору и поэзии разных народов. Он владел украинской речью, обращался к истории Украины. Его симпатии к украинской народной поэзии и прошлому украинского народа нашли отражение не только в некоторых русских стихотворениях (например, «Украинские мелодии», «Украинские степи»), но и в произведениях, написанных им на украинском языке. Так, в журнале «Телескоп» в 1835 году было напечатано стихотворение Л. Якубовича «До гетманщины». В нем есть, например, такие — наивные и художественно несовершенные, но весьма небезынтересные — строки:
Колись був вік, козацький вік і славний,
Гетьманщина тогді від ланцюга втекла,
Од ляхів злих до Московщини гарной,
До брата, мов од нелюба сестра:
І пісня ся тобі, коханий мій Гетьмане,
Добродію ти наш, великий пан Богдане!89
«Племянник мой, многоизвестный тебе человек, желает тебе помогать в издании «Современника», — писал в середине января 1837 года о Лукьяне Якубовиче Пушкину его лицейский товарищ М. Л. Яковлев. — Малый он с понятием, глядит на вещи прямо, суждение имеет свое, не дожидая: что скажет такой-то; а всего более трудо[лю]бив» (т. 16, с. 217). Пушкин к этому времени мог уже хорошо знать «малого с понятием», они встречались с 1831 года. Л. Якубович с восхищением отзывался о Пушкине и его творчестве (в частности, о трагедии «Борис Годунов»). Слова И. П. Сахарова, будто «с Пушкиным у них была дружба неразрывная»90, следует считать явной гиперболой, но Пушкин, по-видимому, относился к Якубовичу с уважением. Он печатает его стихотворение в четвертом томе «Современника», обсуждает с ним волнующие темы (известно, что Л. Якубович посетил поэта за три дня до дуэли и они, по рассказу свидетеля, «горячо» и «дельно» спорили о «Слове о полку Игореве») 91. 30 января Л. Якубович напечатал некролог. «Сегодня, 29 января, в 3-м часу пополудни, литература русская понесла невознаградимую потерю, — говорится в этой статье. — Пораженные глубочайшею горестию, мы не будем многоречивы при сем извещении. Россия обязана Пушкину благодарностью за 22-х-летние заслуги его на поприще словесности, которые были ряд блистательнейших и полезнейших успехов в сочинениях всех родов»92. По свидетельству авторитетного мемуариста, Н. И. Греч, — издатель «Северной пчелы», где был напечатан некролог, получил строгий выговор от Бенкендорфа93.
Едва ли кто-нибудь иной мог столь неотразимо и завораживающе, как Гоголь, вовлекать в сферу украинской народной поэзии и украинской народной фантазии. Никто из предшественников или современников Пушкина в русской литературе не создал столь живой, многокрасочный и целостный образ Украины. Благодаря Гоголю украинская тема в русской литературе обрела качественно новые черты. Забота об этнографической полноте и верности изображения Украины утрачивает у него самодовлеющий смысл. Прекрасно зная и горячо любя украинскую народную поэзию, вдохновенно и неутомимо собирая народные песни, думы, сказания и легенды, Гоголь никогда не становился на путь внешней стилизации фольклорных источников. Их осмысление и художественное воплощение в творчестве Гоголя неизменно освещается и обусловливается четкой и ясной идейно-эстетической концепцией.
Интерес Гоголя к украинскому быту и украинской народной поэзии складывался в благоприятной литературной атмосфере. «Здесь так занимает всех все малороссийское» (т. 10, с. 142), — пишет он матери вскоре после своего приезда в Петербург. «Украинские песни были в постоянном ходу в столицах, — свидетельствовал об этом времени М. А. Максимович. — ...Знали тогда многие великороссияне Энеиду Котляревского... Знали тогда ученые великороссияне малороссийский язык...»94 Мы видели, сколь значительное место в творческих интересах и в «продукции» литераторов разного масштаба принадлежало Украине и украинскому фольклору. Но, как справедливо подчеркнул М. Б. Храпченко, обращение Гоголя к Украине нельзя рассматривать лишь как отклик на литературное поветрие. Фольклор и этнография его влекли не сами по себе: для молодого писателя важно было знать народную жизнь «с ее непосредственностью и красочностью», ясно противополагавшуюся «в сознании Гоголя той общественной среде, в которой царил культ казармы, культ чина и званий»95.
Пушкин приветствовал повести Гоголя как художественное открытие. «Сейчас прочел Вечера близ Диканьки. Они изумили меня» (т. 11, с. 216). Оценку, высказанную в 1831 году, поэт повторил в «Современнике» в 1836 году: «Читатели наши, конечно, помнят впечатление, произведенное над ними появлением «Вечеров на хуторе»: все обрадовались этому живому описанию племени поющего и пляшущего, этим свежим картинам малороссийской природы, этой веселости, простодушной и вместе лукавой» (т. 12, с. 27).
Живописные картины украинской природы, яркие изображения украинского быта, изобилующие порой метко схваченными деталями и подробностями, русская литература к этому времени уже знала. Знаменательно новое заключалось в ином — писателю удалось понять самое сокровенное: внутренний мир народа, круг его нравственных представлений и душевных побуждений.
Пушкина «изумили» повести Гоголя пленительным воссозданием «этой веселости, простодушной и вместе лукавой». «Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности... Все это так необыкновенно в нашей нынешней литературе, что я доселе не образумился» (т. 11, с. 216).
Белинский уже в своей первой значительной критической работе — статье «Литературные мечтания» отнес создателя «Вечеров на хуторе» к «числу необыкновенных талантов», видя значение и привлекательность повестей молодого писателя в их «остроумии, веселости, поэзии и народности» 96. И позднее, рассматривая «Вечера» в перспективе последующего развития писателя, Белинский очень высоко оценивал их как «поэтические очерки Малороссии, очерки, полные жизни и очарования», правдиво запечатлевшие «сельскую жизнь простолюдинов», «все, что народ может иметь оригинального, типического» (т. 1, с. 301).
Гоголь включает в «Вечера» этнографически точные подробности украинского быта («Майская ночь», «Ночь перед рождеством», «Вечер накануне Ивана Купала»), обращается к народной фантастике, художественно претворяя мотивы старинных украинских поверий, легенд и сказок (о кладах, о нечистой силе, о демонологических существах, варьируемых во многих народных сказаниях). По утверждению современного специалиста, «все без исключения детали, введенные в фантастическую канву повестей (Гоголем), найдут свои аналогии в украинском фольклоре»97. Как известно, автор «Вечеров» обычно склонен перемежать и смешивать фантастическое и реальное, улыбкой, иронией, шуткой — в духе традиции, присущей народному сознанию, — нейтрализовать, «заземлять» ирреальное, таинственное, «ужасное». В яркой пейзажной живописи «Вечеров», в частности в приемах гиперболизации, ощутимы связи с народно-песенной стихией.
Уже в ранних повестях Гоголя выявляется конструктивная функция украинской народной песни. Наряду с выдержками из «Енеїди» Котляревского, а также из рукописных комедий Гоголя-отца и басни Гулака-Артемовского «Пан та собака» автор «Сорочинской ярмарки» использует песенные эпиграфы к отдельным главам, как, например:
Не хилися, явороньку,
Ще ти зелененький,
Не журися, козаченьку,
Ще ти молоденький (к гл. 5);
или:
Не бийся, матинко, не бийся,
В червовый чобитки обуйся,
Топчи ворога Пид ноги;
Щоб твои пидкивки
Брязчали!
Щоб твои вороги
Мовчали! (к гл. 13).
В заключительной главе «Сорочинской ярмарки» Пара-ся напевает «любимую свою песню»:
Зелененький барвиночку,
Стелися низенько,
А ты, мылый, чернобрывый,
Присунься близенько.
Песенные эпиграфы поддерживают, углубляют радостное, жизнеутверждающее начало, присущее гоголевскому восприятию и изображению народной жизни в «Вечерах». С. И. Машинский обратил внимание на «ощущение контраста» между чиновно-официальным императорским Петербургом и мажорным миром поэтической сказки, которое возникает уже при соотнесении эпиграфа к первой главе «Сорочинской ярмарки»:
Мини нудно в хати жить.
Ой, вези ж мене из дому,
Де багацько грому, грому,
Де гопцюють все дивкы,
Де гуляють парубки! —
с зачином главы; «Как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии!» «Внутренняя экспрессия этих контрастных красок отражала определенную эстетическую позицию Гоголя»98. В начальной главе «Майской ночи» («Ганна») сюжетной и образно-эмоциональной основой повествования становится песня «Сонце низенько1, вечір близенько». В конце повести звучит песня «Ой, ти, місяцю, мій місяченьку».
Гоголь вводит в «Вечера на хуторе...» украинизмы, рельєфно воссоздающие особенности бытового уклада и национальный колорит изображаемого, и «на всякий случай», чтобы не «помянули» его «недобрым словом», выписывает для читателя, «по азбучному порядку, те слова, которые в книжке этой не всякому понятны» (среди них: бандура, батог, баштан, болячка, буряк, дивчата, кобза, кожух, комора, кухолъ, левада, люлька, молодица, наймит, паленица, парубок, пекло, рушник, сукня, хлопец, хустка, чуприна, швец, яткапт.ъ.).
И украинский пейзаж, и быт, и мотивы и образы украинского фольклора, и элементы украинской лексики и фразеологии — все надобно Гоголю не для иллюстрирования своих повестей, не для инкрустации их «местным элементом», но как органически взаимодействующие компоненты художественной системы, призванной раскрыть внутренний мир, нравственный облик украинского крестьянства.
Этого не поняли или не хотели понять некоторые критики. Так, например, Н. Полевой видел в первой части гоголевских «Вечеров» «многие прелестные подробности, которые принадлежат явно народу», но при этом упрекал автора в «желании подделаться под малоруссизм».
Украинская тема в творчестве Гоголя насыщается большим демократическим и гуманистическим содержанием, приобретает глубочайшую народность. В большинстве украинских повестей Гоголя «сильно и ярко выражена поэтическая душа народа: его извечное стремление творить добро и непримиримость ко всяческой фальши, кривде, его наивная доверчивость, незлобивость, его жизнерадостность, юмор» 10°. Благодаря Гоголю русская литература обогатилась обобщенным образом украинского народа со свойственными ему национальными чертами и черточками, с присущим ему чувством человеческого достоинства и вольнолюбием, с его раздумчивостью и ироничностью, лиризмом и музыкальностью.
Уже в первых украинских повестях Гоголя начинает звучать героическая нота («Страшная месть»). Национально-освободительная борьба формирует могучие натуры, подобные Даниле Бурульбашу. Эта идея вскоре найдет разностороннее воплощение в монументальном эпическом полотне.
Роль украинского народно-песенного творчества в «Тарасе Бульбе» еще более возрастает сравнительно с «Вечерами на хуторе близ Диканьки». Существует большая научная литература, посвященная данной теме. Ряд интересных наблюдений сделан уже в работах В. И. Шенрока, Н. А. Котляревского и некоторых других ученых дооктябрьской поры. В трудах советских литературоведов и фольклористов тема получила дальнейшее развитие и углубление.
В «Тарасе Бульбе» Гоголь «исчерпал», по выражению Белинского в отзыве на вторую редакцию повести, «всю жизнь исторической Малороссии и в дивном, художественном создании навсегда запечатлел ее духовный образ» (т. 6, с. 661). Удивительно ли, что народным украинским песням, в частности и в особенности историческим песням и думам, принадлежит первостепенная роль в истории создания повести и в ее идейно-эстетической сущности?
Известно, как ценил Гоголь песенное творчество народа. Песня, по его словам, — «это народная история, живая, яркая, исполненная красок, истины, обнажающая всю жизнь народа». Народно-песенным творчеством Гоголь восхищался как «живой, говорящей, звучащей о прошедшем летописью» (т. 8, с. 91). «Моя радость, жизнь моя! песни! — восклицает писатель в письме к М. А. Максимовичу, — как я вас люблю! Что все черствые летописи, в которых я теперь роюсь, пред этими звонкими, живыми летописями!» (т. 10, с. 284).
На протяжении ряда лет Гоголь увлеченно и целеустремленно изучал и собирал песни. Сохранился ряд текстов в его собственных записях. «Историк не должен искать в них, — писал Гоголь об украинских песнях, — показания дня и числа битвы или точного объяснения места, верной реляции; в этом отношении немногие песни помогут ему. Но когда он захочет узнать... все изгибы и оттенки чувств, волнений, страданий, веселий изображаемого народа... тогда он будет удовлетворен вполне; история народа разоблачится пред ним в ясном величии» (т. 8, с. 91).
Работая над «Тарасом Бульбой», писатель использовал многие исторические материалы. Песни помогали художнику творчески осмыслить фактические данные, познать общий смысл событий, «дух минувшего века».
В научной литературе установлены фольклорные источники ряда сюжетных коллизий и ситуаций, важнейших мотивов и образов повести, раскрыто значение поэтики народной песни для стиля повести.
Так, вставная новелла о Мосин Шило навеяна думой о Самуиле Кошке, история отступничества Андрея подготовлена думами «Отступник Тетеренко», «Убиение Тетеренка», «Про Саву Чалого». Но художник трансформирует и сюжет и истолкование отдельных образов в свете своей творческой концепции. В работе А. И. Карпенко «О народности Н. В. Гоголя» прослеживаются различные формы претворения и переосмысления народно-эпических мотивов, народных символов в соответствии с общей идеей произведения. Существенно, что автора эпопеи роднит с миром украинской народной поэзии способ его художественного мышления, что «через сходство у писателя и в фольклоре отдельного, частного, характерного проявляется общность индивидуального, гоголевского, и народно-эпического способов построения героических образов-типов»101.
Личные встречи Гоголя с Пушкиным начинаются с весны 1831 года. «Все лето я прожил в Павловске и Царском Селе... — сообщал Гоголь своему корреспонденту осенью. — Почти каждый день собирались мы — Жуковский, Пушкин и я» (т. 10, с. 214). В эти дни Пушкин знакомится — еще до появления их в печати — с «Вечерами на хуторе...», а Гоголь — с поэмой «Домик в Коломне» и сказками Пушкина. Тесное общение между ними с короткими перерывами продолжалось до лета 1836 года, когда Гоголь уехал за границу. Пушкин горячо поддержал Гоголя как создателя украинских повестей, с неизменным вниманием следил за дальнейшим его творческим развитием, принимал участие в хлопотах о предоставлении ему кафедры истории в Киеве, советовал ему начать работу над историей русской критики, делился с ним творческими идеями, привлек его как беллетриста и критика в «Современник». Пушкин был для Гоголя высоким авторитетом, дружеским советчиком. «Ничего не предпринимал я без его совета, — писал Гоголь, потрясенный известием о гибели Пушкина, Плетневу. — Ни одна строка не писалась без того, чтобы я не воображал его перед собою. Что скажет он, что заметит он, чему посмеется, чему произнесет неразрушимое и вечное одобрение свое, вот что меня только занимало и одушевляло мои силы» (т. 11, с. 88 — 89).
Правда, у Гоголя имеются и такие высказывания о Пушкине, о которых чаще всего умалчивают. Ошибочные, тенденциозные суждения (например, в 10, 14, 31-м письмах из «Выбранных мест...»), как отметил в свое время А. И. Белецкий в статье «Гоголь и Пушкин», обязывают глубже разобраться в вопросе об отношениях между двумя писателями, изображаемых обычно в исключительно идиллически-безмятежном плане. Однако в нашу задачу это не входит.
Несомненно, что общения с Гоголем — автором украинских повестей и эпопеи «Тарас Бульба», великолепным знатоком Украины и энтузиастом украинской народной поэзии не могли остаться творчески безответными и для Пушкина.
Таким образом, начиная с лицейских лет и до последних дней жизненные пути Пушкина то сближались, то пересекались, то пролегали рядом с путями литераторов, для которых Украина была родиной, неиссякаемым источником народной поэзии и вдохновительницей художественных тем и образов, объектом обстоятельных изучений — исторических, фольклористических, этнографических, лингвистических и т. п. Общения Пушкина с такими литераторами и учеными были и эпизодичными, не оставившими заметного следа в сознании и творчестве поэта, и длительными, создававшими предпосылки для глубинных творческих связей. По их природе эти общения мы вправе отнести к трем группам.
Одну группу составляют кратковременные или продолжительные соприкосновения с лицами, которые могли быть в какой-то степени источником «украинистической информации» для поэта (например, лицейские товарищи, Е. Рудыковский, А. Родзянко, В. Туманский, Д. Ознобишин и др.).
Встречи, переписка, литературное сотрудничество с такими людьми, как Н. Маркевич, О. Сомов, М. Максимович, знаменовали собой иной уровень «украинистических связей» поэта. Дело не только и, видимо, не столько в объеме «информации», сколько в ее сущности. Такие спутники поэта, с их превосходным знанием живой речи и бытового уклада украинского народа, преданий и документальных данных по его истории, неисчерпаемых его песенных богатств, имели, по-видимому, большее значение в развитии эстетических представлений и в художественном творчестве Пушкина.
Наконец, третий «уровень» образуют общения с деятелями русской литературы, у которых увлечение украинской народной поэзией и пристальный интерес к истории украинского народа отличались определенным концепционным единством. Пушкин, как мы знаем, не принимал агитационно-романтический метод восприятия истории, свойственный Рылееву. Но идейно-эстетическим принципам создателя «Бориса Годунова» отвечало рылеевское обращение к драматическим страницам прошлого, отдельные черты изображения минувшего Украины в «Войнаровском» привлекали Пушкина и отозвались в «Полтаве», некоторые тенденции художественного воссоздания народного движения на Украине конца XVI столетия, намечавшиеся в поэме «Наливайко», были созвучны Пушкину.
Концепция народности, развернутая Гоголем в его украинских повестях и «Тарасе Бульбе», опиравшаяся на опыт Пушкина — творца «Бориса Годунова», «Евгения Онегина», «Пролога» к «Руслану и Людмиле», «Полтавы», — в свою очередь, оказалась конструктивно важным фактором в пушкинском творчестве 30-х годов.
ГЛАВА III
«И ПРОБУЖДАЕТСЯ ПОЭЗИЯ ВО МНЕ...»
И непосредственные впечатления Пушкина от пребывания на Украине, и знакомство с книгами по истории Украины и украинскому фольклору, и многолетние соприкосновения с людьми, знавшими Украину, ее прошлое, ее бытовой уклад, народную речь, сказания, легенды и песни основательно и разносторонне, как мы пытались это показать в предыдущих главах настоящего очерка, — все создавало благоприятные предпосылки для возникновения украинской темы в творчестве поэта.
Пушкинский интерес .к Украине и пушкинские раздумья об Украине и украинском народе получают разнообразное выражение. Кратко остановимся на фактах публицистического и научного плана.
К 1822 году относятся пушкинские «Заметки по русской истории XVIII века». Эта историко-публицистическая статья свидетельствует прежде всего о научной эрудиции молодого поэта и о значительности его социально-исторических размышлений. Внимание автора сфокусировано, главным образом, на екатерининском царствовании. Царствование Екатерины II подвергнуто в пушкинских заметках сокрушительной критике. Автор записок клеймит двоедушие императрицы, сурово осуждает внутреннюю политику правительства в годы ее царствования. В ряду пагубных сторон правления императрицы Пушкин отмечает закрепощение ею «вольной Малороссии» (см.: т. 11, с. 16).
В цикле «исторических анекдотов» о Потемкине выделяется у Пушкина эпизод с запорожцами. Однажды Потемкин, недовольный запорожцами, сказал одному из них: «Знаете ли вы, хохлачи, что у меня в Николаеве строится такая колокольня, что как станут на ней звонить, так в Сече будет слышно?» — «То не диво, — отвечал запорожец, — у нас у Запорозцине е такие кобзари, що як заграють, то аж у Петербурси затанцують» (т. 12, с. 173). Собеседники «светлейшего» свободны тут от какого-либо раболепства, в них интонируется чувство собственного достоинства, искрящийся народный юмор. В «диалоге» с могущественным фаворитом императрицы «последнее слово» остается за ними. Украинская речь воспроизведена и в предшествующем «анекдоте» о Потемкине (см.: т. 12, с. 173).
В пушкинских бумагах обнаружена схематическая карта Украины, исполненная поэтом карандашом и чернилами. На чертеже помечены многие украинские города (Умань, Миргород, Чигирин и др.), показан Днепр с притоками, особенно детализировано — нижняя часть Днепра с Каневом, Черкассами, Кременчугом и т. д.1
30-е годы дают новые подтверждения пристального интереса Пушкина к украинской народной поэзии. Его библиотека пополняется сборниками Срезневского (1833), Максимовича (1834), Лукашевича (1836).
На обороте письма Гоголя к Пушкину (июль 1834) рукою поэта начертаны строки украинской песни:
Чорна роля заорана
Гей-гей
И кулями засияна,
Билым тилом взволочена Гей-гей
И кровию сполочена.
Текст этой песни помещен во втором сборнике М. А. Максимовича (1834), подаренном Пушкину составителем и сохранившемся в пушкинской библиотеке. Но транскрипция пушкинской записи отличается от публикации в книге «Украинские народные песни, изданные Михаилом Максимовичем». М. А. Цявловский с большой степенью убедительности высказал предположение, что отрывок песни не взят Пушкиным из сборника Максимовича, а скорее всего записан под чью-нибудь диктовку, «может быть, того же Гоголя, который, по свидетельству Максимовича, принимал участие в составлении его сборника 1834 года»2.
Заслуживают внимания и данные о лексикологических познаниях и интересах Пушкина, связанных с Украиной. В своих критических работах он приводит украинские понятия, порой снабжая их объяснением, как, например, в большой статье об «Истории русского народа» Николая Полевого (в связи с сомнительными лингвистическими рассуждениями последнего, оспаривавшего «у Карамзина смысл выражения: на ключ»): «В Малороссии ключевать значит управлять хозяйством» (т. 11, с. 122). Любопытен в этой связи и рассказ О. М. Бодянского о встрече с Пушкиным осенью 1833 года. Поэт посетил лекцию И. И. Давыдова в Московском университете. После лекции зашел разговор о «Слове о полку Игореве». Пушкин задал присутствовавшему при беседе студенту Бодянскому, представленному в качестве автора «весьма замечательного исследования», несколько вопросов. Бодянский не смог объяснить слова харалужный, стрикусы. Но «когда Пушкин спросил еще о слове «кмет», Бодянский сказал, что, вероятно, слово это малороссийское от кметыти и может значить «примета»3.
О пушкинском намерении работать над историей Украины сообщал весной 1829 года С. П. Шевыреву М. П. Погодин, к эпистолярии которого мы в настоящем очерке уже не раз обращались: «Пушкин собирается писать историю Малороссии»4.
Ю. Г. Оксман, тщательно проанализировавший все прямые и косвенные данные, относящиеся к этому замыслу, рассматривает его в связи с «Историей русов». Со списком «Истории русов» Пушкина, как мы уже упоминали, познакомил осенью 1829 года Максимович. В пушкинских бумагах давно был обнаружен набросок, отражающий периодизацию истории Украины. Этот набросок, наверное, был сделан в дни, когда у поэта складывался замысел труда, посвященного историческому прошлому Украины. Влияние «Истории русов» сказалось, по мнению Ю. Г. Оксмана, на некоторых особенностях схемы периодизации: в отличие от Н. М. Карамзина и Д. Н. Бантыша-Каменского Пушкин, как и автор «Истории русов», выделяет особый исторический период «от Сагайдачного до Хмельницкого».
«История русов» весьма заинтересовала Пушкина. Весной 1830 года вышло в свет второе издание «Истории Малой России», в котором Бантыш-Каменский широко использовал «Историю русов». Именно поэтому, как полагают, Пушкин на время отказался от реализации своего замысла. Но уже в 1831 году он вновь обращается к привлекшей его задаче: появляется сделанная по-французски запись, уводящая в давние времена — от расселения славянских племен на территории Украины до первого татарского нашествия. Французская запись, действительно, «корреспондирует» с первоначальным пушкинским планом «Истории Украины» и содержит в себе прямой отклик на четко обозначенные в нем «пункты»: «Что ныне называется Малороссией?», «Что составляло прежде Малороссию?». И здесь принципиальный смысл имеет стремление Пушкина «привлечь внимание читателя к территориальным рамкам столь же исторической Украины, сколь и Украины 1831 года»5.
Думы об исторических судьбах Украины оживляются у Пушкина в связи с польским восстанием и, главным образом, в связи с шумной антирусской кампанией, поднятой в ту пору на Западе. Русско-польский конфликт пытались использовать в своих интересах западные державы. Во французской палате депутатов, в газетах и журналах Парижа и других европейских столиц раздавались призывы к вмешательству в события, вплоть до организации вооруженной интервенции.
Пушкин с высоким публицистическим темпераментом дает отпор «клеветникам России». Продолжая страстную и гневную полемику с «мутителями палат» и «легкоязычными витиями», он восклицает в стихотворении «Бородинская годовщина»:
Куда отдвинем строй твердынь?
За Буг, до Ворсклы, до Лимана?
За кем останется Волынь?
За кем наследие Богдана? (т. З, кн. 1, с. 279).
В этом же контексте назван и «Наш Киев дряхлый, златоглавый, Сей пращур русских городов».
Беспочвенными, исторически несостоятельными были, по убеждению Пушкина, притязания польской шляхты на «наследие Богдана».
Борьба украинского казачества и крестьянства против гнета польских панов, против унии, против полонизации, за свою национальную свободу в представлении Пушкина являла собой исторический аргумент, опровергавший любые притязания «шляхетских политиков» и их западноевропейских вдохновителей — «клеветников России».
Весьма вероятно, что французский текст пушкинских заметок представлял собой вводную часть к предполагаемой критической публикации «Истории русов» и был предназначен не для русской аудитории, а для тех западноевропейских общественных кругов, которые игнорировали уроки истории, опыт многовековой борьбы народных масс Украины за свою свободу.
У Ю. Г. Оксмана было достаточно оснований рассматривать пушкинскую публикацию 1836 года, посвященную «Истории русов» и ее автору, как логическое развитие пушкинских позиций 1831 года: появление в «Современнике» двух отрывков из запретной на ту пору рукописи приобретало весьма определенное политическое звучание.
Хорошо известно, сколько душевных сил отдал Пушкин «Современнику», какое значение придавал он своему журналу, издания которого добивался так долго и настойчиво. В первом томе «Современника» печатается статья Пушкина об «Истории русов» и ее предполагаемом авторе. Пушкин отмечает изобразительную энергию и живописность повествования псевдо-Конисского. Более всего импонирует Пушкину в этой рукописи «поэтическая свежесть летописи», сочетающаяся с «критикой, необходимой в истории» (т. 12, с. 18). Поэт счел нужным раскрыть конкретное содержание, вкладываемое им здесь в понятие критики.
В данном контексте имеется в виду обстоятельное освещение «достоверных событий» и — главное — «ясное, остроумное изложение их истинных причин и последствий».
Одобрительно отзываясь об основной «установке» Ко-нисского-историка, Пушкин в значительной мере раскрывает свои собственные представления об исторической науке6. Важнейшая миссия историографии определена тут афористически отчеканенной формулой: «Одна только история народа может объяснить истинные требования оного» (т. 12, с. 18). Далее в «Современнике» приводятся два отрывка из «Истории русов», «множество мест» в которой, по словам Пушкина, «суть картины, начертанные кистию великого художника», — «дабы дать о нем некоторое понятие тём, которые еще не читали его» (т. 12, с. 19). Но цитируемые отрывки, вероятнее всего, призваны не столько иллюстрировать тезис о повествовательном мастерстве историка, сколько обозначить определенные акценты в интерпретации прошлого украинского народа и осмыслении уроков истории.
Оба довольно объемистых отрывка темпераментно воссоздают эпизоды борьбы Украины против польской шляхты за свою национальную свободу и единство с Россией — борьбы, требовавшей непоколебимой выдержки и необычайного мужества и стоившей тяжелых жертв. Цитируемый Пушкиным текст напоминает о доблести казаков и воинском искусстве Остраницы, о вероломстве польского панства, о бедствиях, обрушенных на народные массы Украины. Но особенно важным в глазах Пушкина был, по-видимому, «урок» прошлого, связанный с позицией казацкой верхушки в столь драматических в истории Украины событиях. «По истреблении гетмана Наливайки» польские власти подвергли украинское население жестоким гонениям; стремясь полонизировать украинский народ, они проводили насильственное превращение православных украинцев в униатов. Этой политике денационализации социальные «низы» оказывали решительное сопротивление. Между тем «чиновное шляхетство малороссийское, бывшее в воинских и земских должностях, не стерпя гонений от поляков и не могши перенести лишения мест своих, а паче потеряния ранговых и нажитых имений, отложилось от народа своего и разными происками, посулами и дарами закупило знатнейших урядников римских, сладило и задружило с ними и мало-помалу согласилось первее на унию, потом обратилось совсем в католичество римское. ...Следствием переворота сего было то, что имения сему шляхетству и должности их возвращены, а ранговые утверждены им в вечность и во всем сравнены с польским шляхетством... Недостаточные реестровые казаки, а паче холостые и мало привязанные к своим жи-тельствам, а с ними и все почти охочекомонные перешли в Сечь Запорожскую и тем ее знатно увеличили, сделав с тех пор, так сказать, сборным местом для всех казаков, в отечестве гонимых» (т. 12, с. 20 — 21).
Так, используя текст «Истории русов», Пушкин акцентировал внимание на предательстве привилегированных слоев украинского казачества, пожертвовавших общенациональными интересами ради сохранения своих материальных благ, и на решающем в судьбах Украины значении народного сопротивления и народной борьбы за национальное сохранение и спасение родины. Пушкинское обращение к «Истории русов» в «Современнике» убедительно подтверждало идею об исторически сложившемся единстве Украины с Россией.
Особый интерес представляют данные о художественном воплощении «украинской темы» в творчестве Пушкина.
Фольклоризм — важнейший признак пушкинского творчества. Значение фольклоризми как одной из живительных предпосылок и одного из решающих начал народности и реализма Пушкина неоценимо. В советском литературоведении тщательно и разносторонне исследуются разнообразные каналы, связывающие мир художественных идей и образов Пушкина с миром русской народной поэзии (песни, сказки, легенды, предания, пословицы), и роль фольклорных традиций в эстетической системе Пушкина. В произведениях поэта преломились и впечатления от инонационального фольклора — молдавского и грузинского, фольклора западных славян и т. д.
В коллективной монографии «Пушкин. Итоги и проблемы изучения» квалифицируется как существенный вклад в пушкиноведение установление фольклорных источников южных поэм. Дальнейшее изучение вопросов, связанных с отношением поэта к фольклору разных народов, справедливо подчеркнуто здесь, «будет способствовать раскрытию интернациональных элементов пушкинского фольклоризма, их органического сочетания с национальными традициями»7. В этом плане должна идти речь и о мотивах украинской народной поэзии. Данные о творческом интересе Пушкина к ним приводятся в печати давно, однако роль их в его художественном мире еще подчас недооценивается. Так, в коллективной монографии «Русская литература и фольклор», изданной Пушкинским домом в 1976 году, о возможных творческих импульсах, восходящих к украинскому фольклору, говорится только в связи с «Полтавой»; это тем более странно, что редактор сборника Ф. Я. Прий-ма является автором обстоятельной статьи, в которой учтен более разнообразный материал. Непонятно, почему в авторитетном коллективном труде обойден полным молчанием «Казак». Это стихотворение, написанное в 1814 году и напечатанное год спустя в «Российском музеуме», являет собой один из самых ранних образцов пушкинского фольклоризми. Весьма существенно при этом, что обращение Пушкина-лицеиста к фольклорным источникам сочетается с интересом к мотивам украинского народно-песенного творчества. В черновом автографе имеется прямое указание юного автора: «Подражание малороссийскому». В окончательной редакции национальный колорит несколько ослаблен.
Фольклоризм «Казака» еще не последователен и не органичен. Портрет «донца», «хвата Дениса» достаточно условен. Но известная соотносенность стихотворения с традиционными элементами народно-поэтической образности несомненна (что удостоверяется и эпитетикой: удалой казак, верный конь девица красна, и деталями типа жупан в пыли, сабля до земли, и повторами: выдь, коханочка... верь, коханочка). В записях украинских народных песен известны различные варианты сюжета о казаке, который увел девушку из семьи и вскоре бросил ее. Заслуживают особого внимания параллели с некоторыми подобными вариантами, приведенные некогда Н. Ф. Сумцовым:
Выдь, коханочка, скорее,
Напои коня.
...Страшно выйти мне из дому
Коню дать воды.
...Сядь на борзого, с тобою
в дальний еду край.
Да дівчино же моя,
Да напий же коня,
З тиї, тиї криниченьки,
Що холодна вода.
Да дівчина моя,
Сідай на коня,
Да поїдем у чистеє поле
До мого двора.
Вийди, вийди, коханочко,
Дай коню води.
— Не веліла мати
Коню води дати.
...Матусі не бійсь,
Сідай на мій віз...
«Из малорусского оригинала целиком взят сюжет «Казака», по заключению Н. Ф. Сумцова. С украинской народно-песенной традицией связаны, отмечает ученый, и такие мотивы, как «подъезд к окну, напоить коня» 8.
Итак, уже в лицейских стихах Пушкина в какой-то мере сказались впечатления от ранних соприкосновений с украинскими источниками. В научной литературе упоминается в качестве одного из факторов, способных стимулировать творческое внимание юного Пушкина к украинским мотивам, весьма популярная в ту пору «анекдотическая опера-водевиль» А. А. Шаховского «Казак-стихотворец», впервые поставленная в 1812 году, а напечатанная в 1815 году. Как отметил Ф. Я. Прийма, украинскую песню «їхав козак за Дунай», включенную в оперу Шаховского, лицейский друг Пушкина В. К. Кюхельбекер в 1814 — 1815 годах переводит на немецкий язык. Слова ехал козаче вписаны в копии стихотворения «Казак», принадлежавшей А. М. Горчакову. И хоть в сюжетном отношении пушкинский «Казак» не зависим от названной песни, «в сознании лицейских друзей Пушкина, а возможно и его собственном, — с достаточным основанием утверждает Ф. Я- Прийма, — стихотворение ассоциировалось с песней «їхав козак за Дунай» 9. Быть может, самое существенное в том, что в кругу эстетических восприятий и представлений лицеистов определенная роль принадлежала прямым или опосредствованным воздействиям украинского быта и украинской народной песни, которые получили последующее претворение в поэтическом творчестве Пушкина и его однокашников.
Днепр и Киев возникают в художественном воображении Пушкина еще до первой встречи и непосредственного знакомства поэта с ними. Автор поэмы «Руслан и Людмила» рисует в романтической дымке «светлый Киев», «счастливые» берега Днепра. Порой в этой поэме, насыщенной фантастическими образами, намечается тенденция к конкретизации пейзажа: читатель встречает упоминания о «туманах» над Днепром, о его «бреге отлогом».
Пребывание Пушкина в Киеве, посещение горы Щекавицы, киевские холмы и днепровские берега способствовали поэтической обработке легенды о гибели князя Олега (1822).
Нельзя не согласиться с Ф. Я Приймой, убедительно комментирующим восходящую к украинскому фольклору реплику из сцены в корчме на Литовской границе («Борис Годунов»). Бездомный монах Варлаам, чья речевая партия столь богата живописными русскими идиомами, крылатыми присловьями и поговорками, использует оборот, подсказанный украинским песенным фольклором: «Выпьем же чарочку за шинкарочку!» Эстетическая функция украинской реплики бродячего русского монаха, конечно же, не исчерпывается задачей воссоздания местного колорита (лексического своеобразия речи, обусловленного географией действия). Деталь эта оказывается несомненно более емкой и содержательной в художественном контексте эпизода: автору трагедии, превосходно владеющему искусством реалистического изображения людей и событий, достаточно самых скупых средств для воссоздания психологического облика персонажей и сущности взаимосвязей между ними. «В украинском фольклоре, народной песне — это широко распространенный образ, обладающий вполне устойчивыми качествами: подвижностью, сметливостью, женским лукавством и т. д. Образ шинкарки, намечаемый кратким, но выразительным возгласом Варлаама, вполне соответствует ее образу в украинской народной поэзии...»10 В записях украинских народных песен имеются многочисленные параллели:
Ой, піду ж я до шинкарочки,
Візьму меду та й дві кварточки...
Шинкарочка молода,
Давай меду і вина...
Коли б у шинкарки,
То б брязчали чарки...
«Полтава» принадлежит к наиболее зрелым явлениям стихотворного эпоса Пушкина. Перед художником встают здесь идейно-эстетические задачи первостепенной важности. Он создает новаторский вид поэмы — исторической и национальной, где естественно сочетаются конфликты интимные с коллизиями социально-государственными. О «Полтаве» писали В. М. Жирмунский и Б. В. Томашевский, В. В. Виноградов и Г. А. Гуковский, Д. Д. Благой и А. Н. Соколов, А. Л. Слонимский, Г. М. Ленобль и другие советские ученые. Особенно настойчиво и целенаправленно изучал поэму Пушкина Н. В. Измайлов, тщательно исследуя историю ее создания, источники, эволюцию замысла, ее социально-философскую и политическую концепцию.
Подобно каждому крупному явлению словесного искусства, «Полтава» многосложна. В ней получает развитие тема Петра, привлекавшая творческое внимание Пушкина на разных этапах его деятельности; в ней нашли отражение некоторые идеи декабризма и размышления Пушкина об участи декабристов; в ней преломляются важные нравственно-эстетические и историко-философские мотивы. Вместе с тем в общем идейно-образном контексте поэмы весьма значительна украинская проблематика: природа и быт, страницы прошлого украинского народа и дума об его исторических судьбах, мир украинской народной поэзии. Именно в этом плане преимущественно пойдет речь о «Полтаве» в настоящем очерке.
Иногда слова поэта: «Полтаву» написал я в несколько дней» (в черновом варианте — «в неделю, в 2 недели» (т. 11, с. 158) — понимают несколько упрощенно.
Судя по датам, обозначенным на автографах поэмы, непосредственная работа поэта над рукописью охватывает апрель — ноябрь 1828 года, наиболее интенсивный период творческого воплощения замысла относится к сентябрю — октябрю. М. В. Юзефович рассказывает со слов Пушкина о том, как писалась эта поэма: «Погода стояла отвратительная. Он уселся дома, писал целый день. Стихи ему грезились даже во сне, так что он ночью вскакивал с постели и записывал их впотьмах. Когда голод его прохватывал, он бежал в ближайший трактир, стихи преследовали его и туда, он ел на скорую руку, что попало, и убегал домой, чтоб записать то, что набралось у него на бегу и за обедом. Таким образом слагались у него сотни стихов в сутки. Иногда мысли, не укладывавшиеся в стихи, записывались им прозой. Но затем следовала отделка, при которой из набросков не оставалось и четвертой части» и. Однако замысел и начальные раздумья художника о будущей поэме восходят к годам его южной ссылки.
Пушкин видел в Киево-Печерской лавре могилу Кочубея и Искры. В январе 1824 года он ездил в Бендеры и посетил неподалеку от Бендер место давнишнего укрепленного лагеря Карла XII. Поэта познакомили со стотридцатилетним стариком-украинцем, бывавшим в этом лагере и видевшим шведского короля. Пушкин расспрашивал его, надеясь услышать что-либо о Мазепе. В окрестностях Бендер поэт искал могилу гетмана.
«Полтава» вышла в свет в конце марта 1829 года.
В условиях правительственных репрессий против участников движения дворянских революционеров, когда замолкло слово передовой дворянской критики, а тон в журналах задавали литераторы консервативных и реакционных взглядов, отношение к Пушкину в печати существенно изменяется.
С конца 20-х годов «Северная пчела», «Сын отечества» развертывают прямую травлю поэта. Вводится в обиход тезис о «падении таланта Пушкина». Одним из начальных звеньев в цепи нападок, фальшивых оценок и политических инсинуаций стала статья Булгарина о «Полтаве», напечатанная в двух номерах «Сына отечества» весной 1829 года. В этой статье имеются похвалы отдельным описаниям, многим «красотам поэмы». Критик лицемерно комплиментирует Пушкина и пытается уверить читателя в своей объективности — статью он заканчивает таким аккордом: «Давным давно я уже назвал его первым из современных русских поэтов, и ныне, хотя Полтава не нравится мне столько, как Цыганы и Бахчисарайский фонтан, я все остаюсь при том же мнении»12.
Но общая оценка нового произведения Пушкина у Булгарина недвусмысленно отрицательна. После комплиментов, касающихся тех или иных частностей, обращаясь к основному в исторической поэме — к вопросу о правдивости изображения прошлого, Булгарин отказывает «Полтаве» в достоверности. Он упрекает автора поэмы в искажении исторических событий и неверном изображении исторических персонажей: «...поэт был вправе не давать отчета в характерах и положениях вымышленных лиц, а от лиц исторических мы требуем полноты характера и желаем видеть события в их настоящем, правдоподобном виде, даже в волшебном зеркале вымысла»13.
Булгаринскую оценку, по существу, подхватил в «Вестнике Европы» «критик с Патриарших прудов» Надеждин, глумившийся над поэтом. На последней странице «Путешествия в Арзрум» Пушкин рассказывает, как на обратном пути из Закавказья, во Владикавказе, он встретил Руфина Дорохова и Михаила Пущина (брата его лицейского друга). «Оба ехали на воды лечиться от ран, полученных ими в нынешние походы. У Пущина на столе нашел я русские журналы. Первая статья, мне попавшаяся, была разбор одного из моих сочинений. В ней всячески бранили меня и мои стихи. Я стал читать ее вслух. Пущин остановил меня, требуя, чтоб я читал с большим мимическим искусством. Надобно знать, что разбор был украшен обыкновенными затеями нашей критики: это был разговор между дьячком, просвирней и корректором типографии, Здравосмыслом этой маленькой комедии. Требование [П]ущина показалось мне так забавно, что досада, произведенная на меня чтением журнальной статьи, совершенно исчезла, и мы расхохотались от чистого сердца. Таково было мне первое приветствие в любезном отечестве» (т. 8, кн. 1, с. 483). Речь здесь идет о «разборе» поэмы «Полтава» в «Вестнике Европы».
С темпераментным и аргументированным опровержением булгаринской оценки выступил М. А. Максимович. «Когда с появлением Полтавы Пушкина возникли журнальные толки об ее историческом свойстве, — вспоминал впоследствии в своей автобиографии Максимович, — я написал (в Атенее 1829 г.) о поэме Пушкина Полтава статью критико-историческую». Основная направленность статьи четко отражена в ее заглавии: «О поэме Пушкина «Полтава» в историческом отношении».
Максимович сперва формулирует принципиальные положения булгаринской статьи: в «Полтаве» «всякое лицо имеет свой характер, но только не такой, как нам представляет История»; «исторические события разногласят с вымышленными характерами». Именно эти утверждения обращают на себя внимание и настоятельно требуют, с точки зрения Максимовича, отклика и пересмотра. «Решить споры о поэме и определить ее достоинство в отношении эстетическом есть дело людей опытных в критике изящного, — заявляет Максимович, — но показать противное последнему из вышеприведенных мнений может всякий, кто с размышлением читал Историю Малороссии»14. «Разобрать главнейшие возражения, сделанные критиками против исторической верности действующих лиц в поэме», — так обозначает автор статьи свою задачу. Прежде всего и главным образом это относится к истолкованию личности старого гетмана. «Мазепа в поэме жестоко обруган, но не представлен в том виде, йаким представляет его История», — цитирует Максимович «разбор Булгарина». Приводя большой отрывок из пушкинского текста, рисующий Мазепу лицемерным и мстительным, жестоким и вероломным, Максимович заявляет: «Портрет сей, принадлежащий к лучшим местам поэмы, так верен, что почти на каждый стих (если б было нужно) можно привести подтвердительные события»15. Затем Максимович обращается к центральному «пункту» в определении политического обличия гетмана. Каковы его истинные цели и побуждения? По безапелляционному суждению Булгарина, «одна дума, сочиненная Мазепою», «сильнее рисует» его характер, «нежели все эпитеты, данные ему автором поэмы». На эту же думу ссылается Надеждин. «Грешно было бы думать, что не было ни отчизны, ни свободы для человека, утешавшего себя сею мыслию:
Нехай вечна буде слава,
Же през шаблю маем права!» 16
Дума, о которой идет речь, действительно поэтизирует гражданственные и свободолюбивые идеи. Однако выраженные в думе настроения, как считает Максимович, «едва ли можно принимать за чистую монету». Превосходный знаток украинской народной песни, Максимович не видит оснований верить патриотическим декларациям гетмана-авантюриста: «обладая даром стихотворства и умея разгадывать сердца», он слагал песни, отражавшие чувства и мысли казаков и способные вызвать отклик в их вольнолюбивых сердцах. Но отнюдь не о благе Украины помышлял сам Мазепа: он «хотел сделать ее независимою для себя, свою независимость хотел утвердить он, завладев Малороссией»17. Максимович категорически отвергает «мнение критика» (Булгарина), согласно которому «Мазепа был патриот»: «Все его действия нисколько не показывают в нем самоотвержительной любви к Малороссии. История представляет в нем хитрого, предприимчивого честолюбца и корыстника, который готов был ничем не пощадить для себя, отличает в нем характер несовместный с высокою любовью к отечеству»18. Вывод Максимовича решителен и энергичен: «Пушкин понял совершенно и объяснил сей характер».
Рассмотрев также замечания о других персонажах поэмы, Максимович устанавливает, что действующие1 лица в «Полтаве» «совершенно таковы, какими представляет их история».
Пушкин благодарил Максимовича за эту статью о «Полтаве» как о «поэме народной и исторической». В альманахе Максимовича «Денница» на 1831 год была напечатана заметка под заглавием «НаЬепі зиа їаіа ІіЬеІІі» («Книги имеют свою судьбу»). Заметка сопровождалась примечанием издателя альманаха: «Рукопись, из которой взят сей отрывок, содержит весьма любопытные замечания и объяснения Пушкина о поэмах его и некоторых критиках»19. Рукопись Пушкина относится к 1830 году.
Знаменитой болдинской осенью поэт начал большую статью, заключавшую в себе обзор критических суждений о произведениях, созданных им за полтора десятилетия литературной деятельности: «опровержение на все критики, которые мог только припомнить, и собственные замечания на собственные же сочинения» (т. 10, с. 144). «Весьма любопытными», принципиально важными следует считать прежде всего мысли поэта о «Полтаве», о месте поэмы в его творчестве: «...самая зрелая изо всех моих стихотворных повестей» (т. 11, с. 153). Пушкин отвергает мнение о какой-либо зависимости «Полтавы» от Байрона. В «Полтаве» «все почти оригинально», — сказано сперва в рукописи; поэт, однако, счел нужным уточнить: «Это сочинение совсем оригинальное». Далее поэт отстаивает историческую достоверность изображенного (см.: т. 11, с. 164).
До этого Пушкин ни разу не выступал в печати с ответом на суждения критики. Очевидно, он придавал особое значение «Полтаве» и был очень озабочен верным общественным восприятием поэмы. Поэт подчеркивает историческую правду изображенного: «Мазепа действует в моей поэме точь-в-точь как и в истории» (т. 11, с. 164). В предисловии к первому изданию поэмы Пушкин писал о политическом авантюризме и иезуитской сущности Мазепы: «Некоторые писатели хотели сделать из него героя свободы, нового Богдана Хмельницкого. История представляет его честолюбцем, закоренелым в коварстве и злодеяниях, клеветником Самойловича, своего благодетеля, губителем отца несчастной своей любовницы, изменником Петра перед его победою, предателем Карла после его поражения» (т. 11, с. 335).
О лицемерии гетмана, демагогически маскировавшего собственные своекорыстные притязания интересами «вольности» Украины, знал и Рылеев. Еще в 1822 году в плане задуманной трагедии он квалифицировал его как «великого лицемера, скрывающего свои злые намерения под желанием блага к родине» (с. 322).
Свободна от какой-либо идеализации Мазепы и дума «Петр Великий в Острогожске». «В пышном гетманском уборе» «старец бодрый» льстиво и витиевато уверяет Петра в своей преданности. «Может быть, еще невинный, может быть, еще герой», он падает ниц пред «покорителем Азова», кладет к его стопам «щит и саблю» («богатую турецкую саблю, оправленную золотом и осыпанную драгоценными камнями, и на золотой цепи щит с такими ж украшениями» — детализируется в примечании к думе), патетически клянется, что быть врагом врагам Петра считает для себя «славою и честью». Настораживающе звучит авторская ремарка:
Но, казалось, вождь суровый
Что-то в сердце затаил... (с. 162 — 163).
Эпитетом хитрый наделен Мазепа в черновом двустишья:
Что ты задумал, хитрый Мазепа,
Что ты задумал, гетман седой? (с. 326).
В набросках к «Войнаровскому» имеются очень выразительные строки:
Уже Мазепа приступал
К свершенью тайных помышлений,
Умы в Украйне волновал
И двух славянских поколений20
Сердца враждою распалял (с.20).
О «хитром уме и пронырстве» гетмана говорится в предпосланном поэме «Жизнеописании Мазепы», принадлежащем перу А. Корниловича, но «авторизованном» Рылеевым. Здесь отмечается лживость и подлость, интриганство и своекорыстие гетмана. «Замыслив измену, повелитель Малороссии почувствовал необходимость притворства. Ненавидя россиян в душе, он вдруг начал обходиться с ними самым приветливым образом; в письмах своих к государю уверял он более, чем когда-нибудь, в своей преданности; а между тем потаенными средствами раздувал между казаками неудовольствие против России» (с. 188). В «Жизнеописании» подчеркнуто, что к измене Мазепу привело «низкое, мелочное честолюбие»; он демагогически заявлял, будто печется о «пользе сограждан», «в универсалах и письмах своих козакам клялся самыми священными именами, что действует для их блага; но в тайном договоре с Станиславом отдавал Польше Малороссию и Смоленск с тем, чтоб его признали владетельным князем полоцким и витебским» (с. 188).
В заметке о Симеоне Палее, входящей в состав примечаний к первой части «Войнаровского», говорится о коварстве и вероломстве Мазепы, «завистливого к славе, жадного к богатству», о том, как он старался оболгать и очернить Самуся и Палея в глазах Петра, как, не решаясь «захватить Палея силою», «позвал к себе в гости» и «за дружескою чашею заковал доверчивого героя в цепи». Знаменательна при этом ссылка Рылеева на украинскую народную песню:
Ой пье Палий, ой пье
Семен да головоньку клонит,
А Мазепин чура Палию Семену
кайданы готовит (с. 233).
И в печатном тексте поэмы Рылеева можно найти немало свидетельств того, что автор «Войнаровского» умел трезво и верно судить о Мазепе, чье предательство было рассчитано на разобщение русского и украинского народов. Не разгадав лукавства старого политикана, юный Войнаровский отдает ему свое сердце. Но даже в пору безоговорочного преклонения перед Мазепой у Войнаровского временами возникали сомнения:
Не знаю я: хотел ли он
Спасти от бед народ Украйны,
Иль в ней себе воздвигнуть трон, —
Мне гетман не открыл сей тайны.
Подлинные замыслы «хитрого вождя», по признанию Войнаровского, всегда были от него скрыты. Отношение украинского народа к Мазепе выражено в поэме гневными словами, которые бросает пленный казак в лицо изменнику-гетману:
Тебя ж, Мазепа, как Иуду,
Клянут украинцы повсюду (с. 209).
В предсмертных видениях гетмана возникает «митрополит, грозящий взором», возглашающий «с громким хором» в храме:
Мазепа проклят в род и род,
Он погубить хотел народ! (с. 211).
Таким образом, нет оснований полагать, что Рылеев не понимал исторической роли Мазепы. Однако фигура Мазепы все же окружена в поэме неким ореолом. Его неправое дело вдохновляет Андрея Войнаровского. Войнаровский, которому горячо сочувствует поэт, идеализирует Мазепу. Серьезным идейно-эстетическим просчетом было решение поэта возложить функции пропагандиста свободолюбивых идей декабризма на историческое лицо, изменившее родине. Читатель поэмы Рылеева должен был абстрагироваться от подлинных фактов истории, использованных поэтом с агитационной целью.
В «Полтаве» политический и нравственный облик Мазепы раскрыт полно, разносторонне, неотразимо. Риторика гетмана о «борьбе великой», о «милой вольности и славе» опровергается всеми его действиями и побуждениями. В признаниях Марии он сам раскрывает свои сокровенные помыслы:
И скоро в смутах, в бранных спорах, Быть может, трон воздвигну я (т. 5, с. 36).
Выразительный и многозначащий эпитет применил Пушкин в другом месте поэмы при упоминании об этом вожделенном троне — «шаткий» (т. 4, с. 265); в черновой рукописи встречается и «свободный» трон. Мазепа вступает в тайный заговор со шведским и польским королями, при этом, разумеется, менее всего заботится он о судьбе Украины, о благе украинского народа. Автор поэмы отмечает,
Что далеко преступны виды
Старик надменный простирал;
Что он не ведает святыни,
Что он не помнит благостыни,
Что он не любит ничего,
Что кровь готов он лить как воду,
Что презирает он свободу,
Что нет отчизны для него (т. 5, с. 25).
Полновесную этико-историческую квалификацию, столь эмоционально усиленную интонационно-синтаксическим строем периода, художник подтверждает далее, говоря о душевном состоянии гетмана:
...звезды ночи,
Как обвинительные очи,
За ним насмешливо глядят.
И тополи, стеснившись в ряд,
Качая тихо головою,
Как судьи, шепчут меж собою.
И летней, теплой ночи тьма
Душна, как черная тюрьма (т. 5, с. 44).
Нет необходимости распространяться о том, как психологически обогащается картина благодаря образам обвинительных очей, качающих головой судей, черной тюрьмы и ассоциативных рядов, связанных с этими понятиями (эпитету «обвинительные очи» в черновике предшествовали отмененные варианты: «подозрительные», «укоризненные» (т. 5, с. 267). Не избыточно ли сгущение мрачных тонов в облике преступного гетмана? Автор поэмы, по-видимому, предвидел подобные сомнения («...ни одного доброго, благосклонного чувства! ни одной утешительной черты! соблазн, вражда, измена, лукавство, малодушие, свирепость...» (т. И, с. 160).
И общественно-политический, и нравственный облик старого гетмана в «Полтаве» резко отрицателен. «Что изобразил я Мазепу злым, в том я каюсь: добрым я его не нахожу, особливо в ту минуту, когда он хлопочет о казни отца девушки, им обольщенной». Любовь хана Гирея («Бахчисарайский фонтан») к польской княжне пробудила в нем, деспоте, пресыщенном властью над подчиненными и в том числе над своими гаремными наложницами, большое человеческое чувство. Отношение Мазепы к Марии Кочубей в поэме «Полтава» лишено той всепоглощающей и очеловечивающей силы. Конечно, самоотверженная преданность юной возлюбленной не оставляет его равнодушным. С Марией он забывает подчас «судьбы своей и труд и шум». «Окаменелое годами», сердце старика-гетмана «в огне страстей раскалено». В порыве он может порой поверить Марии свои честолюбивые замыслы. Но он не способен ответить на чувства Марии, на их глубину и безоглядность. В «старике суровом» берут верх карьеристские побуждения. Фальшивы его клятвы Марии: «...тебя люблю я больше славы, больше власти» (т. 5, с. 35).
«Полтава» создана Пушкиным, когда он был уже автотором «Бориса Годунова» и большей части романа «Евгений Онегин» (седьмая, предпоследняя, глава романа, как полагают, была начата в августе 1827 года, работа над ней продолжалась весной и осенью 1828 года). Традиции шекспиризма явственно сказываются в поэме. Изображение Мазепы лишено односторонности и схематизма. «С поникшею главой», «тихий и угрюмый» (т. 5, с. 43) (в черновике: «и бледный и угрюмый» (т. 5, с. 243) сидит он накануне казни Кочубея «в светлице девы усыпленной». Ему не удается убежать «от угрызений змеиной совести своей». «Содрогаясь», он «отвращает взгляд» от спящей Марии, представляя себе, каким ударом будет для нее весть о казни отца. Тяжелые думы одолевают его в «уединенном» саду. «Слабый крик», «невнятный стон», который чудится ему из замка, где пытают Кочубея, потрясают гетмана. «Невольным страхом поражен», он входит в опустевшую светлицу Марии, «смятенный» бродит по саду, «нездешней мукою томим», проводит бессонную ночь (т. 5, с. 46, 47) и т. д.
Однако и в государственно-политическом плане, и в сфере личных отношений это крайне непривлекательная фигура. Главным, определяющим началом в пушкинском истолковании образа является беспринципность и этический нигилизм авантюриста, любой ценой рвущегося к власти; его тирады о благе родины, о свободе Украины — фарисейство. Украинский народ не откликнулся на призывы Мазепы. Авантюру поддерживают, судя по поэтическому тексту Пушкина, наименее сведущие слои («Роптала юность удалая, Опасных алча перемен»). Украинцы, умудренные жизненным опытом, помнят «Богдана счастливые споры, Святые брани, договоры И славу дедовских времен» (т. 5, с. 24). Их не влечет перспектива «опасных перемен»: они верны «святым договорам» о единстве Украины с Русским государством.
Завершая свою статью, Максимович отмечает: «Во время пребывания шведских войск в Украйне малороссияне до половины истребили их; а когда Мазепа, развив знамя бунта, объявил, что он отлагается от России и соединяется с шведом, то войска оставили его» 21.
Возражения критиков вызывал и образ Марии Кочубей, созданный Пушкиным: «Отчего она так сильно влюбилась в седого старца, презрела всех юношей, бежала из родительского дома и нежится с дряхлым, больным гетманом, как с Адонисом? — вопрошал Булгарин. — Мне кажется, что не любовь, а женское тщеславие ввергло в пропасть дочь Кочубея. Но в поэме Мария представлена нежною, пламенною любовницей, а -не тщеславною красавицей, которая презрела все обязанности, чтоб быть первою в Малороссии, панею гетманшею». Свой вывод Булгарин формулировал достаточно определенно: «Читатель не может этому поверить»22.
И вновь суждения Булгарина опровергает Максимович. Сперва он отводит упрек в нарушении психологической правды создателем поэмы. «Любовь сия есть, конечно, необыкновенное, нельзя сказать, однако ж, небывалое явление, по крайней мере, в Матрене не подлежащее сомнению», — отмечает Максимович и далее обстоятельно аргументирует свое утверждение, стремясь проникнуть в -строй необычных душевных движений Матрены-Марии и объяснить «логику» ее чувств и побуждений. При этом автор статьи обнаруживает тонкое понимание сложно опосредствованных факторов, определяющих собой внешне скрытую, противоречащую в данном случае традиционным представлениям эмоциональную жизнь личности. Сокровенные и, казалось бы, необъяснимые мотивы чувствований и поступков крестницы Мазепы обретают в рассуждениях Максимовича несомненную причинно-следственную взаимосвязанность и взаимообусловленность. «Влюбленный в Матрену, образованный, красноречивый, вкрадчивый в сердца и опытный в делах любви Мазепа мог привлечь сердце юной пламенной украинки и завладеть им, — пишет автор статьи «О поэме Пушкина «Полтава» в историческом отношении». — Он мог своею любовью, своими рассказами возбудить в ней участие к себе, уважение, мог даже пробудить в ней и честолюбие; но все это перешло наконец в любовь, которая одна только и могла заставить ее пренебречь всем, покинуть дом отцовский и отдаться Мазепе; ибо что за честь быть наложницею гетмана, особливо при тогдашнем образе мыслей?»23
Пушкинский текст давал полное основание для подобных посылок и умозаключений. Поэт обосновывает действия своей героини, с безупречным художественным тактом обращаясь к сфере человеческой психики. Достаточно сослаться и на обобщающую сентенцию в начале «Песни первой»:
Не только первый пух ланит
Да русы кудри молодые,
Порой и старца гордый вид,
Рубцы чела, власы седые
В воображенье красоты
Влагают страстные мечты (т. 5, с. 21 — 22), — и на многочисленные штрихи облика героини, проступающие по ходу повествования. Отвечавшая «молчаньем гордым» на «приветы женихов», она «лишь гетману внимала», «...всегда певала Те песни, кои он слагал», «с неженскою душой» «любила конный строй. И бранный звон литавр и клики Пред бунчуком и булавой Малороссийского владыки». Старик-гетман «заворожил» ее «своими чудными очами», «своими тихими речами», она «с благоговеньем» возводит «ослепленный взор» на его «кудрявые седины», она ревниво осведомляется, «кто эта Дульская», за здоровье которой, как ей известно, «пил недавно» Мазепа; он «тайны смелых, грозных дум Ей, деве робкой, открывает» и т. д. Из пушкинских строк возникает волевая натура, охваченная всепоглощающей страстью и пренебрегшая ради этого «общественным мнением»:
Что стыд Марии? Что молва?
Что для нее мирские пени? (т. 5, с. 32).
Исключительный интерес представляет один из экскурсов в «творческую мастерскую» Пушкина, которыми так богата монографическая работа И. В. Измайлова об истории создания «Полтавы». Оказывается, в черновике отрывка о любви Марии к гетману было четверостишье, позднее исключенное автором:
Так юный плющ, виясь, глядится
В решетку (сумрачной) тюрьмы,
Где преступление томится
Во глубине печальной тьмы.
По предположению ученого, Пушкин мог отказаться от этого сравнения как от слишком традиционного и сентиментального и вместе с тем (наверное, главным образом) как от такого, которое не содержало «того внутреннего смысла, какого он требовал от всякого поэтического сравнения». Справедливым и метким представляется вывод Н. В. Измайлова. «Для изображения страстной любви Марии к старому гетману скромный плющ, обвивший тюремную решетку, явно не подходил» 24. В другом месте, по наблюдению этого же автора, первоначальному уподоблению Марии жалобно воркующему голубю Пушкин предпочел, очевидно, из чех же соображений сравнение с серной 25.
Полемизируя с Булгариным, ставившим под сомнение художественно-психологическую и историческую достоверность образа Марии в поэме «Полтава», Максимович считает нужным привлечь еще один документально-исторический аргумент: подлинные письма гетмана к его возлюбленной. Выдержки из этих писем неопровержимо удостоверяют, что Матрене Кочубей «не представлялась иная доля и не было надежды быть гетманшею», что Мазепа «ясно открывал ей будущую участь»26. Письма эти действительно могут служить красноречивейшим источником для уяснения сущности взаимоотношений между гетманом и юной Кочубеевной и для верного понимания ее личности. Достаточно ограничиться даже несколькими выдержками, извлеченными из писем, чтобы в том убедиться. Эпистолы престарелого любовника проникнуты нежностью. Вот как он обращается к своей возлюбленной: «Мое серденко, мой квите рожаной», «мое сердечне коханье», «мое серце коханое», «моя сердечне коханая», «наймилшая, найлюбезнийшая Мотроненько». Письма изобилуют страстными признаниями: «Сердечне на тое болию, що не далеко от мене идешь, а я ни могу очиць твоих и личка биленкого видити; через сее писмечко кланяюся и вси члонки целую любезно...»; «Уже ти мене изсуши-ла...»; «Назначи хоть на одну минуту, коли маемо з тобою видиться для общаго добра нашего, на которое сама ж прежде всего соизволила есь была, а нем тое будет, пришли намисто з шии своей, прошу» и т. д. «Сама знаешь, як я сердечне шалене люблю Вашу милость; еще никого на свити не любив так; мне б тое щастье и радость, щоб нехай ихала да жила у мене, тилко ж я уважав, який конец с того може бути...» — писал шестидесятилетний гетман своей юной крестнице. Она сетовала на то, что он не оставил ее у себя; он пытается объяснить ей вынужденность этого решения. На ее упреки он отвечает: «Вперед смерти на себе сподивався, ниж такой в серцу вашом одмини. Спомни тилко на свои слова, спомни на свою присягу, спомни на свои рученки, которые мини не поединократ давала: же мене хочь будешь за мною, хочь не будешь, до смерти любити обицяла». Он напоминает ей ее слова «любити и сердечне кохати не перестану, на злость моим ворогам», говорит о «злости и заедло-сти» ее «родичов» и советует ей: «Коли они, проклятии твои, тебе цураются, иди в монастырь, а я знатиму, що на той час з Вашою Милостю чиныти...»27
Несомненно прав исследователь поэмы, утверждающий, что Пушкин, смещая — в соответствии со своей эстетической задачей — некоторые исторические данные (Мария в поэме остается во дворце гетмана длительное время, до казни Кочубея), должен был подвергнуть фактический материал определенной переработке. Поэт углубил чувство гетмана к дочери Кочубея. В идейно-художественной концепции поэмы необходимым звеном стало двойное поражение Мазепы. Политический банкрот, он оказывается банкротом и в интимной сфере. В сцене последней встречи с безумной Марией он слышит слова, насыщенные огромным «подспудным» смыслом:
Я принимала за другого
Тебя, старик (т. 5, с. 62).
...Ты безобразен. Он прекрасен:
В его глазах блестит любовь,
В его речах такая нега!
Его усы белее снега,
А на твоих засохла кровь! (т. 5, с. 62).
С неотразимой образно-эмоциональной убедительностью в конце поэмы раскрывается «вся полнота крушения гетмана — не только политического, но и человеческого, в личном его чувстве, погубленном ради политических честолюбивых целей»28.
В упоминавшихся заметках 1830 года, частично напечатанных во второй книжке «Денницы», Пушкин иронически говорит о критиках, которые «объявили» ему, «что отроду никто не видывал, чтоб женщина влюбилась в старика, и что, следственно, любовь Марии к старому гетману (НВ: исторически доказанная) не могла существовать» (т. 11, с. 164).
В своей сущности, в основных чертах характера образ «девы грешной» верен прототипу: безоглядная и самозабвенная любовь Матрены-Марии к своему крестному отцу исторически доказана, как подчеркивал поэт.
О том, что «любовный эпизод, послуживший центром превосходной поэмы Пушкина «Полтава», совершенно достоверен», писал в свое время В. Г. Короленко. По слову этого замечательного художника, «любовь молоденькой Ко-чубеевны к седому старцу является одним из парадоксов женского сердца, скрепленным историей»29. М. П. Драгоманов, рассматривавший образ Марии как «одно из первых живых русских лиц в нашей литературе», полагал, что черты героини пушкинской поэмы «навеяны женскими украинскими песнями, так полными нежности и страсти»30.
Образу Марии в его соотнесенности с образом Мазепы принадлежит весьма существенная роль в художественном обосновании одной из ведущих идей пушкинской поэмы. История взаимоотношений «молоденькой Кочубеевны» и старого гетмана эмоционально углубляет и психологически обогащает историю предательства последнего, повествование о его авантюризме, честолюбивых помыслах и полном политическом крахе.
В эпилоге поэмы приподнято торжественно звучат строки о «герое Полтавы» Петре, воздвигшем в «воинственной судьбе» «северной державы» «огромный памятник себе» (т. 5, с. 63). В ином интонационном ключе выдержана информативная «справка»: «Забыт Мазепа с давних пор». С явной симпатией говорится здесь о Кочубее и Искре:
Но сохранилася могила,
Где двух страдальцев прах почил:
Меж древних праведных могил
Их мирно церковь приютила (т. 5, с. 64).
Пушкин счел нужным привести в примечаниях к поэме надпись, высеченную на надгробной плите в Киево-Печерской лавре:
Кто еси мимо грядый о нас неведущий,
Елицы зде естесмо положены сущи,
Понеже нам страсть и смерть повеле молчати,
Сей камень возопиет о нас ти вещати... (т. 5, с. 67).
Пушкинская концепция личности Мазепы и его места в истории соответствует традиции русских и украинских народных песен, легенд и дум. Двоедушие и вероломство Мазепы клеймится в украинском фольклоре. «При чтении «Полтавы» реально ощущаются прекрасные и трагические образы, столь -близкие украинским думам и песням, — верно отмечает А. Д. Соймонов. — Это ощущение усиливается, когда в конце поэмы перед читателем предстает образ народного певца...»31 Мотивы украинской (и русской) народной поэзии в художественной системе «Полтавы» органичны: они обусловлены общественно-исторической мыслью поэмы, отвечающей народной оценке изображенных событий.
«Полтава» относится именно к тому поэтическому роду, который, по выражению М. А. Максимовича, «наиболее сходствен с духом нашей народной поэзии». В истолковании образа Петра как олицетворения созидательных сил и мощи России, в оценке Полтавской битвы и изображении беззаветной самоотверженности русских солдат Пушкин верен традициям народного эпоса. В. В. Виноградов писал о синтезе современной Пушкину поэтической речи с образами и фразеологией устной народной поэзии и приметами стиля русской письменности XVIII века как стиля эпохи32.
Фольклорное начало отчетливо обнаруживает себя уже в зачине поэмы (строфа о «богатом и славном Кочубее» с последующей развернутой негативно-противительной конструкцией; строфа о Марии, насыщенная народно-поэтическими сравнениями: как вешний цвет, как тополь и т. п.; последующие уподобления лебеди, лани, устойчиво метафорические формы типа глаза-звезды). Фольклорная стихия неизменно сказывается далее по ходу развития линии Марии и Кочубея (отрицательные сравнения, повторы, эпитетика, приемы метафоризации), пронизывает «романс» о юном полтавском казаке, безответно влюбленном в Марию (чередование куплета-загадки и куплета-отгадки, повторяющиеся вопросительные обороты, анафоры, традиционные эпитеты и т. д.). В полном соответствии с фольклорной системой в концовке поэмы рисуется образ украинского кобзаря, знаменующий композиционную завершенность произведения33.
Давно стало хрестоматийным пушкинское изображение летней украинской ночи. Этот прозрачный лирический пейзаж дважды вводится во вторую песнь поэмы, контрастно подготавливая сперва рассказ о ждущем казни Кочубее с его мучительными переживаниями, затем — о погруженном в мрачные раздумья Мазепе.
О художественном совершенстве, о поэтическом «чуде» пушкинского пейзажа хорошо сказала Вера Инбер: «Я читаю «Полтаву», описание украинской ночи:
...чуть трепещут
Сребристых тополей листы.
Луна спокойно с высоты
Над Белой Церковью сияет...
Здесь я прерываю чтение, и лунная ночь окутывает меня. Мне начинает казаться (мне и сейчас так кажется), что именно она, эта Белая (белая) Церковь, вобрала в себя весь лунный блеск и залила таким волшебным сиянием всю округу.
Но ведь «Белая Церковь» — это только название местности, спохватываюсь я. Это не заслуга поэта. Нет, это не только название местности, возражаю я себе. Это еще и белизна колокольни, над которой Пушкин поднял полную луну...»34
В тексте поэмы встречаются скупые, но емкие детали, свидетельствующие о том, как хорошо поэт знал Украину и как заботился о создании в «Полтаве» необходимого историко-национального колорита и достоверном воссоздании некоторых особенностей бытового уклада.
Надеждин цитировал строки:
Редела тень. Восток алел, Огонь казачий пламенел, Пшеницу казаки варили —
для того, чтобы, упиваясь сомнительным остроумием, сопроводить их ироническим комментарием: «Спасибо поету за пояснение. А то бы поломать нам, простякам, голову, что ето был за огонь казачий»35.
В пушкинском черновике сперва говорилось об отвлеченной «пище» (т. 5, с. 303). Затем поэт предпочел конкретизировать: чумаки в своих поездках, казаки в походах обычно варили кулеш — густой суп из толокна, гречи и т. п. Автор поэмы включает — с большим тактом — в текст произведения отдельные украинизмы (бытовые понятия, исторические реалии и т. д.), порой считая .необходимым объяснить их в примечаниях (хутор, бунчук, булава, универсал, кат), порой оставляя их без разъяснения (сердюки, пан гетман), иной раз вводя специфические речевые обороты во внутренний монолог Мазепы (впрячь неможно).
Нужную тональность поддерживают и сочетания типа как тополь киевских высот, в тени украинских черешен и т. п.
Кочубей в ночь перед казнью вспоминает
...свою Полтаву,
Обычный круг семьи, друзей,
Минувших дней богатство, славу
И песни дочери своей (т. 5, с. 39 — 40).
В черновике двум последним стихам соответствовали иные:
Свое богатство, роскошь, славу
Спокойный ток минувших дней
(спокойствие минувших дней) (т. 5, с. 235).
Благодаря предпочтенному варианту психологически обогащается рассказ о душевном состоянии Кочубея и вместе с тем подчеркивается в облике Марии ее песенный дар (о чем упоминалось вскользь в начале поэмы: «она всегда певала Те песни, кри он слагал» (т. 5, с. 22). Украинская фольклорная традиция обычно щедро наделяет героиню «певучестью».
Дополнительным подтверждением народности пушкинской оценки Мазепы в «Полтаве» может служить любопытная публикация, появившаяся спустя год после выхода в свет поэмы (на эту публикацию обратил внимание автора настоящего очерка рецензент рукописи В. Э. Вацуро).
В 1830 году в альманахе «Эхо» печатается «Малороссийская дума» о гетмане Мазепе. Несмотря на анонимность публикации, не приходится сомневаться в ее принадлежности М. А. Максимовичу.
Мы ссылались в предыдущей главе на рассказ Максимовича о посещении им Пушкина в 1829 году после возвращения поэта из поездки в Арзрум. Тогда же он познакомил Пушкина с текстом неизвестной ему «народной песни о Мазепе». Песня должна была привлечь поэта: «мнение народное» всецело поддерживало пушкинское понимание событий. Не удивительно, что, «прочитав дважды» по описку Максимовича, автор «Полтавы» «потом повторял уже наизусть» строки про «невиннії душі» и про «пса Мазепу» (см. выше, с. 60 — 61).
Со словами из цитированного рассказа Максимовича — «Еще в детстве своем я слышал эту песню от слепой старухи на хуторе Самусевка (Хорольского уезда)» — прямо перекликается справка, сопровождающая публикацию в альманахе: «Дума сия (...) списана со слов одной 90-летней старухи, в деревне Самусевке». Существенно и то, что в комментарии к песне четко сформулирована мысль, которую отстаивал Максимович в «Атенее», опровергая булгаринское истолкование «Полтавы». По мнению автора комментария, дума эта замечательна «более в историческом, чем в поэтическом отношении». Она «сочинена около 1710 года, вскоре после того, как окончились вероломные замыслы переметного гетмана Мазепы и признана невинность погибших от него Кочубея и Искры» («Эхо», 1830, с. 223).
Текст песни с сопроводительной справкой, повторяющей часть примечания из альманаха, включен Максимовичем в сборник «Украинские народные песни» 1834 года (с. ПО — 111). Объем примечаний в сборнике сокращен, кое-что уточнено. Уместно, по-видимому, привести здесь эту песню, поскольку соотнесенность ее с пушкинской «Полтавой» очевидна (объяснения ряда украинских слов, имен и понятий опускаем):
Мазепо Гетьмане,
Израдливый Пане!
Злее починает,
3 шведом накладает,
И на царя восточного
Руки подыймает.
Подняв еси орду,
Изробив тревогу.
А при той измене був
Кочубей да Искра:
Пошли-ж воны з-под Полтавы
Да до царя знишка.
А царь веры не доняв,
До Мазепы одослав.
Скоро-ж их Мазепа узрел —
Барзо звеселився;
А Кочубей из Искрою
Слезами облився.
Усе паны сенаторы,
Усе бенкет мали;
Кочубея из Искрою
Барзо забували.
Ой тольки-ж их не забув
Миргородский пане,
Що Кочубей из Искрою
За Вкраину стали!
У Киеве на Подоле
Порубаны груши;
Погубив же пес
Мазепа Невинный души!
Ой вьігорів весь Батурин,
Зосталася хата;
Уже-ж твоя, пес Мазепо,
И душа проклята.
Був у тебе, пес Мазепо,
Один хлопець немець...
Пошло ж твое, псе Мазепо,
Усе добро нивець!
«Полтава» с ее пафосом единства национально-государственных интересов русского и украинского народов всегда была близка прогрессивной украинской общественности. Демократическому читателю на Украине не могли не импонировать также украинские мотивы, входящие в качестве важнейшего компонента в идейно-образную систему пушкинской поэмы.
Так, М. П. Драгоманов в статье «Литература русская, великорусская, украинская и галицкая» указывал на значение «Полтавы» для украинской культуры. Отмечая, что в пору появления пушкинской поэмы об Украине по-украински говорилось очень немного (он называет произведения И. П. Котляревского), Драгоманов подчеркивает, насколько ценно, когда в таких условиях литература «напоминает о крае, его истории и традициях»36.
Народные истоки пушкинской баллады «Гусар» давно привлекли внимание ученых. «Гусар» впервые появился на страницах «Библиотеки для чтения» в 1834 году, а год спустя был напечатан в четвертой части «Стихотворений» Пушкина в соседстве с такими произведениями, как «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», «Будрыс и его сыновья», «Воевода», «Сказка о золотом петушке», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Песни западных славян».
«По моему мнению, журналисты с ума сходили, когда было начали нас уверять, будто Пушкин остановился, даже подался назад, — писал ссыльный Кюхельбекер. — В этом «Гусаре» гетевская зрелость таланта. Если Полевые этого не чувствуют, тем хуже для них»37. Быть может, оценка «Гусара» здесь и чрезмерно эмоциональна, но несомненно, пушкинскую балладу по праву следует отнести к числу замечательных стихотворений, созданных поэтом в 30-х годах. «Гусар» дает достаточно оснований говорить о высокой зрелости пушкинского фольклоризми.
Основной мотив стихотворения «Гусар» варьируется в фольклоре разных народов, особенно часто в украинских сказках. Отдельными подробностями пушкинская баллада перекликается с рассказом Ореста Сомова «Киевские ведьмы», появившимся в альманахе «Новоселье» за 1833 год (в той же книжке альманаха напечатан «Домик в Коломне» Пушкина). Не исключено, что одним из дополнительных импульсов к созданию стихотворения и послужил рассказ Сомова, Безусловно верно и принципиально важно, однако, соображение А. И. Белецкого о том, что «сходство некоторых деталей не должно затушевывать для исследователя существенных различий»38. В самом деле, сходный сюжетный мотив (герой на шабаше у ведьм) в рассказе «Киевские ведьмы» и балладе «Гусар» истолковывается по-разному. Любопытное обстоятельство: В. В. Данилов, соотнесший балладу Пушкина с рассказом Порфирия Байского, констатирует, что сходный народно-демонологический мотив, переданный в рассказе «на полном серьезе», в стихотворении приобретает юмористическое звучание. Однако магнетическое воздействие текстуальных или сюжетных подобий оказывается еще неодолимым, и ученый, признавая, что «художественное чутье Пушкина заставило его изменить тон рассказа»39, тем не менее выдвигает рассказ «Киевские ведьмы» на первый план в качестве источника «Гусара».
Определяющим при сравнительном изучении литературных фактов в современном советском литературоведении является не механическое сближение тех или иных частностей сюжета, образной картины или художественного текста, а идейно-эстетическое восприятие и освещение «заимствованного», близкого или созвучного. Функциональное значение отдельных подобий в содержании «Гусара» и рассказа «Киевские ведьмы» принципиально различно, на что решительно указал в свое время А. И. Белецкий. Казак, побывавший на Лысой горе на сборище ведьм, находит там свою жену, узнает от нее, что она вампир, и погибает от ее поцелуев. Рассказ, в котором так интерпретируется демонологический сюжет, «полностью принадлежит к тому литературному течению, с которым полемизирует Пушкин данной своей балладой»40.
Следует заметить, что нередко Сомов-беллетрист прибегает к «разрядке» всякого рода таинственно-фантастических ситуаций. В одном случае («Сказки о кладах») загадочно-интригующий сюжетный элемент получает комически бытовую нейтрализацию. В другом («Видение наяву») — народно-демонологическая фабула предваряется предисловием, в котором традиционные атрибуты повествований о зачарованных замках, колдунах, карликах освещены иронией, а век романтических страстей и эффектов объявляется безнадежно устаревшим. В третьем («Матушка и сынок») — автор с полемической заостренностью раскрывает контраст между сентиментально-романтическими штампами и провинциальным помещичьим укладом и т. д. Но в рассказе «Киевские ведьмы» какая-либо «разрядка» демонологического отсутствует. «Чертовщина» же в пушкинской балладе дана в приземленно-юмористическом обрамлении. Если Гоголь в «Вечерах на хуторе близ Диканьки», вводя «сверхъестественное» в поток повседневного крестьянского бытия и освещая демонологические «страсти» лукавой улыбкой, отрицал тем самым изжившие себя штампы фантастической повести романтиков, Пушкин в балладе «Гусар» иронизировал над обязательными аксессуарами романтической баллады и над самим жанром, достаточно скомпрометированным к тому времени эпигонами.
Художественная прелесть стихотворения обусловлена прежде всего самой тональностью рассказа, восходящей к образности и интонации украинской народной сказки. Сюжет о солдате, который вслед за своей хозяйкой чудесным образом оказывается на шабаше ведьм (в некоторых вариантах главные персонажи — муж и жена-колдунья), хорошо известен по фольклористическим записям. М. Ф. Сумцов сопоставлял пушкинские стихи с несколькими украинскими сказками, записанными на Подолии, Харьковщине, Екатеринославщине. П. Н. Попов отметил дополнительные параллели, привлекая вариант, опубликованный М. Драго-мановым в 70-х годах прошлого века в книге «Малорусские народные предания и рассказы». Все говорит за то, что популярный народно-сказочный сюжетный мотив Пушкин взял из украинского фольклора: события, описанные в стихотворении, происходят в Киеве, на берегу Днепра, хозяйка наделена именем Марусенька, в тексте стихотворения имеются украинизмы: галушки, молодицы, чернобривая, хлопец и т. п. Герой стихотворения — русский гусар, «и украинская жизнь, вернее, мир украинской сказки, увиденный глазами этого героя, проходит и перед читателем»41. Все повествование о фантастических происшествиях и волшебных превращениях идет от лица рассказчика; выразительные черты бывалого солдата, разбитного и склонного к похвальбе, превосходно воссозданы его лексикой, интонационно-синтаксическим строем, экспрессивной окраской его речи: прибью, напьюсь, мигну, кума ни в чем не прекословит и т. п. Житейско-прозаические детали (ухват, лохань, горшки, кочерга) «разряжают» фантастику повествования.
П. Н. Попов справедливо подчеркивает «гармоническую, солнечную» развязку стихотворения, «в которой, собственно, вся его соль»42. «Демонология» баллады «Гусар» мотивируется вполне реалистически: вся забавная история с чудесными трансформациями могла возникнуть в воображении выпившего гусара.
По всей вероятности, именно украинские народно-поэтические источники имели конструктивно наиболее плодотворное значение для пушкинской баллады.
Вместе с тем представляет безусловный интерес и вопрос относительно литературных аналогов «Гусара».
Речь шла о «Киевских ведьмах» Ореста Сомова. Речь может идти и о других литературных явлениях, варьировавших родственные мотивы. При этом строгая датировка написания и публикации соответствующих произведений не суть важна. Важным представляется не то, что в разработке близкого сюжета тот или иной литератор предварил создание пушкинской баллады. Существенно иное: художественное освоение сопредельных образов и мотивов, свидетельствующее об активном обращении русской литературы 20 — 30-х годов XIX столетия к украинскому материалу, и в частности к «демонологической» ветви украинского фольклора.
На первом месте в этом плане должны быть названы «Вечера на хуторе близ Диканьки». Гоголь работал над ними с 1829 по 1831 год. Появление их в печати вызвало, как известно, большой резонанс. В научной литературе обстоятельно рассмотрено их «родство» с кругом украинских народных источников. Упомянутую А. И. Белецким в связи о украинской темой у Пушкина повесть «Пропавшая грамота» соотносят с украинскими народными рассказами о шабаше ведьм, о пребывании портных и сапожников у чертей и т. п., отмечают присущие ей шутливо-комические интонации.
Можно сослаться также на «Украинскую балладу» Лукьяна Якубовича (1836). Автор стихотворения развертывает картины со знакомыми уже нам образами и деталями:
Ночь морозна, светла;
Будто пар из котла,
Дым валится из хат;
Вместе с ним на подряд
Ведьмы все поднялись,
В небе клубом свились.
И полночной порой
Вот одна за одной
Стали звезды мелькать
И с небес пропадать:
Стали ведьмы их красть
И за пазуху класть и т. д.43
В балладе Якубовича используются лексические украинизмы: черт, возникающий здесь «средь воздушных равнин», ухватил луну и «заховал под кожух»; решивший покончить с собой «отщепенец-казак», столкнувшись на темном чердаке с чертом, в ответ на предложение последнего зажечь фонарь, отвечает: «Добре, кум, посвети».
Итак, пушкинский «Гусар» не стоит особняком. Родственная образность, родственные подробности, восходящие к украинскому фольклору, встречаются у разных авторов. Совершенно очевиден в русской литературе тех лет повышенный интерес к мотивам и источникам подобного рода. Несомненно, и в читательском восприятии той поры они создавали определенную эмоциональную атмосферу.
Рассматривая балладу «Гусар» в историко-литературном контексте, мы имеем возможность судить о своеобычности пушкинского истолкования популярных образов и мотивов.
Значение украинских источников, в первую очередь и главным образом украинской народной поэзии, для Пушкина нельзя свести ни к его публицистическим высказываниям, связанным с Украиной, при всей их весомости и ценности, ни к «украинской теме» в его творчестве, при всей ее идейно-эстетической содержательности и новизне.
Приобщение к украинскому народно-поэтическому творчеству, раздумья над историей украинского народа — в ряду других важнейших импульсов творческого развития поэта — способствовали углублению, мужанию пушкинского реализма, опосредствованно сказались в создании «Евгения Онегина», «Медного всадника» и «Капитанской дочки».
ГЛАВА IV
ВЕЛИКИЙ ПОБРАТИМ
История восприятия художественного мира Пушкина на Украине — большая самостоятельная тема. Немало интересных в этом плане наблюдений и мыслей содержится в трудах советских исследователей А. И. Белецкого, М. Н. Пархоменко, Н. Е. Крутиковой, Е. П. Кирилюка, Д. В. Чалого и других ученых. Но во всем своем объеме тема эта, призванная раскрыть значение пушкинского опыта, пушкинских традиций для украинской культуры, ждет еще дальнейших изучений. Мы коснемся здесь лишь отдельных граней ее. Даже сжатый обзор некоторых фактов позволяет судить о выдающейся роли пушкинского наследия в развитии передовой украинской литературы XIX — начала XX столетия.
Еще при жизни Пушкина в печати появляются свидетельства высокого признания его творчества украинской литературой и первые попытки восприятия пушкинского наследия. Речь идет о ранних украинских переводах из Пушкина.
Переводу, как известно, принадлежит первостепенная роль в истории освоения одной национальной культурой литературного достояния, созданного другой.
Русский и украинский — языки близкородственные, но самостоятельные. Великодержавные шовинисты, идеологи официальной программы «православия, самодержавия, народности» отрицали само право украинского языка на существование. Украинский язык подвергался нападкам и со стороны русских и украинских реакционно-консервативных публицистов разных мастей. Но еще во второй половине 30-х годов XIX столетия такие украинские литераторы, как Л. Боровиковский, Г. Квитка, говорили не только о красоте украинского языка, но и обосновывали мысль о его больших потенциальных возможностях.
Мелодичность и выразительность украинской речи высоко оценивали, как мы знаем, многие деятели русской культуры от Ф. Глинки и К. Рылеева до Пушкина и Гоголя.
Для немалой части украинских читателей XIX века русская литература была в большей или меньшей мере доступна и в оригинале. Тем не менее украинские переводы с русского оказались явлением закономерным и благотворным. Шире становился круг приобщавшихся к источникам русской художественной мысли. Повышалась сила влияния этой мысли на читательские умы и сердца, так как литературные произведения, быть может, понятные в общих чертах и без перевода, теперь, воплощенные в родном слове, «перевыраженные» в соответствии с внутренними законами, традициями и специфическими эмоционально-выразительными особенностями украинской речи, создавали новую «художественную действительность», порождающую у читателя полнокровную систему образно-чувственных представлений и ассоциаций. Вместе с тем обращение украинских переводчиков к ценностям словесного искусства братского народа способствовало развитию украинского литературного языка, усвоению опыта русских мастеров слова.
Переводам из Пушкина тут принадлежит особое место.
В отборе объектов для перевода отчетливо выказывается определенная тенденция. Сперва переводится то, что ближе по содержанию, по художественному строю (произведения на украинскую тему, стихотворения с фольклорной образностью и фольклорной интонацией). Оценивать ранние опыты, применяя к ним современные критерии, было бы неисторично. Украинские переводчики той поры еще не видели своей задачи в возможно большем приближении к (первоисточнику, в наиболее полном воспроизведении его идейно-эстетического «заряда», в сохранении присущих подлиннику внутренних связей, образной системы, ритмической организации, интонационной палитры и т. п. По-видимому, и смысловые отклонения, и нарушение принципов эпитетики, и наращивания текста, и введение бурлескной лексики и фразеологии, и изменение системы рифмовки не казалось еще сколько-нибудь «предосудительным». Демаркационная линия между собственно переводом и перепевом в тогдашних представлениях еще не ощущалась.
Основные этапы освоения художественного мира Пушкина украинским поэтическим словом отражают важнейшие этапы и закономерности развития перевода в украинской литературе: свободное варьирование источника, переделки-перепевы, бурлескно-травестийное истолкование, стилизация под украинский песенный фольклор, становление и совершенствование реалистических принципов переводческого творчества. Обращение украинских переводчиков к Пушкину стало одним из самых действенных факторов, определявших формирование реалистического метода в художественном переводе на Украине, последующий интенсивный рост переводческого мастерства и — что наиболее важно — активно способствовавших идейно-эстетическому обогащению украинской литературы.
Появление первых украинских переводов из Пушкина в печати относится к началу 30-х годов. 1830 годом датируются «Два ворона» («Ворон к ворону летит») в интерпретации Л. Боровиковского, год спустя в «Украинском альманахе» печатается «Мария. Отрывок из поэмы Пушкина «Полтава» (переводчик Афанасий Шпигоцкий). В том же 1831 году в «Московском телеграфе», а двумя годами позднее в альманахе «Утренняя звезда» появляются отрывки из «Полтавы», переведенной Евгением Гребенкой. В 1836 году выходит в свет отдельным изданием его полный перевод пушкинской поэмы. На титуле книги значится: «Посвящается Александру Сергеевичу Пушкину».
Упоминая о гребенковском «вольном переводе» (так сам переводчик определил жанровую разновидность своей работы), обычно подробно говорят о бурлескной перестройке пушкинской поэмы, приводят многочисленные примеры снижения ее стиля, неправомерного введения в ее текст чуждых духу оригинала лексических элементов и фразеологизмов, выдержанных в манере «Енеїди» Котляревского и не соответствующих эмоциональному ключу первоисточника: Шмигляв в шатро із-під шатра; його чорти у пеклі ждуть; пятами шведчин накивав; у суточки дав Розен драла; цибульки піднесу під ніс; москаль і швед уже хропе и т. п. Подобного рода примеров, способных вызвать комический эффект у современного читателя, перевод Гребенки дает более чем достаточно. Несомненно, «простецкая» шутливо-разговорная интонация, в которой выдержано повествование у Гребенки, менее всего отвечает сущности пушкинской поэмы, ее социально-этическому пафосу, звучанию ее стиха.
Однако, рассматривая и оценивая литературные явления полуторавековой давности, необходимо последовательно соблюдать принцип историзма. На Украине бурлеск в свое время оказался важным рычагом демократизации литературы. Бурлескные формы активно способствовали движению от церковно-школьной словесности к светской литературе. С бурлеском в литературу приходят живые люди, яркие сцены из народного быта, разговорная речь, народный юмор («Енеїда» И. П. Котляревского, басни П. П. Гу-лака-Артемовского). В новых общественно-исторических условиях функция бурлеска изменяется. Но это будет значительно позднее.
Вместе с тем едва ли оправданным следует считать имсам по себе установившийся подход к «вольному переводу» Гребенки. Приходится признать его известную односторонность.
В научной литературе справедливо предлагалось рассматривать перевод Гребенки в связи с критическими толками об этой поэме в периодике тех лет. Мы останавливались уже на журнальной полемике, помним о булгаринской позиции, запальчивых нападках Надеждина на Пушкина и т. д. Нельзя игнорировать все эти обстоятельства, приступая к анализу перевода Гребенки. Переводчик не случайно остановил свой выбор на «Полтаве»: для него была бесспорной ценность произведения, значительность его социально-исторической проблематики. В стилевой структуре поэмы для Гребенки наиболее близкими были элементы народности, воссоздавая которые он, естественно, обращается к бурлескной традиции. Издержки перевода и объясняются прежде всего тем, что традиция эта сковывала переводчика в воспроизведении героико-патетического начала и лиризма первоисточника.
Совершенно прав, на наш взгляд, Н. Н. Павлюк, отметивший и некоторые безусловно плодотворные тенденции, наметившиеся в переводе Гребенки. Представляется весьма существенным, что «интенсивность бурлескной «окраски» перевода не везде одинакова: она усиливается при обрисовке отрицательных персонажей (в особенности — Карла XII и Мазепы), несколько ослабевает в нейтральных описаниях, а кое-где почти полностью отсутствует и даже сменяется лирической интимизацией (например, при упоминании о престарелом Палее, возвращенном Петром из Сибири и присутствовавшем при Полтавском сражении)»1.
Несмотря на эмоционально-смысловую деформацию ряда эпизодов, переводчик сохраняет решающие акценты в освещении резко противостоящих друг другу основных персонажей пушкинской поэмы — Петра как носителя идеи прогрессивно-исторического развития русского государства и Мазепы с его своекорыстием и нравственным нигилизмом. Действительно, если в образе Петра переводчик стремится пусть порой достаточно наивно — подчеркнуть положительные начала, то в Мазепе он клеймит низость и предательство по отношению не только к Петру но и к украинскому народу, к историческим интересам Украины. Автор, цитированной статьи иллюстрирует это весьма красноречивым примером, сопоставляя оригинал с его переводческим переосмыслением:
Измену ценят меж собой,
Слагают цифр универсалов,
Недобре щось вони товкують,
Землею рідною торгують,
Торгуют царской головой,
Торгуют клятвами вассалов.
Торгують богом і царем
З невірним шведським королем.
Евгений Гребенка в своих юношеских русских стихах испытал ощутимое пушкинское воздействие (написанные им в Нежинской «гимназии высших наук» стихотворения «Степной курган» и «Славянский вечер» соотносят с «Песней о вещем Олеге»), Работа молодого Гребенки над «Полтавой» имела большое значение в процессе формирования его как украинского поэта.
Л. Боровиковский вводит в свои переводы из Пушкина (упомянутые «Два ворона», «Зимний вечер», помещенный в изданном Е. Гребенкой в 1841 году альманахе «Ластівка») элементы украинского быта и украинского народно-песенного творчества. О сущности такой переинструментовки можно судить на основании сопоставления хотя бы небольшого отрывка пушкинского текста с версией, предложенной переводчиком:
Спой мне песню, как синица
Тихо за морем жила;
Спой мне песню, как девица
За водой поутру шла (т. 2, кн. 2, с. 439).
Заспівай, «як мати сина
Виганяла до Орди,
Як до зірочки дівчина
Неньці принесла води»2.
На вопросе об «украинизации» переводимого оригинала мы еще остановимся позднее, в связи с опытами С. Руданского и некоторыми тенденциями переводческого творчества М. Старицкого. Но это относится уже к 60-м годам прошлого века.
Т. Г. Шевченко связывали с Пушкиным живые нити. В близком окружении великого Кобзаря было немало лиц, которые могли делиться с ним непосредственными впечатлениями от встреч с Пушкиным.
Имеются многообразные факты, говорящие об отношении Т. Г. Шевченко к Пушкину. Тут и свидетельства мемуаристов о том, как хорошо знал и как любил украинский поэт — революционный демократ пушкинские произведения. Тут его дневниковые записи и письма, дающие новые и новые подтверждения того, как воспринимал он художественный мир Пушкина, сколь близки были ему многие образы и картины, созданные Пушкиным, какие эмоции будили у него пушкинские стихи. Еще в 1840 году он иллюстрирует акварелью эпизод из «Полтавы». Томик Пушкина отобрали у него в апреле 1850 года во время обыска в Оренбурге. Онмупоминает произведения Пушкина и цитирует их в «Журнале», в русских повестях, заключающих в себе, как известно, бесценный автобиографический материал. «Стихи Пушкина не сходили у меня с языка», — признается рассказчик в повести «Прогулка с удовольствием и не без морали» (т. 4, с. 368).
Известно, что Шевченко имел намерение написать поэму «Сатрап і Дервіш», а в качестве образца для нее он называл «Анджело» Пушкина (см.: т. 5, с. 77). В дневнике зафиксировано посещение спектакля по «Станционному смотрителю» (см.: т. 5, с. 174); спустя месяц Т. Шевченко читает артистке Пиуновой «Сцены из рыцарских времен», «отогревая, — по собственному определению, — губернским холодом обвеянную душу», слушает в исполнении Пиуновой «Каменного гостя» (см.: т. 5, с. 187). Спустя еще некоторое время он заносит в «Дневник» взволнованную запись о чтении М. Щепкиным монолога из «Скупого рыцаря» (см.: т. 5, с. 242).
Впрочем регистрация фактов, лежащих на «поверхности», сама по себе не объясняет существа явлений и процессов. Бесплодны и попытки установления литературного «влияния» на основании сопоставлений сходных фабульных частностей, места действия или встречающихся порой текстуальных подобий. Благодаря трудам А. И. Белецкого, Е. П. Кирилюка, Н. Е. Крутиковой, Ф. Я Приймы и других ученых в современном советском литературоведении получили обоснование подлинно научные и перспективные принципы изучения шевченковского творчества в его связях с предшествующей и современной ему русской литературой, и в частности с Пушкиным.
Выяснено, что опыт Пушкина активно способствовал становлению и углублению шевченковского реализма, формированию важнейших поэтических жанров Шевченко. Становится очевидным стремление украинского поэта «освоить творчество Пушкина не выборочно, а во всем объеме, ибо это отвечало роли и задачам Шевченко в украинской литературе»3. Т. Г. Шевченко привлекают в пушкинском наследии лирика и поэмы, «маленькие трагедии» и проза. Особенно значительный резонанс в творческой деятельности украинского поэта получил стихотворный роман Пушкина, хотя, как и в русской литературе послепушкинской поры, он почти не дал на Украине прямых жанровых потомков. Конструктивно благотворное воздействие оказывает пушкинская «поэзия действительности», последовательно реализуемый в романе синтез лирических и эпических начал, естественность и непринужденность повествования, введение в эпическое полотно сатирической и юмористической струи, смелое использование разговорной лексики и интонации.
Цитирование пушкинского романа у Шевченко не только свидетельствует о том, как любит он произведения русского собрата, как ценит точность и красоту пушкинского слова, но и нередко указывает на то, как близок и созвучен украинскому поэту сокровенный смысл цитируемого во всех его глубинах, со столь частыми у Пушкина значительными политическими ассоциациями. Так, Тараса Шевченко привлекают строки из мудрого и грустного прощания поэта со своим многолетним трудом, с героями романа и его читатели, двустишие со щемящим воспоминанием о «братьях, друзьях, товарищах». Светлые и печальные строки:
Иных уж нет, а те далече, Как
Сади некогда сказал —
возникают в сознании рассказчика (повесть «Прогулка с удовольствием и не без морали»), когда он обращается памятью к «семье непорочных вдохновенных юношей» — давних товарищей своих, студентов Академии художеств. То же двустишье привел однажды ссыльный украинский поэт в письме к П. П. Гулаку-Артемовскому, говоря о своих безотрадных перспективах, вспоминая о собственных спутниках прошлых лет и внося изменение, удостоверяющее, что в его восприятии авторство этой изящной и печальной формулы связано всецело с именем создателя романа: «Правда, були деякі люди, так что ж?
Одних уж нет, а те далече,
Как Пушкин некогда сказал,
и мне теперь осталося одно — ходить отут по степу — долго еще ходить та мурлыкать:
Доле моя, доле,
Чом ти не такая,
Як інша чужая!» (т. 6, с. 85).
Едва ли нужно распространяться о жгучем политическом подтексте, которым насыщено упоминание о Пугачеве в одной из повестей («Близнецы»), созданных певцом «мужицкой революции», отбывавшим десятилетнюю солдатчину за свои идейные убеждения: «[Я] незаметно въехал в Татищеву крепость... и, пока переменяли лошадей, я припомнил «Капитанскую дочку», и мне как живой представился грозный Пугач в черной бараньей шапке и в красной епанче, на белом коне...» (т. 4, с. 90 — 91).
Мир художественных идей и образов Пушкина находит живой отклик в творчестве Шевченко. А. И. Белецкий еще в конце 30-х годов привлекал внимание ученых к изучению, наряду с контактными, историко-типологических связей шевченковского творчества с пушкинским. Украинский поэт, наследуя, развивает и углубляет многие пушкинские темы и образы. Это относится и к идее личной и политической свободы, и к антимонархическим мотивам, к теме Кавказа и теме пророка.
Новое звучание обретает героизация декабристов, в новых исторических условиях значительно повышается накал критики царизма и изобличения царей. Вслед за «самовластительными злодеями», деспотами и ленивыми, глупыми пушкинскими Салтанами и Дадонами Шевченко создает целую галерею «помазанников божьих», чьи образы (Саул и. другие) пронизаны небывалой сатирической силой, сокрушительным гневом и уничтожающим презрением4.
В 20—30-х годах XIX столетия Пушкин не видел и не мог еще видеть созидательные силы крестьянской революции. Но автор «Деревни» все сосредоточенней задумывается над исторической обусловленностью и неизбежностью народных движений. Его неотступно влекут к себе образы Степана Разина и Емельяна Пугачева, он развертывает картины крестьянского бунта в «Дубровском», крестьянской войны в «Капитанской дочке». Наследуя эти образы и эту тему, Шевченко-поэт углубляет и обогащает их.
Горячо волновала украинского поэта проникновенно выраженная Пушкиным мечта о «временах грядущих»,
Когда народы, распри позабыв,
В великую семью соединятся (т. 3, кн. 1, с. 331).
Об этих временах страстно мечтал и Тарас Шевченко.
Вышедшему из глубин народных, выразившему с редкостной художественной энергией нужды, думы и чаяния крестьянских масс, связанному теснейшим образом с миром украинской народной поэзии, Тарасу Шевченко была особенно дорога пушкинская способность прислушиваться к русскому народному слову, к народной песне, к народной сказке.
Специалисты отмечают в творчестве Шевченко синтез фольклорной образности, народной речи с высочайшими достижениями поэтической культуры. Украинский поэт владел всеми возможными средствами словесного искусства для передачи самых сложных душевных состояний и настроений личности, для воплощения в стихе высот политической мысли и глубин философских обобщений. В поэтике Тараса Шевченко сочетаются традиции народной версификации с наиболее значительными завоеваниями в области ритмики. Как писал М. Ф. Рыльский, украинский поэт, несомненно, учел пушкинский опыт в области ритмической организации стиховой речи, в частности в разработке четырехстопного ямба, в использовании выразительных возможностей переноса. В работах А. Л. Жовтиса, Г. К. Сидоренко, Е. П. Кирилюка, П. К. Волынского и других ученых высказан ряд интересных соображений об освоении и новаторской трансформации пушкинского четырехстопного ямба в поэзии Т. Г. Шевченко.
Аналогична роль Пушкина и Шевченко в развитии русской и украинской литературы как создателей литературного языка и основоположников критического реализма.
В творчестве Т. Г. Шевченко украинский литературный язык поднялся на такую высоту, что ему стали доступны все возможные сферы личного и общественного бытия, сокрушительные политические инвективы и тончайшие лирические признания, изображение грозных социальных катаклизмов и сокровенных душевных движений, углубленное философское раздумье и могучие порывы духа.
В поэтической деятельности Т. Г. Шевченко переводу (количественно) принадлежит сравнительно небольшое место. Но значение творческих принципов Шевченко в области художественного перевода очень велико. Огромное значение для украинской культуры имел весь творческий опыт гениального поэта. Новые горизонты открывались для развития переводческого искусства. Процесс этот был, однако, сложным.
1860 годом датируется «Олег — князь київський» С. В. Руданского. Руданский, талантливый поэт-разночинец, известен прежде всего стихотворными обработками народных анекдотов о помещиках, попах, чиновниках, приобретавших под его пером большую сатирическую остроту. Много творческого внимания отдавал он переводам. Руданский переводил на украинский «Илиаду» Гомера и «Энеиду» Вергилия, «Краледворскую рукопись» и «Слово о полку Игореве», русских, польских, чешских и сербских поэтов. Большинство его переводов — это вольные вариации на тему первоисточника, обильно насыщенные элементами украинского быта и украинского фольклора. «Песнь о вещем Олеге» в интерпретации Руданского может послужить показательным образцом в этом плане.
Переводчик почти вдвое увеличивает объем текста, изменяет его стиль, размер, строфику, интонационное движение. Амфибрахическую организацию стиховой речи, принятую обычно в балладах Жуковского, Лермонтова и выдержанную в пушкинской «Песне о вещем Олеге», Руданский заменяет коломыйковой структурой, распространенной в украинском народно-песенном обиходе. Соответственно трансформируется и образно-стилевая система, ориентированная у Руданского на украинскую народно-песенную традицию. Вводимые им дополнительные подробности, иногда сами по себе достаточно живописные, еще больше уводят от первоисточника.
Так, начальное четверостишье оригинала Руданский передает тремя катренами:
Не у гості, а на кості
Ходили коз ар и,
Та не пиво ж і їм буде,
А кров та пожари!
Вже зібрався Олег віщий
На вражу недолю,
їде конем білогривим
По чистому полю.
Блищить броня цареградська,
Шелом аж палає,
І кінь його білогривий
Соколом ступає5.
Тенденцию к «украинизации» переводимого должно рассматривать в исторической перспективе. Расценивать ее как нечто одиозное нет оснований. В этом явлении была своя логика, больше того — известная закономерность. На определенном этапе литературного развития такого рода переводы отвечали требованиям времени. Расширяя читательские горизонты, вводя в национальную литературу новые темы и идеи, новые образы, новые средства стиховой выразительности, они приближали это новое к миру сложившихся эстетических представлений украинского читателя, активно способствовали его духовному обогащению. Отмеченная тенденция отражала стремление переводчика сделать переводимое произведение более понятным и, быть может, более нужным для читателя путем установления прямых связей с окружающей его жизнью.
Но время не стояло на месте, изменялись исторические условия, усложнялись задачи, встававшие перед литературой, повышалось социальное, эстетическое значение художественного перевода.
Выдающаяся роль в развитии перевода на Украине принадлежит М. П. Старицкому. Широко представлены в творчестве Старицкого-переводчика произведения, прямо или опосредствованно связанные с миром народной жизни, народного образно-поэтического мышления, народного слова: сказки Андерсена, басни Крылова, сербский эпос. Старицкий добивается здесь весьма ощутимых результатов. Но если для передачи многих явлений народного бытия и народной психологии, как и для воспроизведения народного юмора и народной героики, украинская литература уже выработала разнообразные средства, то пути художественного проникновения в иные области общественных отношений, драматических коллизий личности, напряженных духовных исканий нужно было еще осваивать. А. И. Белецкий подчеркнул принципиальное значение того тематического обогащения украинского поэтического перевода, которое сказалось в пушкиниане Старицкого: тут «Казак» и «Утопленник», но тут и такие произведения, как «Бесы», «Узник», «Отцы пустынники и жены непорочны», образцы общественно-политической («Деревня») и философской лирики («Брожу ли я вдоль улиц шумных», «Элегия», «Безумных лет угасшее веселье»), программное пушкинское раздумье о собственном творчестве и о призвании поэта («Я памятник себе воздвиг нерукотворный»).
Обновляя и преобразуя традицию (перепева, бурлескной переинструментовки, стилизации под украинскую народную песню), преодолевая инерцию собственной переводческой манеры ранней поры (в «Казаке», например, фигурируют «казак-отаман», «дівчинонька», а действие переносится на реку Сулу), Старицкий становится на путь адекватного перевода. Он видит свою задачу в верной передаче содержания первоисточника, стремится воссоздать в украинском слове и особенности образной системы подлинника, а также его ритмику, организацию рифмовки, интонационное движение и т. п.
Пушкинская лирика в истолковании Старицкого порой терпит заметный идейно-художественный урон (например, смысловые сдвиги в стихотворении, озаглавленном переводчиком «Надгробник»:финн оказывается «чужородним», а народ в знаменитой строке: «И долго буду тем любезен я народу» — неоправданно наделяется определением «кревний»). В целом, однако, работа Старицкого знаменовала утверждение принципиально новых начал в освоении пушкинского творчества украинским поэтическим словом.
К самым ранним литературным дебютам И. Я- Франко относятся его переводы из Пушкина: «Ворон к ворону летит» и баллада «Русалка», вошедшие в его первый сборник стихов (1876). Одной из последних литературных работ Франко — жизнь его, как известно, была исполнена титанического труда в прозе и поэзии, критике и драматургии, публицистике и истории литературы — стала книга переводов всех драматических произведений Пушкина. Она вышла в свет уже после кончины писателя. Таким образом, Пушкин стоял у истоков литературного пути Ивана Франко, Пушкин оказался и заключительным звеном в поистине универсальной деятельности замечательного украинского писателя, ученого, мыслителя.
В ранних переводах Франко чувствуется литературная неопытность, но идейно-художественную доминанту каждого из пушкинских стихотворений молодой переводчик улавливает верно и стремится верно ее воспроизвести. Франко не успел подвергнуть завершающей шлифовке свои переводы пушкинской драматургии, однако созданные лм украинские версии в определяющих чертах соответствуют первоисточнику.
Франко написал предисловие к книге пушкинских пьес и объяснительные статьи к каждому из переведенных им произведений. Хотя в предисловии встречаются неточные формулировки и отдельные фактические ошибки в освещении творческой биографии Пушкина (обусловленные научным уровнем источников, использованных тяжело больным автором), положительное значение литературно-критического очерка И. Франко для западноукраинской читательской аудитории несомненно. Автор предисловия фиксирует внимание на ряде таких произведений, которые неопровержимо удостоверяют общественную активность поэта. В собственном переводе он приводит отрывки из политической, социально-исторической и философской лирики Пушкина («Вольность», «Деревня», «Во глубине сибирских руд», «Стансы» («В надежде славы и добра»), «Клеветникам России», «Безверие», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» и др.).
Обращение Франко-переводчика к пушкинской драматургии связано в большой степени с состоянием галицкого театра и задачей идейно-художественного обогащения его репертуара.
В своих историко-литературных, критических и публицистических работах Франко неоднократно высказывался о Пушкине.
Как известно, именно Франко впервые в истории шевченковедения поставил на подлинно научную основу рассмотрение связей Т. Г. Шевченко с русской и мировой литературой. По мнению Франко, суть составляет не установление влияний тех или иных произведений, образов или мотивов на писателя, а изучение идейно-эстетической атмосферы, в которой происходило становление гражданского и художественного кредо писателя. Говоря в статье «Темное царство» о Т. Г. Шевченко в период его учебы в Академии художеств, Франко называет имена деятелей литературы, чьи произведения в ту пору в наибольшей мере определяли собой общественные настроения и искания. Это «три великих русских писателя — Пушкин, Грибоедов и Лермонтов», чьи творения «жили среди читателей и оказывали большое влияние на мысли и убеждения, тем более, что смелое, горячее слово Белинского придавало им ясность и широту»6. Методологически весьма значительно замечание, высказанное И. Я. Франко в статье о поэме Т. Г. Шевченко «Наймичка». Отмечая несостоятельность проведенного Н. И. Петровым сравнения шевченковской поэмы с пушкинским «Романсом» («Под вечер осенью ненастной»), Франко обращает внимание на фабульные расхождения между этими произведениями, но главное усматривает в ином: в художественной концепции поэмы «Наймичка», ничего общего не имеющей с юношеским стихотворением Пушкина. Принципиальное значение представляет и соображение о сюжетной аналогии, обусловленной, по верной мысли И, Я Франко, аналогиями социально-исторических обстоятельств, а не литературным влиянием.
В конспекте доклада о русской литературе XIX столетия, прочитанном на собрании Славянского кружка летом 1888 года, в новогоднем диалоге «На склоне века. (Разговор в ночь перед новым годом 1901-м)» и в других работах Ивана Франко рассыпан ряд весомых высказываний о Пушкине.
Пушкин в суждениях Франко — выразитель гуманистических и демократических идеалов, чуждых абсолютистской идеологии царизма. Он принадлежит к плеяде самых замечательных художников мира, выявивших «массу основных черт своей нации»7. Заглавный герой пушкинского романа в стихах для И. Я. Франко — образ, обладающий огромной силой художественного обобщения.. Именно поэтому украинский писатель говорит об Онегине не только как историк литературы, но и как страстный публицист, под пером которого этот образ, обладающий высокой типичностью, естественно вводится в контекст больших социально-исторических размышлений.
Немало свежих и значительных суждений содержится в статьях и заметках, сопровождающих переводы пушкинской драматургии. Независимость и сила мысли Франко сказались в его оценке трагедии «Борис Годунов». Категорически отрицая версию о ее «подражательности», Франко подчеркивает историзм и проникновенность психологического анализа, присущие этой пьесе — «в высокой мере оригинальной, типически русской и исторической». Говоря о «достойном удивления» пушкинском мастерстве, он особо выделяет некоторые эпизоды трагедии (в келье Чудова монастыря, в корчме на Литовской границе, в сцене у фонтана)8.
В специальной литературе сближались отдельные стихотворения Франко и Пушкина. Однако важнее созвучные тенденции, родственные принципы эстетического освоения действительности и неповторимые художественные решения, обусловленные иными запросами времени, своеобразием творческой индивидуальности мастера.
Как отмечал А. И. Белецкий, обоих художников роднило жанровое многообразие, казалось бы, неисчерпаемое богатство тем, связанное с энциклопедизмом знаний и интересов, способностью проникать в душу разных народов, в сущность разных исторических эпох, неизменно оставаясь при этом сыном своего времени и своего народа.
Сопоставляют иногда одноактную драму И. Франко «Послідній крейцар» (1879) с «маленькой трагедией» Пушкина «Скупой рыцарь». Пушкинское воздействие сказалось здесь, по мнению М. Н. Пархоменко, «не столько в отдельных заимствованиях (некоторые строки этих произведений совпадают почти текстуально), сколько в выборе жанра, размере и ритме стиха, а главное — в тематике и общности идей»9.
В научной литературе соотносились также «Сон князя Святослава» (1895) Франко и пушкинский «Борис Годунов». Высказывалась и скептическая точка зрения относительно подобного сближения. Названные произведения, действительно, очень разные: последовательный историзм и реалистический метод отмечают пушкинскую трагедию; жанровую природу своей пьесы Франко обозначил понятием «драма-сказка». Тем не менее представляются правомочными соображения о некоторых художественных принципах, роднящих пьесы. Обоих драматургов влекут к себе бурные страницы прошлого — эпоха «многих мятежей» в России XVII века, беспокойные времена княжения Святослава в Киеве XII столетия. Оба художника — каждый на своем материале — обосновывают решающую роль «мнения народного» в историческом процессе; как и автор «Бориса Годунова», Иван Франко воскрешает образ мышления, строй чувств, речевой колорит людей изображаемой эпохи. Опыт Пушкина ощутим и .в композиции «драмы-сказки» — в динамичности ее действия, в разнообразии сменяющихся картин.
В 1899 году П. А. Грабовский пишет в Сибири статью «К пушкинскому вечеру в народной аудитории». Мысли Грабовского в наше время не кажутся новыми и оригинальными. Но, как справедливо отмечал А. И. Белецкий, на фоне юбилейной литературы, изобиловавшей казенными славословиями и расплывчато-либеральными фразами, в потоке которых истинный облик автора «Бориса Годунова», «Евгения Онегина», «Медного всадника» и «Капитанской дочки» явно или завуалированно искажался, суждения украинского поэта-революционера выделялись четкостью и выражали исторически верную тенденцию в осмыслении и истолковании общественного и культурного значения Пушкина. Пушкин, по словам Грабовского, был «творцом, составившим славу и гордость России». Грабовский видит в Пушкине поэта-гражданина, который «задыхался в тяжелой атмосфере аракчеевщины и крепостного права, негодовал и возмущался»10.
В высшей степени знаменательно, что Грабовский воплощает в украинском поэтическом слове мужественное и сердечное пушкинское послание ссыльным декабристам.
Символично звучат пушкинские строки, прошедшие сквозь сердце ссыльного украинского поэта-революционера:
На глибині сибірських руд
Кохайте світлі почування:
Не згине ваш скорботний труд
І дум високе прямування п.
Грабовский прекрасно понимал сущность новаторства Пушкина-реалиста: Пушкин, утверждал украинский поэт, «спустился в сферу подлинной, обыденной действительности, сблизил поэзию с жизнью, первым из русских писателей внес в свои произведения живое конкретное содержание, которого наша литература до того не имела и не могла иметь»12.
Фактом исключительного историко-литературного значения следует считать обращение Грабовского-переводчика к роману «Евгений Онегин».
Свой перевод первой главы пушкинского романа (1891) Грабовский переслал из Иркутской тюрьмы во Львов. Ивану Франко перевод понравился, но опубликовать его не удалось13. Последующие главы «Онегина» Грабовский не переводил, рукопись первой главы сохранилась в литературном архиве Франко. В замечаниях, предпосланных переводу, роман назван «наиболее широким и наиболее совершенным произведением» Пушкина. Произведений такой художественной силы, утверждает переводчик, не было в России «ни до, ни позже». Подобное создание словесного искусства является «национальной гордостью страны, на какой бы высокой и недосягаемой ступени развития она ни стояла», и одновременно представляет собою «всемирное чудо литературы вообще».
В конце вступительной заметки («До читачів») Грабовский, ссылаясь на трудности перевода «столь великих творений», где в каждой строке органически сочетаются изумительная красота и высокая содержательность, призывает читателей терпимо отнестись к «недостаткам и ошибкам его опыта»14. То, что опыт Грабовского не лишен определенных «недостатков и ошибок», вполне естественно.. Несмотря на крайне неблагоприятные обстоятельства, в которых осуществлялся этот перевод, переводчик тонко уловил поэтическую прелесть оригинала и настойчиво стремился воссоздать ее. Важно, что переводческие принципы, определившиеся в процессе работы Грабовского над «Онегиным», оказались плодотворными и перспективными. Украинский поэт нередко идет на текстуальные отклонения от первоисточника, но, чуждый буквалистской скованности, он не допускает и переводческого «волюнтаризма», нигде не становясь на путь перепева или вольного варьирования под-, линника.
Грабовский внимателен к реалиям, стремится сохранить признаки времени и уклада, воссоздать колорит и настроение оригинала. Всего примечательнее в этом переводе, пожалуй, установка на интонационную верность первоисточнику: вполне очевидно желание переводчика воссоздать живое течение стиховой речи Пушкина с ее гибкостью и выразительностью, со всеми вибрациями и переливами тона в «онегинской строфе»: от мягкой иронии до высокой патетики, от оживленного остроумия до проникновенной задушевности (когда в повествование включаются мотивы любви, свободы, творчества).
В переводе Грабовского имеются семантико-эмоциональные потери или ослабления в сравнении с оригиналом, случаи нарушения стилистического ряда, порой неоправданные русизмы или неудачные нововведения, обусловленные художественным освоением новых для украинской литературы жизненных сфер и необходимостью расширения ее лексических ресурсов. Решающим, однако, является то, что украинский поэт верно передает движение поэтической мысли и ритмико-интонационный строй первоисточника. Достаточно сравнить с русским текстом несколько украинских строф первой главы — различных по содержанию, эмоциональной окраске и мелодике, чтобы убедиться в результативности усилий переводчика. Удачно воссозданы шутливые ноты в стихах о «счастливом таланте» юного Онегина и насмешливый акцент, отнесенный к «судьям», в соответствии с критериями которых Онегин признается «ученым малым» (строфа V). Почти ни одного существенного штриха не утрачено в изображении танца Истоминой (строфа XX), сохранена в своей основе и полная изящества синтаксическая структура строфы, организующая ритмико-мелодическое и интонационное решение темы. Успешно «перевыражает» важнейшие признаки оригинала переводчик и в третьем случае, воскрешая в целом и приподнятую торжественность тона, и лирическую взволнованность отрывка (строфа L), запечатлевшего страстную мечту автора романа о свободе и думу о нерасторжимости его связей с «сумрачной Россией».
Приходится сожалеть, что Грабовский перевел лишь одну главу пушкинского романа и что его перевод не дошел в свое время до читателей. Но значение этого труда украинского поэта исключительно велико.
Существенно, что Грабовский-переводчик обратился к центральному созданию пушкинского творчества — до этого еще не было попыток сделать знаменитый стихотворный роман достоянием украинской культуры. Плодотворность и перспективность тенденций, определившихся в работе Грабовского над «Онегиным», подтвердились дальнейшим развитием переводческого искусства в украинской литературе.
Пушкину принадлежала заметная роль в интеллектуальной и эстетической атмосфере детства и отрочества Леси Украинки. Ее отец любил пушкинскую поэзию, знал наизусть все его сказки, поэму «Руслан и Людмила». Пушкинское слово часто звучало в кругу семьи будущей поэтессы. Мать ее переводила произведения Пушкина на украинский язык. В книге Олены Пчилки «Українським дітям» (Киев, 1882) помещен «Анчар», снабженный пометой переводчицы: «З Пушкіна. Арабське оповідання».
Упоминания о пушкинских героях, ассоциации с пушкинскими образами встречаются в лирике Леси Украинки (например, в стихотворении «Бахчисарайська гробниця»), в эпистолярии поэтессы. Роман «Евгений Онегин», поэму «Цыганы», лирические произведения Пушкина Леся Украинка включала в круг вершинных явлений мировой литературы, намеченных ею к украинскому переводу.
В период своего могучего идейно-художественного расцвета поэтесса сосредоточивает творческое внимание на сложнейшей общественной, этической, философской проблематике. «Маленькие трагедии» Пушкина и на предшествующих этапах деятельности Леси Украинки импонировали ей концентрированностью мысли, чувства и действия. В последние годы жизни поэтессы опыт Пушкина-драматурга оказался особенно близким для нее. Она просит прислать ей в Кутаиси «маленькую трагедию» Пушкина «Каменный гость». В ту пору поэтесса напряженно и вдохновенно работала над своей драмой «Камінний господар»,, решив дать собственное истолкование «всемирного и мирового», по ее выражению (в письме к А. Крымскому от 24 мая 1912 года), сюжета о Дон-Жуане. Легенду о Дон-Жуане разрабатывали испанец Тирсо де Молина, француз Мольер, англичанин Байрон и другие европейские драматурги и поэты. Украинская поэтесса создает самостоятельное, высокооригинальное произведение, теснейшим образом связанное с современной ей идейной жизнью.
Литературоведы разных поколений (А. И. Белецкий, А. И. Дейч и А. А. Гозенпуд, Н. Е. Крутикова и А. И. Костенко, Л. С. Полушкина и Н. М. Яценко и др.), рассматривая драму Леси Украинки в контексте эволюции «дон-жуановского» сюжета, неизбежно обращались к вопросу о том, что и как связывает ее с близкой по теме «маленькой трагедией» Пушкина.
А. И. Белецкий, настойчиво раскрывая бесплодность компаративистских поисков заимствований и влияний и ставя на первый план задачу исследования творческой новизны произведений словесного искусства, предостерегал против поспешных выводов на основе установления «внешнего сходства» между драмой Леси Украинки и «маленькой трагедией» Пушкина. Вместе с тем ученый признавал, что именно пушкинское произведение стало «толчком и отправным моментом к созданию гениальной украинской драмы»15.
«Каменный гость», восхищавший Белинского и Льва Толстого, связывают с исторической атмосферой Возрождения. Победное воскрешение человеческой личности, со всей доступной ей полнотой жизненных восприятий, впечатлений и эмоций, отменяло систему средневековых догм, ограничений и запретов.
Пушкинская версия давнего сюжета пронизана солнцем. Ветреный, отчаянный и неугомонный искатель любовных приключений, Дон Гуан у Пушкина претерпевает душевное обновление. Его отношение к Донне Анне — это не очередное волокитство, но большое, доселе неведомое ему чувство. В пушкинском Дон Гуане сконцентрировано безбожное утверждение культа земных, плотских наслаждений, радости бытия, риска, любви, музыки. Беспечный дуэлянт и «хитрый искуситель» женских сердец, он оказывается способным не только безоглядно отдаваться увлечению, порыву, страсти, но и испытать на себе возвышенную, облагораживающую, очеловечивающую силу любви. В своем упоении жизнью, новыми ощущениями, счастьем, в своем дерзостном пренебрежении общепринятыми нормами и ограничениями он, однако, преступает нравственную грань: бурное отрицание ханжества и условностей переходит в цинизм, когда Дон Гуан приглашает убитого им Командора в свидетели своей интимной встречи с его вдовой. Но когда приходит возмездие, он не проявляет страха, не жалеет, не кается. «Я звал тебя и рад, что вижу» (т. 7, с. 171), — заявляет он Командору, чувствуя леденящую тяжесть его каменной десницы. Знаменательно, что последние слова Дон Гуана обращены к Донне Анне.
Донна Анна одарена внешностью, поразившей многоопытного Дон Гуана, вместе с тем она наделена душевным богатством. Пушкин-психолог передает ее внутренние борения (присущее ей понимание морального долга перед погибшим мужем и любовь к его убийце).
Иные задачи ставила перед собой украинская поэтесса, спустя восемь десятилетий обратившись к родственному сюжету; совершенно по-иному истолковывает она знакомые образы, по-своему осмысливая логику их взаимоотношений.
Марксистская критика, Горький решительно выступали против антигуманизма декадентов, раскрывали истинный смысл их антинародной программы — эстетизации ницшеанского «сверхчеловека», стремления увести искусство от политических интересов, от гражданских тем. В украинской литературе декадентско-модернистские тенденции сращивались с буржуазно-националистическими. Франко и Грабовский, Коцюбинский и Леся Украинка резко осуждали и разоблачали декаденство как социально ущербное явление, которое «должно погибнуть и быть забытым, и чем скорее, тем лучше»16.
Своей интерпретацией легенды о Дон-Жуане Леся Украинка противоборствовала ницшеанской проповеди сильной личности. Верным представляется предположение И. Е. Журавской о том, что драма Леси Украинки полемически соотнесена с суждениями русских декадентов о Дон-Жуане как воплощении избранничества, исключительности, прирожденного духовного аристократизма (Бальмонт)17.
В драматической поэме «Камінний господар» поэтесса воссоздает психологическую эволюцию Дон-Жуана, развенчивает анархиствующий индивидуализм. По мере того как в герое все более и более возобладают чувственное своеволие, бездуховность и своекорыстие, в нем деградируют и вырождаются смелость и вольнолюбие. В своем Дон-Жуане поэтесса раскрывает подлинную цену самовлюбленного эгоиста и демагога. Вдове Командора не составляет труда разжечь в нем честолюбивые вожделения. Мнимый «рыцарь свободы», охваченный помыслами о командорском плаще, быстро отрешается от своего недавнего фрондерства против каменных нравов, полностью капитулирует перед каменным царством, превращаясь в его ординарного слугу.
Донна Анна в драматической поэме Леси Украинки — натура властная и властолюбивая. Утратив со смертью своего мужа положение и славу, она жаждет их возвращения — любыми средствами и путями. «Победа каменного; консервативного начала, воплощенного в Командоре, над раздвоенной душой гордой, эгоистической женщины — Донны Анны, а через нее и над Дон-Жуаном, «рыцарем свободы»18 — так объясняла идею драмы сама поэтесса.
Драматическая поэма Леси Украинки — выдающееся явление в украинской и мировой драматургии начала XX столетия. Поэтесса решала собственную художественную задачу, обусловленную актуальными обстоятельствами общественной жизни и насущными задачами идейной борьбы. Оригинальность идейно-эстетической концепции ее произведения подчеркнута уже заглавием, антитетически соотнесенным с названием пушкинской «маленькой трагедии»: «Каменный хозяин», а не «Каменный гость». «Отталкивание» в данном случае представляет собой одну из форм преемственности в искусстве. Когда мы имеем дело не с бескрылым эпигонством, а с творчеством подлинных мастеров, каждое проявление преемственности — это новаторский акт, художественное открытие, опирающееся на предшествующий опыт эстетического познания мира и человека. Для гениальной украинской поэтессы «маленькая трагедия» Пушкина была образцом постановки и художественного исследования больших философских и этико-психологических проблем.
Таким образом, в украинском литературном процессе творчество Пушкина неизменно являлось действенным ферментом, оплодотворяющим и стимулирующим самобытное развитие художественной мысли на Украине.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Победа социалистической революции открыла небывалые возможности и перспективы для развития национальных литератур. Советская украинская литература складывалась в сложных условиях гражданской войны и яростных попыток украинских фабрикантов и помещиков навязать трудящимся идеи буржуазного национализма. В единстве с русским народом и братскими народами революционной России рабочие и крестьяне Украины героически отстаивали завоевания Октября, самоотверженно сражались за торжество Советской власти в стране, за Советскую Украину. Советская украинская литература плечом к плечу с молодой русской литературой, закалявшейся в огне революционных битв, обретает могучее дыхание как литература, вдохновленная высокими принципами коммунистической партийности и социалистического гуманизма, советского патриотизма и пролетарского интернационализма.
Для украинской литературы периода ее становления характерны те же основные процессы и закономерности, которые присущи русской литературе в первые годы после революции и завершения гражданской войны.
Одной из самых жгучих проблем в ходе острой идейной борьбы и напряженных эстетических исканий тех лет была проблема традиций и новаторства. Каким должно быть новое искусство? Как следует относиться к старому искусству? Не является ли залогом успешного развития нового, социалистического искусства безоговорочное и сокрушительное уничтожение всего дореволюционного искусства? В эстетико-теоретической полемике первого пореволюционного десятилетия на эти вопросы нередко давались нигилистские ответы. Шумно выступали под лозунгом полного разрыва с искусством прошлого футуристы Г Художественный опыт прежних эпох отвергали и лидеры Пролеткульта2, и «кузнецы»3. Голоса против классики раздавались в рапповской среде. Запальчиво отмежевывались от культурных завоеваний прошлого теоретики «лефовского движения», имажинизма, конструктивизма.
В унисон подобным вульгаризаторским суждениям о культурных завоеваниях прошлого звучали выступления украинских футуристов, пролеткультовцев и конструктивистов. Для лидера украинских панфутуристов М. Семенко было «очевидно», что новое пролетарское искусство «возможно лишь на развалинах старого, буржуазного искусства», из чего делается вывод о задаче «деструктивного процесса, то есть процесса панфутуристической революции»4. «Искусство есть пережиток прошлого», — провозглашалось в журнале «ассоциации панфутуристов» «Семафор у майбутнє», далее следовали признания типа: «Панфутуризм есть ликвидация искусства» — и призывы: «Смерть искусству», «Да здравствует панфутуризм»5. Один из видных деятелей украинского Пролеткульта В. Коряк утверждал: «Переворачивается новая страница истории. Не новая «школа», неновое «направление», не «течение» в границах старого искусства, — полный разрыв связей со всем предыдущим, уничтожение всех традиций»6.
М. Н. Пархоменко справедливо отметил, что «хотя в крайних формах деструктивные идеи были присущи, главным образом, крайним «левым» течениям, под определенным влиянием этих идей находились подчас также литераторы, не входившие в объединения футуристов, конструктивистов, «авангардистов». Ученый приводит высказывания некоторых украинских критиков тех лет, свидетельствующие об «эстетическом нигилизме по отношению к классикам русского, а еще больше украинского реализма»7.
С иных позиций решала проблему культурного наследия Коммунистическая партия.
В речи на I съезде комсомола В. И. Ленин с замечательной четкостью и ясностью разъяснил сущность проблемы о новой культуре и старой культуре: «Пролетарская культура не является выскочившей неизвестно откуда, не является выдумкой людей, которые называют себя специалистами по пролетарской культуре. Это все сплошной вздор. Пролетарская культура должна явиться закономерным развитием тех запасов знания, которые человечество выработало под гнетом капиталистического общества, помещичьего общества, чиновничьего общества»8. «Без ясного понимания того, что только точным знанием культуры, созданной всем развитием человечества, только переработкой ее можно строить пролетарскую культуру — без такого понимания, — подчеркивал В. И. Ленин, — нам этой задачи не разрешить»9.
Мудрость, высокая историческая правота и плодотворность ленинского учения о социалистической культуре и культурном наследии подтверждены всем развитием советского искусства и советской литературы.
Украинская советская культура, как и социалистическая культура всех народов СССР, бережно наследует ценности, созданные в предшествующие эпохи. Классическое наследие живет активной жизнью в новую эпоху, широко и плодотворно усваивается, творчески трансформируется, деятельно включаясь в мир духовных интересов и устремлений нашего современника..
Уже в 1920 году Павло Тычина пишет стихотворение «Перед памятником Пушкіну в Одесі». Вспоминая об этом времени, поэт восстанавливал свои впечатления и чувства тех дней: «Там я впервые в своей жизни увидел море. Я увидел те улицы и каменные спуски, по которым ходил и сбегал к морю Пушкин»10. Мощь и красота «свободной стихии» морской ассоциировались в воображении молодого Тычины с мощью и красотой пушкинского творчества: «Ах, море і поет!». Автор стихотворения взволнованно обращался к своему Пушкину — «могучему органу земли».
Напомним, что 1920 год в творчестве Тычины и вместе с тем в становлении украинской советской поэзии был ознаменован выходом в свет его сборника «Плуг». Такие стихотворения этой книги, как «На майдані», «Як упав же він з коня», «Псалом залізу», стали поэтической классикой, первыми актами эстетически полноценного освоения нового мира. В них с большой художественной силой выражено революционное мировосприятие, передана героика революционного преобразования жизни, творимого рабочими и крестьянами Украины в союзе с русскими братьями и трудящимися массами всей страны.
Так входила в советскую украинскую поэзию пушкинская тема, органически сочетаясь с темой революционной перестройки действительности, с темой социалистического созидания.
В условиях ленинской национальной политики украинская культура впервые обрела благотворные возможности для своего развития и могучего расцвета.
У чукчей нет Анакреона,
К зырянам Тютчев не придет, —
сказал некогда Фет. Талантливый русский поэт заблуждался, история опровергла его утверждение. Пушкин был неизмеримо проницательней. В знаменитом стихотворении «Я памятник себе воздвиг нерукотворный», вошедшем в сознание поколений как поэтическое и политическое завещание поэта, упоминая о современном ему «тунгусе», он мудро определил «.ныне дикий». Пушкин знал, что просвещение, цивилизация, поэзия придут ко всем свободным народам. Жизнь подтвердила его правоту.
Читают тебя с упоеньем в глазах
Башкир и туркмен, белорус и казах11, —
заявляет, обращаясь к Пушкину, Джамбул.
Казахскому акыну вторит башкирский поэт Сайфи Кудаш в стихотворении «Пушкин»:
Казахи, тунгусы, чуваши,
Киргизы, якуты, марийцы
Светилом поэзии нашей
Поистине могут гордиться,
Над славною русской землею,
На небе родных ее песен
Он светит бессмертной звездою,
Любому народу известен 12.
О том же свидетельствует ашуг Дагестана Сулейман Стальский, адресуя Пушкину душевные слова:
...Ты в дом вошел к нам как родной,
И друга мы в тебе признали...
И всюду гений твой проник,
Неисчерпаем, как родник;
Лезгин, аварец и кумык
Пить из него отныне стали 13.
Потомок того «друга степей», о котором с симпатией упоминал Пушкин, калмыцкий советский поэт Давид Кугультинов признается:
Одолевая труд высокий
Всем напряженьем слабых сил,
Сегодня пушкинские строки
Я, осмелев, переводил.
Я погружался с головою
В кипенье лавы огневое,
В кристально свежую струю...14
В этой удивительной перекличке отчетливо звучит и голос украинского поэта:
Я бачив твій портрет у друга вірменина,
Із уст якутових я чув твої слова,
І вє тобі вінок Радянська Україна,
В братерській вольності жива15.
Щедр и благоуханен венок, сплетаемый Советской Украиной в честь Пушкина.
Как всенародные праздники отмечаются в республике пушкинские даты...
Украинские поэты разных поколений делятся с многомиллионной аудиторией своими раздумьями о великом русском поэте, о глубинах его мысли, о богатстве и сложности его художественного мира, о емкости и красоте его образов, точности, изобразительной и музыкальной прелести его слова.
Ярким личностным чувством согрет доклад, с которым выступил П. Тычина на торжественном заседании Пушкинского комитета в Киеве в 1937 году. Тычина нашел формулу, великолепно выразившую его отношение к Пушкину и его представления о месте пушкинского наследия в духовной жизни советских народов: «Рідний, улюблений, наш!»
В докладе убедительно сказано о пушкинском гуманизме и свободолюбии, об интернационализме и революционном жизнеутверждении, пронизывающем пушкинское творчество, о его реалистической сущности и народности. Доклад, в котором оценка пушкинского наследства для советской эпохи дана с методологической четкостью, во всеоружии литературоведческой научной мысли, отмечен неповторимой тычиновской интонацией, насыщен специфическими тычиновскими тропами, родственными народно-песенной поэтике фигурами (повторами, параллелизмами, инверсиями и т. п.). Особенно приподнято, лирично, образно звучит голос Тычины, когда он говорит о пребывании русского поэта в Каменке и Тульчине.
В том же 1937 году на IV пленуме Союза советских писателей Тычина выступил с докладом «Пушкин и украинская поэзия».
Обозревая в исторической перспективе данные о восприятии пушкинского творчества украинской литературой, он останавливается и на переводческих истолкованиях, и на развитии, трансформации пушкинских традиций, пушкинского опыта в украинской поэзии16.
П. Тычина соотносил сходные темы и мотивы в пушкинском и шевченковском творчестве, обращая внимание как на общности, так и на черты идейно-художественного своеобразия в их претворении; говорил о формах, в которых проявился интерес великого Каменяра к Пушкину.
Вполне естественно, что в докладе Тычины — одного из основоположников советской украинской литературы — нашлись особенно сердечные слова, когда речь зашла о Пушкине в творчестве современных поэтов Украины.
В последующие годы П. Тычина посвящает Пушкину ряд историко-литературных и публицистических статей, стихотворения. «Два мотива объединяют все эти произведения: Пушкин и Украина, Пушкин — наш современник», — замечает современный исследователь научных и литературно-критических работ П. Г. Тычины, обращая внимание на взаимопроникновение различных стилевых возможностей в его стихах и статьях о Пушкине — «приемов публицистики в поэзии и поэтических средств в литературно-публицистических выступлениях»17.
«Стихи Пушкина словно величественная река, — писал Тычина в статье «Гений русской культуры». — В ее прозрачных, кристаллически чистых водах видишь и огромную глубину, и отражение сверкающего солнца, и таинственное мерцание звезд. Река течет и течет по всей нашей великой и родной земле. Она увлекает за собой в чудесные дали, в просторы. Их не окинешь взглядом — так беспредельно широки они. И к зеленым ее берегам приходят все народы нашей страны. Они припадают к ясным водам и набираются и сил, и бодрости, и той энергии, которая движет людей на честное, благородное дело, вызывает у них радостно беспокойную жажду творения. Пушкин принадлежит всем народам нашей страны, ибо в нем видят они олицетворение могучего духа русского народа, Великой Руси, навеки сплотившей их вокруг себя и обеспечившей им развитие национальной государственности, политической жизни и невиданного экономического и культурного расцвета»18.
Общественное внимание привлекли и выступления Максима Рыльского о Пушкине. В ряду научных и публицистических выступлений Рыльского, связанных с Пушкиным, выделяется его статья «Пушкин на украинском языке». Она содержит важнейшие сведения из истории переводческих интерпретаций пушкинской поэзии на Украине. Но в центре внимания автора статьи — труд советских украинских переводчиков. Говоря о переводах Боровиковского и Руданского, Гребенки и Старицкого, рассматривая их как определенные этапы в процессе становления и развития переводческого искусства в украинской литературе, отмечая те или иные тенденции, присущие этим переводам, Рыльский обращается к творчеству своих современников. Он демонстрирует выдержки из соответствующих произведений Пушкина, прочитанных и воссозданных в украинском слове поэтами Советской Украины. Речь идет не об отдельных находках и удачных решениях в случаях, когда переводчики прошлого слишком далеко уходили от первоисточника, варьируя его в соответствии с собственными эстетическими представлениями и пристрастиями. В статье подчеркнуты принципиально новые начала, свойственные советскому художественному переводу: стремление к адекватному или максимально приближающемуся к нему поэтическому воссозданию оригинала. При этом Рыльский не проходит мимо частных просчетов, допущенных и авторами цитируемых им современных переводов.
Ярко и убедительно пишет М. Рыльский о значении украинских переводов из Пушкина: «Это, во-первых, средство приблизить пушкинское наследие к широким массам нашего народа, которые думают и говорят по-украински, — следовательно, переводы являются трамплином к дальнейшему ознакомлению с творчеством Пушкина в оригинале; и во-вторых, какое это прекрасное средство заострить свое языковое оружие, поднять украинскую языковую культуру на высшую ступень развития! Переводы Пушкина на украинский язык обогащают таким образом украинский язык, украинскую поэзию, литературу вообще. Мы уверены, что поэты, переводчики, работая над переводами из Пушкина, чувствовали, как при нелегких, но вместе с тем и радостных поисках словесного эквивалента, а если не эквивалента, то хотя бы параллели к пушкинскому оригиналу, — как они расширяют свое собственное творческое мировоззрение, совершенствуют свои собственные творческие средства»19.
И в данной статье, и в ряде других выступлений в области художественного перевода Рыльский останавливался на специфических трудностях, встающих перед переводчиками с близкородственных языков, и делился собственными наблюдениями и мыслями о наиболее эффективных путях воспроизведения пушкинской поэзии на украинском языке.
Особенно весомый вклад в украинскую литературу Рыльский сделал как переводчик Пушкина: «Евгений Онегин», «Медный всадник» благодаря ему прочно вошли в духовную жизнь Советской Украины, ознаменовали новую ступень в ее поэтической культуре, стали заметным явлением в общесоюзном развитии художественного перевода.
Примечателен этюд М. Бажана «Склоняюсь перед рукописью». Большой советский поэт, один из самых деятельных строителей украинской социалистической культуры проникновенно говорит о чувствах, возникающих у него при виде пушкинских черновиков.
Бажан рассказывает о том, как на протяжении многих лет он часто раскрывает альбом фототипически воссозданных рукописей Пушкина 1833 — 1835 годов, «с удивлением и восхищением» «вглядываясь, вдумываясь, вчитываясь в каждую страницу», и как со временем «все больше понимаешь и больше видишь и больше вычитываешь с его страниц».
Листы рабочих тетрадей Пушкина воспроизводятся нередко. Репродукциями многих рукописных страниц снабжено академическое издание его сочинений, открывшее перед читателями замечательную возможность в какой-то степени прикоснуться к творческой лаборатории художника: наряду с каноническим текстом произведений познакомиться с их вариантами — начальными и промежуточными, черновыми, беловыми и печатными. Фотокопии пушкинских рукописей иллюстрируют биографические очерки и труды пушкинистов, посвященные различным аспектам творческой деятельности поэта. Миллионам людей знаком пушкинский почерк, памятен вид листов, заполненных стремительно бегущими строчками, с очертаниями человеческих фигур, коней и птиц на полях, с набросанным быстрым пером фрагментом пейзажа, с милыми женскими головками и мужскими профилями, с автошаржем и зарисовками литературных персонажей, с бесчисленными вычерками, заменами, исправлениями и добавлениями текста. И, несомненно, каждый читатель понимает, результатом какого самоотверженного труда явились шедевры словесного искусства, созданные Пушкиным.
Но наблюдения и раздумья Бажана над пушкинской рукописью обладают особой ценностью. Это наблюдения и раздумья выдающегося поэта, мастера, по собственному опыту превосходно знающего, «как делать стихи».
Для Бажана пушкинский черновик — «разительная поэтическая кардиограмма большого сердца». «Я радуюсь, — признается украинский поэт, — что могу тихо и благоговейно приблизиться к гению, что чувствую его дыхание и его трепет, зафиксированный на белых, желтых, розовых, голубых страницах альбома этими неровными строчками, торопливыми линиями, падениями и взлетами слов, прошедших через горнило творчества, через его муки и радости, запреты и открытия»20.
Бажан прекрасно говорит о необычайной требовательности Пушкина к себе, о неутомимых поисках нужного эпитета, одного — необходимого автору и незаменимого — слова. Высоко поучителен, по убеждению Бажана, опыт Пушкина при создании образа человека — «эти поиски его биографии, таинств его внутренней жизни, реалий его быта, жилища, одежды, окружения, это проникновение в события его жизни, в его чувства, волнения, думы и даже в его безумие»21.
Этюд завершается таким аккордом: «Святыня гения есть и будет священной для человечества, отвергшего все фальшивые святыни сверхчеловечности и (что то же самое) бесчеловечности, утверждая трудом и дерзанием свою творческую свободную силу. Я склоняюсь перед святыней, имя которой Пушкин»22.
На Советской Украине сложилась богатая переводческая традиция. Творчество Пушкина стало в этом отношении особенно благодатным источником. К нему украинские литераторы обращались и обращаются охотно и настойчиво, стремясь воссоздать в родном слове тот нерасторжимый «союз волшебных звуков, чувств и дум», поразительным образцом или, как сейчас принято говорить, высоким эталоном которого является пушкинское наследие.
Уже в 1927 году в УССР осуществляется первое издание «Вибраних творів» Пушкина. «Данная книга переводов предназначена, — отмечает в предисловии ее составитель и редактор П. П. Филиппович, — не для того, чтобы заменить пушкинские подлинники. Думаем, что она лишь повысит интерес украинского писателя и читателя к великому поэту и желание знать и изучать все его литературное наследство»23. В сборник включены как переводы, осуществленные в дооктябрьскую пору (М. Старицкого, П. Грабовского, Б. Гринченко), так и подготовленные для настоящего издания.
Второе, дополненное и переработанное издание книги вышло спустя три года. В нем нет дореволюционных переводов, расширен круг переводчиков. Но несмотря на увеличенный объем сборника, тут не представлены еще многие произведения поэта, в частности важнейшие создания его политической и философской лирики. Значительно большей полнотой и более высоким уровнем переводов отличается двухтомное издание 1937 года 24 и объемистый однотомник 1949 года25.
Выход в свет «Творів у чотирьох томах» Пушкина (Киев, 1952 — 1954) стал крупным явлением в культурной жизни страны и вызвал значительный общественный отклик. Знаменательно, что в издании, помимо профессиональных переводчиков, приняли участие многие деятели украинской советской литературы. Лирику, поэмы, драматические произведения, сказки Пушкина переводили Максим Рыльский, Павло Тычина, Микола Бажан, Владимир Сосюра, Микола Терещенко, Андрей Малышко, Леонид Первомайский, Иван Вырган, Игорь Муратов, Наталья Забила, Мария Пригара, Павло Усенко, Любомир Дмитерко, Платок Воронько, Иван Нехода, Степан Олейник, Петро Дорошко, Кость Дрок, Степан Крыжановский, Иван Гончаренко и другие поэть!. Среди переводчиков прозаических произведений Пушкина встречаем имена Семена Скляренко и Ивана Сенченко, Андрея Головко и Алексея Кундзича, Михаила Стельмаха и Александра Копыленко, Остапа Вишни и Олеся Гончара, Петра Козланюка и Александра Ильченко.
Существенно, что для каждой новой публикации переводчики чаще всего вносили те или иные коррективы в перевод, заботясь о большем приближении к первоисточнику, о естественности его украинского звучания, о верности воспроизведения авторской мысли, образной системы, ритмико-интонационного строя, эмоциональной атмосферы.
Республиканские издательства и позднее выпускают книги Пушкина в украинском переводе (стихи в серии «Перлини світової лірики», поэмы, сказки, повести «Дубровский», «Капитанская дочка» и т. д.). Новые переводы появляются в периодической печати.
Необычайно интересно сопоставление различных переводческих версий одного и того же пушкинского текста. Отчетливо прослеживаются тут и индивидуальные особенности восприятия оригинала, и пути, избираемые переводчиком к «перевыражению» подлинника при сохранении его основной поэтической мысли, стилевой и интонационной природы. Параллельное знакомство с несколькими переводческими прочтениями произведения побуждает глубже вникнуть в образно-поэтический мир источника, показывает, сколь богаты ресурсы украинского поэтического слова, приносит дополнительную эстетическую радость.
Горячее пушкинское обращение к Чаадаеву с призывом Отчизне посвятить «души прекрасные порывы», строки сердечного и мужественного послания сосланным декабристам не раз привлекали украинских поэтов. В середине 70-х годов свои переводы этих замечательных стихов печатает Микола Упеник. «Шотландская песня» («Ворон к ворону летит») в четырехтомнике представлена в переводе Леонида Первомайского. Новый вариант ее публикует спустя два десятилетия Петро Перебийнис.
Стихотворение «Вновь я посетил...», написанное за год с небольшим до гибели поэта, справедливо рассматривают как одно из итоговых созданий художника, принадлежащих к высочайшим достижениям его лирики. Тяжело складывалась жизнь поэта, многие обстоятельства (вынужденное камер-юнкерство, денежные затруднения, непонимание и недоброжелательство в большинстве журналов, обостряющийся конфликт с великосветским обществом) удручали его. Но личные невзгоды и тягостные переживания не могли иссушить душу поэта. Высокочеловечны и светлы его воспоминания о минувшем и мысли о будущем.
Мудрое жизнеутверждающее начало находило многообразное выражение у Пушкина. Можно напомнить строки из пушкинской эпистолярии (например, письмо к П. А. Плетневу от 22 июля 1831 года). Можно напомнить лирико-философские отступления из знаменитого пушкинского стихотворного романа:
...Придет, придет и наше время,
И наши внуки в добрый час
Из мира вытеснят и нас! (т. 6, с. 48).
Можно сослаться на пушкинские раздумья о необратимом течении времени, о смене поколений и неиссякаемой реке жизни в стихах 1829 года «Брожу ли я вдоль улиц шумных»:
...Младенца ль милого ласкаю,
Уже я думаю: прости!
Тебе я место уступаю:
Лїне время тлеть, тебе цвести.
...И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вечною сиять (т. З, кн. 1, с. 194 — 195),
на «Элегию» 1830 года («Безумных лет угасшее веселье») и т. д.
Этот гармоничный и здоровый взгляд на мир, это солнечное представление о закономерном и естественном чередовании возрастов, о конечности индивидуального бытия и бесконечности жизни, это дружеское приветствие грядущим поколениям с необычайной художественной энергией воплощены в стихотворении «Вновь я посетил...»
В украинской литературе имеется несколько переводческих истолкований стихотворения. В четырехтомном издании напечатан перевод О. Ющенко. В семидесятых годах публикуются переводы Ивана Пучко и Владимира Коломийка. Каждый из переводчиков воссоздает реалистически точный пейзаж дорогого поэту Михайловского, учитывает философски-обобщающий смысл описания леса (метафорический ряд: «зеленая семья»; кусты, теснящиеся под сенью вековых сосен, «как дети»; одинокое дерево — «угрюмый», «старый холостяк» и т. д.).
Перевод Олексы Ющенко вызывает ассоциации, соответствующие первоисточнику, но общее впечатление несколько ослабляется включением необязательных слов, понадобившихся лишь для заполнения ритмических пустот, и утратой противительной формы: «А вдалеке...»
У Владимира Коломийца отодвинуто сравнение молодого кустарника с детьми, вследствие чего смещен логический акцент (на первом плане оказывается «затінь»).
Вариант, предложенный Иваном Пучко, в большей мере приближает украинского читателя к оригиналу: мерно и непринужденно текут пятистопные ямбы, стиль украинского текста выдержан в ключе первоисточника.
Но ключевое обращение к потомкам, выражающее широкое пушкинское приятие вечного обновления жизни, вернее всего воссоздано В. Коломийцем: «Здрастуй, племя/ Незнане, молоде!..»
О. Ющенко вводит ненужные, повторяющиеся союзы, и это, казалось бы, микроскопическое отклонение от первоисточника нарушает авторскую интонацию: «Здрастуй, племя,/I юне й незнайоме!..»
Еще дальше уводит от оригинала И. Пучко, допуская не только интонационный, но и смысловой сдвиг: «Здрастуй, молодь/ Потомства незнайомого!»
Нетрудно привести и другие примеры, дающие представление о прекрасном творческом соревновании украинских переводчиков Пушкина.
Так, стихотворение «Поэту» известно в интерпретациях М. Драй-Хмары, Н. Зерова, Е. Дробязко, Д. Павлычко. Строки сонета, исполненные горечи и гордого убеждения Пушкина в общественной значимости своего труда, ярко звучат в каждом из переводов. Но достаточно внимательно присмотреться хотя бы к начальному катрену стихотворения:
Ты царь: живи один. Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум,
Усовершенствуя плоды любимых дум,
Не требуя наград за подвиг благородный (т. З, кн. 1, с. 400) —
и его украинским параллелям, чтобы понять сложность задачи, стоящей перед переводчиками, и ощутить атмосферу неутомимых исканий, утрат и обретений.
У Драй-Хмары, деформировавшего конструкцию фразы, ослабляется пушкинский лаконизм и утрачивается первостепенный смысловой элемент в начальной строке катрена:
Ти цар: лишайся сам. Крім вольного, ні жодний
Тебе не звабить шлях, не зрадить вольний ум,
Удосконалюй плід глибоких любих дум,
І нагород не жди за подвиг благородний26.
В варианте Н. Зерова:
Ти — цар: Шануй свою самотність і свободу,
Прямуй, куди тебе свобідний манить ум,
Виношуючи плід дозрілих творчих дум,
Не сподіваючись на людську нагороду 27 —
сохраняется основная пушкинская мысль и пушкинская сила стиха, но утрачено весьма существенное здесь определение социальной значимости поэтического творчества («подвиг благородный»).
Е. Дробязко удалось сберечь этот образ, но он ослабил первую строку:
Ти — цар: живи один. Свобідний ти ізроду,
Іди, як вказує тобі свобідний ум,
Вивершуючи плід своїх любимих дум,
Не прагнучи дістать за подвиг нагороду28.
Д. Павлычко воскрешает важнейший завет «Дорогою свОбодной/Иди...», хотя и жертвует при этом выразительностью пушкинского образа и меняет синтаксический строй оригинала:
Ти — цар: на самоті живи й люби свободу;
Іди, де зваблює тебе свобідний ум;
Плекай плоди своїх улюблених задум,
За подвиг не чекай на людську нагороду29.
Пушкинское наследие продолжает возбуждать творческую активность переводчиков, способствует дальнейшему совершенствованию и обогащению поэтической культуры на Украине.
Нестертые слова, свежие образы находят украинские литераторы разных поколений, чтобы выразить свое понимание и свое восприятие Пушкина.
«Необъятна эта планета, имя которой Пушкин. Каждое грядущее поколение по-своему будет открывать новые и новые духовные материки ее, и познание это будет продолжаться доколе мир стоит», — заявляет Борис Олейник. «Нам, украинцам, Александр Пушкин, кроме всего, дорог еще и тем, — продолжает он, — что на лучших страницах его творчества лежит голубой отсвет Украины, которую он любил трепетно и нежно»30.
В статье, озаглавленной «Кастильське джерело натхнення», Роман Лубкивский пишет о человечности и просветленности пушкинской поэзии, о ее притягательной силе и воспитательном потенциале. «Пушкин — «для всех», но и для каждого в отдельности, — отмечает автор статьи. — Более того, Пушкин «действует» на разных возрастных уровнях. К самому маленькому читателю он приходит сказками и «Зимним вечером»; юным дарит лирику и «Руслана и Людмилу». Одаряя нас на последующих возрастных этапах, он не отнимает своих первых даров»31. Хорошо сказано у Лубкивского о стимулирующем значении пушкинского наследия для украинской литературы: «Великое счастье — перечитывать Пушкина. Переводить Пушкина — тройное счастье: счастье открытия, счастье созидания и духовного обогащения. Украинская литература может гордиться тем, что она одной из первых приникла к животворным пушкинским источникам. Ощущение этого счастья, этой гордости воодушевляет и обязывает каждого поэта к творчеству вдохновенному, требовательному и высокому»32.
Украинские литераторы разных поколений вписывают новые страницы в поэтическую пушкиниану, каждый в своей манере, с собственной интонацией выражая свое понимание и свое восприятие Пушкина (Иван Драч «Олександрові Пушкіну», «На Пушкінському святі»; Роман Луб-кивський «Зустріч»; Борис Олейник «Пушкін в Одесі»; Владимир Бровченко «Побачення з Пушкіним»; Дмитро Павлычко «Пушкін» и др.).
Как первая любовь, по вещему слову Тютчева, незабвенен Пушкин в сердцах русских людей. Столь же бережно и верно хранит его имя и его художественный мир память братских народов нашей Отчизны. Советская Украина от души произносит крылатую строку своего поэта, и сегодня как нельзя лучше выражающую отношение к создателю «Бориса Годунова» и «Евгения Онегина», «Зимнего вечера» и «Анчара», «Полтавы» и «Капитанской дочки»:
Здоров був, Пушкін мій, землі орган могучий!
ПРИМЕЧАНИЯ
Введение
1 Материалы XXVI съезда КПСС. М., 1982, с. 79.
2 См.: Известия АН СССР. Отд-ние лит. и яз., 1954, т. 13, вып. 5, с. 492.
3 См.: Косарик, Д. Місця перебування Пушкіна на Україні. — В кн.: О. С. Пушкін. Статті та матеріали. Київ, 1938, с. 151 — 152.
4 Селянський рух на Україні. Середина XVIII — перша чверть XIX ст. 36. док. і матеріалів. Київ, 1978, с. 349.
5 Там же, с. 350.
6 Там же, с. 350 — 351.
7 Там же, с. 352.
8 Там же, с. 353 — 354.
9 Пушкин А. С. Поли. собр. соч. в 16-ти т., т. 13. М., 1937, с. 74. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте.
Глава I
1 Грот К. Я. Пушкинский лицей (1811 — 1817). Бумаги 1-го курса, собранные академиком Я. К. Гротом. Спб., 1911, с. 63.
2 Гастфрейнд И. Товарищи Пушкина по императорскому царскосельскому лицею. Материалы для словаря лицеистов первого курса. 1811 — 1817 гг., т. 2. Спб., 1913, с. 119.
3 А. С. Пушкин в воспоминаниях современников, т. 2. М., 1974, с. 332.
4 Мейлах Б. Пушкин и его эпоха. М., 1958, с. 167 — 168.
5 Письма к другу, содержащие в себе Замечания, мысли и рассуждения о разных предметах, с присовокуплением исторической повести: Зиновий Богдан Хмельницкий, или Освобожденная Малороссия Федора Глинки, сочинителя] Писем русского офицера, ч. 3. Спб., 1817, с. 148 — 149.
6 См.: Маркевич Н. М. Творчество Ф. Н. Глинки в истории русско-украинских литературных связей. Киев, 1981, с. 89.
7 Глинка Ф. Н. Избр. произведения. Б-ка поэта. Большая сер. Л., 1957, с. 219.
8 Маркевич И. М. Творчество Ф. Н. Глинки в аспекте русско-украинских литературных взаимосвязей. Автореф. дис. ...канд. филол. наук. Киев, 1978, с. 21.
9 Маркевич Н. М. Творчество Ф. Н. Глинки в истории русско-украинских литературных связей, с. 70.
10 Котляревський I. П. Твори у 2-х т., т. 2. Київ, 1969, с. 134.
11 Там же, с. 133.
12 См.: Цявловский М. А. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина, т. 1. М., 1951, с. 87.
13 См.: там же, с. 165.
14 Рус. старина, 1888, № 11, с. 319.
15 Отдел рукописей Б-ки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, ф. 197, оп. 1, № 9.
16 Медведева И. Н. Н. И. Гнедич и декабристы — В кн.: Декабристы и их время. М.; Л., 1951, с. 119.
17 Там же.
18 Гнедич Н. И. Стихотворения. Б-ка поэта. Большая сер. Л., 1956, с. 216 — 217.
19 См.: Пономарев С. Михаил Александрович Максимович. (Биографический и историко-литературный очерк). Спб., 1872, с. 15.
20 Максимович М. А. Оборона украинских повестей Гоголя. — Лит. вести., т. З, кн. 1. Спб., 1912, с. 313.
21 См.: Прийма Ф. Я. Шевченко и русская литература XIX века. М.; Л., 1961, с. 20.
22 Отдел рукописей Б-ки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, ф. 91777, архив Тиханова П. Н., № 2602, л. 1.
23 Записки Андрея Петровича Рудыковского. Из семейного архива. — Киев, старина, 1892, т. 37, с. 194.
24 Там же, с. 195.
25 См.: Рус. вести., 1841, №1, с. 273 — 274.
26 Киев, старина, 1892, т. 37, с. 195.
27 Там же, с. 196.
28 Там же, с. 17.
29 Там же, с. 204.
30 Там же, 1894, т. 46, с. 116.
31 См.: Там же, 1892, т. 37/с. 384 — 386.
32 Киев, старина, 1894, т. 46, с. 119.
33 Там же, с. 115.
34 Отдел рукописей ЦНБ АН УССР, I, № 7670.
35 См.: Измайлов Н. В. Очерки творчества Пушкина. Л., 1975, с. 191.
36 См.: Рус. старина, 1890, нояб., с. 505.
37 См.: Цявловский М. А. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина, т. 1, с. 501.
38 Керн А. П. Воспоминания. Дневники. Переписка. М., 1974, с. 32.
39 Шевченко Т. Г. Повн. зібр. творів у 6-ти т., т. 5. Київ, 1964, с. 57. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте.
40 Модзалевский Б. Родзянко Аркадий Гаврилович. — Русский биографический словарь. Рейтерн-Рольцберг. Спб., 1913, с. 295.
41 Новиков И. А. Пушкин в Михайловском. М., 1982, с. 19.
42 См.: Білецький О. Зібр. праць в 5-ти т., т. 4. Київ, 1966, с. 195.
43 Вацуро В. Э. Пушкин и Аркадий Родзянко. — Временник Пушкинской комиссии. 1969. Л., 1971, с. 44.
44 Там же, с. 64.
46 Отдел рукописей Гос. б-ки СССР им. В. И. Ленина, ф. 201, Норов, № 7, л. 99.
46 Там же, л. 96.
47 Там же, л. 97.
48 См.: Соймонов А. Д. Фольклорное собрание П. В. Киреевского и русские писатели. — Лит. наследство, 1968, т. 79, с. 139.
49 Никитенко А. В. Дневник в 3-х т., т. 1. Л., 1955, с. 51.
50 Керн А. Н. Воспоминания. Дневники. Переписка, с. 32.
51 Рылеев Н. Ф. Поли. собр. стихотворений. Б-ка поэта. Большая сер. Л., 1971, с. 157 — 158. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте.
52 Цявловская Т. Рисунки Пушкина. М., 1970, с. 127.
53 Маслов В. I. Микола Андрійович Маркевич. — Бюлетень Прилуцького окружного музею, 1929, № 2.
54 Известия АН СССР. Отд-ние лит. и яз., 1954, т. 13, вып. 5, с. 495.
55 Лит. наследство, 1954, т. 59, с. 510.
56 Лит. наследство, 1954, т. 59. с. 512.
57 Косачевская Е. М. Он воспевал мечту прекрасную свободы. (А. С. Пушкин по неопубликованным запискам Н. А. Маркевича). — Радуга, 1974, № 6, с. 153 — 154.
58 Там же, с. 157.
59 Литературное наследие декабристов. Л., 1975, с. 275.
60 Отдел рукописей Ин-та рус. лит. АН СССР, ф. 488, № 37, л. 7, 8, 10 об., 13 об., 14.
61 Там же, л. 11 об.
62 Там же, л. 17 об.
63 Там же, л. 18, 18 об.
64 Там же, л. 4 об.
65 Там же, л. 5.
66 Там же, л. 7 об.
67 Там же, л. 18.
68 Там же, л. 9 об.
69 Там же, л. 10 — 10 об.
70 Там же, л. 27.
71 Там же, л. 28.
72 Лит. наследство, 1954, т. 59, с. 510.
73 Там же, с. 512.
74 Цявловский М. А. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина, т. 1, с. 631.
75 Отдел рукописей ИРЛ И, ф. 488, оп. 1, № 82, л. 2.
76 Там же, л. 43.
77 Там же, л. 61 об.
78 Там же, л. 71.
79 Там же, № 24, л. 8, 8 об., 11, 15 об., 16 об.
80 Там же, л. 25, 26 об.
81 Там же, л. 8, 10 об.
82 Там же, л. 3, 9 об., 16, 19.
83 Моск, телеграф, 1829, ч. 27, №11, с. 295 — 296.
84 Маркевич Н. А. Украинские мелодии. М., 1831, с. V.
85 Там же, с. IV.
86 Там же, с. XIX, XXI.
87 Русская литература и фольклор. (Первая половина XIX в.). Л., 1976, с. 127 — 128.
88 Письма В. А. Жуковского, А. Ф. Воейкова и И. И. Дмитриева к Николаю Андреевичу Маркевичу. — Москвитянин, 1855, т. 3, № 12, кн. 2, с. 11 — 12.
89 Отдел рукописей ИРЛ И, ф. 488, № 20.
90 Центральный государственный исторический архив УССР, ф. 293, д. 490, л. 5 об.
91 Рылеев К. Ф. Поли. собр. соч., с. 472.
92 Рус. старина, 1886, № 7, с. 175.
93 Там же, с. 190.
94 Там же, с. 173.
Глава II
1 Цит. по: Вацуро В) Э. Неизвестная статья А. А. Погорельского о «Руслане и Людмиле». — Временник Пушкинской Комиссии, 1963. М.; Л., 1966, с. 49.
2 Цит. по: Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. 3. Спб., 1890, с. 18.
3 Лит. газ., 1830, № 11.
4 Северные цветы на 1831 г., с. 74.
5 Молва, 1833, № 63, 27 мая, с. 249 — 250.
6 Кирпичников А. Очерки по истории новой русской литературы. Спб., 1896, с. 120.
7 Погорельский А, Двойник, или Мои вечера в Малороссии. Монастырка. М., 1960, с. 17.
8 Там же, с. 314.
9 См.: Кирилюк 3. В. О. Сомов — критик та белетрист пушкінської епохи. Київ, 1965.
10 Благонамеренный, 1821, ч. 15, № 14, с. 76.
11 Невский альманах на 1830 г., с. 151.
12 Сын отечества и Северный архив, 1829, № 24, с. 197.
13 Там же, с. 199.
14 Там же, с. 208.
15 Рус. филол. вести., 1908, т. 60, № 3, вып. 1, с. 192.
16 Денница на 1830 год, с. 86.
17 Рус. филол. вести., 1908, т. 60, № 3, с. 80.
18 Северные цветы на 1832 год. — Литературные памятники. М., 1980, с. 80.
19 Там же, с. 74.
20 Цит. по: Вацуро В. Э. Первый русский переводчик «Фариса» А. Мицкевича. — В кн.: Славянские страны и русская литература. Л., 1973, с. 66.
21 Утренняя звезда, 1833, кн. 1, с. 102.
22 Базанов В. Вольное общество любителей российской словесности. Петрозаводск, 1949, с. 280.
23 Соревнователь просвещения и благотворения, 1823, ч. 24, кн. 11, с. 125.
24 Там же, с. 141 — 142.
25 Там же, с. 131.
26 Сын отечества, 1827, ч. 115, с. 403.
27 Там же, с. 404 — 405.
28 Рус. архив, 1908, № 10, с. 260.
29 Северные цветы на 1829 год, с. 53.
30 Северные цветы на 1831 год, с. 17.
31 Северные цветы на 1830 год, с. 27.
32 Отдел рукописей ЦНБ АН УССР, № 5138.
33 Азадовский М. К. История русской фольклористики, т. 1. М., 1958, с. 285.
34 Українські народні пісні в записах Зоріана Доленги-Ходаковсь-кого. Київ, 1974, с. 51.
35 Украинские народные песни, изд. Михаилом Максимовичем, ч. 1. М., 1834, с. 159.
36 Созвучный мотив находим в том же, втором сборнике М. А. Максимовича (№ 25, «Уланская вербунка»).
37 Письмо В. П. Титова к М. П. Погодину. — Лит. наследство, 1934, т. 16 — 18, с. 694.
38 Северные цветы на 1829 год, с. 35 — 36.
39 Рус. старина, 1902, т. 111, № 9, с. 620.
40 Рус. филол. вести., 1908, т. 9, вып. 2, № 4, с. 328.
41 Там, же с. 332.
42 Пушкин и его современники, вып. 9 — 10. Спб., 1910, с. 98.
43 Лит. наследство, 1968, т. 79, с. 232.
44 См.: Острянин Д. Світогляд М. О. Максимовича. Київ, 1960; Марков П. Г. М. О. Максимович — видатний історик XIX ст. Київ, 1973.
45 См.: Глухенький М. Г. Михайло Максимович. Київ, 1969.
46 См.: Краткая лит. энциклопедия, т. 4. М., 1967, с. 528.
47 Киев, старина, 1904, т. 86, сент., с. 323.
48 Максимович М. А. Собр. соч. в 3-х т., т. 3. Киев, 1880, с. 244.
147
В дальнейшем ссылки на это издание даны в тексте.
49 Северные цветы на 1832 год. М., 1980, с. 68 — 69.
50 Моск, телеграф, 1827, ч. 13, № 3, с. 234.
51 Гоголь Н. В. Поли. собр. соч. в 14-ти т., т. 10. М., 1952, с. 88. В дальнейшем ссылки на это издание даны в тексте.
52 Киев, старина, 1902, т. 86, с. 331.
53 Малороссийские песни, изд. Михайлом Максимовичем. М., 1827, с. 218.
54 Цит. по: Северные цветы на 1832 год. М., 1980, с. 291.
55 Цит. по: Рус. филол. вести., 1908, т. 60, вып. 2, № 4, с. 317.
56 Вести. Европы, 1874, кн. 3, с. 449.
57 Отдел рукописей Гос. б-ки СССР им. В. И. Ленина, ф. 231, Погодин П.19.116, л. 8 об.
58 Там же, л. 16 об. — 17.
59 Рус. зритель, 1829, т. 4, № 21 — 22, с. 78.
60 Отдел рукописей Гос. б-ки СССР им. В. И. Ленина, ф. 231, Погодин Ш.8.7, л. 2.
61 Киев, старина, 1896, т. 54, с. 284.
62 Отдел рукописей Гос. б-ки СССР им. В. И. Ленина, ф. 231, Погодин 11.49.48.
63 Пономарев С. Михаил Александрович Максимович, с. 8.
64 Письма М. П. Погодина к М. А. Максимовичу. — Сб. отд-ния рус. яз. и словесности имп. Академии наук, т. 31, № 2. Спб., 1882, с. 126.
65 Записки Юго-западного отд-ния имп. рус. геогр. о-ва за 1873 г., т. 1. Киев, 1874, с. 71.
66 Лит. вестник., 1902, т. З, кн. 1, с. 113.
67 Отдел рукописей Гос. б-ки СССР им. В. И. Ленина, ф. 231, Погодин Ш.8.7, л. 3.
68 Записки имп. Академии наук, т. 36. Спб., 1880, с. 200.
69 Отдел рукописей Б-ки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, архив Гаевского, № 171, л. 3.
70 Науменко В. Поправки к новейшим изданиям сочинений Пушкина. — Вести. Европы, 1887, кн. 5, с. 409 — 410.
71 Киев, старина, 1904, т. 86, № 9, с. 336 — 337.
72 См.: Назаревський О. А. Пушкінські матеріали в київських рукописних сховищах (автографи, копії, згадки сучасників та ін.). — О. С. Пушкін. Статті та матеріали, с. 230 — 231.
73 Киевлянин, 1841, ч. 2, с. 141.
74 Осип Максимович Бодянский в его дневнике. Сообщил И. Ф. Павловский. Дневник 1849 — 1850 годов. — Рус. старина, 1888, т. 60, кн. 9, с. 401.
75 Урания, карманная книжка на 1826 год для любительниц и любителей русской словесности, с. 148.
76 См.: Вацуро В. Э. «Северные цветы», с. 261.
77 Лит. наследство, 1968, т. 79, с. 516.
78 Государственный литературный музей. Отдел фольклора, № 5636 14.
79 Там же, № 5636 15.
80 См.: Нива, 1913, № 36, с. 716.
81 Русская литература и фольклор (первая половина XIX в.), с. 128.
82 См.: Ист. вести., 1902, т. 87, № 2, с. 553.
83 Там же, 1892, т. 50, № 12, с. 694.
84 Харківська школа романтиків, т. 1. Харків, 1930, с. 30.
85 См.: Срезневський О. І. Про збирачів українських пісень. — Записки іст.-філол. відділу УАН, кн. 13 — 14. Київ, 1927, с. 76 — 77.
86 Рус. архив, 1890, № 2, с. 311.
87 Рус. старина, 1900, № 29, с. 488.
88 Словарь достопамятных людей Русской земли, содержащий в себе жизнь и деяния знаменитых полководцев, министров и мужей государственных, великих иерархов православной церкви, отличных литераторов и ученых, известных по участию в событиях отечественной истории, составленный Дмитрием Бантыш-Каменским и изданный Александром Ширяевым в пяти частях, ч. 2. М., 1836, с. 14 — 15.
89 Телескоп, 1835, ч. 27, с. 433.
90 Рус. архив, 1873, кн. 1, тетр. 6, стб. 955.
91 Там же.
92 Цит. по: Лит. наследство, 1956, т. 60, кн. 1, с. 614.
93 См.: Никитенко А. В. Дневник в 3-х т., т. 1, с. 296.
94 Лит. вести., 1902, т. З, кн. 1, с. 113.
95 Храпченко М Б. Творчество Гоголя. М., 1954, с. 94.
96 Белинский В. Г. Поли. собр. соч. в 13-ти т., т. 1. М., 1953, с. 97. Далее ссылки на это издание даются в тексте.
97 Еремина В. И. Н. В. Гоголь. — В кн.: Русская литература и фольклор (первая половина XIX века), с. 251.
98 Машинский С. Художественный мир Гоголя. М., 1971, с. 71.
99 Моск, телеграф, 1831, № 17, с. 94.
100 Машинский С. Художественный мир Гоголя, с. 69.
101 Карпенко А. О народности Гоголя (художественный историзм писателя и его народные истоки). Киев, 1973, с. 136.
Глава III
1 См.: Рукою Пушкина. Несобранные и неопубликованные тексты. М.; Л., 1935, с. 401.
2 Там же, с. 559.
3 Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартеневым в 1851 — 1860 гг. Л., 1925, с. 50.
4 Рус. архив, 1882, № 5, с. 80 — 81.
5 Оксман Ю. Из разысканий о Пушкине. Неосуществленный замысел истории Украины. — Лит. наследство, 1952, т. 58, с. 214.
6 См.: Еремин М. Пушкин-публицист. М., 1963, с. 256.
7 Пушкин. Итоги и проблемы изучения Под ред. В. П. Городецкого, Н. В. Измайлова, Б. С. Мейлаха. М.; Л., 1966, с. 336 — 337.
8 См.: Сумцов Н. Ф. Пушкин. Исследования. Харьков, 1900, с. 268.
9 Прийма Ф. Я- Пушкин и украинское народно-поэтическое творчество. — В кн.: «...И назовет меня всяк сущий в ней язык...» Наследие Пушкина и литературы народов СССР. Ереван, 1976, с. 189.
10 Там же, с. 197.
11 А. С. Пушкин в воспоминаниях современников, т. 2, с. 105 — 106.
12 Сын отечества и Северный архив, 1829, ч. 3, № 16, с. ПО.
13 Там же, № 15, с. 46 — 47.
14 Атеней, 1829, ч. 2, № 11, с. 502.
15 Там же, с. 504.
16 Вести. Европы, изд. Михаилом Каченовским, 1829, май — июнь,, с. 27.
17 Атеней, 1829, ч. 2, № 11, с. 506 — 507.
18 Там же, с. 502 — 503.
19 Денница, альманах на 1831 год, изд. М. Максимовичем, с. 130.
20 «И двух славянских поколений...» — очевидно, в смысле двух славянских народов.
21 Атеней, 1829, ч. 2, № 11, с. 515.
22 Сын отечества и Северный архив, 1829, ч. 3, № 15, с. 49.
23 Атеней, 1829, ч. 2, № 11, с. 510 — 511.
24 Измайлов Н. В. Очерки творчества Пушкина, с. 74.
25 См.: Измайлов Н. В. Очерки творчества Пушкина, с. 120.
26 Атеней, 1829, ч. 2, № И, с. 511.
27 Цит. по: Б ант ыш-Каменский Д. История Малой России, ч. 3. М., 1830, Примечания, с. 32 — 35. См. также: Измайлов Н. В. Очерки творчества Пушкина, с. 31.
28 Измайлов Н. В. Очерки творчества Пушкина, с. 123.
29 Короленко В. Г, Собр. соч. в 10-ти т., т. 8. М., 1955, с. 452 — 453.
30 Записки Юго-западного, отд-ния имп. русск. геогр. о-ва, т. 1, за 1873 г. Киев, 1874, с. 71.
31 Русская литература и фольклор (первая половина XIX в.), с. 173.
32 См.: Виноградов В. В. Стиль Пушкина. М., 1941, с. 237 — 239.
33 См.: Слонимский А. Мастерство Пушкина. М., 1963, с. 274 — 278; Русская литература и фольклор (первая половина XIX в.), с. 172.
34 Инбер В. Мастерство и вдохновенье. М., 1957, с. 51 — 52.
35 Вести. Европы, 1829, май — июнь, с. 34.
36 Драгоманов М. П. Літературно-публіцистичні праці в 2-х т., т. 1. Київ, 1970, с. 114.
37 Лит. наследство, 1954, т. 59, кн. 1, с. 448.
38 Білецький О. Зібр. праць у 5-ти т., т. 4, с. 192.
39 Данилов В. В. Источник стихотворения А. С. Пушкина «Гусар». — Рус. филол. вести., 1910, № 3 — 4, с. 252.
40 Білецький О. І. Зібр. праць у 5-ти т., т. 4, с. 192.
41 Прийма Ф. Я. Пушкин и украинское народно-поэтическое творчество. — В кн.: «И назовет меня всяк сущий в ней язык...», с. 204.
42 Попов П. М. Пушкін і український фольклор. — Український фольклор, 1937, № 2, с. 41.
43 Стихотворения Лукьяна Якубовича. Спб., 1837, с. 163.
Глава IV
1 Павлюк Н. Н. Первый украинский перевод «Полтавы» в литературно-критическом контексте своего времени. — В кн.: Пушкин и литература народов Советского Союза. Ереван, 1975, с. 273 — 274.
2 Боровиковський Л. Повн. зібр. творів. Київ, 1967, с. 90.
3 Крутікова Н. Реалізм. Збагачення. Єдність. Київ, 1976, с. 32 — 33.
4 См.: Івакін ІО. О. Стиль політичної поезії Шевченка. Київ, 1961, с. 146 — 163.
5 Руданський С. Твори в 3-х т., т. 2. Київ, 1973, с. 216.
6 Франко И. Соч. в 10-ти т., т. 9. М., 1959, с. 181.
7 Літ.-наук. вісн., т. 12, с. 143.
8 См.: Пушкін Александер С. Драматичні твори, в перекладі, з передмовою і поясненнями д-ра Івана Франка. Львів, 1917, с. 117 — 118.
9 Пархоменко М. Иван Франко и русская литература. М., 1954, с. 165.
10 Грабовський П. Зібр. творів у 3-х т., т. 3. Київ, 1960, с. 136 — 137;
11 Там же, т. 1, с. 272.
12 Там же, т. 3, с. 136 — 137.
13 См. письмо И. Я. Франко А. Е. Крымскому от 11 марта 1892 года (Франко I. Твори в 20-ти т., т. 20. Київ, 1956, с. 447).
14 Рукописный отдел Ин-та литературы АН УССР, ф. 3, № 224, л. 20 — 21.
15 Білецький О. Зібр. праць в 5-ти т., т. 4, с. 260.
16 Франко I. Твори в 20-ти т., т. 18, с. 199.
17 См.. Журавская И. Е. Леся Украинка и зарубежные литературы. М., 1968, с. 124 — 125.
18 Українка Л. Зібр. творів у 12-ти т., т. 12. Київ, 1979, с. 396.
Заключение
1. См., напр.: Искусство коммуны, 1919, 30 марта.
2. См.: Пролет, культура, 1918, № 3, с. 3; 1920, № 13 — 14, с. 80 и др.
3. См.: От символизма до Октября. М., 1924, с. 280.
4. Семафор у майбутнє, 1922, № 1, с. 11.
5. Там же, с. 3.
6. Жовтень. 36. Харків, 1921, с. 94.
7. Пархоменко М. Обновление традиций. М., 1975, с. 186.
8. Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 41, с. 304 — 305.
9. Там же, с. 304.
10. Тичина П. Твори в 6-ти т., т. 6. Київ, 1962, с. 374.
11. Джамбул Д. Избр. произведения Пер. К. Алтайского. Алма-Ата, 1980, с. 213.
12. Кудаш С. Избранное Пер. Н. Заболоцкого. Уфа, 1954, с. 298.
13. Стальский С. Избранное Пер. Э. Капиева. М., 1969, с. 224.
14. Кугу іьтинов Д. Собр. соч. в 3-х т., т. 2. М., 1977, с. 123.
15. Рильський М. Твори в 10-ти т., т. 3. Київ, 1961, с. 38.
16. См.: Лит. газ., 1937, № 11.
17. Грузман 3. М. Павло Тичина — літературознавець і критик. Київ, 1975, с. 126.
18. Правда Украины, 1949, № 131.
19. Пушкін О. С. Статті і матеріали. Київ, 1938. с. 22 — 23.
20. Бажан М. Твори в 4-х т., т. 4. Київ, 1975, с. 169.
21. Там же, с. 170.
22. Там же, с. 172; ср.: Бажан М. Думи і спогади. Київ, 1982, с. 219 — 221.
23. Пушкін А. Вибрані твори. Київ, 1927, с. XI.
24. Пушкін О. С. Вибрані твори в 2-х т. Переклади за ред. М. Рильського, М. Терещенка, П. Тичини. Вступна стаття М. Горького. Київ, 1937.
25. Пушкін О. С. Твори Під ред. П. Тичини. Київ, 1949. 851 с.
26. Пушкін О. Вибрані твори. Київ; Харків, 1930, с. 35.
27. Зеров М. Вибране. Київ, 1966, с. 396.
28. Пушкін О. С. Твори в 4-х т., т. 1, с. 459.
29. Ранок, 1979, № с. 18.
ЗО. Олійник Б. Планета Пушкіна. — Рад. літературознавство, 1979, № 9, с. 18.
31. Лубківський Р. Многосвігоч. Київ, 1978, с. 28.
32. Там же, с. 29.
_________________
Распознавание текста — sheba.spb.ru
|